В. Б. Миронов Народы и личности в истории Том I
Русскому Народу посвящается.
Введение От автора
В книгах предпринята попытка обрисовать состояние европейской культуры, цивилизации в XVII–XIX вв., взирая с рубежа тысячелетий. Как известно, уже само понятие «цивилизации» не имеет единой трактовки. Автор исходил в восприятии этого феномена из культуроведческого видения Европы как некоего региона, которому присущ единый тип цивилизации. Хотя древние греки постепенно расширяли границы Европы по мере роста знаний о мире и границ колонизации. Границы эти простерлись от Гибралтара до Кавказа (VIII в. до н. э.), а в VI в. до н. э. ионийцы распространили название «Европы» на все страны к северу от Средиземного моря. Пройдет не так уж и много времени и границей между Европой и Азией станет не река Фасис (Риони) в Закавказье, а Танаис (Дон), а затем новая линия, между Азовским морем и Северным Океаном. Иначе говоря, с ходом истории наши представления о географических рамках Европы значительно расширились. Но ведь это же самое (и еще с большим основанием) можно сказать и о европейских культурных границах. Хронологически автор ограничил свое повествование тремя веками (XVII–XIX вв.).
Европа дала миру множество ярчайших проявлений гения и таланта. Какой бы области творчества, науки, образования, культуры вы не коснулись, везде присутствуют великие европейские имена… Подобно тому как ночной небосклон трудно представить себе без звезд, если только его, конечно же, не застилают темные тучи, так невозможно представить себе образованного и культурного человека, который был бы вовсе чужд европейского влияния (даже если речь идет о ее пороках). Вот что говорил о той общечеловеческой значимости, что содержит в себе европейская цивилизация, историк Ф. Гизо в книге «История цивилизации в Европе»: «Следовательно, куда бы мы ни обратились, всюду обнаруживается господствующий характер современной цивилизации. Он, без сомнения, имеет тот недостаток, что развитие всех проявлений человеческого ума, порознь взятых, уступает соответствующей стороне развития в древних цивилизациях; но зато, рассматриваемая в общем, европейская цивилизация несравненно богаче всякой другой. Она существует уже пятнадцать столетий и постоянно прогрессирует: она подвигалась вперед далеко не так быстро, как греческая цивилизация, но зато прогресс ее никогда не прекращался… Европейская цивилизация приближается, если можно так выразиться, к вечной истине, к предначертаниям Провидения. В этом заключается ее неизмеримое превосходство над всеми другими цивилизациями. Весьма желательно, чтобы… вы постоянно имели в виду этот основной, отличительный характер европейской цивилизации».[1] Была ли свобода главным элементом?
Придется сделать существенные оговорки: 1) говорить о «неизмеримом превосходстве» европейцев или американцев над другими народами нельзя никоим образом; 2) будучи сложным явлением, процесс развития европейской цивилизации носит не только прогрессивный, но на протяжении большей части истории откровенно захватнический и регрессивно-застойный характер; 3) в то же время заслуги видных европейских мыслителей и мастеров перед человечеством огромны, что делает их вклад в культуру мира бесценным.
Мы хотим (и надеемся, что наши желания совпадают с Европой), наконец, опровергнуть и то трагически-роковое противостояние, что вот уже много веков извращает весь ход европейской, да и мировой истории и политики. Именно в области науки, экономики, образования, культуры между Россией и Европой, безусловно, найдется немало точек соприкосновения. Время показало и другое. Нет и не может быть никакого превосходства Европы над другими частями мира (уж в особенности над Россией). Более того, утверждаю, что по большому счету не было, нет и никогда не будет Европы без России, как, впрочем, и России без Европы… Позиция евразийца Н. С. Трубецкого, – «романо-германский мир со своей культурой – наш злейший враг», – если и не лишена определенного смысла (то, что это зачастую бывало, есть и будет так, а не иначе, подтверждает вся сложная история российско-европейских отношений), все же пережила свой век и должна быть решительным образом и в корне изменена. Разумеется, эти перемены не должны быть насильственными и идти в ущерб России, славянско-евразийскому миру (как и в ущерб Европе).
Карта Европы. 1630 г.
Включение в книгу всех народов Земли поставило бы нас в положение фараонов, создателей пирамид, которые зачастую так и не успевали увидеть окончания строительства своего «творения». Это могло бы перегрузить книги избыточным материалом. В результате, не выдержав тяжкого груза, они канули б в воды забвения, словно застигнутые бурным штормом древние галеры.
Автор не считает необходимым жестко разграничить западную и восточную цивилизации. Здесь я не вполне согласен с Бертраном Расселом. В эпилоге к книге «Мудрость Запада» тот так объяснил разделение этих тем: «Нас могут спросить, почему в такой истории, как эта, мы не оставляем места для того, что обычно называют мудростью Востока. На это можно дать несколько ответов. Прежде всего, эти два мира развивались обособленно друг от друга, так что самостоятельное изложение западной мысли позволительно. Кроме того, это довольно трудновыполнимая задача и мы решили ограничить себя данной темой. Но есть другая, более существенная причина нашего решения. В некоторых важнейших отношениях философская традиция Запада отличается от спекуляций восточного ума. Ни в какой другой цивилизации, кроме греческой, философия не развивалась в такой тесной связи с наукой. Именно это придает греческим начинаниям их особый характер; именно эта двойная традиция, философии и науки, сформировала цивилизацию Запада».[2] Конечно, если только не принять во внимание, что и история Европы совершенно немыслимы вне связи с историей Азии.
Скажем, на территории Англии и Шотландии по сей день разбросаны сотни каменных колец диаметром от двух до ста и более метров. Время их создания – начало II тыс. до н. э. Это своего рода погребальные курганы, что в переводе с кельтского означает «плакальщики» и, по мнению некоторых ученых, являются смысловым соответствием каменным курганам – «жальникам» на северо-западе России. Их создателями, как и создателями легендарного астрономического комлекса Стоунхенджа (1900–1500 гг. до н. э.) на Британском архипелаге, грандиозной древнейшей обсерватории мира, вероятно, были кочевые племена индоевропейского мира из евразийских степей, «с центром на юге Урала». Этой версии придерживается российский историк А. В. Гудзь-Марков, который и пишет: «В ведических гимнах отражено учение о сотворении мира и его космических законах. Мегалиты Стоунхенджа, установленные выходцами из степей юга России, Урала, Сибири и Средней Азии, еще долго насыпавшими в Англии те же круглые курганы, что и в степях Евразии, выразили космогонические знания своих создателей, глубина которых сопоставима разве что с отдельными гимнами Веды».[3] Факты вторжения племен из глубин Азии на Восток и в Европу общеизвестны.
Америка попала в книгу также не случайно, ибо она – законный отпрыск англо-саксонской и европейской цивилизаций, живой сколок Европы, привязанный корнями к европейской жизни. Оттуда янки будут черпать людей, идеи, книги. Как заметил О. Уайльд, «Америка до сих пор не может до конца простить Европе, что открытие ее произошло исторически несколько позже. Вместе с тем, сколь много мы отдали ей! Сколь огромен ее долг перед нами!»[4] Судя по всему Америка всё время испытывает соблазн избавиться от кредитора.
Попытаемся взглянуть на историю цивилизации через призму деяний отдельных личностей и народов (оставив в стороне кланы и партии). А. С. Хомяков считал социологию служанкой истории. Жизнь людей и народов, то, как они воплощают их замыслы и чаяния, куда интереснее. Решение подобной задачи потребует от нас не повторять традиционных схем книг и учебников. Мы хотим воссоздать историю народов в стройном «ансамбле» ярких личностей, идей и событий, бережно сохраняя драгоценную «печать народов» (как говаривал И. Г. Гердер).
Жизнь народов и личностей, находит воплощение в мировой истории и литературе. Без этого не обойтись…. Французская писательница Сталь как-то заметила: «Литература является выражением общественного строя». Привлекая литературу, мы исходим из того, что лишь образы запоминаются. Мыслям свойственно ускользать, рассеиваться, подобно туману. Философ Ф. Степун называл образы литературы «силовыми центрами истории». Ничуть не менее исторических работ нас интересуют «мемуары Челлини, послания апостола Павла, застольные речи Лютера и комедии Аристофана. Уже в наше время элитарный писатель Франции К. Симон выдвинул тезис: «История как роман, роман как история». В великой литературе прошлого порой больше правды и жизненности, чем во всех творениях некоторых ученых вместе взятых. Хотя автор и не склонен утверждать, что изучение литературы «переродит историю» (И. Тэн), но вот придать ей больше убедительности и образности она, литература, в состоянии. Мы будем опираться на факты и фрагменты из истории науки, литературы, искусства, политики. Конечно, культура не может жить «чистыми идеями» (Ф. Бродель). Но ведь и цивилизация не может питаться одним лишь сухим, материальным началом.
Автору наверняка бросят упрек в «горячности» и «политизации». Природа не наградила его талантом бесстрастного ученого, пишущего «добру и злу внимая равнодушно». C другой стороны стоило бы вспомнить слова Гегеля: «Бесстрастием нельзя создать ничего великого». Редко удавалось следовать и путем великого Монтеня, говорившего: «Я люблю слова, смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность: «может быть», «по всей вероятности», «отчасти», «говорят», «я думаю» и тому подобные». Конечно, эти смягчающие обороты и оговорки, безусловно, облегчили бы жизнь, дали бы автору симпатии людей деликатных, сдержанных, нерешительных (но и откровенно слабых и трусливых!). Только трусов и так предостаточно. Ученых и литераторов такого рода хватает с избытком повсюду (в том числе, разумеется, и в нынешней России).
Сто лет назад знаменитый профессор Московского университета Н. И. Кареев говорил об абсолютной правомерности того, чтобы политическая и культурная жизнь народа и общества воспринималась «через призму нашей субъективности». Конечно, в теории полная объективность является высшим идеалом ученого и художника. Но поскольку он – человек, он соткан из нитей прошлого, в то же время воплощая надежды и чаяния будущего. Личностей вполне объективных в природе не бывает. А те, кто себя так называют, «заслуживают нелестный эпитет безличных».[5] Ничего они не дадут ни России, ни миру.
Педро Берругете. Испытание огнем.
Есть порода людей, что никогда не вмешивается в ход истории… Они привыкли выступать циничными созерцателями и приспособленцами… Мы же обращаем свой глас к борцам и созидателям, которые, забыв о собственных интересах и страхах, выйдут на смертный бой за Родину! Конечно, пути народов, как и жизни отдельных людей, не безошибочны. Всем свойственны заблуждения и просчеты. Пусть книга наша станет «Книгой назидательных примеров», ибо представленные тут Народы и Герои любят, страдают, делают роковые ошибки, ненавидят, борются, побеждают, воплощая в жизнь свои идеалы. Если кем-то может быть определен ход цивилизации, то прежде всего Народами и их Героями. Их жизненный порыв в конечном счете должен привести человечество (по крайней мере лучшую, разумную его часть) к счастью и гармонии. Наконец, мы увидим проблеск того Мира, что организован «как гармоническое целое» (А. Бергсон), во всём великолепии и разнообразии его форм.[6]
Глава 1 Что такое «цивилизация»?
Согласно мифологии, богиня мудрости Афина вышла из головы Зевса сразу во всеоружии, во всем великолепии красы. Подобного не бывает с цивилизациями. Требуются усилия поколений, веков, тысячелетий, прежде чем сложится та или иная устойчивая и многообразная культура. В то же время достаточно ряда лет (а то и дней), чтобы превратить её в пепел. Два эти понятия – «цивилизация» и «культура» – не разделяются нами. Близость двух этих понятий заставила философа Ж. Маритена (1882–1973), глашатая идей интегрального гуманизма, заметить: «Цивилизация не заслуживает своего названия, если она одновременно не является культурой».[7] Различия между этими терминами носят скорее этимологический характер… «Культура» (лат. cultus) у древних римлян была близка по значению к русскому понятию «почва», «обрабатывать». Отсюда и переход к «культу», то есть к почитанию богов. Со временем сюда стали относить поступки людей, вкусы, манеры, одежды, образование. В основе понятия «цивилизация» лежит латинское слово «civis» (гражданин) – жизнь, права и обязанности жителей городов.
Понятие «цивилизация» возникло в Европе только в середине XVIII века. В различных контекстах им пользовались Гольбах, Мирабо, Фергюсон, Вольтер, Дидро, Гумбольдт, Фурье, Гизо и др. Во французских текстах оно встречается примерно с 1734 года Мирабо выпустил книгу «Друг людей, или трактат о народонаселении» (1756), в котором этот термин рассматривался в контексте древнего понятия «полис». По мнению ряда американских историков, слово «культура» появилось в английском языке примерно за три века до слова «цивилизация». Якобы, ещё в XV в. оно употребляется в смысле «земледелие» или «поклонение богам». Есть свидетельства, что слово «цивилизация» довольно прочно вошло в обиход тех народов, что говорили на английском (до 1772 г.). Перед этим в Шотландии, в Эдинбурге, выходит труд историка А. Фергюсона «Очерк истории гражданского общества» (1767), в котором сам процесс цивилизации понимается как движение от варварства к более зрелому состоянию («Не только индивид продвигается вперед от детства к зрелому возрасту, но и сам род людской от варварства к цивилизации»). В общественном сознании впервые оно закреплено к концу XVIII в., появившись в «Словаре Академии» Франции («цивилизаторская деятельность, или состояние того, кто цивилизован»). Замечу, что и прославленные французские светила (Дидро и др.) не стали включать слово «цивилизация» в «Энциклопедию» как объект исследования.[8] Фактом признания возрастающей популярности данного термина стало и обращение Наполеона к участникам Восточного похода в Египет. 22 июня 1798 г. Бонапарт обратился к воинам со словами: «Солдаты! Вы все – принялись за завоевание, последствия которого для мировой цивилизации и торговли неисчислимы».[9] Уже тогда здесь обозначился и некий скрытый мессианский смысл, за которым проявились идеологические, колониально-торгово-экспансионистские интересы держав (так называемых цивилизаторов).
Говоря о «цивилизациях», мы нередко рассматриваем их в контексте понятия «культуры». Фурье подверг безжалостной критике порядки буржуазного строя (с его «цивилизацией»). Тем не менее, и он признавал: «…цивилизация занимает в лестнице движения важное место, ибо именно она создает движущие силы, необходимые для того, чтобы открыть пути к ассоциации: она создает крупное производство, высокие науки и изящные искусства». Философ Фридрих Шлегель (1772–1829) сформулировал два важнейших свойства национальной культуры. С одной стороны, было бы совершенно бессмысленным, писал Шлегель, если бы, вдруг, литература, искусство, наука, образование стали, подобно идее замкнутого торгового государства, вводить «принцип замкнутой и изолированной национальной культуры». Ведь, любые знания сами по себе – достояние всех наций. С другой, он считал вредным и гибельным для развития народов и другую крайность. Никоим образом нельзя допускать, чтобы в итоге чуждого культурного проникновения, вторжения иной культуры утрачивались и предавались забвению «самобытное начало духа и языка, сказания и образы мыслей народа».[10] Нация сильна ее самобытностью. Романтики правы, говоря: цивилизация переходит в культуру, а культура прорастает цивилизацией. Немецкий писатель Т. Манн утверждал, что для немцев слова «культура» предпочтительнее слово «цивилизация», ибо оно звучит более человечно и менее политизированно. Что же касается американцев, то для них это слово («цивилизация») стало едва ли не квинтэссенцией самой американской жизни. Классики американской исторической науки Ч. и М. Бирд заметили: «В ходе многолетних исследований мы пришли к твердому убеждению, что ни одна из бытующих идей (такие как демократия, свобода, американский образ жизни) не выражают столь ясно и исчерпывающе системно «американский дух», как идея цивилизации. «Дух» понятие неуловимое. Но таковы ведь все неясные, неопределенные проявления человеческого «я», что мы пытаемся зафиксировать в тех или иных словах, ничуть не сомневаясь в их наличии».[11]
Исаак Сваненбург. Выделка шерсти и холста.
Ныне же в понятие «цивилизация», как в некую тайную книгу судеб, заносятся совокупные деяния людей и народов, их образы жизни и деятельности, их институты и верования. Сюда мы отнесли греко-римскую, китайскую, индийскую, арабско-испанскую, германскую, русско-славянскую, скандинавскую, французскую, иудейскую, мусульманскую цивилизации.… В то же время иные народы, четко запечатленные на скрижалях истории, внесшие в прошлом немалый вклад в мировую культуру, так и не сумели еще выделиться в прочную и стабильную цивилизацию.
История по праву считается первейшей из наук, ибо она (со времен Геродота и Плутарха) наиболее популярная и понятная людям. Правда, отсутствие макрокультурных обобщений делали и делают труд историков во многом уязвимым. Бокль критически высказывался их адрес: «Во всех других великих сферах ведения, необходимость обобщения признана всеми и всюду сделаны были благородные попытки возвыситься над отдельными фактами и открыть законы, управляющие этими фактами. Но историки так далеки от подобного взгляда, что между ними преобладает мысль, будто все дело их рассказать события, оживляя по временам этот рассказ нравственными и политическими размышлениями, которые могут им показаться полезными. Вследствии такого взгляда, каждый, кто, по лености мысли или по природной тупости, неспособен ни к какой из высших отраслей знаний, может, посвятив несколько лет на прочтение известного числа книг, сделаться способным написать историю великого народа, и книга его станет считаться авторитетом в предмете, которому посвящена».[12]
История народов – это книга, в которую записаны как успехи, так и неудачи культуры, науки и просвещения. Скажем, главная заслуга эпохи Просвещения не в том, что она открыла путь к образованию народов (тем более, что и успехи были незначительны). Гораздо большее значение имело и имеет возведение на трон Культуры, понимаемой как «история духа». Человеческий род воспринимается нами через призму совокупных культурных достижений. Кстати, именно так и делали Геродот, Цицерон, Гердер. Вряд ли стоит давать дефиниции понятию «культура». И все же наиболее близкую (в контексте целей и задач книги) трактовку феномена дал в 1871 г. английский ученый-эволюционист Эдуард Тайлор (1832–1917), определявший культуру как некую совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев, привычек и нравов в обществе, усвоенных человеком как членом этого общества.[13] Но культура это еще и учет былого опыта. Карлейль говорил, что опыт – это учитель, дорого берущий за свои уроки, но зато никто не научает нас лучше его.
У человечества – общая судьба. Все накопленное человечеством, передается потомкам. Поэтому интересна всеобщая история цивилизации. Ф. Гизо отмечал: «…сущность цивилизации заключается в двух фактах: в развитии строя общественного, и в развитии строя интеллектуального; в улучшении внешнего, общего положения, и в улучшении внутренней, личной природы человека; одним словом, в усовершенствовании общества и человека…».[14] Ф. Бродель сравнивал цивилизацию со «старцем», «патриархом мировой истории». Нам это сравнение не кажется удачным… Если это и «патриарх», то обладающий неким волшебным «эликсиром юности», ибо он одновременно молод, как молодо и само человечество. Цивилизация может нравиться или нет, её можно любить или яростно ненавидеть, но никому не дано избежать её чар. Чары эти чем-то напоминают безумно обожаемую, хотя и, увы, довольно порочную женщину, которой свойственно пленять, соблазнять, порабощать. Но, даже исчезая, она оставляет в памяти следы греховного великолепия.
Любая цивилизация – не застывший феномен. Она предполагает наличие перемен и сдвигов. Хотя попытки древних покорителей мира (Дария, Александра Македонского, Чингисхана) завершались неудачами, они имели важное значение для развития Цивилизации в целом, расширяя круг познания народов, знакомя людей с иными обычаями, нравами, культурами, порядками и религиями. В ходе сложнейших процессов этносы вступали во взаимодействие и противоборство, смешивались, таяли, поглощались друг другом. История знает примеры, когда вымирали не только доисторические ящеры, но и целые народы при резком изменении условий бытия. Пять тысяч лет тому назад на американском континенте возникли яркие цивилизации майя и «народа красной краски».
Что ожидает нас? Вавилонское смешение народов или взаимное насыщение культур? Возможно, покорение имперского Рима варварами представляется столь же закономерным, как и последовавшее затем завоевание испанцами Южной и Центральной Америки, или (если обратиться уже к нашим дням) вторжение масс латиноамериканцев, китайцев, турок, африканцев в такие страны, как США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Голландия, Австралия. Видимо, миграция племен и народов, помимо решения конкретных экономических или военно-стратегических задач, способствует осуществлению более глобальной цели – готовит человечество к будущему восприятию некой общецивилизационной культуры и модели развития. Urbi et orbi (на весь мир)! Местные же культуры вливаются, как реки в моря и океаны, в различного рода цивилизации. Может выйти иначе: каждый народ, узнав злобу мира, более полюбит себя.
Западная цивилизация распространила экономическую систему по всему миру, способствуя определенной унификации регионов, утверждая общую культурно-политическую модель развития. Обладая военной силой, мощной культурно-научной доминантой, экономической притягательностью, эта модель по сей день остается закрытой и враждебной для остального мира. Она неприемлема для большинства народов, культур, религий, идеологий. Ее представители агрессивны, лживы, безжалостны. Подавляя, покоряя, подкупая, она безнравственна, порочна и неубедительна. Тойнби был прав, сказав: «Западное общество провозглашается, тем не менее, цивилизацией уникальной, обладающей единством и неделимостью, цивилизацией, которая после длительного периода борьбы достигла наконец цели – мирового господства. А то обстоятельство, что ее экономическая система держит в своих сетях все человечество, представляется как «небесная свобода чад Божиих»… Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как закономерном итоге единого и непрерывного процесса развития человеческой истории приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразительному сужению исторического кругозора».[15] Тем не менее Запад уверяет нас, что эта модель экономики и политики верна. Мы же считаем ее гибельной для народов мира.
Глубокое противопоставление мира культуры и мира хозяйства имел в виду немецкий философ О. Шпенглер, работая над «Закатом Европы» (1911–1918). Среди главных черт «западной цивилизованности» он называл: все более явное растворение народного тела, предрасположенного теперь главным образом к жизни в больших городах и бесформенных массах; деление населения на обитателей мирового города и провинциалов; укрупнение ядра слепого четвертого сословия (толпы или массы); заметное усиление в идеологии народа неорганического или космополитического начала; ну и воцарение на Западе так называемой «демократии», то есть почти абсолютного господства мира денег, различных монетаристских и хозяйственных сил, пронизавших все существующие политические формы и структуры власти.[16]
В основном, эти пять—шесть категорий («блага», «истины», «здоровье», «благополучие», «красота», «вера») на Западе определяют весь строй жизни и ход цивилизации. Хотя, разумеется, найдется еще множество сопутствующих черт, признаков и оттенков, которые относят к широчайшему пониманию «цивилизованности». Скажем, де Кюстин в известной книге о России писал о ней (в плане этики): «Недоцивилизация везде создает формальности; цивилизация утонченная уничтожает их; это как высшая учтивость, которой чужда всякая натянутость» (1843).[17] Он не сказал лишь, что эта самая «высшая учтивость» Запада зачастую оборачивается наивысшим зверством.
Ученый-эмигрант С. И. Гессен, уточняя различия между понятиями «культура» и «цивилизация», указывал на то, что нужно непременно различать внешние признаки цивилизованности (добротные здания, транспорт, быт, связь, дороги, пресса, современная техника) и признаки внутренние, или, говоря иначе, духовное содержание того или иного общества (как и всякой личности). Города наделены всеми благами внешней (бытовой) культуры. Однако Гессен вынужден внести уточнение: «Вы не сможете отказать такому городу в названии «цивилизованного», но «образованным» вы его, конечно, не назовете. Это значит, что слово «цивилизация» вы резервируете для низшего или, во всяком случае, для более внешнего слоя культуры, для того, что скорее всего поддается пересадке, что не требует для своего роста долговременной местной традиции. Сюда же относят хозяйство и технику».[18] Это – некий флёр нашего бытия.
У русских на первом месте стоят нравственно-духовные начала общества и личности. Поэтому историк Н. Я. Данилевский и считал важнейшим свойством «цивилизации» то, что она должна активно проявлять себя в жизни всего общества, в практическом осуществлении «идеалов правды, свободы, общественного благоустройства и личного благосостояния». Русское понятие «цивилизации», на наш взгляд, более емко, духовно и содержательно… Западник говорит «цивилизация» – и при этом тут же в уме судорожно прикидывает суммы сбережений в банке, число машин, стоимость особняков, драгоценностей, картин, любовниц. Истинный же русак, человек духовный, честный и бессребреник, по большому счету, на всё это обратит мало внимания. Хотя не всегда это равнодушие к материальной стороне бытия и является достоинством. Но все же, глядя на земные богатства, пиршества нынешней челяди, как-то не испытываю восторга от данного «типа», утверждающего себя нынче в России. Для русских сто крат важнее: связь с характером народной жизни, правдой, совестью, верой и т. д.
С другой стороны, нельзя воспринимать и западную цивилизацию в сугубо мрачных тонах. Ученый Г. Могилевцев утверждает, что, якобы, вся европейская секуляризированная культура – «дьяволоцентрична». У него «цивилизация» скорее некий змий-искуситель, нежели светоносный ангел. Тут он следует прямо за Шпенглером, называвшим оную культуру «фаустовой культурой» («цивилизацией»), ибо та, по мнению немца, даже и свое вдохновение позаимствовала у человекоубийцы Мефистофеля. Российский богослов пишет о том, как под дьявольский хохот гётевского персонажа по мере «прогресса» всё и вся обращается в свою противоположность: религия неприметным образом претворяется в антирелигию («католицизм-протестантизм»), история вливается в русло антиистории, искусство преобразуется в антиискусство. Метаморфозы эти крайне опасны. Конечный пункт такой антиэволюции – «антиприрода», то есть ад… По всем признакам выходит, что ад уж недалече… «Цивилизация – попытка воплощения сатанинского духа на Земле…»[19]
Российский ученый Н. Я. Данилевский дает более полный сбалансированный образ цивилизации: «Цивилизация есть понятие более обширное, нежели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие, взятые в отдельности; и цивилизация все это в себе заключает. Я говорю, что даже и религия есть понятие, подчиненное цивилизации».[20] Эту же мысль почти дословно повторил французский историк Ф. Бродель: «Я утверждаю, в конце концов, что нет цивилизаций вне крепкой политической, социальной и экономической арматуры, которая воздействует на моральную, интеллектуальную… и даже религиозную жизнь общества».
Человек был и остается основой цивилизации. Французский философ-идеалист Анри Бергсон (1859–1941), видимо, был прав, когда заявлял в работе «Творческая эволюция», что «в последнем анализе» человек и есть смысл «всей организации жизни на нашей планете»… Персоналистская нота все время звучит у нас на фоне могучего оркестра народных масс, в хоровом воплощении коллективной воли народов, этой соборной симфонии этносов. Время ясно показало, что ряд сложнейших процессов, происходящих на Земле и в Космосе, делают жизнь землян все более взаимозависимой и взаимообусловленной.[21]
В то же время сегодня, когда обозначилось не только сближение миров, культур и экономик, но и их противостояние, важно установить разумный баланс между локальными и мировой цивилизациями. В локальных цивилизациях сокрыто все немыслимое богатство жизни и деятельности народов. Попытка установления в мире господства одного типа «цивилизации» (капиталистической; одной веры католической, мусульманской, иудейской или иной; одной культуры – массовой; одной страны – США) следует считать реакционным актом. Пример тому – США и НАТО, развязавшие войну против Югославии, стали главной угрозой цивилизации.
Монистический взгляд на историю – прямой путь к созданию «цивилизации монстров»… Власть одной формации (капитализма) ничуть не лучше господства, скажем, марксизма или клана мировых правительств. Это неизбежно ведёт к обеднению, ослеплению, а в итоге и к гибели человечества. Такая цивилизация изначально убога. Она обречена, ибо в итоге останавливается в своем развитии, совершенствовании и росте. Мир же – слишком сложная и тонкая система, чтобы доверять его одной идее, органу, классу, капиталу, одной группе стран или экономик. Пусть же расцветают все культуры, все народы, все формации и цивилизации. Это и есть, по нашему глубокому убеждению, движущая сила или «первопричина» здравого исторического процесса. Уникальность человека и всех народов – вот истинная и сокровенная тайна мира, завещанная нам предками и Всевышним, бережно лелеемая и хранимая во веки веков.
Выражу надежду, что частью этой очищающей веры, деянием одухотворенного разума и станет эта книга. Подобно английскому поэту М. Арнолду, я говорю: «Если во что и верю, то только в культуру». Культура в её высших, нравственных проявлениях органически связана и тесно взаимодействует с религией. Завязь истинной человечности, или «бутон культуры», говоря словами отца Павла Флоренского, нередко как раз и произрастает из зерна религии. Однако и этого недостаточно для обретения силы. Сочетание знаний и веры, веры в людей, в отечество, в лучшие способности народов, в науку «является самой лучшей, прочной, самой светлой опорой в жизни, каковы бы ни были ее превратности» (К. А. Тимирязев). Каждый народ, как мы видим, внес значимый вклад в сокровищницу европейской культуры и просвещения. С Карла Великого, задавшегося целью возродить ученость древнего мира и собравшего в г. Ахене многих знаменитых ученых, культурно-образовательная доминанта занимает все более заметное место в жизни европейских народов. «Историю цивилизации можно выразить в шести словах: чем больше знаешь, тем больше можешь» (Э. Абу).
Хосе Клементе Ороско. Боги современности. Фреска.
Своего рода рубиконом средневековой истории стал Карл Великий (Carolus Magnus), король франков, основатель Священной Римской империи (742–814 гг.). Кульминацией его политической деятельности стало «возрождение Римской империи» («renovatio Romani imperii»). Его имя с почтением и восторгом произносили и помнили немцы и французы, испанцы и англичане, арабы и греки. Немцы называли его «Karl der Grosse», французы – «Charlemagne» Народы оспаривали друг у друга право называть его «основоположником» их национальной истории. Чем же был столь велик этот франк? Почему знаменитый халиф Харун ар-Рашид искал с ним союза, а римский папа Лев III вручил ему свою судьбу? Тем, что он впервые после эпохи могущественных римских императоров создал все предпосылки для развития будущей Европы. Без него не было бы эпох Возрождения и Просвещения. В этом направлении все шло. Уже дед Карла майордом Карл Мартелл остановил ислам в его стремлении покорить Европу и подчинить ее своему влиянию. Этот политик, по прозвищу «Молот», если и не разбил, то ослабил тесные узы феодально-местнических отношений. После тридцати лет непрерывных войн он составил огромную империю, куда вошли, наряду с Франкским государством, Италия, Саксония, Бавария, Бретань, Аквитания, Северная Испания, ряд областей на юго-востоке. Это государство многие уже величали «христианской империей». По размерам своим оно было чуть меньше бывшей Западной Римской империи. Таким образом, уже в 799 г. были созданы геополитические и военные предпосылки для возложения Римом на Карла Великого императорской короны. Текст Анналов воспроизвел решение римского собора от 25 декабря 800 года: «Поскольку в настоящее время в стране греков нет носителя императорского титула, а империя захвачена местной женщиной (ред. – Речь шла об императрице Ирине), последователям апостолов и всем святым отцам, участвующим в соборе, как и всему остальному христианскому народу, представляется, что титул императора должен получить король франков Карл, который держит в руках Рим, где некогда имели обыкновение жить цезари». Уже это определение говорит в пользу того, что и сам Карл, и его окружение видело в себе продолжателей дела римских цезарей. Этим актом Западная Европа фактически возвращала себе пальму первенства после того, как в 476 г. была упразднена Западная Римская империя, а знаки императорского достоинства были отправлены в «новый Рим», Константинополь. Католическо-протестантские страны тем самым восстанавливали статус кво, а с этим и восточная ветвь христианства должна была, по мысли Карла Великого, отойти на второй план. Правда, он мечтал о бракосочетании с византийской императрицей, что могло бы воссоединить Восток и Запад под эгидой одного государя. Брачный договор так и не состоялся, но Европа обрела в его лице выдающегося лидера, ознаменовавшего собой начало расцвета крупнейших европейских государств. С него и начиналась современная Европа. О его культурной роли писал современник Эйнгард в «Жизни Карла Великого»: «Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои мысли, что мог бы сойти за ритора. Не ограничиваясь отечественной речью, Карл много трудился над иностранною и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на ней, как на родном языке; но по-гречески более понимал, нежели говорил. Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил ученых, выказывая им большое уважение… Проникшись с детства христианскою верой. Карл следовал ей свято и неуклонно…[22] Как бы там ни было, одной из его заслуг стало создание мира, в котором зародилось Новое Время.
Глава 2 Цивилизация Нового Времени
Заря капиталистической эры взошла в Европе. Это важное событие относят к началу XVI века (хотя уже в XI–XII веках в итальянских городах-республиках заложены основы будущей капиталистической цивилизации). Для успешного вызревания побегов «цивилизации» нужны условия. Прежде чем появиться на свет хорошему сорту вина, надо найти плодоносные сорта винограда и должным образом их возделать. Для этого нужны опытные и одаренные «виноделы»… К тому же многое зависит и от наличия более совершенных технологий, форм выделки «сортов» и их сохранения. Ведь, еще в Евангелии (Лука, 23, 24) было сказано: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое».
Идея объединенной Европы вскоре нашла новых продолжателей… Фридрих II Гогенштауфен (1212–1250), сын немецкого императора и сицилийской принцессы, попытался создать «ядро» единой европейской цивилизации, силой воссоединив земли Италии и Германии. Образованнейший человек своего времени, он живо интересовался науками, активно поддерживал переписку с христианскими, мусульманскими и еврейскими учеными, читал в подлинниках греческую и арабскую литературу. Блестящий дипломат, он заполучил у египетского султана Иерусалим со святыми местами, где у гроба Господня возложил на себя корону Иерусалимского королевства. В 1250-м Фридрих умер, но, хотя династия его исчезла, идея единства и общности наследников Священной Римской империи погибнуть, конечно же, не могла.
Приход к власти в Европе Карла V (1519), унаследовавшего короны четырех династий (Бургундии, Австрии, Кастилии и Арагона), стал важным политическим и социокультурным интеграционным фактором. Один из ярких поэтов той поры (Эрнандо де Асуна) так, в частности, определил программу «наднациональной» империи Карла: «Один монарх, одна империя и один меч». Сам же император (любитель рыцарских романов и хорового пения) нередко подумывал о gesta Romanorum, то есть о подвигах в духе древних римлян.
Император «Священной Римской империи» Карл V (1500–1558), пытавшийся создать «мировую христианскую державу».
Во всеевропейском «хоре народов» ему должна была бы принадлежать ведущая роль. О серьёзности намерений свидетельствовало его выступление в Вормсе (1521), где им дословно было сказано следующее: «Для защиты христианского мира я решил прозаложить мои королевства, владения и друзей, мою плоть и кровь, душу и жизнь». Характерным показателем направленности политики Карла V стал его герб – Геркулесовы столбы, символизирующие новые географические открытия, и девиз – «все дальше» (plus ultra). Разумеется, речь шла тогда не о какой-то мифической «единой Европе», а о рождении некоего центра власти, который мог бы создать неплохие предпосылки для дальнейшего материального, экономического, образовательного, научного и культурного развития.[23] Возникновение империи Карла V почти совпало с началом применения трех важнейших изобретений того времени: компаса, с помощью которого стали возможны величайшие географические открытия, освоение новых торговых путей, утверждение власти европейцев на необъятных территориях Нового Света; книгопечатания, сыгравшего исключительно важную роль в распространении науки и просвещения; а также революционных перемен в технике и военном деле.
Основой буржуазной системы является Капитал… Вопрос о роли денег и чудовищной власти тех, кто ими обладает, чрезвычайно острый, деликатный и, прямо скажу, актуальный вопрос. Хотя он лежит вне плоскости сего исследования, но в той мере, в какой волнующие темы денег и коммерции затрагивают развитие культуры, науки и просвещения, да и любые стороны жизни народов, трудно будет полностью избежать упоминания о них и их слугах.
С незапамятных времен возникли определенные средства человеческого взаимодействия (язык, письмо, право, деньги, узы семьи, обмен товарами, рынок). Кстати говоря, как ни странно, современная археология доказывает, что торговля древнее земледелия или любого другого вида производства (Leakey). Признаки её встречаются, якобы, уже в эпоху палеолита (30 тысяч лет назад). Знаменательно, что даже великий Гомер не считал постыдным для богини Афины выступать в роли некой «торговки» (в «Одиссее» она везла «груз железа»).
Конечно, торговля не бог весть какая новость. Уже первобытные народы в той или иной форме вынуждены были прибегать к элементарной коммерции (включая обмен продуктами труда, охоты, ремесел). Это вполне разумный и эффективный способ обеспечения жизнеспособности своих семей, рода, да и цивилизации в целом. Однако уже тогда с ее ростом выявились и некоторые опасные последствия господства крупных собственников. Вспомним историю о том, как мифический предок израильского народа Иаков, известный библейский персонаж, ещё в юном возрасте вынудил хитростью своего старшего брата Исава пойти на весьма выгодную для него сделку – за чечевичную похлебку уступить Иакову право старшего сына наследовать имущество отца, заодно и положение главы рода. Дети Иакова (Бог дал ему имя «Израиль») вскоре однако превзошли в ловкости и изворотливости даже своего папашу. Особенно заметную лепту внес в практику и теорию экономики Иосиф, затем ставший министром и научившийся самым ловким способом обманывать народ.
О том, каковы были его дальнейшие действия, можно судить по тексту из Библии (глава «Бытие»)… Иосиф, выйдя из Ханаана (Палестины), где царил сильный голод, вдруг попадает в фавор к фараону. Известная притча о сне фараона (о семи тучных коровах и семи полновесных колосьях, съеденных семью тощими коровами и семью сухими колосьями), вероятнее всего, лишь легенда, в образной форме означавшая смену семи урожайных лет семи неурожайными. В действительности, на высокие места в правительстве фараона без крупной взятки попасть никак бы не удалось. Да и с чего бы это, вдруг, фараон отдал чужестранцу столь важный пост, а его отца и братьев взял и поселил на самых лучших землях (в земле Раамсес)?! Разумеется, от «главного экономиста» Египта потребовали не только мзды (или взятки), но и изрядной изворотливости… Как же повёл себя Иосиф, чьё имя в переводе с древнееврейского, как известно, значило «Приумноженный»?
Иероним Босх. Фокусник.
Он в первую очередь ублажил свое племя, снабжая их хлебом «по потребностям каждого семейства». А в это же самое время страна фактически голодала. Однако предоставим слово создателям древней книги: «И не было хлеба по всей земле; потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас? Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой… И прошел этот год; и пришли к нему на другой год, и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле; ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон; посему и не продали земли своей».[24]
Перед вами в самой примитивной, классической форме предстаёт вся незатейливая стратегия капиталистическо-ростовщической операции. Mane, thekel, fares (халд. «Исчислено, взвешено, разделено»). В результате её средства, ранее накопленные трудом народа, изымаются у него и переходят в прямую собственность фараона и жречества. Именно так на ранних этапах капитализма создавались крупные состояния. Вот – тайна их первоначального накопления.
С тех пор и торговля, невольно и естественно, несла и несет на себе отпечаток обмана, жульничества, преступления. Разумеется, желая избежать столь явного надувательства, люди старались всё же как-то упорядочить процесс купли-продажи. Ранние надписи на камнях Вавилона и Ниневии содержат описания торговых сделок между обитателями городов. Своды законов определяли как порядок совершения сделок, так права и обязанности участвующих в торговле. Вместе с тем цивилизации прошлого во многом были обязаны расцветом и процветанием как труду, так и торговле. Без них, а также без накопления богатств, вряд ли вообще был возможен серьезный общественный и культурный прогресс. Г. Бокль имел основания заметить в труде «История цивилизации в Англии»: «Таким образом, накопление богатств должно быть первым из великих общественных улучшений, ибо без него не могло быть ни вкуса, ни досуга к приобретению знаний, от которого, как я докажу ниже, зависит развитие цивилизации».[25] Жаль, что Бокль не удосужился уточнить, а в чьих же карманах оседали все эти богатства.
Меняется все сразу: направления и расширение потоков торговли, масштабы цен, происходит зарождение монархических государств, идет приток драгоценных металлов, отмечается повсеместное усиление государственной и денежной власти, торговля и промышленность избавляются от сковывающей их опеки, возникают новые городские и торговые центры. Л. Февр писал: «Дух свободы, ничем не стесняемой, почти безграничной, веет над миром. Личность, индивид может дерзать беспредельно. Это относится к области духа и в такой же степени справедливо в сфере обогащения. Разнузданные спекуляции и здесь, и там. Только и слышно, что о монополиях, перекупке, ростовщичестве, а также о банкротствах, кражах, убийствах. Золотая лихорадка овладевает всем миром. И вырастает многочисленное поколение новых богачей, со всею силою воплощающее в себе тенденции эпохи. Выскочка – некто Жак Кер, и некто Якоб Фуггер, и Гаспар Дуччи из Пистойи, и Кристоф Платен, сын простых крестьян из Турени. И множество других».[26] Стремление к обретению богатств – давний инстинкт, присущий нашей расе.
При всех возражениях и спорах успех купцов (оставим в покое банкиров-ростовщиков) очевиден. Хотя Рим и пал под ударами варваров, с помощью торговли итальянцы завоевали Запад, вдохнув жизнь в ярмарки Шампани, в торговлю Брюгге, в женевские и лионские ярмарки. Они и создали первоначальное величие Севильи и Лиссабона, получили выгоды от создания Антверпена и первого подъема Франкфурта. «Они были везде – умные, живые, несносные для других, предмет ненависти в такой же мере, как и предмет зависти, – пишет Ф. Бродель. – В северных морях – в Брюгге, Саутгемптоне, Лондоне – матросы со средиземноморских кораблей-мастодонтов заполонили набережные и портовые кабаки, как итальянские купцы… города».[27] Финикийские купцы – патриархи торгового мира. Они утверждали свое лидерство на протяжении веков, превзойдя итальянцев и другие нации в искусстве просчитывать все и вся в этом неспокойном мире, подверженном опасностям и роковым случайностям. Сильным конкурентом им стал и армянский купец. Судьба же еврейского капитала была зачастую трагичной. Лишенный корней, он часто проявлял нежелание воспринять культуру и традиции другой страны. Его нередко подвергали остракизму. Он мог купить всё и всех, но это-то и составляло драму (нередко приводя к гибели), ибо нельзя купить сердце и любовь народа даже за большие деньги. Поэтому торговцы зачастую выглядят в истории культуры прямо-таки некими демонами, скупыми рыцарями, гобсеками, оборотнями (хотя бывали исключения). Напротив, видные «учителя человечества» традиционно воспринимались народами положительно (со знаком «плюс»). Налицо, как видим, явный конфликт между капиталом и знаниями с культурой.
Чего же больше в их «неравном браке»? Частичный ответ можно найти в труде выдающегося австро-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Ф. А. Хайека («Пагубная самонадеянность»). Прочитав сей труд, лучше понимаешь, почему на протяжении истории иные «торговцы», вдруг, становились объектом презрения, осуждения, а порой и открытой ненависти со стороны сограждан. Считалось издавна, что человек, покупавший товар у труженика задешево и продававший его втридорога, как бы заведомо бесчестен. В этом действе многими виделось нечто от жульнических «фокусов» картежного шулера… Поведение многих купцов (а тем паче господ ростовщиков) противоречило обычаям взаимности, столь распространенным в первобытных малых группах. Одним словом, «враждебность по отношению к торговцам, особенно со стороны грамотеев, стара как мир» (Э. Хоффер).
Лонкитес. Портрет Луи Боумистера в роли Шейлока.
Надо же признать, что и всякое творчество, включая деятельность ученого, инженера, писателя, художника, педагога, врача, артиста, в конечном счёте, предполагает некоторым образом «продажу» своего «товара» зрителю, пациенту, слушателю, читателю. Но тут, ведь, и разница весьма существенная: последние продают свой «товар», а не чужой. Вспомним и о том, что Гермес, один из древнейших богов Греции (Меркурий – у римлян) выполнял роль не только покровителя торговли, но покровителя юношества и образования (статуи его обычно ставились в палестрах и гимнасиях).
Дело не столько в факте торговли, сколь в характере отношений между людьми. Торговля дело прибыльное, но, увы, не всегда почтенное. Говорят же на Руси: не обманешь – не продашь. По этой самой причине и у большинства народов к торговле отношение крайне двойственное. Умные, образованные люди понимают характер взаимодействия таких «субстанций». Поэтому истинные творцы мира часто выступают строгими оппонентами и критиками торгашеского круга. Класс тружеников как бы противостоит классу торговцев. Хотя, разумеется, сам не может обойтись без денег и торговли. Ведь что ни говори, а «и музе нужен и завтрак, и обед, и ужин». В конце концов, разве не нашему великому А. С. Пушкину принадлежат лаконичные афоризмы: «Наш век – торгаш», но и тут же: «Без денег и свободы нет»?!
На полюсе делячества и бизнеса концентрировались и аккумулировались далеко не самые лучшие людские качества (алчность, зависть, подлость, корыстолюбие). Чистоган разъедает душу, как ржавчина, что порой одолевает даже сталь… «Корыстолюбие отнимает у людей самые заветные чувства – любовь к отечеству, любовь семейную, любовь к добродетели и чистоте», – восклицал некогда римский историк Саллюстий. Не случайно в последующую эпоху само имя иудея Шейлока стало нарицательным (в негативном смысле). Можно отмести критику «торговой цивилизации», отнеся ее на счет людских пристрастий и антипатий (зависть, лень, невежество и т. д.). Но ведь не только темные и невежественные люди относились с неприязнью и подозрением к торговцам. Купцов презирали Платон с Аристотелем. Да и в средние века в их адрес, надо признать, не слагали хвалебных сонетов. В Японии до конца XIX в. те, кто делали деньги, были практически кастой неприкасаемых… О скаредных и безжалостных богачах писал с убийственным сарказмом и наш Пушкин… В «Скупом рыцаре» его герой-ростовщик, глядя на сокрытое в своих подвалах золото, молвит:
…Кажется, не много, А скольких человеческих забот, Обманов, слез, молений и проклятий Оно тяжеловесный представитель!.. Да, если бы все слезы, кровь и пот, Пролитые за все, что здесь хранится, Из недр земных все выступили вдруг, То был бы вновь потоп – я захлебнулся б В моих подвалах верных…От ученых вправе ожидать, возможно, менее поэтических, но безусловно более толковых и ясных разъяснений по поводу этих фактов остракизма целого сословия, нежели нелепые упоминания о «колдовстве» и тому подобной чуши. Если принять во внимание серьезность обвинения, окажется, что в ходе процесса обмена на одном полюсе общественного бытия собран физический (интеллектуальный) труд и его плоды, добытые потом и кровью, а на другом – капитал и особого рода «умения». Как только в конкуренцию введён элемент «скрытого» и «невидимого» знания (у большинства его нет), чувство товарищества и ощущение того, что игра ведётся честно, естественно, исчезают. Новая эра внесла существенные перемены в отношения людей, процессы обмена и производства. Возросло значение знаний и информации.[28]
Новые времена бесспорно придали коммерции вполне почтенный облик, сделав занятие ею достаточно массовым явлением… Когда же с торговцев сняли их родовое проклятие, общество заметно преобразилось… Ещё раз отметим тесную взаимосвязь главных элементов цивилизации. Переход к системе национальных государств от очаговых полисов и империй вызвал у массы людей невиданную активность, способствуя развитию их знаний, ремесел и торговли.
Путешествия раздвинули границы мира, предоставив промышленникам и торговцам новые рынки для сбыта их продукции. Развитие мореплавания, навигация и картография сделали путешествия и вояжи менее опасными и более прибыльными. Коммерция и транспорт открывали новые возможности для продаж редких или даже уникальных для данной местности изделий ремесленников, предметов искусства, продукции новейших технологий.
Значение коммерции постоянно возрастало. В нее были включены элементы новых знаний и навыков, но этим дело далеко не исчерпывалось… Математик и философ А. Н. Уайтхед пишет: «…Коммерция не терпит застоя. Она соединяет группы людей с разными образами жизни, различной технологией и различными типами мышления. Если бы не Коммерция, морской компас со всей теорией, которая им подразумевалась, никогда не достигли бы берегов Атлантики, а книгопечатание не распространилось бы от Пекина до Каира. Распространение Коммерции в средневековой и современной Европе в первую очередь обязано великим дорогам, унаследованным от Римской империи, развитию навигации, позволившей нанести на карту побережье с удобными местами для гаваней, и чувству единства, культивируемому католической Церковью и христианской этикой… Преимущество Коммерции заключено в ее тесной связи с технологией. Коммерция вызывает к жизни такие новые формы опыта, которые открывают новые возможности в производстве. Кроме того, европейская технология имела еще и другой источник. Искусство ясного мышления, критика предпосылок, абстрактные гипотезы, дедуктивное рассуждение – это все великое искусство зародилось у греков и было унаследовано Европой. Как и другие изобретения человечества, это искусство часто использовалось во вред людям. Но его воздействие на интеллектуальные способности можно сравнить только с укрощением огня и использованием железа и стали для изготовления клинков Дамаска и Толедо. Теперь человечество имело не только физическое, но и интеллектуальное оружие». Дело теперь за малым: применять его нужно с умом и толком, не теряя достоинств ума и сердца.[29]
Все активнее осваивается земное пространство, выступая в ранге действующего лица истории. Становятся более доступными земли Европы, Америки, Сибири, Африки, Австралии. Европейцы исследуют и покоряют Американский континент. Морские путешествия все интенсивнее и продолжительнее. Совершенствуются давние дороги из Китая и Индии в Средиземноморье и обратно, а также знаменитый путь «из варяг в греки». Торговая сеть приобретает экуменический характер. Создание каналов и дорог заметно удешевило движение людей и товаров. Освоение новых земель и их использование под сельское хозяйство создавало в ряде стран определенный «избыток» продуктов питания. Возникала возможность задействовать более обширные и плодородные пространства (с помощью новой техники и технологии). В хозяйственно-промышленный оборот эффективнее вовлекается столь мощный «работник» как матушка-природа. Все подготовлено к мощной экспансии техники, науки, промышленного производства, культуры, образования. Особая роль в повороте ума от теории к практике принадлежала Ф. Бэкону. В книге «Мысли и заключения» (1607 г.) он писал: «Есть, вероятно, люди, уши которых воспринимают как резкий диссонанс мои частые и восторженные упоминания о практических делах. Такие люди безнадежно влюблены в созерцание и преданы ему. Пусть они сами разбираются в том, насколько они ещё враги своих собственных стремлений. В естественной философии практические результаты – не только средство улучшения благосостояния, но и гаранты истинности… Науку также должно подтверждать делом. Наука без дел мертва, и именно в свидетельствах дел, а не логикой или даже наблюдениями открывается и устанавливается истина».[30] Таким образом наиважнейшим девизом Нового времени становится крылатая фраза: «Res non verba!» («Дела, не слова!»).
Новое время открыло и ларец изобретений. Появление прототипов новых машин можно отследить и в давние времена (Герон Александрийский создал «автоматизированной верфи». Однако если говорить о технике как о широком явлении, то культура изобретения машин и инструментов стала обретать научно-прагматическую заданность и четкую конструкторскую обусловленность с великого Леонардо да Винчи. Человеческий ум стал распространяться не только вширь и вглубь, но и ввысь. Немецкий ученый И. Кеплер (1571–1630), вдохновленный плутарховым «Ликом Луны», высказывает фантастическую идею высадки на Луне в 1609 г. Англичанин Дж. Уилкинс (из Кембриджа) завершает в 1638 г. книгу, содержащую идею путешествия на Луну, в которой есть предвидение появления фонографа, а также «небесной колесницы» (прообраза «Шаттла»), других изобретений.[31]
В. И. Вернадский отмечал в «Очерках», что в научное сознание одно за другим проникают великие открытия, широкие обобщения естествознания. Физические опыты положили начало современной физике, механике, физиологии. Создан научный эксперимент, позволяющий подходить в легкой и удобной форме к решению задач, требовавших раньше десятилетий. Эксперимент начал проникать во все области знания, включая биологические науки. На изучении объектов анатомии и астрономии вырабатываются приемы научного наблюдения. Наряду с этим впервые создаются новые отделы математики, открываются новые приемы и методы математической мысли. (И. Кант даже скажет: «Наука лишь постольку наука, поскольку в нее входит математик»). Эти усилия в ряд лет оставили далеко позади ту тяжелую и медленную работу, что шла в том же направлении четыре столетия. Человечество переживает более крупный перелом или даже революционный прорыв, нежели тот, что ранее нашел выражение в движении Гуманизма и Реформации.[32]
Заметнее изобретательская деятельность инженеров. Некий Корнелиус Дреббель (1572–1634) построил подводную лодку и показал ее англичанам (на Темзе), а Пьер Бугер пишет «Трактат о корабле, его строении и движении» (1746). Открытия Гюйгенсом маятника (1657) и пружинного часового механизма (1675) означали переворот в часовом деле. Симон Стуртевант, в прошлом монах, напишет научный трактат о технико-экономических аспектах изобретения. В своей работе он называет чудесное искусство изобретений «эвретикой» и стремится обосновать учение «о том, как находить новое и судить о старом». Появляются: труд Агостино Рамелли «Разнообразные и искусно устроенные машины» (1588), работа Витторио Дзонки «Новое представление машин и сооружений» (1621), справочник Бернара Форэ «Карманный словарь инженера» (1755) и др. Возникает собственно ремесло «инженера». В XV–XVI вв. Он выступает в роли военного строителя, архитектора, гидротехника, выполняет миссию скульптора и живописца. Прогресс техники очевиден.
Однако труд этот еще не вполне оценен обществом. Во Франции вплоть до XVIII в. еще не было систематического инженерного образования. Школа мостов и дорог создается в Париже лишь в 1747 г., а Горная школа открыта в 1783 г., по образцу немецкой Горной академии, созданной во Фрейберге, в Саксонии (1765). В это же время ученые фламандцы прославились на всю Европу изготовлением точнейших навигационных карт. Все экономические, технические, профессиональные, образовательно-корпоративные перемены в обществе столь впечатляющи и ощутимы, что это находит отражение в культуре, в частности, в творчестве видных поэтов, писателей, художников (вспомним картины голландца Яна Вермера «Географ» и «Астроном», а также Рембранта «Урок анатомии»).[33]
Глобус, изготовленный мастерами Нового времени.
Наличие таланта и дерзновения стало своего рода небесным знаком. Так, Колумб был абсолютно убежден в своем божьем предназначении. Полученные богатства он вначале, было, решил использовать для наступления на земле «царства божия». Для этого нужно было обратить в христианство всех иноверцев. Тогда считалось, что Индия является христианской страной. Поэтому поиск пути в Индию воспринят был как единение христиан Европы и Востока. По сути дела, это план гигантского геополитического переустройства всего мира. Колумб – предтеча современного колониализма. Вернадский так писал о нем: «Он представлял собой странную смесь высокой талантливости и недостаточного образования. Школьного образования он не получил и стоял в стороне от обычного схоластического образования. Он был вполне самоучка, подобно многим людям этого времени. Он выработался в школе жизни, которая развила в нем неоценимые качества точного наблюдателя и смелого эмпирика, столь далекого от большинства образованных людей средневековья».[34] Мир заметно изменился. «Опыт, и взаимное общение, и науки, и тысячи других причин, которые нет нужды называть, с течением времени сделали нас столь непохожими на наших далеких предков, что если бы они воскресли, то, наверное, с трудом признали бы нас за своих внуков», – так описывал характер свершившихся перемен итальянский поэт Дж. Леопарди (1798–1837).[35]
Немецкое судно с прямым парусом и навесным рулем.
Гравюра из «Странствий» («Peregrinationes») Бренденбаха. Майнц, 1486 г.
С того времени корабль был капиталом, который распродавался «акциями» и бывал разделен между несколькими собственниками.
Каждая эпоха делает лишь посильную ей работу. У каждого времени есть отведенный ему ресурс идей, материалов и людей. Ранее мы убедились, что древние греки внесли немалую лепту в «ларец изобретений» (колесо, упряжь, мельница, рубанок, порох, бумага, книгопечатание). Изобретения Нового времени (в металлургии, судостроении, оптике, оружии) дадут новый толчок прогрессу, послужив основанием технологического оптимизма Декарта. Причем физика и математика должны были прийти на помощь технике. В этом случае эотехническая машина превращалась в палеотехническую (Л. Мэмфорд), возникая при помощи теоретических научных расчетов. Голландцы изготовили подзорную трубу, как некий полезный предмет, но еще не как точный инструмент. Галилей, увеличив точность и разрешающую способность линз, приступил к изготовлению инструментов для науки и ученых (телескоп и микроскоп). На смену приблизительности приходит «точность». Так что не случаен тот факт, пишет ученый А. Койре, что первый оптический инструмент был изобретен Галилеем, а первая машина Нового времени (для нарезки параболических линз) – французским ученым Декартом.[36]
В итоге на смену нелепой, и, по сути своей, фарисейской пословицы монархов: «Точность – вежливость королей» появляется другая: «Точность – оружие ученых»… Материальным символом и воплощением перемен явилось создание первой механической вычислительной машины. Ее «отцом» был профессор Тюбингенского университета В. Шикард (1592–1635). Считают, что И. Кеплер подсказал ему идею заняться созданием вычислительной машины. Во всяком случае об этом говорит факт его регулярной переписки с ним. Шикард в письме к Кеплеру (20 сентября 1623 г.) сообщает, что он построил счетную машину, выполняющую четыре арифметических действия.[37]
Во времена расцвета эпохи Возрождения ученые вынуждены были еще опираться на крайне недостоверные и сомнительные данные. Профессора университетов, не говоря уже о монашеской «ученой» братии (нередко они представлены в одних и тех же лицах), продолжали «путаться в одеждах Аристотеля». Жизнь же обычного ученого долгое время подобна была жизни бродяги или преступника, за которым шла постоянная охота. Однако наступали времена, когда знания стали цениться все больше. Известная фраза Ф. Энгельса о том, что когда у общества появляется некая техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем добрый десяток университетов, была подтверждена жизнью. Возникший в 1579 г. английский Грешем-колледж стал скорее научным центром, нежели гуманитарно-теологическим учреждением (вроде Коллеж де Франс). Курс наук читался на английском и латыни, профессора преподавали геометрию и астрономию. Грешем-колледж придавал большое значение знаниям навигационных приборов (для подготовки моряков).
Возникновение инженерных наук восходит к французской Corps du Genie (1676). В стенах «корпуса» возникло в XVII–XVIII вв. несколько артиллерийских школ, где преподавались и инженерные науки. В эпоху Людовика XV главным инженером мостов и дорог был назначен Жан Родольф Перроне (1708–1794). Он-то и заложил основы первой формальной школы инженеров мира (1747), которая с 1775 г. стала трехгодичной и получила название «Школы мостов и дорог». В Англии, в Вулвиче, открыта Королевская военная академия (1741 г.), в задачи которой входила подготовка офицеров-артиллеристов и инженеров.[38]
Иоган Кеплер.
Научная революция, как писал английский профессор Баттерфилд, «затмевает все имевшее место после возникновения христианства и низводит Возрождение и Реформацию до уровня простых эпизодов, простых перемещений внутри системы средневекового христианства».[39] Из сферы теологии ум все чаще устремляется в естественно-научное русло. Вчерашний монах-мистик становится Дедалом! Наличие принципиального поворота в характере научного мышления, подготовке европейских интеллектуалов несомненно. Воплощается в жизнь библейское пророчество (кн. Даниила, XII, 5): «Много поколений пройдет, и разнообразна будет наука»).
Знаменательно и такое явление, как «персонификация веков»… Ранее люди вели счет на тысячелетия, а то и вообще забывали о времени, ибо оно не имело принципиального значения. Столь ничтожны и малозначимы были происходящие в быту и жизни перемены. С началом новой эры время как бы сжимается, уплотняется, группируется в связки. Возникает выражение – «Saeculorum novus nascitur ordo» («Рождается новый ряд веков»). Отныне каждый век имеет особую, характерную для него, во многом непохожую «физиономию».
Восемнадцатый век известен как «век философии». Его назовут еще и «веком Просвещения». Русский писатель Вл. Даль дает такое определение слову «просвещенье»: «Свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни», добавляя при этом: «Просвещенье одною наукою, одного только ума, односторонне, и не ведёт к добру».[40] Каждая группа жаждет нацепить собственную табличку на свою эпоху. Историки стали называть XIX век «веком истории», инженеры и ученые – «веком машин и наук», индустриалы – «веком промышленности», торговцы – «веком торговли» и т. д. и т. п.
«Гомо сапиенс» стал пробуждаться от летаргического сна (сна разума). Долгое время условия его существования были таковы, что он напоминал скорее животного, нежели человека. Не мудрено, что и в оценках его приравнивали к животным. Савонарола говорил: «Нет более вредного животного, чем человек, не следующий законам». Монтескье характеризовал человека как «общительное животное», Вольтер называл его весьма «странным животным», Лабрюйер видел в тружениках каких-то животных, обладающих «чем-то вроде членораздельной речи», а немецкий философ Фейербах назвал его «религиозным животным». Конечно, многие следовали тут за Аристотелем, видевшим в человеке прежде всего «социальное животное». И все это viri doctissimi! («ученейшие и мудрейшие мужи!»). Впрочем, «животный» интерес к человеку предвосхищал «человеческий» интерес к самим животным (труды Ч. Дарвина, Д. Романеса и других). Ум человека освобождался от пантеистического преклонения перед природой. Народ постепенно начал выходить из животного состояния, перестал раболепствовать перед дворянством, монархом или сутаной. Человек дерзнул поставить себя в центр мироздания, заявив: «Homo sum!» («Я – человек!»). В его личной судьбе все большую роль играют образование и культура.
Веку революции предшествует век критики. Когда в обществе скапливается достаточное количество глупости и мерзости, нужны не столько авгуры, толкующие очередную «волю богов», сколь разгребатели грязи, готовые вычистить «авгиевы конюшни»… С другой стороны, минула и элегическая эпоха Возрождения, когда, как отмечал Р. Гвардини, «прежде всего необыкновенное, гениальное становится масштабом ценности жизни». Ушли в небытие и несколько наивные представления М. Фичино об абстрактной идеальной личности. Человек новой эпохи критичен, практичен, даже циничен. Он исповедует реалистичное правило «Volere – potere!» (Желать – это мочь).
Критика суеверий, всего отжившего в обществе и человеке становится «острой приправой» к беседе. Многие разделяют точку зрения Паскаля и Бомарше. Первый считал, что нужно благодарить тех, кто указывает нам на наши недостатки. Второй высказывался в весьма схожем духе: «Исправить людей можно, но лишь показав их таковыми, каковы они на самом деле». Все согласны с тем, если бы вся эта болезненная операция проходила так сказать «под наркозом Разума» (путем замены наукою слепой веры и фанатизма). «Почему не поднять голос против злодеев прошлого, знаменитых основоположников суеверия и фанатизма, тех, кто впервые схватил на алтаре нож, чтобы отдать на заклание строптивых, не желающих принять их воззрения?» – писал Вольтер.
В то же время человек начинает ощущать, что для выяснения его отношений с миром ему не хватает откровения. В итоге, лишенный ориентиров и посредника, он, вдруг, понимает, что заблудился в дикой чаще Вселенной. Поэтому XV и XVI века – это века огромной тревоги, невыносимого смятения, кризиса… Спасением для западного человека становится вера, новое верование: вера в разум, в «nuove scienze» («новую науку»). Испанский философ Ортега-и-Гассет скажет: «Поверженный человек возрождается».[41]
Наука с небес спускается на землю. Научные споры XVI–XVII вв. вращались вокруг «небесной тверди» и астрологии (изучение движения планет, составление астрономических таблиц, календари, прогнозов и пророчеств). Астрология имела определенные заслуги в деле становления науки. На протяжении ряда веков сильные мира сего (государи, короли, князья, цари, президенты, одним словом правители всех мастей) выделяли деньги и средства только «под астрологию». Каждый из них хотел узнать свое будущее, предвидеть судьбу. Некоторые ученые-астрологи (вроде знаменитого Нострадамуса) весьма преуспели. Великий Кеплер составил гороскоп для известного полководца эпохи Тридцатилетней войны Валленштейна (где с точностью до месяца предсказал его смерть). На эти средства возводились обсерватории и лаборатории, приобретались и изобретались всевозможные приборы, книги и инструменты, велись активные поиски. Между «астрономией» («астрон» – «звезда» и «номос» – «закон») и «астрологией» («астро» – «звезда» и «логия» – «учение, наука, знание») не было глубоких смысловых различий. Это схожие понятия. Вплоть до XVIII в. их воспринимали как близкие науки. Так, в германских университетах астрология преподавалась в качестве учебной дисциплины до 1820 года.[42]
Научная революция освобождала ученых. Те перестали быть слугами религии. Все меньше места остается для магов и астрологов. Пал даже Аристотель как «великое божество средневековья». Галилей ввел понятие научного эксперимента. Николай Коперник (1473–1543) родился в Торуне, некогда прусском городе (ныне Польша). Отец его рано умер и воспитание ребенка взял на себя дядюшка-священник (епископ Вармии). Затем он же помог Копернику стать и каноником кафедрального собора, что обеспечило его на всю жизнь. Церковь – как видим, довольно прибыльная профессия. Как бы там ни было, а он получил возможность учиться в ведущих университетах Европы (Краковский, Болонский, Падуанский и университет Феррары, где получил степень доктора канонического права).
Коперника называют создателем гелиоцентрической системы мира. Он писал, что если с круговым движением Земли сравнить движения планет, то можно «вычислить движения» остальных светил. К открытию он пришел не сразу. Перед тем он дал себе труд прочесть сочинения всех философов, какие только смог раздобыть. Это было им сделано не только в научных, но и в педагогических целях, ибо он хотел доказать, что «движение небесных тел вовсе не таково, как учат математики в школах». Кое-какие сведения о движении Земли Коперник почерпнул у Цицерона и Плутарха, решительно дистанцируясь как от мнений невежественной толпы, так и от теологов-пустословов, которые, «будучи невеждами во всех математических науках, все-таки берутся о них судить» на основании Священного писания… Одним словом Коперник все же не убоялся «сдвинуть с места святой центр мира» и «быть судимым» (как это некогда произошло с древнегреческим астрономом Аристархом Самосским, впервые высказавшим дерзкие идеи гелиоцентризма). Работа «О вращении небесных сфер» (1543) находилась под запретом католической церкви в течение двух веков (с 1616 по 1828). Под декретом стояли подписи епископа Альбы и Маделэна Железная Голова (Capiferrus), секретаря ордена доминиканских братьев. Коперник писал в своей книге: «Но я знаю, что размышления человека-философа далеки от суждений толпы, так как он занимается изысканием истины во всех делах, в той мере как это позволено богом человеческому разуму. Я полагаю также, что надо избегать мнений, чуждых правды».[43] Своими трудами он «потряс мироздание, изгнав Землю и все живые существа на ней из его центра, предоставив им куда более скромное место в плане Вселенной» (Б. Лейжер).
Я. Матейка. Коперник с трикветром. 1873 г.
Коперник был не только гениальным астрономом, естествоиспытателем, но и экономистом, проявив и в этой сфере незаурядный талант. Он занимал должность администратора церковных владений. Приходилось ему заниматься хозяйственными вопросами и денежным обращением. В 1519 г. он пишет трактат о деньгах. По призыву польского короля Сигизмунда I принимает участие в работе польского сената по упорядочению денежных вопросов в Польше. В Польше тогда обращалось 17 видов монет. Нужно было найти равновесие между товарами и деньгами. Без всеобщего эквивалента не могло быть ни крепкой торговли, ни прочного государства, ни надежной власти. В своем трактате он отмечал: «Монета есть клейменное (signatum), согласно установлению любого государства, либо правителя, золото и серебро, при посредстве которых исчисляются цены продаваемых или покупаемых предметов. Она, следовательно, есть как бы всеобщая мера стоимости. Необходимо, однако, чтобы то, что должно быть мерой, сохраняло постоянную и неизменную величину. В противном случае нарушится гражданский порядок и возникнет основание бесконечных обманов покупателей и продавцов, как если бы локоть, …или гиря не сохраняли постоянной величины». Труд Коперника называют введением в политэкономию раннекапиталистической эпохи.[44]
В личной жизни Коперник не очень-то соблюдал обеты целомудрия. Известны случаи, когда молодой каноник, устав от созерцания далеких звезд и планет, не прочь был ощутить жар «звезд» совершенно иного свойства (так сказать, вполне земного происхождения). Однажды он пригласил к себе заночевать в обитель двух женщин, одна из которых служила у него экономкой. Женщины восприняли его предложение не без удовольствия (не мудрено, если учесть, что муж одной из них был импотент). Узнав об этом случае, епископ данной епархии выразил канонику свое неудовольствие. Когда Копернику было за 60, он не переставал общаться с разными дамами. Бог – богом, а дамы – дамами (А. Шиллинг была его полюбовницей). Слава о похождениях «отшельника», видимо, переступила все границы приличия. Епископ вынужден был даже принять особое решение, по которому из его епархии изгонялись «проститутки» (экономки священников). Так что ни звезды, ни Господь, ни деньги не лишали его радости утех.[45] Когда могучий ум ученого почил в бозе, приведя в движение мысль средневековой Европы, испанский поэт Хуан де Ириарте (1702–1771) в «Эпитафии Копернику» воздаст ему по заслугам:
Здесь найдя уединенье, Спит Коперник под плитой. Дай, Земля, тому покой, Кто привел тебя в движенье.[46]Немец Иоганн Кеплер, основатель и «крестный отец» новой астрономии (1571–1630). Явившись в Швабию, он стал теоретиком астрономических знаний. Ему принадлежит заслуга открытия истинного устройства Солнечной системы и некоторых законов движения планет. Кеплер обладал способностью проникать в тайны мирозданья. Как истинно гениальный человек, он отличался величайшими трудолюбием и скромностью, до конца жизни не признавая ни громких титулов, ни ученых степеней и званий, скромно называясь «математиком», подтверждая истинность платоновских слов о том, что «астроном должен быть мудрейшим из людей».
Младые годы он провел в жесточайших бореньях с судьбой, которая в его лице словно решила подвергнуть тяжким испытаниям всех одаренных и гениальных юношей. Кеплеру явно не повезло с родителями. Отец – мот и бродяга, норовивший удрать от семьи. Ссоры, брань, ненависть, болезни сопутствовали детским годам юноши. Жесточайшая оспа едва не свела его в могилу в возрасте 4 лет. Самые нежные годы прошли у стойки в кабаке, куда его загнал отец (забрав из школы). Отец даже в кабацком деле оказался неумехой, всё бросил, ушел в солдаты и где-то в конце концов сгинул. Мать, не умевшая ни читать, ни писать, прикладывалась к бутылке и мало чему могла научить сына. Правы те, кто ставит случай Кеплера как пример способности людей возвышаться над неблагоприятными обстоятельствами. Умного и волевого не совратят все кабаки мира, а тупое и безмозглое существо может стать жертвой одной пивной кружки.
В горькие минуты жизни Кеплер устремлял свой взор на небо, выискивая там робкий луч надежды. Позже он выскажет мысль, которую можно отнести в первую очередь к нему же самому: «Воистину божественный голос призывает людей к занятию астрономией». Видимо, на способности ребенка кто-то обратил внимание. Он стал посещать школы с латинским языком и церковные училища (1583). Вскоре его примут в известное училище при Маульбрунском монастыре, что готовило молодых людей к поступлению в высшую семинарию при знаменитой Тюбингенской академии. Ректор училища напутствовал своих питомцев мудрыми словами: «Голова, а не руки правят миром; поэтому необходимы образованные люди, а такие плоды не растут на деревьях».
В 1591 г. он получил звание учителя и поступил в академию, где в равной мере преуспел в овладении математическими и литературными знаниями. Круг познаний был тут ограничен. Здесь уважали смиренномудрую посредственность, а не яркий и сильный талант. Тюбингенская академия считалась в те времена сугубо богословской школой. И хотя она значительно отличалась от обычных церковных школ (впоследствии ее преобразуют в университет), все же дух схоластики здесь был очень силен. По окончании академии его назначили преподавателем математики и нравственной философии в гимназии г. Греца. Помимо учебных занятий, он работал над календарем, где счет числам велся уже по новому стилю. Вряд ли сей труд достойное занятие для выдающегося ума. Однако захочешь есть, так и астрологом станешь: «Чтобы ищущий истину мог свободно предаваться этому занятию, для него необходимы по меньшей мере пища и помещение. У кого нет ничего – тот раб всего, а кому охота идти в рабы? Если я сочиняю календари и альманахи, то это, без сомнения, – прости мне, Господи, – великое рабство, но оно в настоящее время необходимо. Избавь я себя хоть на короткое время от этого – мне пришлось бы идти в рабство еще более унизительное. Лучше издавать альманахи с предсказаниями, чем просить милостыню. Астрология – дочь астрономии, хотя и незаконная, и разве не естественно, чтобы дочь кормила свою мать, которая иначе могла бы умереть с голоду?»[47]
Чрезвычайно важной для судеб науки стала встреча Кеплера и Тихо Браге. В годы невзгод, обрушившихся на Кеплера, Тихо Браге не только приютил в Праге Кеплера (вместе с его женой), но и предоставил ему все свои бесценные научные наблюдения, которые собирались им в течение многих лет (35 лет). Когда Кеплер увидел эти сокровища, он был буквально потрясен и восхищен. В одном из писем он сообщает (своему давнему учителю Мэстлину): «Богатства Тихо громадны, но он, как и большинство богачей, не умеет ими пользоваться».
После смерти Браге Кеплер унаследовал все его журнальные наблюдения… Тот же, словно убедившись, что дело всей его жизни оказалось в надежных руках, почил с миром. Отныне, находясь на посту императорского астронома, Кеплер мог спокойно заниматься серьезной наукой.… Он разрабатывает первый и второй законы движения планет, пишет трактат об оптике и «Элегию на смерть Тихо Браге» (пьесу в 200 латинских стихов, содержащую описание его жизни). Теперь, войдя в период научной зрелости, он выдает одна за другой многочисленные блестящие догадки и открытия. Так, за 40 лет до опыта Торричелли он относит воздух к тяжелым, а не к легким элементам. За 6 лет до того, как Галилей впервые направил подзорную трубу на Луну, он напишет о том, что Луна подобна Земле и может быть в принципе обитаема. Кеплер описывает свойства солнечной короны во время полных затмений. Это позже подтолкнет Декарта к его открытиям. Но, конечно, венцом научных усилий стали его знаменитые два закона. В них он доказал, что: 1) орбита Марса не круг, а эллипс, и Солнце занимает один из фокусов этого эллипса; 2) Марс же движется по эллипсу неравномерно, быстрее – вблизи Солнца, медленнее – вдали от него.
Затем им было написано сочинение «Новая астрономия», вышедшее в Праге за счёт все того же Рудольфа II (1609). В посвящении императору Кеплер скажет с немалой гордостью: «…Марс теперь уже в наших руках». В «Сокращенной астрономии» он высказал гениальные догадки относительно состава Млечного пути (за два с лишним века до Гершеля). Он предсказал вращение Солнца и Юпитера, первым высказал догадку о том, что морские приливы и отливы производятся магнетическим воздействием Луны на поверхность океанов. А, ведь, даже великий Галилей в «Разговорах» охарактеризовал такую точку зрения как «величайшую нелепость». Кеплер был близок к открытию закона всемирного тяготения и «уже чувствовал его в своем сердце». Эта гениальная догадка стала истиной уже совсем недавно, для чего потребовались усилия математического анализа и гения Лапласа. Одним словом, в силе ума он ничуть не уступал Копернику, в эрудиции – Галилею, а в мужестве – славному Дж. Бруно. Его девизом стали великие слова: «Бездействие – смерть для философии; будем же жить и трудиться».[48]
Прогресс отнюдь не всегда был мирным. Неаполитанец Джордано Бруно (1548–1600) был самой природой создан для науки и образования. Монастырь доминиканцев стал его университетом. В его стенах он провел двенадцать лет, испив всю мудрость библиотеки. «Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа» (Г. Лейбниц). Когда же он заметно расширил круг познаний, ему стало тесно в этих стенах. Окунувшись в чтение запрещенных церковью сочинений, он высказывал крамольные мысли. Затем, страшно подумать, вынес из кельи иконы, оставив себе один лишь крест. Возможно, Дж. Бруно уже тогда счел, что ему хватит Креста Познания?!
Джордано Бруно.
Охватив умом самые разные сферы знаний в Италии (Генуя, Турин, Венеция, Падуя), он устремился в другие страны и города (Шамбери, Тулуза, Париж, Женева, Лондон), повсюду пользуясь громадным успехом у слушателей. В университете Тулузы он читал курс по философии природы, привлекая слушателей эрудицией, искусством оратора и полемиста. Это вызывало восторг одних и зависть других. Многие не желали видеть в нем «профессора более высокой мудрости, чем та, которую обычно преподают». Он развил теорию Коперника, предвосхитил некоторые идеи Канта и Лапласа. Столь энергичная деятельность не могла остаться незамеченной. Оксфордские ученые стали в позу Фомы неверующего. Он скажет о них как о созвездии педантов, способных вывести из терпения самого Иова своим невежеством и самонадеянностью. Между официальной вузовской профессурой и ученым возник, видимо, неизбежный разрыв. Давно уж известно миру, что «зависть накидывается на самые высокие достоинства и щадит одну только посредственность» (Г. Левис).
Вся жизнь этого великого человека, казалось, созданного для любви, счастья и творчества, была полна тяжких испытаний. Он безумно любил Италию, считая её «десницей земного шара», «матерью и наставницей добродетелей, науки и человеческого развития». Однако сородичи заставили его в том усомниться. Из-за преследований он вынужден был бежать в Женеву. После того, как он написал книгу против кальвинизма, его сажают тут в тюрьму (вместе с издателем). Затем Бруно направляется в Тулузу, университет которой насчитывал уже тогда 10 тыс. студентов. Его лекции пользуются популярностью. Однако коллеги-профессора не приемлют критики. Педагог вынужден покинуть стены этого университета. Таков же эффект от чтения лекций в Париже и Лондоне. Ему не прощают того, что он ставит в основу курса мудрость, истину, красоту. «Стремление к истине, – пишет он, – единственное занятие, достойное героя». Свирепые схоласты не оставляют его в покое и там (хотя в Лондоне ему выпала пара спокойных лет). Бруно едет в Германию, где путешествует из города в город, читая лекции в немецких университетах. Когда он вновь оказался на родине, в Италии, его заключают в тюрьму и обвиняют в ереси. В сочинении о «Героическом энтузиазме» он торжественно и поэтично воспевал «мудрость, являющуюся одновременно истиной и красотой». Достойна внимания и революционная для своего времени мысль о бесконечности вселенной. «Я учу бесконечности вселенной», – писал этот светоч знаний, рожденный итальянским солнцем.[49]
Крайняя «одержимость» Бруно в ученых спорах ему куда больше недругов, чем друзей. «Успех создает мало друзей» (Л. Вовенарг). Никто не любит, чтобы их погоняли бичом иступленного вдохновения (пусть даже в сферу мыслей и наук). «Псы суетности», «псы невежества» растерзали этого яркого великого философа, как некогда пожрали юного Актеона его же собственные собаки. От него потребовали публично отречься от идей, которым он поклонялся. Он не согласился на измену вере духовной, не продал душу дьяволу, заявив своим судьям: «Я не могу и не хочу отречься. Мне не от чего отрекаться». Инквизиторы решили умертвить его, приняв фарисейское, я бы даже сказал, типично иезуитское решение («без пролития крови»). Бруно восстал не против Бога, а против его бесчестных служителей. Виктор Кузен говорил в его адрес: «Бог представляет для него великую сущность (La grande unite), проявляющуюся в мире и человечестве. Нельзя не признать в нем гениальности. Хотя он и не был основателем системы, которая держалась продолжительное время, тем не менее он оставил в истории философии светлый, но в то же время кровавый след». Словно в насмешку над провозглашенной свободной мыслью и над ранней работой Бруно «Изгнание торжествующего зверя», церковные ортодоксы преследуют «друга Бога», как лютого зверя, сжигая в пламени костра (на «Поле цветов» в Риме). А выдала его инквизиции гордящаяся своими свободами и либерализмом Венецианская республика.
Ныне видим: как убеждения меняют с лёгкостью не из-за страха перед костром и пролитием крови, но из-за низменности, ничтожности натур. Об этих тварях никто не скажет тех слов, что сказаны три века спустя на той же Площади цветов в Риме, когда тысячи делегатов из многих стран склонили знамена пред прахом Дж. Бруно (10 июня 1889 г.): «Смерть в одном столетии делает мыслителя бессмертным для будущих веков…» Пример его подвига вдохновит слабые души. Он стоял до конца в своих убеждениях… «Он умер, чтобы жила его философия. Таким способом он бросил вызов, и судебный процесс возобновился: он был продолжен совестью итальянского народа, который осудил тех, кто его убил» (А. Гуццо).[50]
Сожжение «еретиков».
Велика заслуга в приближении зари Нового времени и Галилео Галилея (1564–1642). Его предки принадлежали к знатному флорентийскому роду. В семье было несколько приоров (представителей богатых цехов), пользовавшихся немалой властью. Еще в XII в. приоры, вместе с купцами, разрушали замки синьоров. Один из членов семейства, Галилео, известный врач и ученый, однажды даже сумел стать главой Республики («знаменосцем правосудия»). Галилей явился на свет в сложную эпоху бескомпромиссной идейной борьбы. В это время в Англии появился на свет Шекспир. Времена были суровые. Тридентский собор сформулировал принципы Контрреформации и опубликовал списки запрещенных книг, тем самым официально оформив и легализовав охоту за мыслью (1563). Бесцензурное чтение книг в ту пору нередко наказывалось смертью и конфискацией. Vita brevis (жизнь коротка).
В те времена добывать себе пропитание на жизнь с помощью науки было делом безнадежным… Известное выражение Ломоносова «Науки юношей питают, отраду старым подают» не имело смысла. Чтобы дать сыну возможность обучаться в Пизанском университете, его отцу (бедному музыканту) приходилось напрягать силы. Попытки направить юношу на доходную стезю врача не увенчались успехом. Того увлекла математика. Хороший пастух так не бдит за своим стадом, как Галилей «пас книги». Он быстро усвоил знания мыслителей прошлых веков (Платона, Архимеда, Аристотеля). Ему помогали друзья (Гвидобальдо дель Монте, автор работ по механике и математике). Вскоре он получает почетное место профессора в университете Пизы (1589), а позже – в Падуе (1592). Это была разносторонняя личность. Обладая эстетическим и художественным вкусом, Галилей смог выступить консультантом ряда художников (Чиголи, Бронзино и др.). Он прекрасно знал античную поэзию. Показательно его выступление в академии по смежным вопросам науки и поэзии («Лекция во Флорентийской академии о форме, положении и величине дантова ада»).[51]
Научные заслуги Галилея ныне достаточно известны. Исследуя лунную поверхность, он объяснил происхождение пепельного цвета Луны, обнаружил четыре спутника планеты Юпитер, нашел и внес в каталог сотни новых, прежде никому не ведомых звезд. Четыре звезды были названы им «звездами Медичи», в честь известнейшей фамилии правителей Италии. Открытия эти многие сравнивали с открытием Америки Колумбом, говоря, что если истекшее столетие (то есть XV век) по праву гордится открывателями новых земель, то наступивший век (XVI) прославится громкими астрономическими победами. Современники уподобляли Галилея Колумбу, прославляли имя его устно и письменно (в прозе и стихах). Для большинства церковников он оставался persona non grata. Князь Чези, глава «Академии рысьеглазых», называл их «врагами знания» (письмо к Галилею). В отношении их к Галилею выходило по пословице: «Осуждают то, чего не понимают» (Damnant quod non intelligunt). Путешествующий в период Контрреформации по Италии Милтон отмечал, что ему жалуются на рабство, в котором находится наука: «Там я отыскал и посетил постаревшего прославленного Галилея, заточенного инквизицией только за то, что он думал об астрономии иначе, чем францисканские и доминиканские цензоры».
В умах передовых людей Галилей стал символом Нового времени. Он не только доказал, что Земля движется, но и то, что не стоит на месте Время.… Упорство, с каким ученый сражался против догм и невежества, продвинуло науку и просвещение вперед. Галилей, объявляя себя сторонником Коперниковской теории (что само по себе мужественный шаг), говорил: «Шестьюстами доказательствами и натурфилософскими рассуждениями мы подтвердим, что Земля движется и своим светом превосходит Луну, а не является местом, где скопляется грязь и подонки всего мира». Даже «отречение» не было изменой делу прогресса и науки. Иные отрекаются от великой идеи из одной корысти, подлого страха перед мнением властей или капитала. Здесь же совершенно иной случай… «Но он, Галилей, не ради подленькой свободы, бездеятельной и безгласной, согласился принести отречение. Он издаст свою новую книгу. Издаст вопреки всем запретам – в любом краю еретиков, где только существуют печатные станки. В этом, только в этом, единственный смысл его отречения», – отмечал историк А. Штекли.[52]
В лице Галилея время явило ученого, нацеленного на решение и земных проблем. Теоретик в нем соседствовал с практиком. Уже в «Беседах и математических доказательствах» (1638) им говорится о деятельности арсенала Венеции, подготовившего поле для новых научных прорывов и изысканий. Механическое и инженерное искусство в его понимании становилось приводным ремнем экономики. Галилей писал: «Величайшая выгода… не в том, что колеса или другие машины меньшей силой и большей скоростью и на большем пространстве переносят тот самый груз, который могла бы перенести без применения орудий равная, но разумная и хорошо организованная сила, а в том, что падение воды ничего не стоит или стоит очень мало, а содержание лошади или другого какого-либо животного, сила которого превосходит силу восьми, а то и более человек, потребует гораздо меньше расходов, чем те, что необходимы для содержания такого количества людей».[53] Он говорит языком точных экономических категорий. Подобные речи можно скорее услышать из уст купца, промышленника, предпринимателя, банкира, изобретателя. Tempora mutantur! (лат. «времена меняются»).
Как следовало ожидать, отношения Галилея с церковью, как и с высокими мужами науки складывались не просто. Это не удивительно. Подумать только (злословили завистники), с ним подолгу беседовал и осыпал дарами сам папа Урбан VIII, а Козимо Медичи, взявший ученого на службу, не только присвоил ему титул «математика и философа великого герцога», но и, дав звание «первого математика Пизанского университета», вынудил власти университета выплачивать Галилею постоянно по 1000 скуди, не требуя занятий со студентами. Можно понять всю глубину ненависти и зависти к нему ученых мужей! Видно, уж точно зависть самое наиживучее чувство на свете.
Церковь также тогда противостояла, насколько могла, «каждому новшеству, которое служило увеличению счастья или знания здесь, на Земле» (Б. Рассел). Возвращаясь к вопросу о роли Римской церкви в истории человечества (цивилизации), взвешивая все «за и против», согласимся с тем, что и ее роль двойственна: ей понадобилось ни много ни мало, а целых три с половиной столетия, дабы признать свою позорную ошибку и реабилитировать Галилея (произошло это событие лишь в 1992 г.). Так что самому ученому пришлось воочию измерить границы «дантова ада».
Галилео Галилей. 1613 г.
Вспомним и о том, как знаменитый Лютер назвал Коперника «выскочкой-астрологом», пытающимся доказать, что вращается Земля, а не небеса или небесный свод, Солнце и Луна. Лютер гневно клеймил ученого, говоря: «Этот дурак хочет перевернуть всю астрономию, но Священное Писание говорит нам, что Иисус Навин приказал остановиться Солнцу, а не Земле». На что А.С. Пушкин ответил: «Ведь каждый день пред нами солнце всходит. Однако ж прав упрямый Галилей.»
Столь же «весомыми», «убедительными», «высоконаучными» были аргументы и другого авторитета церкви, Кальвина, бросившего как-то: «Кто осмелится поставить авторитет Коперника выше авторитета Святого Духа?»[54] Кальвин труде «Наставление в христианской вере» (1536) говорил о существовании двух различных областей знания, в которых действует человеческий разум. Он писал: «Тем не менее, если человеческий разум прилагает усилия к исследованию, его труд не совсем напрасен и он может добиться некоторых полезных результатов, в особенности когда он обращается к предметам низшего порядка. У него даже хватает сил прикоснуться к предметам возвышенным, хотя он и не слишком усердствует в их поиске. Но способность нашего разума в том и в другом случае совершенно различна. Когда он желает возвыситься над земною жизнью, то собственная немощь – первое, в чем он убеждается. Поэтому, чтобы понять, какого уровня может достичь разум в той и другой сфере, нам следует помнить о следующем различии: знание (intelligence) о земном совершенно иное, нежели знание о небесном. Земными я называю предметы, которые не имеют отношения к Богу и Царству, к истинной праведности и к будущему бессмертию, но связаны с данной земной жизнью и почти целиком заключены в ее пределах. Небесными предметами я называю чистое познание Бога, правила и смысл истинной праведности и тайны Царства Божьего. К первому роду знания относятся политические учения, ведение хозяйства, механика, философия и другие искусства, именуемые свободными. Второй род знания – это знание Бога и его воли, а также способов приведения нашей жизни в согласие с этой волей».[55]
Должно было пройти немало лет, прежде чем признание редких талантов в ученой среде станет фактом общепризнанным. Г. Лебон в «Психологии толп» выскажет не лишенную наблюдательности, хотя и спорную мысль, заметив: «Не среди масс может найти лишь слабый отклик голос какого-нибудь Галилея или Ньютона. Гениальные изобретатели ускоряют ход цивилизации. Фанатики и страдающие галлюцинациями творят историю».[56] Фанатики не столько творят, сколь тормозят историю… Галилей прибыл в 1610 году во Флоренцию, где были сильны позиции иезуитов. Друзья высказывали опасения по этому поводу, имевшие под собой почву. Мы знаем, что 5 марта 1616 г. Римская церковь приняла декрет, который на двести лет (вплоть до 1822 г.) вменял в обязанность верующим считать учение о движении Земли еретическим и ложным. В декрете учение Коперника и взгляды Галилея осуждались на том основании, что служат «на пагубу католической истине».[57] Монахи-католики, яростно выступая против Галилея и Коперника, целились не только в них, но и в бунтарскую науку, соединившую два ствола знания – опытное и аксиоматически-дедуктивное. Механика выстраивала свой мир, а математика наделяла его несокрушимой точностью (почти что божественного свойства). Поэтому нам понятен истерический вопль доминиканца Каччини: «Математики должны быть изгнаны из всех католических государств!» Что это как не скрытая ненависть на почве идеологии (odium theologicum)?!
Спор математиков.
А вспомним историю с вальденсами. Их община испокон веков проживала на земле Пьемонта, будучи близка в своих религиозных верованиях к протестантам. Глава Пьемонта герцог Савойский издал в 1655 году указ, по которому им было приказано принять католичество, либо в течение двадцати дней покинуть родную землю. Когда вальденсы воспротивились, герцог, с тайного согласия католического Рима, устроил чудовищную резню. На это событие, всколыхнувшее всех протестантов Европы, откликнулся Милтон:
Господь, воздай савойцу за святых, Чьи трупы на отрогах Альп застыли, Чьи деды в дни, когда мы камни чтили, Хранили Твой завет в сердцах своих. Вовеки не прости убийце их Мук, что они пред смертью ощутили, Когда их жен с младенцами схватили И сбросили, глумясь, со скал крутых…Задача истинного ученого состоит в том, чтобы направить телескоп истины на угнетателей и извергов человечества! Нужно, чтобы все эти мерзавцы «внезапно ощутили холодный, испытующий взгляд науки, направленный на тысячелетнюю, но искусственную нищету». Карлейль верно сказал: «Если ты сталкиваешься с ложью, истребляй ее. Ложь для того и существует, чтобы ее истребляли». Но чтобы устранить ее в обществе, нужно устранить саму возможность угнетения. Если надобно, если этого требует время, то убирать и самих угнетателей и лжецов… Venienti ocurrite morbo! (Торопитесь лечить болезнь вовремя!).
Понадобились столетия лжи, подлости, преступлений, убийств, вершимых светскими и церковными властителями (вкупе с денежными тузами), чтобы люди, наконец, прозрели и сказали: «В их душе нет Бога!». Понадобились (не сомневаемся, и еще понадобятся), а это крайне важно для понимания истории, не только Рамусы, Серветы, Бруно, Галилеи, Кампанеллы, но Гусы, Жижки и Мюнцеры, готовые взять в руки Меч и Библию – и повести восставших на штурмы новых замков и дворцов! Кстати говоря, на гравюре XVII в. Ромейн де Хуге именно так и изображал Мюнцера – с Библией и обнаженным мечом в обеих руках. По силе мысли и страсти, по темпераменту и характеру, по многосторонности и учености, по готовности идти до конца в своей решимости отстаивать великое дело, которому они служат, им нет равных. Что такое изнеженный патриций Брут рядом с суровым и мужественным тюремным затворником Кампанеллой (с его сказочно волшебным «Градом солнца»)! Что значат пустые рассуждения «О бесконечности любви» какой-нибудь «благороднейшей синьоры» Туллии Арагоне в сравнении с изучением бесконечности миров! Неожиданно вскрылась мощная людская «порода», искрящаяся талантами, как золотая жила… Когда уходят старые боги – их места занимают новые.
Родился я, чтоб поразить порок: Софизмы, лицемерие, тиранство, Я оценил Фемиды постоянство, Мощь, Разум и Любовь – ее урок… А себялюбье – корень главных зол Невежеством питается богато; Невежество сразить я в мир пришел.(Кампанелла).
Ad vocem (говоря к слову), ученые и мыслители тех лет умели постигать все богатства науки и культуры в едином и нераздельном потоке знаний. Они говорили на нескольких языках. Были поэтами и государственными деятелями в одно и то же время. Их реформы подкреплялись активным созидательным и творческим трудом. Их вполне можно назвать великими зодчими человечества… Они воплощали самые смелые задумки и умирали, как герои, а не как черви, наткнувшиеся на кусок разлагающейся «рыбины», имя которому «современная цивилизация». Среди них встречались и просвещенные деятели церкви.
Научные революции предвосхищали зарождение революций политических. Б. Фонтенель (1657–1757), популяризатор науки, автор «Истории оракулов», назвал изобретение счётной машины революцией в математике. Француз Ф. Лавуазье (1743–1794), химик и генеральный откупщик, заявил, что его исследовательская программа «приведёт к революции». Английский биолог Чарльз Дарвин охарактеризовал научный труд Ч. Лайелля («Начала геологии») как «революцию» (1859) и т. д. Ч. Дарвин сказал, что широкое распространение его идей вскоре приведёт к революции в естественной истории. В труде самого Дарвина слово «революция» не встречается. Сын знаменитого Ч. Дарвина, однако, признавал наличие связи меж явлениями революции в политике и космосе.[58]
Позже в слове «революция» увидели коренные перемены. Ф. Лассаль (1826–1864) в речи на своем процессе говорил: «Революция значит переворот и совершается всегда, когда существующее положение заменяется совершенно новым принципом, все равно, путем ли силы или нет, – средства тут ничего не значат. Реформа же бывает тогда, когда принцип существующего порядка сохраняется и только смягчается или последовательнее и правильнее развивается. И тут средства ничего не значат. Реформа может совершиться путем восстания и кровопролития, а революция среди глубочайшего мира. Крестьянские войны были попыткой вынудить реформу вооруженной силой. Развитие промышленности было полной революцией, хотя совершалось самым мирным путем, так как прежний порядок вещей был заменен совершенно новым принципом».[59]
С течением времени в общественном мнении утвердился взгляд, согласно которому и серьёзные подвижки в научном знании означают «революцию». Известный историк науки из Гарварда И. Кохен (США) писал:»Выражения «научная революция» или «революция в науке»… означают определенный разрыв в цепи воззрений, установление некоего нового порядка, имеющего строгий водораздел между старым и известным, с одной стороны, новым и отличным от того, что было ранее, с другой».[60] Этой теме посвятил уже в наше время свой известный труд социолог Т. Кун, назвав его «Структура научных революций».
Зарождается новая теория и методика наук, чему способствуют труды Джамбаттиста Вико, уроженца Неаполя (1668–1744). Появившись на свет в семье библиотекаря, он, вероятно, и зачат был в «книжной колыбели», если судить по неистовой страсти к книгам, что стала его спутницей на всю оставшуюся жизнь. Он пренебрег формальным образованием, прервал регулярные занятия и весь отдался беспорядочному чтению. Любовь к чтению – штука специфическая, но бесспорно очень полезная. Между двумя видами беспорядочной любви следует предпочесть именно этот. Так он, как отмечают, стал «ученым пустынником в стороне от забав молодости, как породистый конь, обученный в войнах, вдруг оказался забыт, брошенный на деревенском пастбище». Но не лучше ли было пастись на здоровом и привольном «деревенском пастбище», нежели в каменных и опасных джунглях городов?!
Пребывание в университете Неаполя, где он пытался одно время постичь гражданское право, разочаровало его («душа не выносила шума судебных распрей»). Он обосновался гувернером знатного лица в замке Чиленто. Там он изучал в библиотеке Платона, Аристотеля, Тацита, Августина, Петрарку, Данте… Путь его лежал на кафедру риторики Неапольского университета, где он стал лауреатом (1693). Особую известность приобрели его речи-посвящения, с которыми он выступал на академических собраниях (1699–1708). Он принимается за свой главный труд «Основания новой науки об общей природе наций, благодаря которым обнаруживаются также новые основания естественного права народов» («Новая наука»). Работа выдержала уже при жизни его 3 издания. Ее критиковали, но все же в самой Италии почитывали (однако в Европе книга оставалась незамеченной). Вико был доволен и тем, считая себя безусловно «более удачливым, чем Сократ». Среди студентов он пользовался успехом. Это безусловно был педагог и оратор милостью божьей. Лекции его были полны внутреннего смысла, блистали эрудицией. Не мудрено, что многие его коллеги ему откровенно завидовали (и даже называли «безумцем» или «чудаком»). Увы, блеск таланта не всегда является гарантией счастливой и безоблачной жизни. Вико в личной жизни не очень повезло (дочь серьезно болела, а сын стал преступником).
Особое значение он отводил истории в судьбах народов. Рассматриваемая эпоха была эпохой торжества естественных наук. Идеалом точности и истинности считалась математика. Допустимо ли, вопрошает Вико, «при неуемном рвении к естественным наукам оставлять в небрежении законы человеческого поведения, страсти, их преломления в гражданской жизни, свойства пороков и добродетелей, характерные свойства разных возрастов, половых различий, племенных особенностей, типов рациональности, не говоря уж об «искусстве декора», что среди прочего особенно сложно. Все это причины, по которым наука, наиболее важная для государства, менее других разработана и мало кого интересует». Конечно, это была гениальная попытка («вторая после Сократа») обратить взор с небес на обычных людей.[61]
Христос, благословляющий народы. Фреска 1190 г. из итальянского монастыря Сан-Джованни.
В своих построениях он использовал некоторые мысли из трудов Платона и Аристотеля. Первый внушил ему мысль о вечной истории, повторяемой всеми народами. Второй подсказал ему принцип, согласно которому наука должна говорить о вечном и общем. Важно и то, что он «поставил на место» естественников, которые, так же, как впоследствии технократы, решили, что «весь мир у них отныне в кармане». Мальбранш называл историю уделом сплетников. Декарт считал ее делом несерьезным. Лейбниц, хотя и сам отдавал ей часть времени, главную роль отдавал все же математике. Вико и сам полагал, что история пока еще не наука, но должна ею стать во что бы то ни стало. Ученый высмеивал тех историков, что творили «на кухне», в которой главными специями были такие добавки как «ученая спесь» и «национальное чванство». Историки квохчут, как глупые курицы над своими цыплятами («отечествами»). Геродот, Тацит, Полибий, Ливий – все взахлеб воспевают только свою страну, свой народ, настойчиво стараясь доказать миру, что это именно их нация (и никакая иная) пришла раньше других к цивилизованным формам жизни. Важным недостатком ряда историков он считает утрату ими чувства реальности, то есть историчности времени. Он убежден: многие исторические реконструкции неадекватны, так как неверны теоретические и смысловые установки. К тому же, различны и сами эпохи. Вико пришел к мысли о необходимости учиться и творить с умом. Сами по себе знания еще не означают бесспорной истины: «Ничто не вытекает само собой из накопленной эрудиции».
Одним словом, в его трактовке история предстает как бы «в упряжке своего времени». Это нам кажется разумным и естественным. Историк – это вам не поэт, он не может себе позволить вознестись над своим временем, так что уж и его очертания теряются где-то в безбрежных высотах. Нужно выстраивать так чертог истории, чтобы грамотному человеку сразу же становился ясен генезис событий, судьбы народов и личностей, причины рождения и смены эпох. При этом Вико требует от историка абсолютной и скрупулезной честности.
Он считал необходимым донести до читателя всю правду о своем и чужих народах, нравах и порядках, правительствах и законах, преступлениях и любви. В «Основании новой науки об общей природе наций» читаем: «Кроме того, их побуждал к соблюдению этих законов высший личный интерес, так как оказывается, что Герои отождествляли с этим интересом интерес своей родины, единственными Гражданами которой были они. Поэтому они не колебались ради спасения своей родины приносить в жертву себя и свои семьи по воле законов…
Джамбаттиста Вико подал европейцам некий символ и знак. Видимо, в его лице Европа обрела идеолога реформ будущей интеграции. Но тогда его время, конечно же, еще не пришло. Оценивая роль Вико как провозвестника «единообразного хода наций», один из русских историков писал, что первую оценку его мысли находим только через сто лет после выхода в свет «Новой науки». Н. Кареев говорил в 1890 г.: «В том же XVIII веке, только несколько позднее, идея о том, что история должна иметь свою теорию, стала встречаться у французских и немецких писателей, положивших начало целой историко-философской литературе, но исходный пункт у них был уже иной, чем у Вико: интересовало их не то, как совершается история у каждого народа, т. е. не сущность исторического процесса, отвлеченно взятого, а то, что представляет из себя действительная история всех народов, образующих человечество, или философия всемирной истории».[62]
Воссоединение ученого и ремесленника, знания научного и технического стало важным итогом свершившейся научной революции. Хотя факт изобретения пороха или появления пушки вряд ли выводил ученых напрямую к открытию теории динамики, равно как потребности навигации или реформы календаря могли бы стать основанием для 7-и аксиом астрономии Коперника, а революционное новаторство теорий Галилея или Ньютона вытекало непосредственно из посещения Галилеем арсеналов Венеции или деятельности Ньютона на Монетном дворе Лондона. И все-таки научные связи крепли год от года. В жизни Европы возникали ситуации, когда, как заметил английский схоластик У. Оккам, «субъект мог бы быть в Риме, а предикат – в Англии…»[63]
Сам процесс познания становился все более фиксированным и точным. Хотя время и обязано было заявить (устами великого Ньютона) «гипотез не измышляю», но без гипотез нет и науки. Ее нужно экспериментально утверждать и подтверждать, как и сами основы цивилизации. «Знанию всегда предшествует предположение», – скажет А. Гумбольдт. Огромное значение имело и то, что значительно расширились границы познания и возросла активность человека. В «Размышлениях о человеке» английский врач Д. Гартли (1705–1757) напрасно высказывал опасение, что движение точных наук будет напоминать скоростью черепаху. Могло статься, что опасность к цивилизации придет с другой стороны – от чересчур бурного «прогресса».[64]
Характерно появление и нового типа ученого: не средневекового философа, не гуманиста, не мага, астролога или даже ремесленника и художника Возрождения: «Он не только не маг или астролог, владеющий частным знанием посвященных, но и не университетский профессор, что силен лишь как комментатор или интерпретатор текстов прошлого. Ученый в основу всей деятельности кладет опыт и практику. Его сила – в эксперименте, точность которого обеспечивается приборами. Истина «взвешивается» и «измеряется» более надежным инструментом, чем обычная человеческая мысль… В XVI и XVII веках университеты и монастыри уже больше не являются, как это было в средневековье, единственными центрами культуры, – справедливо отмечает Паоло Росси… Инженер или архитектор, проектирующий каналы, плотины, укрепительные сооружения, занимает равное или даже более престижное положение, чем врач, придворный астроном, профессор университета. Общественная роль художников, ремесленников, ученых разного типа в этот период существенным образом меняется. Близится триумф инженера».[65]
Чтобы как-то систематизировать последующий анализ культуры и цивилизации, обратимся к опыту отдельных стран и народов, что внесли заметный вклад в дело науки и прогресса, общечеловеческого и культурного строительства. Один из таких примеров – страна, где политика, наука, просвещение и культура составили дружный и мощный союз, – Голландия.
Глава 3 Апология голландской культуры
Вспомним, о чем вел беседу известный древнегреческий философ со своими слушателями (в платоновской «Апологии Сократа»)… Пытаясь прояснить для себя смысл прорицания богов, Сократ решает обойти всех, кто слывет знающим что-либо. Для этой цели он решает посетить самых мудрых и пользующихся наибольшей славой людей Греции.[66] Осмысление Сократом того, что можно было бы назвать изучением отечественного и зарубежного опыта, и привело к мысли, что «человеческая мудрость стоит немногого или вовсе даже ничего», а самым мудрым оказался Бог. Несмотря на то, что подобные выводы античного философа не назовем очень оптимистичными, попробуем, подобно ему, начать похожее путешествие. Если даже некоторых из нас охватит сомнение, вспомним признание Данте, изрекшего: «Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание».
Рассказ о Нидерландах стоит предварить небольшой исторической справкой. Страну по-голландски называли – Nederland, по-немецки – Niederlanden, по-французски – Pays-Baas («Низовые земли»). Здесь сходились, сплетались и перекрещивались языки, веры, народы. Голландия в эпоху Средневековья была не очень благоустроенной страной. Историк, описывая ее территорию, говорил о ней как о «сплошном месиве грязи, в котором кое-где виднелись небольшие поселения». Население было малочисленным. Основные центры власти располагались не в городах, как это имело место в Италии или Фландрии, а в замках, которые выполняли одновременно роль военных крепостей, форпостов, тюрем. Голландцы издавна проявляли себя как неутомимые строители и архитекторы. Близость неспокойного моря вынуждала возводить плотины, спасавшие земли от прилива.
Однако уже во времена Карла V, императора Священной Римской империи, Нидерланды считались его богатейшей провинцией (под именем «имперской земли»). В общей суммарной экономике вклад ее земель в казну Священной Римской империи был исключительно велик, составляя в иные времена до двух третей всех поступлений. Затем целое столетие Нидерланды находились под властью испанской короны. Понятно и желание властителей удержать их в своем владении. Вскоре после отречения Карла V от престола его сын Филипп II (1527–1598) получил, помимо Испании, еще и 17 нидерландских провинций.
Наводнение в Голландии. 1621 г.
Посланцы отдельных провинций, в число которых вошли представители дворянства, священнослужителей и горожан, впервые собрались в г. Брюгге (1464). Тем самым была создана политическая база для развития страны. Этот орган получил у историков название «Генеральных Штатов» (нынче так называют и нидерландский парламент). Примерно в эту эпоху наметился бурный промышленный рост. Велика была и роль религии. Однако если в Германии и Англии религиозное движение стимулировалось преимущественно как бы «сверху» (т. е. властью), то в Нидерландах заметнее роль «низов» (народа). Развитию протестантизма во многом способствовало то, что треть населения страны к тому времени была грамотной. Труды реформаторов, переведенные на нидерландский язык, довольно быстро доходили до самой гущи народа. Все это укрепляло в массах демократическо-республиканские настроения.
В отличие от отца, Филипп II плохо понимал думы и чаяния голландцев. К тому же, он не знал фламандского языка. Всем в Нидерландах стал заправлять Тайный Совет. Жестокие преследования и тяжкие налоги привели к тому, что положение в экономике страны ухудшилось. Стремительно росла безработица. Голод и надзор католиков ожесточили народ. Правителям советовали смягчить гнет, но те презрительно говорили в адрес недовольных: «Ce ne sont pas que les queux!» («Это всего лишь нищие!»). Так слово «гезы» и их девиз «Никакой покорности тиранам и грабителям» станут символами борьбы с Испанией.
Морской гез Вильгельм ван дер Марк, повелитель Люмей.
Филипп II издал ряд указов против «еретиков», включая знаменитый «Кровавый указ» от 25 сентября 1550 года, по которому тысячи людей были сожжены на кострах, обезглавлены и погребены заживо. С помощью этих драконовских мер король Испании пытался привести к покорности гордый и свободолюбивый народ. Историки так писали об этом страшном времени: «Костры не угасали, монахи, более умевшие жечь реформаторов, чем опровергать их, поддерживали огонь в кострах, подкладывая человеческое мясо». Голландцам стало ясно: Филипп твердо вознамерился превратить их страну в колонию. Испанские феодалы и духовенство старались завладеть богатствами страны городов и гаваней, пышных нив и торговых домов. При этом сам король Испании чаще всего отзывался о жителях Голландии с презрением, как о сборище еретиков и пьяниц. Жилища их предавались огню и мечу, имущество конфисковалось в пользу церкви и испанской короны. Следует добавить, что перед голландскими купцами оказались закрыты торговые пути в Индию и Америку, а торговля в Европе была крайне стеснена… Не мудрено, что столь жестокая и кровавая политика побудила народ Нидерландов к восстанию.[67]
Король Филипп II заявлял, что скорее готов увидеть Нидерланды разоренными, но покорными Богу, нежели процветающими, но попавшими под влияние пуританской «ереси». В Германии и Швейцарии к тому времени уже широко распространилось пламя протестантизма (Лютер, Кальвин, Цвингли). В Голландии и Фландрии еще удерживалось владычество католиков. Властные должности в тут отданы были на откуп испанцам. Повсюду свирепствовали суды инквизиции, итог работы которой можно выразить фразой, которую произнес шиллеровский герой маркиз Поза в споре с испанским королем («Дон Карлос»). Монарх утверждал, что Фландрия наслаждается счастьем, покоем и миром. Поза ответил дерзкой репликой: «Мир кладбища!» Нидерланды все более походили на кладбище.
В ту пору религиозные споры принимали порой самые дикие, чудовищные формы. В конце концов, вспомним: никто иной как протестант и реформатор Кальвин сжег Сервета! Разумеется, в рассматриваемую эпоху люди к вере относились очень серьезно. За неё шли на костры, подвергались заточению и жутким мукам. Долгом совести и чести каждого было «стоять за веру». В рамках вероучений и церковных служб совершалась тогда культурная жизнь. Поэтому запреты, налагаемые на верующих инквизитором Торквемадой, подрывали саму основу бытия тех, кто придерживался иных воззрений. Кодекс гласил: «Воспрещается печатать, писать, иметь, хранить, продавать, покупать, раздавать в церквах, на улицах и в других местах все печатные или рукописные сочинения Мартина Лютера, Иоанна Эколампадия, Ульриха Цвингли, Мартина Бусера, Иоанна Кальвина и других ересиархов, лжеучителей и основателей еретических бесстыдных сект, порицаемых святой церковью… Воспрещается разбивать или оскорблять иным способом образа пречистой девы и признаваемых церковью святых… Воспрещается допускать в своем доме беседы или противозаконные сборища, а также присутствовать на таких сходках, где вышеупомянутые еретики и сектанты тайно проповедуют свои лжеучения, перекрещивают людей и составляют заговоры против святой церкви и общественного спокойствия… Воспрещаем, сверх того, всем мирянам открыто и тайно рассуждать и спорить о святом писании, особенно о вопросах сомнительных или необъяснимых, а также читать, учить и объяснять писание, за исключением тех, кто основательно изучал богословие и имеет аттестат от университетов…»[68]
Голландцы не желали более терпеть тиранию. В 1565–1566 гг. начались волнения, которые вскоре переросли в буржуазную революцию. Народ стал изгонять испанских чиновников и инквизиторов. Наместница испанского короля Маргарита Пармская вместе с советником, кардиналом Гранвеллой, попыталась навести порядок. Борьба обострялась. Все подхлестывалось и религиозным конфликтом католиков с кальвинистами. Крестьяне громят католические церкви. Вскоре дворяне и буржуазия Голландии создали союз «Компромисс Бреды» (1565) и потребовали автономии для всей страны и свободы религии. Испанцы, вскоре поняли серьезность ситуации. С военной экспедицией сюда прибыл герцог Альба (1567), отправив за пять лет на костер и эшафот свыше 8 тыс. человек, включая графов Эгмонта и Горна. Введенные им налоги окончательно разорили народ. Многие покинули страну. Однако гезы не сдавались, нанося завоевателям удар за ударом. Дважды пытались испанцы взять штурмом город Лейден.
Пехотинец, заряжающий аркебузу.
То была революция, грозная и мучительная… На примере Нидерландов Европа поняла весь ужас деспотического правления. Все были наслышаны об обороне Маастрихта, Алькмаара, Харлема, Лейдена, где даже женщины предпочитали погибнуть от рук врага, но не сдаться. Как пишет историк, самые гордые граждане, ревностные кальвинисты погибли в боях, сложили головы на плахе или нашли убежища на Севере, в 7 свободных протестантских провинциях. К концу правления Альбы 60 тысяч семей вынуждены были эмигрировать. После взятия Гента еще 11 тысяч отправились в изгнание. Антверпен потерял половину населения, Гент и Брюгге – две трети. Улицы опустели. По главной улице Гента ходили одни лишь лошади. Страну и нацию поделили надвое (на католическую Бельгию и протестантскую Голландию). «Будучи объединены, – пишет И. Тэн, – они имели один дух; разделенные и противопоставленные друг другу, они стали иметь два различных духовных склада. Антверпен и Амстердам стали по-разному смотреть на жизнь и создали поэтому разные школы живописи; политический кризис, раздвоив страну, вместе с тем раздвоил искусство».[69] Таков итог правления Испании.
Чтобы представить себе всё ожесточение войны, эпитетов недостаточно. Возможно, тут помогут средства живописи. В серии гравюр, названной им «Величайшие бедствия войны» (1633), художник Жак Каллот (Callot) изобразил то, что сопровождает все войны – горе, гнев, жестокость, несправедливость, отчаяние. Эти гравюры сравнивают с знаменитыми офортами испанского художника Гойи, посвященные ужасам войны. Знаковой гравюрой этой серии является гравюра «Казнь на виселице». На ней изображены несчастные пленники и солдаты, которых приговорили к смерти через повешение. Остро ощущается драматизм ситуации. Около двух десятков повешенных болтается на ветвях дерева. На переднем плане группа осужденных, которую сопровождает к виселице монах (для отпущения грехов). Тут же лежат пожитки повешенных, которые передают в руки официальных властей.
О том кровавом времени рассказывает роман Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле», волшебное творение гения (в равной степени принадлежащий бельгийцам и голландцам). Роман Костера ознаменовал собой рождение бельгийской литературы. Впоследствии будут называть его «фламандской Библией». Кто таков Уленшпигель? Под этим именем жил реальный исторический персонаж – Uylen Spiegel (умер в 1350 г.). Известен и герой немецких народных рассказов Тиль Эйленшпигель (ХII в.), пустобрех, гуляка, выпивоха.
Шарль де Костер из гущи народных поверий Фландрии сотворил борца за свободу народа. В романе даны антиподы тогдашней истории – Филипп Кровавый и Уленшпигель: «Филипп будет палачом, ибо он порождение Карла Пятого, палача нашей страны. Уленшпигель будет великим мастером на весёлые шутки и детские проказы и будет отличаться добрым сердцем, ибо отец его Клаас – славный работник, который честно и незлобиво умеет добыть свой хлеб. Император Карл и король Филипп пройдут через жизнь, сея зло битвами, вымогательствами и всякими преступлениями. Клаас будет безустали работать и всю жизнь проживёт по праву и закону, не плача над своей тяжелой работой, но всегда смеясь, и останется примером честного фламандского труженика. Уленшпигель будет вечно молод, никогда не умрёт и пройдёт через всю жизнь, нигде не оседая. Он будет крестьянином, дворянином, живописцем, ваятелем – всем вместе. Он станет странствовать по всем странам, восхваляя всё правое и прекрасное, издеваясь во всю глотку над глупостью».[70]
Р. Роллан впоследствии напишет: «Его эпоха – век палача Филиппа Второго и Вильгельма Молчаливого. И вместе с тем он – Фландрия всех времен. Он – знамя своего народа. Он – знамя и герб своей нации». В образе Уленшпигеля предстал великий Гез. Как скажет русский поэт А. И. Несмелов в стихотворении, посвященном памяти этого героя Нидерландов:
По затихшим фландрским селам, Полон юношеских сил, Пересмешником веселым Уленшпигель проходил. А в стране веселья мало, Слышен только лязг оков, Инквизиция сжигала На кострах еретиков…Упомянем о другом славном сыне голландского народа – Вильгельме Оранском (1533–1584). В 23 года он был членом Государственного Совета (имел богатства и высокие посты). Филипп II пытался купить его поддержку, включив в круг обладателей Ордена Золотого Руна. С появлением Альбы обозначилась политика иностранца-завоевателя, выраженная в словах «Oderint, dum metuant» (лат. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»). Филипп считая Голландию гнездом еретиков, он с упорством, достойным гораздо лучшего применения, стал носиться с безумной, преступной мыслью – уничтожить всех протестантов во Франции и Нидерландах, равно как и в других странах «христианского мира». Эта страшная новость, которую Вильгельм узнал от короля Франции Генриха II, буквально потрясла его… В «Апологии» Оранский, как пишет Роберт ван Роосбрек, отмечал, насколько глубоко потрясло его это сообщение. Именно тогда он принял решение всеми силами противостоять планам католических королей, вместе с простым народом борясь против намерений изуверов.[71] Вильгельм сделал выбор в пользу своего народа. Какое величие, какое благородство!
Отношение к Оранскому было различным у католиков и протестантов. Кальвинисты осуждали его как атеиста, в письмах 1566 г. он предстает католическим дворянином, в письмах 1566–1570 гг. – как лютеранин, после 1573 г. – как умеренный кальвинист. Он подолгу не являлся к мессе, но был человеком религиозным. Полагаю все же, что на первом месте у него была Родина. В лице Вильгельма Оранского мы видим яркого патриота, борца за единство страны. Идея «общей родины» утверждалась в умах и сердцах непросто. Этому мешало и разноязычие страны. На севере Нидерландов говорили на фламандском диалекте голландского языка; на юге же (Геннегау, Намен, Люксембург, Артуа) – на валлонском диалекте французского языка; центр и бургундское дворянство говорило по-французски. Различия не способствовали единству.
Вильгельм Оранский.
Конфликт и война Нидерландов с Испанией имели как религиозный, так и политический и экономический подтексты. Мало того что испанцы держали свои войска в провинциях, выжимали из страны огромные налоги, но они еще решили полностью подчинить народ чуждой ему католической религии. Многие города Голландии отказались принять вновь назначенных епископов (Антверпен, Босх и др.). Таким образом интересы нидерландских дворян и буржуазии совпали с интересами духовенства. Выступая в Государственном совете (1564), Оранский заявил, что монарх не может самовольно навязывать веру (или идеологию) своим подданным! Напряжение нарастало. Радикальные настроения были особенно сильны среди «пролетариев»… Именно в собраниях кальвинистских ремесленников Восточной и Южной Фландрии и зародилось Иконоборческое восстание: «В середине августа 1566 г. толпа двинулась на церкви и капеллы, уничтожая картины, разбивая витражи и грабя монастыри и аббатства. 22 августа восстание вспыхнуло в Антверпене… Беспорядки длились два дня и из Антверпена распространились на Гент, Мехельн, Герцогский лес (Герцогенбосх), города Зеландии, Голландии и др.». По сути дела, выбор был уже сделан. Испанский король вынашивал планы мести и наказания вождей оппозиции. В свою очередь оппозиция вербовала свои войска, укрепляла замки, вела активные поиски денег (в том числе в Германии).
Возглавив сопротивление, Оранский снарядил на собственные средства две военные экспедиции (заложены драгоценности принца и семьи Нассау, затем серебро, гобелены и т. д.). Борьба за свободу Нидерландов продолжалась с 1568-го по 1648 годы. Голландцы еще называют её «80-летней войной», испанцы же – «Войной во Фландрии». Филипп II объявляет Вильгельма Оранского вне закона. Тот отвечает ему «Апологией», где подтверждает право своего народа на восстание (поскольку король не желал прислушаться к требованиям). Вильгельм отлично понимал, что сохранение ненавистного режима означает в будущем полнейшую катастрофу для Нидерландов и ее народа. Он писал брату Иоганну (1574): «Если эта всеми покинутая страна снова попадет под власть испанской тирании, может статься, что везде начнутся религиозные гонения, и тогда ей будет грозить полное уничтожение…»[72]
Народ любил Вильгельма, назвав его еще при жизни «Отцом отечества»… Увы, даже любовь народа не всегда может уберечь от покушений фанатиков. Патриота, глашатая мира и веротерпимости, подло убили (убийца Б. Жерар купил роковой пистолет на деньги, которые были щедро выданы ему самим Вильгельмом Оранским). Последними словами «мятежного принца» стали слова, произнесенные им по-французски: «Господи, спаси мою душу! Господи, спаси бедный народ!» Это был человек, отмеченный высокой судьбой… Хотя недруги и прозвали его «Молчаливым», его жизнь кажется более красноречивой и цельной, нежели жизнь иных царствующих болтунов.
Противостояние Испании с Нидерландами распространилось: на Средиземноморье, Карибы, Индию, Филиппины, побережье Африки и Латинской Америки. Это было начало непримиримой и жестокой битвы за гегемонию в тогдашнем мире. Не случайно один английский историк даже назвал тогдашнюю схватку между Испанией и Голландией Страны Европы разыгрывали «свою карту». В этой связи было бы ошибкой рассматривать события тех лет исключительно в духе «борьбы народа против угнетателей», как это зачастую бывает среди голландских историков. Подобный подход, как кажется, значительно сужает проблему глобального международного противостояния до уровня локального конфликта. Повторю, борьба включала в себя явные и тайные интересы не только Нидерландов и Испании, но Англии, Франции и других важнейших субъектов международного права. В этом смысле знаменательно то, что итогом войны и последовавших затем мирных договоров (Мюнстерского и Вестфальского) стало создание своего рода Европейского союза и воплощение прочного и стабильного мира.[73]
В 1609 году (после заключения двадцатилетнего перемирия с Испанией) Республика Соединенных Провинций была признана всеми странами мира как самостоятельное государство. В содружество вошли современная Бельгия, Голландия, Люксембург, небольшие территории северо-восточной Франции… Города Гент, Брюгге, Брюссель, Турне, Лувен являли собой очаги новой бюргерской культуры.
Каким же образом произошло чудесное превращение провинциального уголка Европы в одну из самых процветающих стран (особенно, если учесть разрушения и жертвы, понесенные голландцами)? С помощью тяжкого труда народа, подкрепленного талантом и волей мудрых правителей. С Утрехтской унии (1579) страна быстро превращается в мировую державу. Достойно удивления и назидания то, как семь маломощных провинций, объединившись, всего-то через сто лет – срок ничтожнейший для истории – стали играть столь важную политическую и экономическую роль в мире. В другой части земного шара, четыре века спустя, 16 республик сделают роковой шаг в противоположном направлении.
В городах шло сосредоточение людей, товаров и капиталов. А там, где город, там и культура. Вспомним, что само слово «urbanitas» у римлян означало – «образованность и утонченность». В городах создана неповторимая архитектура, отражающая дух деловитости Нового времени. Новые художественно-эстетические воззрения в архитектуре выражены Якобом ван Кампеном, Питером Постом, братьями Винкбонсами, главой гарлемской школы архитекторов Ливеном де Кеем (мясные ряды в Харлеме). Путешественники особо отмечали удивительно быстрое развитие Амстердама, «Северной Венеции», население которой выросло с 30 тыс. жителей в 1585 году до почти 130 тыс. в 1650-м. Созданный гением голландцев город достоен самых пылких восторгов. Поэт К. Хейгенс (1596–1687), композитор и дипломат, закончивший юридический факультет Лейденского университета, написал городу Амстердама посвящение:
Прибереги восторг, о незнакомый друг, По поводу чудес, простершихся вокруг: Что стоят все слова о царствах небывалых Пред роскошью, что здесь отражена в каналах! Гармония воды и звонких мостовых, Магнит для ценностей и кладезь таковых; Вдвойне Венеция; дворец тысячестенный; Торф, ставший золотом! Не мотствуй, гость почтенный: Рекут: роскошен Рим; кричат: красив Каир Но Амстердаму честь воздаст в молчанье мир!Голландцы предстали динамичной и процветающей страной мира, которую отличал ровный уровень благосостояния народа. Посетившие Голландию британцы были поражены тем обстоятельством, что многие крестьяне, как они их уверяли, обладают собственностью порядка 10 тыс. фунтов каждый. Это создавало прочные демократические устои в народе.
Натюрморт.
В XVI–XVII веках маятник экономической активности заметно качнулся в сторону севера. Инфляционный механизм заработал в этот период чрезвычайно мощно, направляя потоки капиталов, товары и кредиты в северные страны, воспользовавшиеся преимуществами ценовой политики и ростом спроса на товары. Голландцы, показавшие себя превосходными купцами, трансформировались из «маргиналов» в создателей мировой торговой и колониальной империи. Хотя они и раньше проявляли себя прекрасными мореходами («морскими цыганами Запада»). С помощью философии бизнеса и «дешевых денег» (в XVII в. процентная ставка в Амстердаме была самой низкой – 2,5–5 процентов годовых) голландцы стали властителями тогдашнего полумира. Не меньшее значение для очевидного триумфа страны сыграли свобода мысли и печати. Наряду с ростом богатства большей части народа (а не кучки разжиревших плутократов) укреплялся и дух пуританской этики. Согласно ее правилам, все граждане страны обязаны уделять первостепенное внимание решению общественно полезных задач.
Торговое могущество Нидерландов усилилось после того, как в 1602 году Штаты учредили «Объединенную Ост-Индскую компанию». Капитал этого акционерного общества достигал 6,5 млн. гульденов. Торговля с Востоком (Молуккские о-ва, Ява, Суматра и Целебес) приносила уже и тогда сумасшедшие доходы. В течение двух веков акционерам выплатили 3600 процентов дивидендов. Вместо конкурирующих мелких фирм голландцы создали сверхмонополию. Правительство страны было мудрым и понимало, что малым компаниям не выжить. Ост-Индской компании поручили снарядить и военно-торговый флот республики. Флот захватил земли Индонезии (княжества Джакарта) и Китая (Тайвань). Компания создавала торговые фактории в Индии, Бенгалии, на Цейлоне.
Вряд ли случайным было и то, что Испания, после возобновления военных действий в 1621 г., решила нанести удар республике в области торговли. Испанский король запретил импорт голландских товаров и продуктов во все уголки своей империи. Выгодной ситуацией не преминули воспользоваться иные страны и купцы (англичане, немцы), вытеснившие голландцев в торговле с испанской территории. Знаменательно, что во время переговоров о будущем мире между Испанией и Голландией наиболее активную позицию в пользу мирного разрешения многолетнего конфликта заняли коммерческие круги Амстердама, Роттердама, Дордрехта, то есть, крупнейших торговых центров и портовых городов, которые несли наибольший ущерб от войн и блокад. Против же выступали граждане Лейдена, Гарлема, Утрехта, некоторых других городов, желавшие продолжать войну во имя распространения протестантизма на католические регионы, а также с целью упрочения своей текстильной гегемонии в Нижних Провинциях.[74]
В основе большинства конфликтов лежат финансовые и коммерческие интересы. Многое в борьбе уже тогда зависело от состояния флота, от уровня военной и технической оснащенности армий. Нельзя добиться прочного положения на международной арене без серьёзных успехов в области современных технологий. Пример Голландии (и не только её) ясно и определенно указывает на это. В 1595 г. голландцы добились первенства в мореходной технологии: на верфях страны в заливе Зейдер-Зее были построены первые флайты, то есть более быстрые и маневренные суда, оснащенные штурвалом и совершенным парусным вооружением. Вскоре голландский флот из 22-х кораблей прорвался в Индийский океан, где до того господствовали португальцы. В 1605 г. они укрепились на «островах пряностей», а флаг страны гордо реял над морями «от берегов Африки до берегов Японии».
«Зал бюргеров» в городской ратуше Амстердама.
Вскоре их флот насчитывал 15 тысяч кораблей, что втрое больше, чем у остальных европейских народов вместе взятых. Голландия перехватила пальму лидерства у могущественной Венеции, став главным центром мировой торговли.[75] Все, созданное в Нидерландах, имело отношение к морю и торговле. Достаточно попасть в район старых складов в Амстердаме (Oostenburg), где расположена внушительная постройка (Zeemagazijn), обслуживавшая с 1656 г. весь морской бизнес, чтобы уяснить себе всю исключительную значимость торговли и моря. Ныне здесь расположен Национальный морской музей, где хранится одна из богатейших коллекций карт, глобусов, рисунков и навигационных инструментов, а также уникальных книг. Яркими достопримечательностями, музеями, коллекциями обладал и самый крупный морской порт мира – Роттердам.
Торговля давала мощный прирост капитала. «Капиталы республики были, быть может, значительнее, чем совокупность капиталов всей остальной Европы». Надо воздать должное купеческой хватке голландцев. Как известно, в 1610 г. они впервые привезли в Европу китайскую «сушеную травку» (всем известный чай). Продукт к середине XVII в. стал популярным у европейцев, а значит и экономически прибыльным. Европа стала потреблять его наравне, а затем и в больших количествах, нежели азиаты. Только Китай и возможно еще Индия могли соперничать с европейскими чайными. С Востока непрерывным потоком шли и другие предметы обихода (шелк, драгоценности, лакированные изделия). Наконец, в песках Аравии голландцы обнаружили драгоценнейший продукт, каковым был популярный ныне кофе. В 1616 г. в южной части аравийского Иемена (в селении Моха, по-голландски звучавшее как «Мокка») они впервые узнали об этом великолепном напитке… Вскоре плантации «мокко», благодаря их же энергичным усилиям, возникли на Антильских о-вах, в Индонезии, Южной и Центральной Америке (в том числе и в Бразилии). А через некоторое время и американское производство кофе вытеснит из оборота кофе из Аравии.[76]
По тому, чем торговали или что привозили из далеких экзотических стран голландские купцы, можно в какой-то мере судить и о культуре народов того времени (Музей этнологии в Лейдене, Этнографический музей в Делфте, музеи в Гренингене, Бреда, Тилбурге, Роттердаме). Большую роль в распространении культурно-экономического влияния играли миссионеры («белые отцы»). О влиянии голландцев говорит и девиз их военно-морских и торговых сил, что гордо заявляли своим соперникам: «Qua patet orbis!» (По всему миру).[77]
Многие по праву считают семнадцатый век «золотым веком» Нидерландов. К середине века урбанизация шла столь стремительно, что уже треть населения страны проживала в 150-и городах (уникальная ситуация для Европы). В условиях постоянной борьбы с суровой морской стихией единственным надежным строительным материалом был камень. Поэтому практичные голландцы создавали дома прочно и основательно, всерьез и надолго. Дома их порой напоминают корабль и дамбу одновременно. Необходимость ведения частых военных действий требовала от них превращения городов в подобие крепости.
Многие крупные города в Голландии, как известно, стоят прямо на воде (Амстердам, Гарлем, Делфт, Девентер, Лейден, Утрехт, Маастрихт). Иностранцы восклицали: «Голландия имеет больше домов на воде, чем на суше». Города снабжены надежной системой каналов. Среди создателей системы каналов в Амстердаме называют имена Ф. Отгенса, Х. Стаетса, Х. Кейзера. Помимо строительства каналов огромное значение имело и осушение земель на север от Амстердама. Что же касается архитектуры городов, то она впитала в себя почти что все европейские стили (от готики до классицизма). Вкусы голландцев были строгими: у них не принято было, чтобы здания выпадали из общего фона городских застроек. Даже в домах богатых людей нет ничего что напоминало бы «палаццо» итальянцев, отличающиеся богатым декором.
К числу известных архитекторов того периода отнесем прежде всего Х. де Кейзера (1562–1621), родом из Утрехта, построившего в Амстердаме ряд протестантских церквей. В те времена мастерству никто не учил… Поэтому каменщики, плотники, скульпторы Голландии сами (по книгам) овладевали архитектурными навыками. Кстати, влияние стиля Кейзера можно отметить и в таких странах и регионах, как Англия, Россия, Скандинавия, Прибалтика, Америка. Среди известных имен упомянем имена Я. ван Кампена (1595–1656), Д. Марота (1661–1752), ряд иных крупнейших деятелей этой школы.[78]
Полная трудов, опасностей жизнь требовала и культурной отдушины. Помимо книг и школ, голландцы находили отдохновение в театре, хотя священники и старались уберечь паству от всяческих непотребств. Мирило их с лицедейством лишь то, что на средства, заработанные актерами, в XVII–XVIII вв. содержались дома для сирот и престарелых (муниципальный театр в Амстердаме не просил денег, а давал их). И все же при первом же подходящем случае священник не упускал случая уязвить «этих актеришек».
Об исключительной важности искусства театра, карнавала для воспитания народа и правителей писал в книге «Homo Ludens» («Человек играющий») голландский историк Й. Хейзинга: «Древняя комедия с ее публичной критикой и язвительной насмешкой целиком относится к сфере бранных и вызывающих, но тем не менее праздничных антифонных песен, о которых шла речь выше… Атмосфера драмы – это дионисийский экстаз, праздничное опьянение, дифирамбический восторг, в котором актер, находящийся по отношению к зрителю за пределами обычного мира, благодаря надетой маске словно перемещается в иное «я», которое он уже не представляет, а осуществляет, воплощает. Актер заражает этим настроением и зрителя… вся человеческая жизнь должна восприниматься в одно и то же время как трагедия и как комедия».[79]
Как и в остальной Европы, театр имел своим истоком церковное представление. Первые театральные «действа», разыгранные в монастырях, можно отнести к XII веку. Одновременно театр в Голландии старался воспитывать людей в нравственном духе. Историки культуры говорят: «Сцена уже в эпоху средневековья обрела образовательную функцию». Театр порой приравнивался по значимости к университету. О близости задач театра и «высшей», в данном случае торговой школы говорят: «Торговцам нужны ум и красноречие. Первое для того, чтобы суметь отличить честную сделку от нечестной. Второе, чтобы, воспользовавшись возможностями своего языка, расхваливать товар, который они думают продать». Искусством побеждать словами, продолжал он, можно овладеть, только наблюдая за игрой актеров и действиями фокусников. Правы были те, кто нарек театры «академией».[80]
О том, что музыка издавна высоко почиталась не только среди «небожителей» Олимпа, но и в кругу обычных обывателей Европы, хорошо известно. Свои музыкальные традиции были у галлов, кельтов, древних германцев. Воздействие римских вкусов («нивелирующего молота») в Новое время уже не могло влиять на песенно-музыкальное творчество европейцев. Возможность оказать большее влияние на жизнь граждан получало народное искусство. В средневековье мы видим странствующих музыкантов (шпильманов – у немцев, жонглеров – у французов, гистрионов – в Англии, Италии, Испании, Нидерландах). Они были универсалами (певцами инструменталистами, актерами-декламаторами, иллюзионистами, акробатами).
Церковник относились к музыке неоднозначно. Видный авторитет церкви в империи Карла Великого, Алкуин (сам музыковед) говорил: «Человек, впускающий в свой дом гистрионов, мимов и плясунов, не знает, какая большая толпа нечистых духов входит за ними следом». С другой стороны, будучи в принципе согласны с вольтеровской максимой «Все жанры хороши, кроме скучного», святые отцы, не исключая епископов, были охочи до фривольных («бесовских») песенок и плясок. Поэтому нередко смотрели сквозь пальцы на то, что вольная музыка проникала во всевозможные refugium peccatorum (убежища для грешников). Представители «белого духовенства» внесли и свой вклад в теорию и практику музыки. Обиходные хоровые песнопения VII века или песни-молитвы получили наименование «грегорианского хорала».[81]
Музыкальная вечеринка.
Фламандская музыкальная школа сыграла роль в формировании культурного наследия Европы… Фламандцы оказались «в родстве» с французами, англичанами, немцами, итальянцами. Примерно с XV века их музыкальное искусство даже начинает затмевать французскую школу. Они считались добротными профессионалами, сохраняя тайны музыкального мастерства столь же ревниво, как некогда фламандцы хранили тайны искусства выделки кож или предметов обихода. Среди первых музыкантов упомянем и основоположника фламандской школы Г. Дюфаи (1400–1474). Он усвоил английскую манеру Денстепля, которого называли «князем музыки». Центрами музыкальной жизни страны в XV веке выступали Камбрэ, Антверпен, Брюгге. Во главе «школы Антверпена» стоял Ян ван Окегем (1425–1495). Им создана месса «любого тона», которую можно было исполнять на любой манер. В XV–XVI веках фламандские музыканты славились по всей Европе, работая при княжеских и соборных капеллах.[82]
Порой приходится слышать, что итальянцы были едва ли не первыми, кто взял в руки «лютню Аполлона» и стал услаждать прекрасной музыкой уши варваров-европейцев. Это не вполне соответствует истине. Видный деятель раннего Просвещения француз Жан-Батист Дюбо (1670–1742), секретарь Французской Академии, считал: «Италия была, разумеется, колыбелью Архитектуры, Живописи и Скульптуры, но Музыка возродилась или, лучше сказать, давно уже процветала в то время в Нидерландах. Успехам Нидерландской Музыки воздает должное вся Европа. В доказательство этого я мог бы привести высказывания Коммина и многих других Писателей, но довольствуюсь тем, что приведу одного безупречного свидетеля, показания которого так обстоятельны, что ни у кого не могут оставить и тени сомнения. Это – Флорентиец Лодовико Гвичардини, племянник знаменитого историка Франческо Гвичардини. Вот что он говорит во вступлении к весьма известной и переведенной на многие языки книге «Описание семнадцати Нидерландских Провинций»: «Бельгийцы являются патриархами Музыки, которую они возродили и довели до высокой степени совершенства. Они от рождения до такой степени предрасположены к ней, что без всякого обучения поют столь же верно, сколь изящно. Затем, дополняя свои естественные дарования обучением, они достигают такого мастерства как в композиции, так и в исполнении своих песен и симфоний, что ими восхищаются все христианские Дворы Европы, при которых они благодаря своим заслугам нередко добиваются высокого положения».[83]
Особую гордость голландцев составляли колокольный звон или многоголосица «поющих башен», а также органы. Жители страны считали орган символом статуса города. С XIII века, наряду с хоровым пением, ему было отведено центральное место в музыкальной жизни. Уже в XVII веке в Нидерландах огромной популярностью пользуются органные концерты. Слава композитора и органиста Я. Цвилинга (1562–1621) перешагнула границы страны. Многие известные композиторы (Дюфаи, Окегем, Обрехт, Гомберт), строго говоря, не были голландцами, принадлежа к бельгийско-французскому сообществу. Только Обрехт и Я. Пэпэ были «чистокровными голландцами». Последний сочинил 200 мотетов и 160 псалмов. Обрехт был родом из Брабанта, работал в Утрехте, где одним из его учеников был Эразм Роттердамский. Теоретик и композитор фламандской школы И. Тинкторис называл Окегема «прекраснейшим учителем музыкального искусства». В. ван Нассау написал популярный протестантский гимн (нынешний государственный гимн страны). В то же время, в отличие от других стран, Нидерланды не имели королевских часовен и школ, которые пользовались бы поддержкой государей.
Но самая яркая страница голландского искусства представлена картинами ее великих живописцев (Хальс, Брейгель, Рубенс, Рембрандт и другие). Согласно легенде, Нидерланды однажды были спасены от чудовищного пожара Manequen-Piss (писающим малышом). В области мировой культуры правильнее сказать, что это великие голландские художники спасли культуру страну от провинициализма. Голландская классическая живопись неотделима от повседневной жизни страны, от её героического и трудолюбивого народа, как и знаменитые песни гезов от её славной истории.
Ян ван Эйк. Поклонение агнцу. Фреска Гентского алтаря.
Ничего подобного ранее живопись не знала. С полотен на нас взирают обычные люди в мастерских, кабачках, дозоре, в тиши научных кабинетов. Мадонны поражают своей земной красотой. Это обычные жены бюргеров, нет роскошного золотого фона или сияния вокруг головы. Такие мастера как Робер Кампен, Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус уже в XV в. выступили провозвестниками блестящего расцвета фламандской живописи. Слава о них распространилась повсюду. Особым колоритом отличались пейзажи фламандских мастеров. Нидерландский гуманист, поэт и живописец Д. Лампзониус (1532–1599), говоря о Яне Голландце, выразил, видно, общее мнение своих соотечественников об искусстве: «Фламандцы стяжали себе славу за свои пейзажи, а итальянцы за изображения богов и людей; поэтому не удивительно, когда говорят, что у итальянца ум в голове, а у нидерландца в искусной руке». Он настоятельно советовал художникам «посещать Рим фламандцев», славящийся мастерством «во все века».[84]
Картины художников входят в быт дома голландцев (не только крупных буржуа, но и небогатых бюргеров, ремесленников, зажиточных крестьян). В Нидерландах можно сказать впервые в мировой истории живопись стала товаром, доступным широким слоям общества… Такого не было нигде: ни в древности, ни в средневековье, ни в эпоху Ренессанса, когда искусство почти полностью зависело от заказов фараонов, царей, консулов, римских первосвященников, богачей и т. д. и т. п. В Голландии художник стал продавать свои творения народу на ярмарках и рынках, выставляя их прямо на улицах. Порой полотна известных мастеров (Гойена, Бейерена и др.) можно было приобрести всего за несколько гульденов. Нередко сами художники готовы были расплатиться за приобретенный ими товар или продукт портретом или пейзажем. Занятие подобным ремеслом не всегда давало дать нужные средства для существования. Поэтому известны случаи совмещения профессий (ван Рейсдаль – врач, Стен – трактирщик, Хоббема – акцизный чиновник, Вермер стал торговцем картинами).
В живописи были различные творческие направления или школы. В Гарлеме сложилась школа Франса Хальса, в Амстердаме – школа Рембрандта, в Дельфте – школа Вермеера и Фабрициуса. Первым в этом ряду, конечно, стоит Франс Хальс (ок. 1580–1666), один из величайших живописцев Нидерландов, основоположник реалистического направления в голландском искусстве. Его родители – протестанты. Родился он в Антверпене, но жизнь провел в Гарлеме, ставшем для него отечеством, мастерской и жизненной школой.
Это – подлинный «демократ портрета». Главными героями и персонажами в портретной живописи выступали сильные мира сего (правители, полководцы, князья церкви, сановная знать, дворянство и богатеи). Посмотрите, кого рисует тот или иной портретист, и вы узнаете толщину его кошелька. Хальс был первым художником, вышедшим за границы этих канонов. Жизнь заставляла писать и буржуазных патрициев, зажиточных бюргеров, офицеров. Но даже эти портреты дышат правдой и реализмом, как, скажем, хранящийся в Лондоне портрет торговца-авантюриста Питера ван ден Брока (Broecke). Он не только охотно, но я бы даже сказал с неким вызовом писал бедных ремесленников, служанок, мальчишек, цыганок, сумасшедших. Ощущается влияние великой Нидерландской революции, «революции гезов» («революции нищих»). Да и его сановные герои лишены позы. Перед нами обычные нормальные люди, любящие повеселиться, поболтать, выпить с друзьями, побыть в кругу семьи и т. д. и т. п. Голландец Хальс – мастер интима.
Заслугой Франса Хальса было и то, что он открыл серию психологических портретов. В его живописи нашла место человеческая индивидуальность. Портреты несут в себе эмоциональный и чувственный заряд. Все персонажи сугубо индивидуальны. Их не спутаешь друг с другом. Каждый обладает и своим внутренним миром и своей особой личностной значимостью. В то же время, собранные в группу, они рисуют как бы облик всего общества. И мы видим, что перед нами общество благополучных и довольных собою людей. Будучи реалистичным художником, он не позволял себе, как мы бы ныне сказали, «лакировать действительность». Трудная жизнь и судьба его героев прочитываются между строк. Он не считает себя вправе скрывать уродство или рефлексию натуры (как в случае с Малле Баббе и портретом Декарта). Позже французский художник Г. Курбе назовет портрет содержательницы харчевни (Баббе) одним из самых впечатляющих шедевров всех времен.
Франс Халс. Малле Баббе. Начало 1630-х гг.
Среди наиболее интересных портретов его кисти: портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия (1627 г.) (Хальс изобразил тут же и свой автопортрет), стрелковой роты св. Адриана (1633 г.), групповой портрет регентов и регентш госпиталя св. Елизаветы (1641 г.), портрет богатого бюргера Хейтхейсена (1637–1639 гг.), «Веселый собутыльник» (1628–1630 гг.). К его лучшим работам относятся луврская «Цыганка» (1628–1630 гг.), «Поющие мальчики» (1624–1625), портрет гарлемской ведьмы «Малле Баббе» и другие.[85]
О его повседневной жизни известно немного. Хотя его учитель ван Мандер, автор известнейших в то время «Основ искусства живописи» и внушал ученикам: «Избегайте таверн и дурного общества!», сам художник, судя по всему, не очень-то следовал его заветам. В 1645 г. творчество художника переживает кризис. Он почти прекратил работу. Тому причиной был некий внутренний надлом, к которому добавились и финансовые трудности. Известно, что Хальс любил крепко выпить, особенно к старости. Поэтому он с такой симпатией отобразил в портрете «Веселого собутыльника» (не своё ли alter ego?). Увы, как говорят в подобных случаях, не бывает наслаждений без расплаты. В портретах Хальса как раз остро ощущаются все грани личности его героев, а также личности самого художника. В его живописи улавливается конкретный момент бытия. Он не стремился запечатлеть «эпоху». Все, что его интересовало, так это индивидуальность героев, их настроение и духовный мир. Его иногда называют самым реалистичным художником того времени и даже «одним из первых импрессионистов».
В лице Хальса мы видим верного сына Отечества. Искусствовед Р. Мютнер так сказал о нем: «Франс Хальс – истинное дитя грохочущей мечами, экстравагантной, свободной Голландии. Даже в свои преклонные лета он чувствует и ведет себя словно студент-дуэлянт. Он полон веселья и жизни, ему свойственен фривольный настрой, он ощущает себя абсолютно вольным и раскрепощенным, непринужденным и энергичным. В нем пробуждается враг мещан и обывателей, который сам термин «буржуа» почел бы для себя оскорбительным». Хальс писал молодую, дерзкую Голландию, уверенную в своих силах, полную достоинства и оптимизма.[86]
Многое в жизни Питера Брейгеля Старшего (1524–1569) до сих пор остается неясным. Где и сколько он учился? Кто были его учителя? Попробуем оттолкнуться в нашем анализе от его картин. Ясно, что некую сумму знаний в латыни, письме, счете, религии, мифологии он получил. Красноречивее слов о характере обучения поведает выполненная по рисунку Брейгеля гравюра. Надпись под ней гласит «Парижская школа». На картине представлена скорее всего деревенская голландская школа. Мы видим учеников, расположившихся на полу вокруг учителя, в руках у них – раскрытые буквари. Одни – терпеливо зубрят, другие – украдкой озорничают, третьи – тоскуют за решеткой школьного карцера, четвертые – стоически выносят суровую порку… Кульминацией этого славного «торжества наук» (у Брейгеля) служит красноречивое и краткое изречение внизу картины: «Осла не сделаешь лошадью даже в парижской школе».
Сам художник сумел обрести знания во время путешествия по стране – в Антверпен. По пути встречались крупные и богатые города – Лувен, Льеж, Лувр, Мехельн. В каждом из них достопримечательности: в Лувене – один из лучших в Европе университетов, в Льеже – прекрасные соборы и церкви, в Малине – дивный звон колоколов (говорят, отсюда и наш «малиновый звон»). Антверпен, восхитивший Дюрера и Гвиччардини, называли «чудо-городом». Здесь насчитывалось 13 тыс. каменных домов, а церковь оглашала окрестности мелодичным звучанием 33-х колоколов. Антверпен представлял собой один из самых оживленных торговых перекрестков, «ярмарку всей Европы». В иные дни у причалов стояло до 2 тыс. кораблей.
Здесь и расцвело пышным цветом мастерство этого художника. Брейгель, вероятно, одним из первых столь живо и ярко воспел человеческий труд. В картине «Вавилонская башня» им дана своего рода заповедь деятелям искусства и образования: «Созидай до конца своих дней во славу мира и человека!» В чем смысл этой картины? Учитывая тот факт, что башня окружена домами Антверпена, она, как нам представляется, словно говорит: «Не строй вавилонских башен вне пределов отечества».[87] Истинное творчество возможно лишь на родине. «Чужбина родиной не станет» (Гете).
Одним из самых ярких талантов, впитавшим в себя едва ли не все виды знания, стал фламандец Питер Пауль Рубенс (1577–1640). Рубенс, сын антверпенского адвоката, родился в г. Зигене и первые годы жизни провел в Кёльне (Германия). После смерти мужа мать с детьми вынуждена была вернуться в Нидерланды под власть испанской короны. Рубенс получил образование в латинской школе. Огромное влияние на формирование его творчества окажет живопись великих итальянских художников. Недаром он вскоре отправился в Италию, где провел долгих восемь лет, изучая работы великих мастеров (в Венеции, Мантуе, Риме, Генуе). В дальнейшем он даже называл себя на итальянский манер – Пьетро Паоло Рубенс. Побывал он и в Испании (1603). Рубенс – сын своего времени. Он отличался приветливым обхождением, добрым характером, проницательным и живым умом. Дружбу водил обычно лишь с людьми достойными, следуя афоризму: «Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты не можешь уважать». Любил беседовать с учёными и политиками, обсуждая дела науки и искусства. Будучи видным дипломатом, Рубенс состоял в переписке со многими знаменитостями своего времени. В его мастерской работали такие замечательные художники Голландии, как ван Дейк, Йорданс, Снейдерс.
Вставал он в четыре часа утра и начинал день с обязательного слушания мессы. Необычайно любил свой труд. Поэтому всегда жил таким образом, чтобы работалось легко. При этом твердо полагал, что и любимый труд не должен наносить ущерба здоровью. Отдых его также был содержательным. Самым большим удовольствием для Рубенса было чтение хорошей книги или прогулка на добром скакуне. Он пользовался услугой наёмного чтеца, читавшего ему во время работы какую-нибудь книгу (обычно то был Плутарх, Тит Ливий или Сенека). Хотя больше всего на свете Петер проявлял привязанность к искусству.
Часть времени он посвящал изучению изящной словесности (отлично знал историю и поэзию). Превосходно владея латынью и итальянским языком, Рубенс частенько приводил цитаты из Вергилия и других поэтов древности. Его рисунки пером сопровождаются рассуждениями древних авторов типа – Optimi consiliarii mortui (лат. «Лучшие советники – мертвые»). Величайшим подспорьем художнику служила поэзия. Его живопись вбирает все события жизни человеческой. В книгах, оформленных Рубенсом, встречаем битвы, бури, игры, любовные сцены, казни, болезни, людские страсти, смерть. Он располагал одной из самых лучших художественных коллекций Европы.[88] Это о нем русский поэт-символист Вячеслав Иванов писал (в «Маяках»):
Река забвения, сад лени, плоть живая, О Рубенс, – страстная подушка бредных нег, Где кровь, биясь, бежит, бессменно приливая, Как воздух, как в морях морей подводных бег!..[89]В латинском сочинении Рубенса «О подражании античным статуям» есть высказывания в пользу античного воспитания: «Главная причина, почему в наше время тела человеческие отличаются от тел античности, – в лени и отсутствии упражнений, так как большинство людей упражняют свои тела лишь в питье и в обильной еде. Не удивительно что от этого живот толстеет, тяжесть его увеличивается от обжорства, ноги слабеют и руки сознают собственное безделье. Вместо того древние ежедневно усиленно упражняли свои тела в палестрах и гимназиях, нередко доходя до пота и усталости. Посмотрите, что пишет Меркуриале об искусстве гимнастики, как различны были виды упражнений, как они были трудны и какой требовали силы. Ничто не могло лучше изменить размякшие ожиревшие от безделия части тела, как такого рода упражнения: живот подтягивался, и все части тела, приходившие в движение, покрывались окрепшими мускулами: руки, ноги, шея, плечи и все работавшие части тела при содействии природы, которая с помощью тепла притягивает к ним питательные соки, набираются силы, растут и увеличиваются, как мы видим это на спинах гетулов, на руках гладиаторов, на ногах танцоров и во всем почти теле гребцов».[90]
П. Понциус. П.П. Рубенс. 1630 г.
Самая выразительная фигура среди художественных титанов – Рембрандт ван Рейн (1606–1669). Сын мельника, он провел свое детство на берегу реки, притока Рейна (отсюда фамилия). Уклад жизни его семьи прост и непритязателен. Юноша рос на природе, учился у природы, его успехи в латинской школе более чем скромные. Письма к секретарю принца Оранского говорят разве что о грамотности Рембрандта, не более того. Чтение как таковое всерьез его не занимало, а вся домашняя библиотека состояла всего из нескольких книг (старой Библии, сочинения Дюрера «О пропорциях» и книг с гравюрами). Правда, имеются свидетельства о том, что художник какое-то время пытался учиться в университете г. Лейдена, но вскоре его оставил В Лейдене в то время существовало сообщество музыкантов, ученых, художников. Судьбе было угодно поместить юношу в самый центр интеллектуальной жизни. Отец, открывший ему доступ в университет г. Лейдена, желал, чтобы юноша, достигнув зрелого возраста, смог «принести своими знаниями пользу родному городу и отечеству». Однако ученая профессия его не привлекала. Дальнейшая его судьба неразрывно связана с живописью и гравюрой. Учителями Рембрандта выступали Якоб ван Сваненбюрх, Йорис ван Шоотен, Ян Пейнас, Питер Ластман, ряд других мастеров.
Критики называют его «волшебником» и «ясновидящим». Он изумительно владел цветом и пространством. Ипполит Тэн в своем классическом труде «Живопись Италии и Нидерландов» писал: «Таким образом Рембрандт открыл в неодушевленном мире самую полную и выразительную драму, все контрасты, все столкновения, все, что есть гнетущего и зловещего, как смерть, в ночи, самые меланхолические и самые мимолетные тона неясных сумерек, бурное и непреодолимое вторжение дня… Вот почему, свободный от пут и руководимый необычайной восприимчивостью своих органов, он мог воспроизвести не только общую основу и отвлеченный тип человека, которыми довольствуется пластическое искусство, но и все особенности и бездонные глубины отдельной личности, бесконечную и безграничную сложность внутреннего мира, игру физиономии, которая в один миг озаряет всю историю души и которую один Шекспир видел с такой же непостижимой ясностью. В этом отношении Рембрандт – самый своеобразный из современных художников и выковывает один из концов цепи, другой конец которой отлили греки; все другие мастера – флорентийцы, венецианцы, фламандцы – находятся посредине, и когда в настоящее время наша чрезмерно возбужденная чувствительность, наша бешеная погоня за неуловимыми оттенками, наше беспощадное искание истины, наше прозрение далей и тайных пружин человеческой природы ищут предтеч и учителей, то Бальзак и Делакруа могут найти их в лице Рембрандта и Шекспира».[91]
Чтобы стать художником, недостаточно академий, уставов записных мудрецов. Нужно овладеть тайнами формы и цвета, проникнуть в святая святых природы и человека. Затем, соединив ощущения и раздумья, мастерство и талант, собрать разбросанные всюду куски жизни и плоти, как некогда Исида собирала по нильским тростникам раскиданное тело возлюбленного Осириса.
Рембрандт ван Рейн. Ночной дозор. 1642 г.
По широте тематики он сумел превзойти едва ли не всех голландских живописцев: много писал на библейские и историко-мифологические сюжеты, выполнял портреты, пейзажи, натюрморты. Ему в равной мере оказались подвластны портреты нищих, достопочтенных бюргеров, воинов, библейских старцев. Сыграло роль и то, что голландское общество оказалось достаточно богатым, чтобы предложить крупные заказы художнику. Так появились знаменитые ныне групповые портреты Рембрандта – «Урок анатомии» и «Ночной дозор».[92]
При взгляде на его работы видишь, что художник хорошо знал историю и мифологию. Живописец и теоретик искусства Филипс Ангель (род. в 1618 г.), служивший в Ост-Индской компании и бывший придворным художником персидского шаха, охарактеризовал особенности его живописи на примере картины Рембрандта «Свадьба Самсона». В «Похвале искусству живописи» (1641) этот лейденский мастер писал: «Этот мудрый ум обнаружил здесь свое глубокое размышление над историей в том, что он изобразил гостей сидящими, или, вернее, возлежащими за столом. Ибо древние употребляли ложа и не сидели за столом, как это мы делаем теперь, а лежали, опираясь на локоть, подобно тому как это делается в тех странах и сейчас…» Он особо подчеркивал важность для художника прекрасного знания описываемых им событий. Но для того, «чтобы прийти к всестороннему знанию истории, нужно прочесть больше, чем одну книгу и найти такую, которая шире описывает и истолковывает». Необходимо в книгах отобрать для изображения лишь «самое реальное и несомненное».[93]
В доме Рембрандта была большая коллекция живописи, графики, античной скульптуры, оружия, драгоценных тканей. Он часто использовал ее в качестве наглядных пособий (эти предметы мы видим и на его картинах). В полотнах ощущается некая внутренняя сила. Среди «голландцев» он один из наиболее социальных художников, как никто умевший показать подлинное лицо капитала – алчное, жестокое, равнодушное к искусству и, особенно, к жизни народа (картины «Нищие у дверей дома», «Притча о работниках на винограднике»). Чудовищно, но и закономерно, что этот выдающийся художник, перенеся ряд тяжких утрат (смерть жены Саскии и единственного сына Титуса), уйдет из жизни, всеми покинутый, нищий, при равнодушном молчании сытого общества (бюргеров и купцов).
Как скажет прекрасный русский поэт М. Ю. Лермонтов в стихотворении, посвященном его памяти («На картину Рембрандта»):
Ты понимал, о мрачный гений, Тот грустный безотчетный сон, Порыв страстей и вдохновений, Всё то, чем удивил Байрон. Я вижу лик полуоткрытый Означен резкою чертой; То не беглец ли знаменитый В одежде инока святой? Быть может, тайным преступленьем Высокий ум его убит; Всё темно вкруг: тоской, сомненьем Надменный взгляд его горит. Быть может, ты писал с природы И этот лик не идеал! Или в страдальческие годы Ты сам себя изображал? Но никогда великой тайны Холодный не проникнет взор, И этот труд необычайный Бездушным будет злой укор.[94]Рембрандт шел по жизни непонятым странником. Так и пришел к последней роковой черте. В 1669 г., когда его не стало, выяснилось, что у него нет ничего, кроме ветхой одежды и художественных принадлежностей. Если добавить к тому же, что он не оставил дневников, как Леонардо или Дюрер, не был видным дипломатом, как Рубенс, не пользовался громкой прижизненной славой, как Микеланджело, кому-то может показаться, что и его след в жизни народов не столь уж заметен. Однако он сумел создать одну из самых ярких и увлекательных летописей жизни (в своих картинах, автопортретах, портретах любимых ими людей). В отношении его живописи можно сказать, что Рембрандт, наряду с Хальсом, Веласкесом, может быть, еще с двумя-тремя великими мастерами, остался в памяти людей вечно живым и современным художником.
Рембрандт ван Рейн. Даная. 1636 г.
Немецкий искусствовед Е. Гомбрих писал: «При взгляде на работы некоторых значительных и даже великих художников, создается впечатление, что персонажи на их картинах напоминают скорее книжных героев или актеров на сцене… У Рембрандта же все совершенно иначе. С его портретов на нас смотрят самые настоящие, живые люди. Мы ощущаем их тепло, стремление вызвать к себе симпатию, а порой нам передается их одиночество, тоска или страдание… Рембрандт своим острым взором словно проникает в самое сердце человеческое… Я понимаю, что следующая его оценка может показаться кому-то излишне сентиментальной, но я просто не знаю, как еще можно выразить то почти сверхъестественное знание, что проявляет Рембрандт в своих портретах. Это напоминает мне то, что древние греки называли «работой души». Он, подобно Шекспиру, мог проникнуть в самую суть человеческой натуры, в разного рода людей, словно зная, как они поведут в той или иной ситуации. В силу этого даже библейские сюжеты в творчестве Рембрандта выглядят иначе, чем у других художников. Как истинный протестант, он, вероятно, не раз читал и перечитывал Библию».[95]
Даже богатые Нидерланды не всегда являли собой пример мудрого, щедрого, благородного отношения к искусству. Скажем со всей откровенностью. В сонмах буржуа всегда жил и живет advocatus diaboli (лат. «адвокат дьявола»). Культуре, науке, образованию во все века было, как говорится, очень трудно найти путь к кошельку богача. И восхваляемая нами Голландия нисколько не является здесь каким-то благодатным и счастливым исключением. В этом смысле весьма показательна судьба замечательного художника Эмануэля де Витте (1617–1692), последнего представителя «золотого века» великой голландской живописи.
О нем известно немногое. Отец был школьным учителем, мать очень рано овдовела. Семья вынуждена была перебраться в Голландию из Фландрии. До начала 50-х годов художник жил и работал в г. Делфте. Как известно, в Голландии XVII века существовало три основных художественных центра – Гарлем, Амстердам, Делфт. Каждая из возникших там живописных школ была связана с именем того или иного великого художника – Франса Хальса, Рембрандта или Вермера. Делфтская школа возникла позднее первых двух.
Де Витте начинал с работ на мифологические сюжеты. Любопытно, что первая известная его картина, написанная в 1641 г., носит то же название, что и знаменитое произведение Рембрандта, – «Даная». Но впоследствии он переходит к изображению архитектурных интерьеров – внутреннего вида церквей, что сопряжены с вписанными человеческими фигурами. Развивая традиции делфтских мастеров, он обогащает их теплотой чувства и жизненностью своих образов. Благодаря этим превосходным качествам многочисленные архитектурные интерьеры де Витте славились во всей Голландии. Таков, в частности, и его «Интерьер Старой церкви в Делфте» (1651). В 60-е годы, после переезда де Витте в Амстердам, тематика его картин меняется. На первый план выходят сцены из городского быта, жизнь и деловая активность людей («Старый рыбный рынок в Амстердаме», 1654), со своим переездом в Амстердам он связывал немалые надежды. К середине XVII в. город считался богатейшим в Европе. Это давало работу многим художникам. В сравнительно небогатых домах Амстердама в то время можно было увидеть до сотни картин. Увы, вскоре ситуация изменилась в худшую сторону. Неудачная война с Англией (1652–1654 гг.) вызвала в стране экономический застой и депрессию, чума 1655 г. унесла 17 тысяч жизней.
Витте – художник-реалист, как и великий Рембрандт, он не стремился приукрашивать людей и их нравы. Большинство художников той поры изображали Биржу как некое подобие храма. По-своему они, разумеется, правы, ибо биржа для буржуа и спекулянта и есть Храм, храм их алчности, изворотливости, хитрости, обмана. У Витте же мы видим иное. Характерна его картина «Амстердамская биржа» (1653), в которой все в ней проникнуто беспокойством. Эти торгующие и заключающие сделки люди не вызывают у художника особой симпатии…
Последние годы жизни Витте невыносимы. Вторичная женитьба вместо того чтобы облегчить жизнь художника, лишь усугубила его трудности. Жена требовала денег, но картины покупаются все реже. Вскоре обрушились и новые невзгоды. Нотариус, в доме которого жил художник, ловко перепродавал его картины, не платя де Витте ни гроша.… Его преследуют тяжбы. Он продолжает работать, создавая прекрасные картины, но сил остается все меньше и меньше. Вскоре его покинули и последние надежды. Вот что рассказывают о смерти художника: «Так же как его жизнь не была похожа на жизнь других, так и смерть его была не похожа на то, как обычно умирают люди, так как он сам, по-видимому, лишил себя жизни. Я уже говорил о возникновении ссоры между ним и его хозяином. Вечером, незадолго до его смерти, начался между ними спор, и хозяин поклялся, что дольше он не потерпит его в своем доме. Затем он прибавил, что давно собирался об этом сказать, и ушел. Двое из присутствовавших, заметив, что де Витте был потрясен и мрачен, последовали за ним издали, чтобы посмотреть, что он намерен делать, но потеряли его из виду в темноте на мосту. В тот самый вечер начался сильный мороз, и вода покрылась льдом, который не таял одиннадцать недель. В это время никто не знал, что с ним случилось. Когда же лед сошел, нашли его у Гарлемского шлюза. Его вытянули сетью и обнаружили у него на шее веревку, из чего заключили, что он повесился на перилах моста, но веревка оборвалась и он утонул». Это произошло в 1692 г..[96]
П. Брейгель. Слепые.
Богачи редко способны проявить истинную красоту и величие духа. Исключения есть, но они лишь подтверждают общее правило. Они мне напоминают героев последней картины П. Брейгеля – «Слепые» (только в этом случае речь идет не о несчастных нищих, тех, кого ведет слепой поводырь, а о раскормленном стаде наглых «нуворишей», не обращающих внимания на положение отечественной науки и культуры!). О, разумеется, в отдельные крайне удачные периоды, когда на них щедро сыплются плоды их экономического благоденствия и процветания, они готовы потешить свою гордыню, выделив ту или иную жалкую сумму на «художества»… Но всерьёз помогать культуре они не станут. Нет, не станут. Даже в такой образованной и богатой стране как Голландия. Хотите примеры, подтверждающие вердикт? В 1666 г. в богадельне умирает Франс Хальс, в 1669 г., вконец разоренный, всеми забытый, погибает и великий Рембрандт, в 1675 г. в полное небытие уходит замечательный художник Ян Дельфтский. Его забывают настолько основательно, что в середине XIX в. пришлось долго доказывать, что такой художник вообще когда-то существовал. В 1682 г. в больнице для бедных заканчивает свои дни великий пейзажист Якоб ван Рейсдаль. В 1692 г., доведенный до отчаянья, бездомный и нищий де Витте кончил жизнь самоубийством, посылая проклятья жалкому и дикому миру. С картинами художника может познакомиться и наш русский читатель (полотна де Витте есть в Пушкинском музее и в Эрмитаже).
Высокое мастерство и талант демонстрировали не только художники… Голландия дала миру немало удивительных имен не только в искусстве. В философии – это Спиноза, в физике – Гюйгенс, в биологии – Сваммердам и Левенгук, в юриспруденции – Гуго Гроций. О некоторых из них стоило бы рассказать особо, ибо они не только внесли весомый вклад в развитие наук, но и стали в известном смысле «властителями дум» грядущих поколений.
Прогресс наук добивается новых успехов. В XV в. в Голландии (Фландрии) возник новый вид художественной техники – гравюра. При сотрудничестве ученых и художников родилась новая картография. Корнелес де Ягер писал: «В 1515 г. были опубликованы карты неба с несколько экстравагантными рисунками созвездий, выполненными в стиле того времени. Эти карты стали результатом замечательной кооперации трех выдающихся личностей: математик И. Стабиус определил координаты звезд на небе, К. Хейнфогель перенес их положения на карту, а знаменитый художник А. Дюрер по ним нарисовал созвездия. С этого начиналась новая картография. Раньше в Западной Европе существовала традиция, в соответствии с которой основной интерес представляли созвездия, а не положения звезд».[97] Этим не ограничились заслуги голландских умельцев. Известно имя мастера-стеклодува Г. Фарренгейта, что в начале XVIII в. впервые изготовил практически пригодный термометр.
Современником великих Галилея и Ньютона был выдающийся голландский математик, механик и физик Христиан Гюйгенс (1629–1695). В Новое время всего три-четыре страны (Италия, Франция, Голландия, Англия) определяли показания «барометра» научных достижений… Гюйгенс родился в Гааге, в семье писателя и политического деятеля. Он получил образование в известных университетах Лейдена и Бреды. У этого ученого была поразительная способность соединять в единую цепь сложнейшие вопросы теории и прикладной практики. Основываясь на разработанной им новой волновой теории света, Гюйгенс внес важные усовершенствования в конструкцию телескопа. Благодаря увеличению светосилы телескопа он сумел обнаружить спутник планеты Сатурн под названием Титан. Пользуясь более совершенным телескопом, чем у Галилея, он разглядел тонкое кольцо вокруг поверхности Сатурна, дал описание полос на поверхности Марса и Юпитера, а также туманности в созвездии Ориона. Ученый поддерживал обширные связи с многими странами. Гюйгенса в 1663 г. избирают первым иностранным членом Лондонского королевского общества. Он проработал в Париже 16 лет, был избран членом Французской академии наук.[98]
По всей Европе в то время гремело имя нидерландского натуралиста Антони ван Левенгука (1632–1723), одного из основоположников научной микроскопии. Его называли «талантливым дилетантом». Среди важнейших его научных заслуг: открытие микроорганизмов, а затем и обнаружение в семени человека сперматозоидов. Последних он называл «зверьками» (лат. animalculum). Они были двух видов – мужского и женского, и проявляли бешеную активность при движении, работая и виляя хвостами. Видимо, при этом его посещали очень интересные мысли о роли природы и назначении всех живущих в ней живых особей. К примеру, Левенгук обнаружил, что в семенниках трески число такого рода зверьков-анималькулей в 30 раз превышает население всей Земли. Столь же плодовитыми оказались, как ни странно, и бараны. Путеводной нитью и девизом этого ученого были следующие сказанные им слова: «Я стараюсь вырвать мир из власти суеверий и направить его на путь знания и истины».[99]
Гуго Гроций
Выдающейся личностью того времени стал юрист и дипломат Гуго Гроций (1583–1645) – потомок выходцев из Франции. Как отмечают исследователи, Г. Гроций принадлежал к университетской интеллигенции: отец его был куратором, а дядя – ректором Лейденского университета уже в раннем возрасте он проявлял исключительные таланты и дарования, поражая учителей и окружающих. Оказавшись как-то в свите посланника Голландии в Париже, он удивил своими познаниями короля Генриха IV, и тот, потрясенный, воскликнул в присутствии придворных: «Вот чудо Голландии!» Английский психолог и антрополог Ф. Гальтон писал о нем: «Гроций Гуго де Гроот; знаменитый голландский писатель, государственный человек; высокий авторитет по международному праву… Жизнь его исполнена приключений; он был приговорен к пожизненному заключению, но убежал сперва во Францию, а потом в Швецию. Он сделался шведским посланником во Франции и в этой должности, несмотря на затруднительность политического положения того времени, исполнял свои обязанности с большим успехом. Наконец, был принят в Голландии с большими почестями. Он принадлежал к чрезвычайно даровитому и ученому семейству. Был женат на женщине редких достоинств».[100]
Чудом юриспруденции стал классический труд Гуго Гроция «Три книги о праве войны и мира» (1625), закрепивший за ученым почетный титул «отца международного права». Как отмечал сам автор, книга эта была написана им «в защиту Справедливости». Что понимал Гроций под этим словом – «Справедливость»? Наличие некоего естественного (разумного) права, которому обязано следовать все общество. «Мать естественного права есть сама природа человека», – говорил он. Содержание и законы, устанавливаемые в том или ином обществе, прежде всего зависят от самого человека, а затем уже от божьей воли.[101] Наиболее важна в нас способность «к знанию и деятельности согласно общим правилам». Человеческое право он подразделял на гражданское право и международное, определяющее правила поведения народов и государства. Государство должно представлять собой «совершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы»…
У него была возможность размышлять о границах права в замке Ловенстейн, куда он был заключен. К чести голландцев ему предоставили возможность вести изыскания даже в тюрьме… Великий знаток законов сумел использовать книги весьма оригинальным образом… Получая для работы огромное их количество, в итоге он сбежал из тюрьмы, спрятавшись в одном из книжных сундуков. Книги, таким образом, не только просвещают и вразумляют, но порой еще и просто спасают нас. Видимо, тысячу раз прав был писатель Карлейль, воскликнув: «Слава Кадму, финикийцам или кто там еще выдумал книги!»
Гроций – один из первых глашатаев идеи универсализма в науках… Он смело оперировал категориями философии, юриспруденции, филологии, подвергая их тщательному анализу. Относивший его к великим авторитетам тогдашней науки, итальянский философ Дж. Вико, специально посвятивший изучению работ Гроция ряд лет (в особенности его замечательной книги «О праве войны и мира»), отмечал, что тот «приводит в систему универсального права всю философию и филологию, историю вымышленного либо определенного, помещая все в лоно истории трех языков – еврейского, греческого и латинского».[102]
Представителем еврейской культуры был Барух Спиноза (1632–1677). Предки философа эмигрировали в Нидерланды из Португалии, где была колония евреев. После жестоких гонений в Испании и Португалии евреи прибыли в Голландию, неся груз подозрительности и недоверия. Вначале они молились тайно. Однако вскоре им предоставили тут полную религиозную свободу и широкий набор гражданских прав (за исключением права занимать государственные должности). В 1670 г. в общине было уже 4 тысячи семей. Создали евреи свою типографию и семиклассное училище. В награду за столь радушный прием евреи торжественно провозгласили приютивший их город Амстердам «Новым Иерусалимом».
В детстве Спиноза посещал религиозное училище «Эц Хаим» («Дерево жизни»). Он проявил исключительную тягу к наукам. Евреи видели в нем великого учителя, «надежду Израиля», считали, что в будущем он может стать «великим столпом синагоги». Однако великий ум тем и отличается от обычных, пусть даже способных людей, что он не может ограничивать пределы своего мышления, стремясь выйти за границы обыденного сознания. Дети еврейской общины воспитывались тут в духе слепого преклонения перед Талмудом. Уже при первом знакомстве с раввинами юноша ощутил на себе их твердолобость. Это были Саул Мортейра, Исаак Абоаб, Манасс бен Израэль. Неплохие проповедники, они были склонны к мистике и ревностно воспринимали критику Талмуда и апокрифических книг каббалы. Придерживаясь жестких канонов, они обрушивались на любые проявления свободной мысли. Подобные же раввины затравили и Уриэля Акосту. Тот посмел заявить, что священные книги не «от бога», а Моисеев закон является «человеческим изобретением». В книге «О смертности души человеческой» (1621) Акоста доказывал, что учение о бессмертии души и воскресении мертвых – вымысел и плод суеверия. Книгу его сожгли, а ее автора довели до самоубийства.
Ван ден Энден, у которого учился Спиноза был прекрасным учителем и пользовался хорошей репутацией. Однако это было до тех пор, пока не узнали, что он проповедует атеизм. Тогда видные люди, вспоминал лютеранский пастор Колерус, тут же поспешили взять детей из школы столь опасного учителя и таким образом «вовремя вырвать их из когтей Сатаны». Спинозу же привлекало в учителе знание литературы и научных достижений нового времени. Возможно, не последнюю роль в его привязанности сыграло и то обстоятельство, что он всерьез увлекся его дочерью. Та в совершенстве владела латынью, музицировала и давала ему в отсутствие отца уроки. Помимо изучения математики, естествознания, греческой философии и литературы, он проникся и атеистическими идеями, найдя тут то, чего не смог найти в синагоге. Учитель вскоре лишился средств и вынужден был переехать в Париж, где, к своему несчастью, принял участие в заговоре в пользу Нидерландов (в 1674 г. он окончил жизнь на виселице).
Вскоре на стенах бирж и синагог Голландии (как вызов и протест) появились листовки, разоблачавшие идеологию и действия иных еврейских магнатов.
Спиноза разделял взгляды ряда вольнодумцев. Фактически он вырос на учениях еврейских вольнодумцев: Ибн Эзры (1092–1167) и Моисея Маймонида (1135–1204). Первого он высоко ценил как человека «свободного ума и незаурядной эрудиции». Второй – близок ему стремлением очеловечить и рационализировать иудаизм. Он заявил, что «Пятикнижие написано не Моисеем, но другим, кто жил много веков спустя после него». Он не желал видеть в человеке послушное и слепое орудие Всевышнего, хотя и писал свои труды лишь для тех, «кто умеет ценить науку, философию и разум». Высшим этическим принципом Маймонид считал познание истины (даже если она исходит от неких «иноверных мудрецов»). Вместе с тем Спиноза не принял некоторых его положений и даже отнесся к ним враждебно. Маймонид пытался слить науку с богословием. Спиноза же считал, что у каждого направления должен быть свой путь служения истине.
Из видных умов того времени Спиноза неплохо был знаком с учением Декарта, взглядами Бэкона и Гоббса. Хотя в адрес Декарта он высказывался довольно критически, считая его воззрения «совершенно бесполезными, чтобы не сказать абсурдными». Политические симпатии Спинозы всецело принадлежали устройству, в общих чертах напоминающему на демократию. Цель такого строя – является избежание глупостей и удержание людей «в границах разума, дабы они жили согласно и мирно». Этому мешают политики и жулики. В руки Спинозы однажды попала книжица анонимного автора «Политический человек». Этот «демократ» откровенно называл деньги и почести высшим благом. Ради них, уверял автор, можно забыть совесть и честь, можно изменить чему угодно, предать друзей, близких, товарищей, соратников, наконец, свою родину.[103] В понимании Спинозы «демократия» – не панацея, но тонкий и деликатный инструмент управления обществом и государством. Что же касается «демократии» как общественного устройства он не считал оную самой разумной организацией общества. Если она станет неким орудием в руках «иностранцев, считающих себя подданными другого государства», то это вполне может привести даже к гибели большую и могучую страну.
Бенедикт Спиноза.
Еврейская пословица гласит: «Всерьез говорят только шуты»… Сегодня вряд ли кто-либо возмутился бы столь циничному восхвалению стяжательства, подлости, притворства, грабежей, лжи и предательства. Спиноза же очень серьезно воспринял сей плевок в лицо христианской нравственности. Он смело выступил против философии стяжательства и измены. В качестве образца нравственного мышления Спиноза называл ученого древности Фалеса Милетского (VII–VI вв. до н. э.), благородно презиравшего богатства, вместо того чтобы гоняться за ними.
Спиноза считал необходимым устранить от власти всех тех, кто не отличаются в своем поведении безупречной репутацией: «Я сказал, наконец, живут безупречно, чтобы прежде всего устранить тех, которые вследствие преступления или какого-нибудь позорного образа жизни подверглись бесчестию». Любопытна оценка им перспектив еврейской иммиграции: «…еврейским гражданам только в их отечестве могло быть хорошо, вне же его для них могли быть величайший вред и бесчестие».[104]
В лице Спинозы человечество обрело и глашатая свободы личности. Достижение такой свободы становилось возможным лишь при условии наличия свобод экономических, религиозных и политических: «Конечная цель государственного устройства не повелевать людьми и не держать их в страхе, не оставлять их на произвол судьбы, а, скорее, освободить от страха, чтобы в пределах возможного человек сам мог поддерживать свое естественное право на жизнь и поступки без ущерба для себя и других… цель Государства – не превращать разумные существа в животных или автоматы. Наоборот, его задача состоит в создании условий для того, чтобы люди выполняли свои обязанности в безопасной обстановке, чтобы они свободно пользовались своим разумом, но, с другой стороны, чтобы перестали ссориться друг с другом, покончили с ненавистью, злостью, обманом. Одним словом, целью политического устройства должна быть свобода».
Это «естественное право» выглядит довольно мрачно и угрожающе если общество будет походить на тот строй, о котором пишет Спиноза. В нем рыбы определены к плаванию и одновременно «более крупные из них – к пожиранию более мелких». Такое «правовое государство», как мы знаем, и было создано в ходе развития буржуазного строя, при котором в порядке вещей пожирание крупными рыбами более мелких.
Спинозе пришло приглашение от курфюрста пфальцского Карла-Людвига занять место профессора философии в Гейдельбергском университете. Это был один из самых образованных правителей Европы. В своей резиденции он воздвиг храм Согласия трех христианских религий. И вот он предлагает место не кому-либо, а «еврею, отлученному за свои чудовищные взгляды от синагоги» (Лейбниц). Тем не менее Спиноза ответил отказом. Причина проста. Во-первых, обучение юношества воспрепятствовало бы его дальнейшим философским занятиям, и, во-вторых, не ясно было, до каких пределов распространялась бы на него свобода курфюрста. Спиноза избрал жизнь «в условиях непритязательной свободы» (А. Швейцер). Он не был учителем и пророком. «Я думаю, я должен был бы прекратить развивать философию, если бы я посвятил себя обучению молодых. Кроме того, я не знаю, в каких рамках должен придерживаться свободы философствования, поэтому я бы не хотел нарушать установленную религию… следовательно, вы поймете, что я уже не питаю надежд на лучшую судьбу, но воздерживаюсь от преподавания просто потому, что высоко ценю спокойствие, которое, я думаю, лучше всего я могу получить при такой жизни, как есть»,[105] – писал он.
Конечно, Спинозу не отнесешь к «книжникам». Это не Лейбниц, который был юристом, историком, физиком, философом, теологом, дипломатом и бог знает кем еще. О Лейбнице говорили, что он вычитывал из книг больше, чем в них было написано (Фалькенберг). Спиноза не блистал особой эрудицией и даже долей пренебрежения заявлял, что авторитет Сократа и Платона для него не существует (позиция, лишающая серьезного ученого самого фундамента познания). Наш лозунг иной: признавая достижения великих, умейте их превзойти!
Значение Спинозы как мыслителя тем не менее велико. Многим импонировала его мятежная натура. Знаменитый голландский врач Боэргав, мечтавший о богословской карьере и учившийся в университете, проявил любопытство в отношении работ Спинозы – ему пришлось распрощаться с богословской карьерой. Р. Роллан, прочитав в 17 лет его «Этику», назвал данное событие «молнией Спинозы» (эта работа оказала в будущем заметное влияние на развитие юноши). Знали его и в России. Язвительный и мудрый Герцен, которого судьба и самого-то бросала по миру, относился к Спинозе с уважением. В его дневниковых записях (сентябрь 1843 г.) мы находим: «Спиноза – истинный и всесторонний отец новой философии». Ego, – говорит он, – non praesumo, me optimam invenisse Philos(ophiam), sed veram me intelligere scio» (лат. «Я не утверждаю, что я открыл наилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную»). Духовная высота Спинозы поразительна. И какое глубокое понимание жизни! Он дает основу, на которой могла развиться германская философия… И не мудрено: мышление он почитал высшим актом любви, целью духа, его жизнию.[106]
В Нидерланды в конце XVI в. устремлялись тысячи потомков марранов, что тайно исповедывали иудейскую веру в Испании и Португалии. Это были богатые купцы, врачи, чиновники, офицеры. В Амстердаме образовалась крупнейшая еврейская община, которую создал португальский марран Яков Тирадо (1593). Тут они открыто стали исповедывать иудейство, построив синагогу «Бет Яков» (дом Якова). Через 20 лет в городе было несколько тысяч евреев. Число их быстро росло, так как голландское правительство предоставило им полную свободу самоуправления. Почти сразу же из их среды выдвинулся ряд даровитых имен в различных областях наук и литературы. Это уже упомянутый Спиноза, Уриель Акоста, широко известный своим «Исследованием о фарисейских преданиях» (1624) и другие.
Мы вынуждены отметить одну удивительную вещь. Талант еврейского народа очевиден. Странно лишь, что самые честные и сильные умы, распознав суть талмудизма, идеологии иудаизма, начинали яростно бороться против них (зачастую рискуя своей жизнью). Они ощущали чудовищную угрозу, которую несли жестокие установки кагала. Евреи беспощадны к своим бунтарям. Когда Акоста решил вернуться к собратьям, раввины потребовали от него «покаяния». В синагоге, в присутствии хахамов и толп прихожан, Акосту вынудили громко прочесть формулу покаяния и отречься от былых «заблуждений». После этого ему нанесли 39 ударов ремнем по спине, заставив лечь ничком на пороге синагоги. Все прихожане перешагнули через него. Вот суть иудаизма – сломать, унизить, растоптать! Это так потрясло умнейшего и достойнейшего еврея, что он покончил собой выстрелами из пистолета (1640).[107]
В Голландию направился и Декарт. Он считал ее страной, где наиболее спокойно можно вести научные изыскания. Не этому ли обязана Голландия процветанием? Наука требует всего трех вещей: 1) свободы мысли и ее изложения (свободы публикаций и обсуждения); 2) финансового обеспечение ученых; 3) условий для их научных экспериментов. Там, где это имеется хотя бы в самых мало-мальски приличных пропорциях, наука процветает!
Декарт-католик, преданный сторонник короны, предпочел жить в протестантской и республиканской стране! Ему нравился строй жизни деятельного народа, «более заботящегося о своих делах, чем любопытного к чужим». Для ученого, который избрал девизом слова «Qui bene latuit, bene vixit» (Счастлив тот, кто прожил свою жизнь скрытым от всех), это обстоятельство играло большую роль. За те 20 лет, что он прожил в Голландии, он 15 раз менял место жительства. Адрес его был известен только другу, францисканскому монаху Мерсенну, за что того прозвали «резидентом Декарта во Франции». В итоге, ученого никто не мог разыскать (на ответных письмах его стояли вымышленные адреса). Что же привлекло его в Голландии? Одному из своих друзей он пишет: «Я советовал бы Вам избрать своим убежищем Амстердам и предпочесть его не только всем капуцинским и картезианским монастырям, но и красивейшим местам Франции и Италии и даже тому уединению, в котором Вы были прошлым годом… здесь, в Амстердаме, кроме меня, нет человека, не занятого торговлей, и все так озабочены наживой, что я мог бы прожить всю жизнь, никем не замеченный… Вам приятно видеть, как зреют плоды в Ваших садах, и чувствовать себя среди изобилия. Но разве менее приятно видеть приходящие корабли, обильно несущие все, что производит Индия, все, что редко в Европе? Где в другом месте на земле так легко было бы найти все удобства жизни и все редкости? В какой другой стране можно наслаждаться такой полной свободой? Где можно спать так спокойно? Где всегда готова вооруженная сила, предназначенная исключительно для Вашего охранения? Где менее известны заключения в тюрьму, измены, клевета и где более сохранились остатки невинности наших предков?»[108]
Костюм голландской проститутки. XVII в.
Насчет невинности Декарт, конечно же, перебрал. В невинность голландца так же трудно поверить, как в честность картежного шулера. Скопленные Голландией богатства имели источником не одну торговлю, промышленный и земледельческий труд. Хорошо известно, что треть владельцев домов в Амстердаме получали огромные доходы от многочисленных увеселительных и «ночных» заведений. По степени интенсивности их посещения они превосходили школы и «интеллектуальные центры».
В морализующем труде английского философа Б. Мандевиля (XVIII в.) отмечалось, что правители Амстердама ревностно поддерживали существование «домов терпимости». Причина тому: откровенная жадность и корысть, а вовсе не забота о сохранении нравов «приличной части общества». Мандевиль писал: «По этой причине мудрые правители этого города, содержащегося в хорошем порядке, всегда терпят существование неопределенного количества домов, в которых женщин нанимают также открыто, как лошадей в платной конюшне; и, поскольку в этой терпимости можно увидеть много благоразумия и расчета, краткий рассказ об этом будет отступлением, не утомительным для читателя… Улица, на которой стоит большинство их, пользуется скандальной известностью, и эта позорная слава распространяется на всю округу». Можно только лишний раз подивиться фарисейству добропорядочных господ буржуа. Они делали вид, что их «очень заботит» здоровье 6–7 тысяч матросов, много месяцев кряду не видевших женщин, в силу чего, якобы, возникает «угроза изнасилования» почтенных жен и горожанок. В то же время «отцы города» сами же являются первыми клиентами этих «блуждающих жриц Венеры…» (Г. Лихт)[109]
Суть политики насаждения притонов в Амстердаме проста и незатейлива: приумножение прибылей и капиталов, получаемых любым, самым грязным и циничным способом… Мандевиль продолжал: «Такая политика приносит большую пользу, и притом двойную: во-первых, это дает возможность большому числу полицейских, которых во многих случаях используют правители города и без которых они могут обойтись, выжимать себе на жизнь из чрезмерных доходов, получаемых за самое худшее из занятий… Во-вторых, поскольку из-за целого ряда причин было бы опасно раскрыть тайну того, что на эти дома и ту торговлю, которая в них совершается, смотрят сквозь пальцы, то, выглядя безупречными при помощи этого средства, осторожные правители города сохраняют о себе доброе мнение людей более слабых, которые воображают, что правительство постоянно пытается, хотя и не в состоянии, подавить то, что оно на самом деле терпит».[110] Нравы «отцов города» в Европе, как видите, не очень далеки от библейских «добродетелей» и морали Древнего Рима.
История голландского колониализма передает непревзойденную картину убийств, предательств, подкупов и подлостей. К. Маркс писал: «Нет ничего более характерного, как практиковавшаяся голландцами система кражи людей на Целебесе для пополнения рабов на острове Ява. С этой целью подготовлялись специальные воры людей. Вор, переводчик и продавец были главными агентами этой торговли, туземные принцы – главными продавцами».[111] Все эти ручьи и потоки золота, соединившись в одну большую реку, позволят голландцам стать на какое-то время полновластным хозяином на рынке капиталов.
Видимо, так оно и есть (из песни слов не выкинешь). Однако не будем забывать и о самом главном – удивительном мужестве, великом трудолюбии обитателей страны, буквально вырвавших ее из цепких лап разбушевавшегося Посейдона. История страны полна описаний жесточайших битв со стихией, которая порой вела себя куда страшнее всех угнетателей. Еще Ришелье говорил о них: «Эта горсточка людей, владеющих клочком земли, состоящим из вод и выгонов, снабжает европейские народы большей частью нужных им товаров».
Амстердамская биржа. 1653 г. Роттердам, контора ван ден Форм.
Голландия выступала в роли видного экономического и делового учителя Европы. Здесь возникнут первые европейские банки, биржи и страховые компании. Ее купцы оказались талантливыми практиками. Подумать только: крохотная страна с населением в два-три миллиона человек получает богатств больше, нежели остальная Европа. В Новом Свете голландцы станут основателями города, названного ими Новый Амстердам (Нью-Йорк), торгового Вавилона новейшего времени. С ее мудрых таможенных законов станет брать пример будущая «владычица морей» и «мастерская мира» – Англия. Голландский торговый капитал побеждает и вытесняет испанцев и португальцев. Сокровища Индии и Индонезии текут в подвалы амстердамских купцов, делая их «властителями вселенной».
Еще в начале XVII века о голландцах говорили, что они живут скорее на море, чем на суше. Даже сегодня первое, что сообщат любому путешественнику, вступившему в сей удивительный край, так это давнюю и неувядающую пословицу «Страна создана морем и торговлей». Истинные труженики моря. На ее верфях строились отличные корабли, что и привлекло сюда Петра Великого.
Велика роль Голландии в прошлых судьбах России. Не зря Петр I скажет: «Если бог создал Землю, то голландцы – Голландию!» История дружеского союза восходит к более ранним временам, к правлению русского царя Алексея Михайловича (1629–1676)…. Сентябрьским вечером 1664 г. после пушечного салюта военный корабль «Винтхонт», подняв паруса, взял курс на Ригу. На борту «голландца» находился чрезвычайный и полномочный посол республики Нидерланды Якоб Борил (Jacobus Boreel). Он направился в Москву с целью отстаивать интересы республики и голландских торговцев. В его окружении были просвещенные голландцы. Среди них, как пишет историк, был и выпускник Лейденского университета Николас Витцен (Witsen), 23-летний юрист. В его документах не указывались цели путешествия. Семья Витценов давно уже вела торговлю с Россией (с XVI века). Поэтому юношу и послали сюда. В университете он получил массу полезных сведений о восточных странах от наставника, профессора Якоба Голиуса. После прибытия в Ригу (в те времена город принадлежал Швеции), спустя месяц, они направились в страну Московию, достигнув столицы 20 января 1665 г. Посла республики ждала тут торжественная встреча у ворот Москвы, хотя прием в Кремле был ему дан лишь через две недели. Особого интереса к визиту жители вначале не проявили.
Винниус (1641–1717) фигура интересная. Сын нидерландского моряка, восьмой ребенок в семье, он предпочел профессии отца занятие торговлей. В 1627 г. он уже громко заявил о себе, ведя обширную торговлю зерном в России, закупив у первого русского царя Михаила Федоровича Романова (1631) довольно крупную партию ржи. В том же году он обратился к царю с просьбой предоставить ему право свободной торговли внутри России. Вот что ответил ему Михаил Федорович, давая такое разрешение: «Его братья (братья Винниуса – В. М.) платили нам низкую цену за наше зерно. А он, к нашей выгоде, осуществлял покупки… за хорошую цену без всякой хитрости и преследования какой-то выгоды. Закупив зерно, он предоставил нам и все преимущества. Именно поэтому мы желаем вознаградить его. Андрею Денисовичу будет предоставлено право свободной торговли в империи».
В дальнейшем голландский предприниматель Андрей Денисович Винниус (так его станут все называть в России) доказал свою порядочность и честность, равно как и дальновидность в практическом и деловом отношении. Понимая, что страна, нуждается в железе и оружии, он получил от царя концессию и основал чугунолитейный завод и фабрику оружия. Царь Михаил Романов, озабоченный проблемой независимости в производстве таких стратегических компонентов, решил поддержать голландца. Винниус импортировал мастеров из заграницы, поселился в Пскове. Затем перевез всю свою семью в Москву.[112]
Купцу Винниусу строительство поручили военных заводов в Туле (1632). К середине XVII в. это позволило стандартизировать отлив бронзовых стволов и русская артиллерия предстала на полях сражений грозною силою («богом войны»).
В Голландию направит Петр I своё Великое посольство 1697 года. «Петр Михайлов», или как он называл себя заграницей Piter Baas, кочевал по дорогам европейских держав как прилежный ученик и первооткрыватель. В кармане его грубошерстной куртки лежала печатка с символическим девизом – «Аз бо есмь в чину учимых, и учащих мя требую!» («Я учусь, и я хочу, чтобы меня учили»). Петр в порту Архангельска узнал, что в центре нидерландской судостроительной промышленности (в Заандаме) 50 судоверфей. Царю, мечтавшему о создании своего флота, новость пришлась как нельзя кстати. Он подучил голландский язык и направился в этот самый Заандам, где и поселился в небольшом домике у реки. (Позже знаменитый дом посетят Наполеон и царь Александр). Во время посещения зарубежья Петра потрясли не столько сопровождавшие его повсюду толпы зевак, от которых он старался убежать («слишком много людей»), сколь профессиональные навыки иностранцев (голландцев, немцев и т. д.).
Не теряя зря времени, он сразу же принялся за учебу. Как пишет П. Тонгерен в «Секретной миссии царя Петра», благодаря помощи бургомистра Амстердама Н. Витсена царь получил место ученика плотника на судоверфи Ост-Индской компании на острове Остенбюрг. Четыре месяца Петр Первый в центре города участвует в строительстве фрегата «Петр и Павел» (после работы он с удовольствием попробовал в кабачках еневер, пиво и прочие вкусные напитки). Побывал он в литейных цехах, мастерских по изготовлению компасов и парусов, на канатных заводах, маслобойнях и т. д. Встретился он и с Вильгельмом III, штатгальтером Республики и королем Великобритании, а также с известными учеными(изобретателем микроскопа Э. Левенгуком, анатомом Ф. Рюйсом, строителем крепостных сооружений М. ван Кухоорном, изобретателем огнетушителя Я. ван дер Гейденом, известным медиком Х. Бургаве, книгопечатником Тессингом, печатавшим русские книги и импортировавшим их в Россию).
Огромное значение имела встреча с адмиралом Корнелисом Крюйсом, который, после непродолжительных раздумий, выразил готовность взвалить на себя не только руководство строительством российского флота, но и стал его главнокомандующим. По следам адмирала в Россию на десяти нагруженных инструментами, материалами и другими товарами кораблях отправились 640 голландцев (моряки, офицеры, корабельные плотники). Историк прав, называя экспедицию царя Петра Великого как «начальной формой получения технологической помощи». Подтверждением тому стали не только построенный флот, но улицы и каналы Петербурга, спланированные по типу Амстердама. В русский язык вошло немало голландских слов (stuurman – «штурман», kombuis – «камбуз»), а русский морской устав вплоть до XVIII в. официально оставался написан на двух языках (русском и голландском).[113]
Кстати, даже цвета русских морских флагов были заимствованы нами у голландцев (красный, белый и голубой – для торговых судов, и белый с голубым крестом – для военных кораблей). Шведский король Карл XII все возмущался по этому поводу: «Флот московитов вообще не имеет ничего своего, кроме флагов. Мы должны сражаться против голландского флота, ведомого голландскими командирами, управляемого голландскими матросами. Вдобавок нас ещё и обстреливают голландскими пулями из голландских же ружей и пушек».[114]
Сразу же по возвращении в родные пенаты Петр Первый начал усиленно вводить смелые новшества и ремесла, доселе у нас невиданные и неизвестные. Царь быстро сообразил (ибо был умён), что существует прямая взаимосвязь между качеством труда, квалификацией труженика и уровнем технической и научной оснащенности. Поэтому он стал осуществлять ввоз технологий, книг, учебников, картин, наглядных пособий. С 1700 г. у нас в стране был введен и новый календарь. Визит в Голландию, по мнению многих, повлек за собой «эпоху почти полного перерождения России буквально в несколько лет»… И в дальнейшем голландцы примут самое активное участие в судьбах России. Так, предки известного государственного деятеля России графа С. Ю. Витте были голландцами, ещё в давние времена переселившимися в Прибалтику.
Конечно, далеко не все и в тогдашней России однозначно и благодушно воспринимали голландско-немецкие заимствования. Не все и подходило нашим традициям и порядкам. О порой ироничном отношении российского люда к тогдашним реформам царя Петра писал А. К. Толстой:
Царь Петр любил порядок, Почти как царь Иван, И так же был не сладок, Порой бывал и пьян. Он молвил: «Мне вас жалко, Вы сгинете вконец; Но у меня есть палка, И я вам всем отец!.. Не далее как к святкам Я вам порядок дам!» И тотчас за порядком Уехал в Амстердам. Вернувшися оттуда, Он гладко нас обрил, А к святкам, так что чудо, В голландцев нарядил…[115]К сожалению, позитивные страницы далекого прошлого мало известны невеждам, заполнившим ныне «тело» отечественной информационной политики. Иные деятели «культуры», ненавидя всеми фибрами их мелкой душонки Россию, охотнее расскажут и покажут не умные и полезные деяния Петра I, а заострят внимание на сальностях, да на том, что царь со свитой за 2 дня в Антверпене «выкушали» 200 литров вина.
Петр Великий, прорубающий «окно в Европу».
Голландия же, как уже говорилось, славилась в Европе своими мастерами, строителями, зодчими… Поэтому естественно, что и в градостроительстве России (в особенности, Санкт-Петербурга и Москвы) в XVIII в. активное участие приняли нидерландские зодчие и ландшафтные архитекторы. Знаменитые часы на Спасской башне Кремля (символ столицы) сделаны голландцами. Можно сказать, что Голландия выполняла для России как бы роль «классной дамы», следящей за ходом ее обучения. В Санкт-Петербурге было немало мест, подобных Заанстаду (города, где сохранился жилой домик Петра I, место его пребывания). Великий государь приказал, чтобы все предметы обстановки, домашней утвари и костюмы у него на родине были выполнены по голландским образцам, но местными мастерами. Сами голландцы никогда не забывали посещения своей страны «мужицким царем», с подобающей такому случаю торжественностью отметив 300 лет пребывания Петра в Голландии (1997).
О том огромном уважении и пиетете, которым пользовалась голландская культура в России, говорит немало фактов. В середине XVIII в., когда великий царь давно почил, в подмосковной усадьбе Кусково по приказу графа Шереметьева строят Голландский домик. Тогда еще помнили, что сам Петр I любил учиться у голландцев многим ремеслам. В поместьях сановников оставалось к тому времени еще немало голландской мебели и картин. «Для Шереметьева, – пишет историк Б. Бродский, – Голландский домик был олицетворением Голландии, в которую можно было попасть не по волнам Балтики, а по глади Большого кусковского пруда. Это было предместье Амстердама или Утрехта, чудом перенесенное в Подмосковье. Полнота иллюзии довершалась пейзажем, открывавшимся из окон и выглядевшим действительно по-голландски».[116] Известно и о наличии связей между нашими династиями (говорят, что в жилах нынешней королевы Нидерландов течет русская кровь).
У голландцев позже появится «свой Петр»… Им по праву считают короля Вильгельма I, правившего с 1813-го по 1840 год. Простой народ стал называть его в просторечии «техническим королем», «королем-торговцем» (два эти понятия близки). Фигура короля, право слово, заслужила того, чтобы остановиться на ней подробнее. Уместно показать его роль на примере соотношения факторов могущества, свободы, демократии и процветания.
В XVI–XVII вв. в Голландии восторжествовали антироялистские настроения. Прервались связи с германской и испанскими династиями. Голландцам неплохо жилось и без штатгальтера (1650–1672). Вильгельм III был молод. Верхушка знати страны предпочитала управлять за его спиной. Во главе страны тогда стоял «великий пенсионарий» Ян де Витт (1653–1672), наиболее открыто выражавший интересы буржуазии. Вильгельма, как сына полка, взяли на воспитание, дав прозвище «ребенок государства». Все шло прекрасно. Богачи становились богаче. Соединенные Провинции, казалось, переживали пору расцвета. Простой люд «не возникал» и не думал о будущем. Повсюду царили свобода и веротерпимость. «Золотой век» да и только! Но соперники, почувствовав слабинку, стали наступать на позиции голландских купцов. Парламент Англии принял Навигационный акт (1651), фактически установивший гегемонию британцев на море. Идеи выдающегося Гуго Гроция, изложенные им в трактате «О свободном море», были откровенно проигнорированы, хотя тот не раз говорил: «Море никому не принадлежит и должно быть полностью свободно для мореплавания».
Каков же результат? Чего добились Нидерланды в результате такой близорукой политики? Уповая на демократию и право, они презрели национальные интересы и отдали инициативу в руки соперников. Англия и Франция, встав на путь протекционизма (защиты своей промышленности и торговли от конкурентов), тут же решительно вырвались вперед. Голландцы, не уловив тревожного симптома слабости «империи», не смогли собрать волю в кулак, потерпели ряд поражений на море, потеряли важные колонии (1780).
Итогом противоречий стали четыре острейшие англо-голландские войны. Раздобревших и расслабившихся голландцев побили конкуренты. Страну охватил голод. Свинцово-гробовой крышкой давили экономическая депрессия и безработица. В стране спонтанно возникли группы патриотов, требуя поставить эгоистов-буржуа под жесткий контроль, дав больше свободы народу и, главное, ускорить подъём экономики. Однако то, что было ранее упущено, вернуть оказалось непросто.
И все же кризис был преодолен. Голландцы мобилизовали все ресурсы страны, не позволяя алчным нуворишам увозить капиталы (как это происходит в сплошь и рядом в России.) В итоге уже в 1781 г. голландцы дали в долг Европе более 800 миллионов гульденов. При этом еще большие суммы вложены в торговлю собственной страны и в новейшее оборудование. Немецкий философ Г. Форстер отмечал, посетив страну (1790 г.), что за последние годы науки и искусства в Голландии сделали заметные успехи (особенно в Амстердаме), где значительную поддержку от богатых купцов получило общественное учебное заведение, называемое «Атенеум». В его стенах вот уже более 150 лет преподавали самые достойные мужи. Институт дал государству немало превосходных умов. «Атенеум» владел прекрасным анатомическим кабинетом, ботаническим садом, всем необходимым. Построено прекрасное здание с концертным залом (на что голландцы выделили миллион гульденов). Вот куда шли богатства их буржуазии, накопленные за долгие годы трудов и торговли. Голландец тем и силен, что умеет обращать деньги в знания, культуру (или наоборот).
В начале XIX в. были приняты меры, с помощью которых приступили к реформированию общества (налоговая реформа, закон об образовании и т. д.). В 1806 году Голландия стала королевством. В 1813-м Вильгельм I (1772–1843) принял толковую конституцию, защищавшую интересы всех граждан и конфессий. Автономия провинций была заметно урезана. Курс был взят на создание крепкого централизованного государства. Король назначал членов нижней палаты парламента. Редко в его правление собирались Генеральные Штаты. Сокращены были права голландского парламента, который злые языки называли «королевским зверинцем». Заметим, что речь идет об одной из самых демократических стран Европы и мира.
Дело, разумеется, не в концентрации власти в руках одного человека. Самым важным для судеб страны стало изменение политического и экономического курса… Активно ведется прокладка новых дорог и водных путей, активизируется возделывание земель, учреждаются торговые и пароходные компании, банки, строится железная дорога, появляются новые промышленные технологии. У короля хватало времени на всё (включая жалобы подданных). Пустая критика пресекалась. Нарушители закона о печати сурово наказывались. Король-работник не жалел собственных средств на развитие науки, промышленности, образования, медицины. Колониальные владения Голландии («Нидерландская Индия») при нем вновь стали приносить немалые доходы.
Матт ван Брей. Король Вильгельм I.
Удивительное дело, положение страны стало выправляться. Спад вскоре был преодолен. Экономика набирала темпы. Окрепла армия. Враги получили ряд болезненных ударов. Король был мудр и прекрасно понимал старую истину этого сурового мира: «Potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis» (лат. «Власть государства кончается там, где кончается сила оружия»).[117] Поэтому он предпочел установить в стране жесткий, почти авторитарный режим, нежели позволить находиться у власти бездарным демагогам, заинтересованным только в одном – в своем собственном обогащении… Что можно сказать по сему поводу?! Разве что: «Aures habent et non audient!» (лат. «Есть у них уши, но не услышат»).
Меж Россией и Голландией существовали дружественные и теплые отношения. Россия, как правило, придерживалась проголландской политики. Между Николаем I и принцем Оранским, чьи родственные связи известны, велась интенсивная переписка (в 1830 г. бельгийская революция разрушила союз Бельгии и Голландии, а заодно и Нидерландское королевство). Особое место в истории наших стран занимает брак дочери Павла I (Анны Павловны) с наследником престола принцем Оранским (1816 г.). Молодая чета одно время жила в Петербурге и Павловске (им посвятил стих А. С. Пушкин). Анна Павловна как королева Голландии снискала любовь и уважение сограждан. Она изучила нидерландский язык, историю и литературу, занималась благотворительностью и основала более 50 приютов для детей неимущих.
После смерти горячо любимого сына Александра и ее супруга Виллема II на плечи этой мужественной женщины легла забота о семье… Король жил на широкую ногу: возводил замки, собирал богатейшую коллекции живописи, не считаясь с расходами. В итоге, бюджет королевского семейства трещал по швам. И здесь на выручку голландской королевской семье пришел русский царь Николай I. Приведем очень характерное письмо, написанное Анной своему брату, русскому царю Николаю (1 октября 1849 г.): «Милый брат, дорогой и любезный друг, ты, конечно, понимаешь, что только обстоятельства крайней необходимости вынуждают меня нарушить наше общее горе и говорить с тобой о вещах материального свойства. Я подумала, милый друг, что, поскольку речь идет о чести семьи и памяти нашего дорогого Виллема, которого ты так любил, я должна обратиться к твоему сердцу и воззвать к твоей доброте. Тебе известно о наследстве Виллема. В задачу комиссии, созданной для изучения и рассмотрения этого вопроса, входило собрать необходимые данные и оценить имущество и наличные активы, равно как и сосчитать долги. Последние, как оказалось, составляют 4,5 млн. гульденов. Для их уплаты нам нужно будет продать всю землю и недвижимость в этой стране, поэтому я обращаюсь к тебе, любимый брат и друг, с просьбой, чтобы ты в этот роковой час согласился купить собранные Виллемом картины, к которым ты так привязан и которые уже отданы тебе в залог. Если ты выполнишь мою просьбу, мои дети будут спасены. Ты также спасешь честь семьи».[118] Русский царь проявил такт и сочувствие. Деньги были выделены и коллекция куплена за 137 тысяч 823 гульдена. Теперь это собрание дивных картин, украсившее Эрмитаж, является нашим национальным достоянием, а заодно и неким укором нынешним временщикам… Пусть знают те, кто обрекают культуру и науку России на нищету, что бывали времена, когда Россия помогала Европе, а не стояла на паперти с протянутой рукой!
Проблемы образования и воспитания в Голландии требуют специального исследования. Не стану вдаваться в историю высшей школы. Замечу лишь, что ее происхождение восходит к началу XVII в., когда в центре Амстердама, в одной из бывших церквей, Каспар Барлеус и Херард Воссиус решили приступить к чтению курса лекций. Из этого курса в дальнейшем и возникнет так называемая Афинская школа, а затем существующий и по сей день, вполне процветающий государственный Амстердамский университет. Как отмечалось, высшее образование в Голландии пользовалась авторитетом в широком кругу ученых, писателей, мыслителей, профессуры и студенчества всей Европы. В стенах ее университетов получили образование многие умы. Знаменательна история создания Лейденского университета. Правительство после геройской защиты Лейдена (в войне с испанскими интервентами) предложило жителям города выбрать себе любую награду (за проявленные им мужество и верность отечеству). Те попросили основать в их краях университет. Лейденский университет сделался средоточием европейской образованности. Две тысячи студентов слушали лекции знаменитейших профессоров и ученых. Лейден притягивал лучшие умы. По словам Освальда Шпенглера, именно здесь возникло широко употребляемое ныне выражение – «средние века» (1667). Философы, подвергавшиеся на родине преследованиям, находили поддержку и понимание в стенах этого университета. Сюда направляли свои стопы французы, немцы, англичане. В частности, около года здесь учился английский писатель О. Голдсмит, стремившийся постигнуть нравы народов и называвший себя не иначе как странствующим философом. Сюда устремлялось множество известных личностей. В школе «Братьев общей жизни» в Девентере обучались «первый философ Нового времени» Н. Кузанский, а несколько позже и гуманист Эразм Роттердамский, «Иоанн Предтеча Реформации». В Голландии побывал однажды Дюрер, оставивший восторженные заметки о памятниках архитектуры, скульптуры и живописи («Дневник путешествия в Нидерланды»). В конце XVII века здесь протекала деятельность известных ученых и философов – Бойля и Локка. Иностранные государи считали за честь учиться у его профессоров. Великий курфюрст Бранденбургский, Фридрих-Вильгельм, ряд лет слушал лекции в Лейдене, изучая политическое и административное устройство Голландии, сельское хозяйство и государственное право страны. Знания, полученные в университете, оказались крайне полезными для предпринятых им позднее реформ.
Г. Форстер в «Путешествиях» описал обстановку, складывавшуюся в Голландии к концу XVIII в.: «Несколько лет тому назад некоторым из самых богатых жителей Амстердама пришла в голову мысль позаботиться о научном образовании своих сограждан и о том, чтобы пробудить в них интерес к искусству. Они стремились заполнить пустоту, возникающую в душе купца в свободные часы после работы, обогатить его ум идеями, более способствующими счастью, чем мертвые сокровища, и о приобретении которых предшествующее поколение заботилось столь мало, что и нынешнее еще недостаточно чувствует их отсутствие. Преподавание должно было быть построено таким образом, чтобы одновременно удовлетворять потребностям прекрасного пола, причем открывая более восприимчивой половине нашего рода источники познания, организаторы вполне справедливо рассчитывали трояким образом позаботиться о мужчинах: во-первых, они создавали благородное соревнование между обоими полами; во-вторых, обеспечивали семейное счастье, воспитывая и совершенствуя жен и дочерей и превращая женщин в разумных и образовательных собеседниц и, наконец, обостряя и упражняя способность суждения женщин, они сообщали первым воспитательницам грядущего поколения нужные познания. Все предметы обучения были распределены на пять групп – философия, математика, изящные науки, музыка и рисование».[119]
Фламандские риторы.
Таковы, в самых общих чертах, некоторые стороны голландско-фламандского опыта, вобравшего труд многих поколений (как говорится, pro gloria et patria! – «ради славы и отечества!»). Итак: 1) Нидерланды – первая страна, освободившаяся от феодального абсолютизма и господства тирании, и создавшая новый, буржуазный строй; 2) страна представляла собой федерацию провинций (штатов), с общими органами управления; 3) голландцы и валлийцы сумели проявить невиданное мужество и упорство как в борьбе против интервентов, так в обустройстве земли, охраняя от яростной морской стихии; 4) главными силами, что привели народ к могуществу, стали наука, образование, флот и торговля; 5) важнейшими факторами духовного развития народа явились искусство и культура.
Глава 4 Путешествие в мир Альбиона
Подлинным воплощением архетипа буржуазной революции стала Англия. На этих землях некогда размещали свои форпосты римские когорты. Англию преследовал долгий и кровавый период бедствий. Ранее тут обитал мужественный и отважный народ – бритты. История христиан-бриттов трагична. После краха римского господства в Британию устремилось племя саксов (VI в.). Сюда оно переселилось с тех земель, что считаются германским достоянием (Голштейн, Ютландия, Шлезвиг). Англосаксы вытеснили коренное население бриттов, которое не смогло объединиться и дать отпор завоевателям. Расплата за распри и междоусобицы властей. Об этом сохранились многочисленные сказания, вошедшие в сборники легенд о благородном короле Артуре.
Вот как рассказывают легенды о грехах сановной знати и бедах народа Британии (во времена легендарного короля Пендрагона): «Поэтому-то, видно, и решил Господь воздать этой земле за грехи полной мерою. Настал день, и сотни кораблей из далеких северных стран подошли к британскому берегу, ударили в дно тяжелыми якорями, и вот уже грохочут на берегу крики пришельцев, и подобно потопу растекается их войско по всем дорогам».[120]
Как же смогли интервенты-саксы закабалить коренной народ Британии? Когда-то, много веков тому назад, бритты обратились за помощью к племени саксов в трудные времена. Те откликнулись и пришли на выручку, прибыв на землю Альбиона с экспедиционным корпусом (1,5 тысячи воинов). Разместившись на плодородной земле, саксы уразумели, что земля эта значительно обильнее и богаче их собственных земель. Саксы тайно вызвали сюда воинственных сородичей. Не смущаясь тому обстоятельству, что находятся в чужом доме, они тут же стали устанавливать в Британии свои порядки (прибыв сюда на 17 кораблях в количестве свыше 5 тысяч человек). Англосаксы пошли и на прямое, коварное предательство. Дадим слово английским историкам: «Пытаясь объяснить столь легкое покорение их страны в прошлом саксами, английские историки среди главных причин называют их невиданное вероломство и коварство, впрочем, равно как и военное искусство и доблесть завоевателей… Во время дружеской встречи знати обеих народов (этакого фестиваля «дружбы народов» В. М.) англосаксы подло умертвили 300 самых знатных рыцарей бриттов, а их отважного предводителя (Vortigern`а) пленили и заковали в цепи».[121] Коварство и предательство стало альфой и омегой англосаксонской цивилизации и политики.
Таковы методы покорения англосаксами народов: сначала они уничтожают или подкупают элиты, а затем лишенный достойных вождей и руководителей народ просто захватывают в рабство! Потом наступят трудные времена, когда датчане завоюют практически половину Англии… Всю тяжесть суровых битв против датчан тогда взвалило на себя королевство Уэссекс во главе с его вождем, Альфредом Великим (849–900), который с 871 г. возглавил все королевство и объединил соседние владения. 10 лет (866–876) шла война с датчанами, пока Альфред не заставил их заключить мир. Страна была поделена на две части – саксонскую Англию и датскую Англию, в которой продолжало царить «датское право». При нем не только достигнуты ратные победы, но и составлены первый общеанглийский сборник законов и часть знаменитой «Англосаксонской хроники»… Британия – историко-этнический симбиоз, вобравший опыт, культуру как северогерманских народов (бриттов и викингов), так и южан (римлян).
С конца VI в. шел процесс христианизации англичан, хотя христианство проникло на Британские острова раньше. По мнению ученых, около 400 г. оно проявилось как туземное явление в чисто кельтской Ирландии. В VII в. появляется термин «англичанин», в IX в. – термины «английский язык», «Англия», в понятие «англосаксы» включаются и бритты.
Вторжения орд викингов (грабителей-разбойников) произвели в Англии страшные опустошения, что сродни нашествию Батыя… «Среди англичан образованность пришла в такой упадок, – жаловался Альфред, – что лишь немногие по эту сторону Хамбера – и я думаю, что и к северу от него также, – могли понять требник и перевести письмо с латинского на английский язык. Нет, не могу я припомнить, чтобы к югу от Темзы был хоть один такой человек, когда я вступал на престол». Альфред Великий (849–900) соединял в себе черты талантливого педагога, полководца и строителя. Он заимствовал у датчан лучшие их навыки и стал строить корабли, превосходящие по своим качествам датские («без малого вдвое длиннее тех, быстроходней, устойчивей и выше»). Создал он и систему крепостей, охраняемых хорошо обученными профессиональными солдатами. Крепости стали первыми городами Англии. Благодаря им англичане перестали быть сельским народом. Английский историк А. Л. Мортон, отмечая роль короля в деле просвещения, пишет: «Альфред приглашал ученых из Европы… и, будучи средних лет, сам научился читать и писать по-английски и по-латыни – подвиг, которого Карл Великий так и не смог совершить во всю свою жизнь. Он жадно стремился постичь все знания, которые только мог дать ему его век; если бы он жил в более просвещенную эпоху, он обладал бы, вероятно, подлинно научными взглядами. Человек слабого здоровья, никогда не знавший, что такое длительный мир, он проделал чрезвычайно большую работу, об основательности которой можно судить по долгому периоду мирного развития, последовавшему за его смертью».[122]
Англичане усвоили уроки викингов. Целеустремленные и последовательные в достижении целей, они отвоевали пространства у недругов и природы, успешно справляясь с нелегким делом колонизации земель. По мнению Р. Леннарда, в Англии уже в англосаксонский период было освоено больше земель, чем за все последующие столетия. А чтобы читатель представил себе масштабы той колоссальной работы, которая проделана английским крестьянином «на ниве цивилизации», достаточно сказать, что общая площадь пашни в 1086 г. была в Британии немногим меньшей, чем в 1914 г. Материальные основы цивилизации, иначе говоря, заложены почти тысячу лет тому назад.
Французский историк Гизо писал: «Всем известно первоначальное происхождение свободных учреждений в Англии; всем известно, каким образом в 1215 г. союз высших баронов исторгнул у короля Иоанна великую хартию (Magna Charta). Менее известно то, что хартия эта с редким постоянством была подтверждаема большинством королей. Между XIII и XVI вв. насчитывается более тридцати таких подтверждений. Кроме того, к ней прибавлялись новые статуты, которыми она поддерживалась и развивалась. Поэтому она жила, так сказать, без перерывов и промежутков».[123] Класс феодалов сумел силой вырвать у короля свои права и свободы.
Могущество англо-саксов проистекало не столько из «Великой хартии вольностей» («Magna charta libertatum») или государственного акта 1215 г., подписанного королем Иоанном Безземельным, не из усилий Елизаветы I с ее «золотым веком», даже не из того, что Великобритания стала в итоге «мастерской мира», «владычицей морей». Не меньшее значение имело и развитие духа железной и кровавой дисциплины, без чего деяния Британии вряд ли стали бы возможны. Известную роль сыграла и свобода, хотя свободе также нужны границы и правила, что выполняются всеми без исключения.
Кабинет космографа. Рисунок XVI в.
В среде крестьянства усиливается осознание его значимости, зреет понимание, что именно за счет их трудов живут и процветают «благородные сословия». Даже в сервильной по звучанию «Песне земледельца» (XIV в.) крестьянин говорит, что «вся рыцарская спесь опирается на труд бедняка». И хотя кое-где на гравюрах рыцарь, священник, крестьянин изображены получающими от Господа предметы, соответствующие выполняемым им функциям (рыцарь – меч, священник – библию, крестьянин – мотыгу) крестьянин понимает сколь важна его роль. В поэме Вернера Садовника «Крестьянин Гельмбрехт» полная тяжких трудов жизнь крестьянина противопоставлена бесчестной жизни рыцаря-тунеядца. Отец, увещевая непутевого младшего сына, желающего «выбиться в рыцари», с гордостью подчеркивает, что это именно их племя, мужик, а не знать «не словом – делом всех кормит в мире целом».[124]
Все это никак не меняет зависимого, рабского положения крестьян, с одной стороны, и привилегированного положения высшей знати, с другой (лордов, епископов, дворян и т. д.). Эдуард I (1272–1307), которого историки называют «британским Юстинианом», принял три важных Вестминстерских статута, упрочивших положение феодального дворянства. Третий статут 1290 г. гласил, что принадлежавшие ранее крупным феодалам земли, попавшие в собственность другим держателям, могут быть в свою очередь проданы полностью или по частям, но только при условии сохранения интересов главного лорда. Это сделано в целях недопущения дробления земель..[125]
Неумолимо и жестоко осуществлялся курс на закрепощение и удержание труженика в одном месте. Один из статутов (Statutes of the Realm), принятых королем Ричардом II (1388 г.), гласил: «Подтверждаются все статуты о ремесленниках, рабочих, слугах и продавцах съестных припасов, изданные как в это царствование, так и в предшествующее, во всех их подробностях. И кроме того постановлено с общего согласия, что ни один слуга или рабочий, будь он мужчина или женщина, не должен уходить по окончании своего срока за пределы (земель), где он обитает, чтобы служить или обитать на другом месте или под предлогом отправления далеко на богомолье, если при нём нет свидетельства, в котором указаны причины его ухода и время, когда он вернется, если он должен вернуться, за печатью короля…»[126]
По английской истории можно изучать все достоинства и пороки буржуазной цивилизации, как по лицу представителей семейства династии Габсбургов. А вот с чем никак нельзя согласиться, так это с попыткой иных ученых представить историю Британии фантастическим образом, уподобляя ее белоснежным одеждам «девственницы». Английский историк XIX в. Г. Бокль пишет: «Так как в Англии ход цивилизации был более правилен и менее подвергался колебаниям, чем в какой-либо другой стране, то тем необходимее становится, излагая ее историю, прибегать к тем средствам, на которые я указал. Истинное значение английской истории состоит в том, что здесь наименее направляли народное развитие, как в хорошую, так и в дурную сторону. Но самый факт, что наша цивилизация сохранилась этим средством в более естественном и здоровом состоянии, обязывает нас изучить те болезни, которым она подвержена, при пособии наблюдения над другими странами, где эти болезни более созрели».[127] Смеем утверждать, что по части всякого рода общественно-типологических «болезней» и «язв» у Англии – полный их набор.
Здесь веками ведут спор слабоумие с жестокостью, глупость с коварством, извращенные пороки с невежеством. Не пышные розы должны украшать фамильные гербы английских рыцарей и знати (если не иметь в виду «войну Алой и Белой роз»), а кинжалы, черепа, Тауэр. Гибелью династий Ланкастеров и Йорков завершилась «война роз». Лучшие умы английской нации (Т. Мор и др.) были преданы смерти. Целые народы (собственные и чужие) уничтожались в Англии без малейших сожалений и колебаний. Нигде власть не проявляла такой безумной, дикой и изощренной тирании, столь подлого коварства, как в Британии. И это Бокль называет: «более естественным и здоровым состоянием»?!
Лучшее описание «достоинств» британской элиты дал шекспировский Малькольм, сын шотландского короля Дункана, когда в разговоре с Макдуфом выявляет сущность Макбета (и английской знати):
Согласен: он жесток, распутен, лжив, Коварен, необуздан и повинен Во всех семи грехах. Но нет границ Разгулу моему. Мои желанья Не знают удержу. Еще сильней Мое корыстолюбье. Из корысти Переказнил бы я всю знать страны, Чтоб отобрать ее дома и земли. Чем больше б я сокровищ загребал, Тем только б становился ненасытней И заводил бы с лучшими людьми Суды и тяжбы ради их богатства…[128](пер. А. Аникста)
Многие из этих «достойнейших качеств» и продемонстрировал английский король Генрих VIII (1491–1547), известный главным образом тем, что при этом короле в Англии была проведена Реформация, осуществлена секуляризация монастырей, приняты законы против крестьян, а церковь перешла ему в подчинение (Генрих стал главой англиканской церкви). Эта фигура вызывала болезненный интерес у читателя в связи с тем, что Генрих VIII получил прозвище «Синей Бороды» (2 из 6 его жен умерли на плахе). Нас мало интересует анализ «взаимосвязи человеческой природы, сексуальности и политики» (Д. Лоудз), хотя судьбы государств нередко тесным образом связаны с браками.
Ганс Гольбейн Младший. Генрих VIII.
Генрих VIII – один из главных экспансионистов и завоевателей того времени. Несмотря на то, что Англия и Уэльс в начале XVI в. имели население всего 3 миллиона человек, он трижды осуществлял вторжение во Францию, население которой равнялось примерно 14 миллионам (не считая 30 миллионов на территориях императора Карла V). Годовой доход Генриха составлял лишь малую часть дохода его главных соперников (будучи меньше доходов Португалии и чуть больше доходов Дании). Это не помешало ему бросить вызов всей Европе. Профессор Д. Лоудз так объяснял эту политику: «Английская корона была традиционно сильной и лучше приспособленной к мобилизации ресурсов, чем остальные современные государства. Более того, английский народ отличался ксенофобией и был вызывающе независим, так что иностранная интервенция всегда должна была пресекаться, независимо от обстоятельств. Однако король должен был также завоевать свою долю доверия. Это он создал флот, такой же большой и хорошо вооруженный, как и у его соперников, гораздо лучше организованный, который контролировал Ла-Манш и Ирландское море и успешно отразил одну серьезную попытку вторжения Франции в 1545 году. Это он создал двор, который во многих отношениях затмевал двор императора и соперничал с французским во всем, за исключением масштабов. Обстоятельства словно сговорились, чтобы покровительствовать ему».[129] Обстоятельства помогают сильным.
Джон Кабот – «первооткрыватель» Канады.
Что же касается всяких там «свобод и демократий», то вот как отреагировал Генрих на отказ просветителя Мора присягнуть королю в качестве главы церкви. Он приказал карманному парламенту казнить вольнодумца. Приговор суда (1535) гласил: «Вернуть его (авт. – Т. Мора) при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр, оттуда влачить по земле через все лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умер, отрезать половые органы, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту».[130]
Как видите, верховные властители Британии не очень церемонились даже с влиятельными лордами и канцлерами. Что уж говорить о простом народе… Во время восстания У. Тайлера (1381) его предводитель подъехал к Ричарду II с просьбой, веря в его порядочность. Тайлер говорил: в Англии больше не должно быть сервов и все должны быть свободными и равными, никакой лорд не должен господствовать над общинами, все люди должны быть равны перед законом, а собственность и богатства церкви нужно разделить в зависимости от нужд народа в каждом приходе. И что же? Предводителя восставших смертельно ранили на глазах короля после того, как тот клятвенно обещал удовлетворить все права общин. А народу Ричард заявил: «Уот Тайлер посвящен в рыцари, ваши требования удовлетворены». «Он его посвятил!» По приказу короля слуги ворвались в больницу и безжалостно отрубили предводителю восстания У. Тайлеру голову (затем, вонзив в нее копье, показали суверену).
Убийство Уота Тайлера. Миниатюра из «Хроник Франции и Англии» Фруассара, т. II. Ок. 1460 г. Британский музей, Лондон. Слева – убийство Уота Тайлера мэром Уолуорсом в присутствии короля Ричарда II, справа – обращение короля к восставшим крестьянам.
Начались массовые огораживания. В нищете огромная масса трудового населения Англии. Это один из самых кошмарных периодов в истории страны. По сути дела, десятая часть населения страны оказалась полностью выброшена из жизни (300 тысяч человек). Среди них – крестьяне, лишенные своих наделов, солдаты, оказавшиеся не у дел в результате разгона личных армий феодалов, те, кто ранее находил приют в монастырях и аббатствах. Как пишет Т. Мор в «Утопии», им пришлось «воровать и попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать». Власти приравняли «упрямых нищих» к преступникам. Парламент Англии принял закон, по которому эти люди подвергались бичеванию кнутом (1531). Через пять лет закон еще более ужесточили. Каждому, кто был вторично уличен в попрошайничестве, отрезали ухо. Если же бедняга попадался в третий раз – его попросту вешали. В 1547 г., в первый год царствования короля-мальчика Эдуарда VI, был принят закон, по которому любому, кто не работал хотя бы в течение 3 дней, на груди выжигали раскаленным железом клеймо. Их превращали в рабов, уродовали клеймом лица, а то и убивали. Эти несчастные скитались по стране, преследуемые, словно бешеные псы. Порой они горестно пели:
Мир стал не тем, каким он был, Но изменился он лишь к худшему: Он богачу принес добро, Бедняк же стал еще несчастнее.Английский народ отвечал на такую вот «гармонизацию» и «демократизацию» волнениями и восстаниями. Бунты против безземелья и огораживаний имели место в Норфолке в 1527, 1529, 1537 годах. Слышны призывы, обращенные к беднякам – объединиться, вооружиться и повести дело к тому, чтобы «джентльменов осталось не больше, чем белых быков» (которых никогда и не разводили в Норфолке). Кто же развел столь вопиющую народную нищету? Вина лежит все на тех же «цивилизаторах», которыми восхищался Г. Бокль.
Всю Англию всколыхнуло восстание 1549 г., во главе которого встали предприниматели и землевладельцы Роберт и Уильям Кеты (кожевенник и мясник). Повстанцы избрали Роберта Кета своим руководителем (под Большим дубом). Обращаясь к восставшим, Р. Кет громогласно заявил: «Теперь вас попирают и угнетают богатые джентльмены и не дают вам подняться на ноги. Богатства рекой текут в сундуки ваших лендлордов, в то время как вы доведены до нищеты и питаетесь, как животные, горохом и овсом. Лендлорды стригут вас в своих личных выгодах, кроме того, на вас лежит тяжесть государственного бремени. В то время как богатые богатеют, из вас высасывают все соки. Ваши тираны – хозяева часто обвиняют, арестовывают и бросают вас в тюрьму; это дает им возможность еще больше запугивать вас, мучить вас морально и держать вас более прочно в повиновении. А затем они оправдывают эти позорные действия справедливым требованием закона и власти». В этой речи в весьма сжатой форме дана исчерпывающая картина беззакония властей.
Восставшие нанесли ряд поражений войскам лендлордов и купцов. Попытки властей обмануть восставших успеха не принесли. Кет с достоинством отвечал королевскому посланнику: «Короли и принцы прощают преступников, а не невинных и справедливых людей; мы со своей стороны не сделали ничего дурного и не виновны ни в каком преступлении». Восставшие проявили большое благородство. Никто из воров-лендлордов не был казнен. Их только штрафовали и упрятывали ненадолго в тюрьму. Всего-навсего. Крестьяне проявили заботу и о судьбе государства: «Государство сейчас почти совершенно разрушено и из-за лености господ ежедневно приходит в еще больший упадок. Мы намерены восстановить его прежнее достоинство и поднять его из тех жалких руин, в которых оно так долго лежит, и мы все достигнем этого своими теперешними действиями, или, как это случается с храбрыми и отважными людьми, мы будем смело сражаться, рискуя нашими жизнями, и, если будет необходимо, погибнем на поле боя. Свобода может сильно страдать от угнетателей, но никогда ее священное дело не будет предано нами». Против восставших бросили войска наемников графа Уорика (одного из главных бандитов, сказочно разбогатевшего на реформах и огораживаниях). Крестьяне стояли насмерть, заявляя: «Лучше мужественно умереть в сражении, чем быть перебитыми, как овцы, во время бегства». После их разгрома лендлорды подвергли повстанцев жесточайшим пыткам, повесив на Дубе реформации.[131]
На этом фоне протекала жизнь и деятельность мыслителя, гуманиста и политического деятеля Томаса Мора (1478–1535). Впоследствии его будут называть «человеком на все времена», «голосом совести» Реформации, «одним из трех великих творцов английского Ренессанса», «наиболее привлекательной фигурой начала шестнадцатого века». Слава Т. Мора перешагнула границы его времени. Его признали друзья и враги, а Римская католическая церковь даже причислила его в 1886 г. к лику блаженных (в 1935 г. – канонизировала).
Выходец из семьи адвокатов, Т. Мор учился в лучшей школе того времени, Школе Св. Антония. С 12 лет он был представлен ко двору кардинала Джона Мортона, архиепископа Кентерберийского и лорд-канцлера Англии. Его направляют учиться в Оксфордский университет. Это был центр гуманизма той эпохи (в колледже преподавали известные личности открывая перед студентами прекрасный мир античности). С 1494-го по 1502 год Томас по настоянию отца изучает юриспруденцию в специальных школах Лондона и становится адвокатом. Вскоре юноша знакомится с Эразмом Роттердамским (ставшим на долгие годы его верным другом). Эпоха короля Генриха VI (1422–1461) создала предпосылки для развития в стране серьезной системы образования (при нем возникли Итон и Королевский колледж в Кембридже). Каждый крупный гуманист пытался внести вклад в развитие системы образования. Линакр (1460–1524), у которого учился Мор, был известным врачом, создателем Королевского Медицинского колледжа. Природа наградила Мора блестящими талантами. Он прилежно изучал классиков, гуманитарные науки, поэзию, музыку, юриспруденцию. Юноша готовил себя к духовной карьере (приняв епитимью, в течение 30 лет носил «власяницу», сняв ее накануне казни). Затем благочестие Мора приняло более мягкий характер: он предпочел стать «честным мужем, чем нечестным священником». От церкви его отвратило лицемерие ее самых высших иерархов.
Мор вскоре обнаружил, что мир полон несправедливости: «Всюду скрежет ненависти, бормотанье злобы и зависти, всюду люди служат своему чреву, – главенствует над мирской жизнью сам дьявол». Этот духовный протест стал прологом его борьбы.
Мор – автор «Утопии» (1516), где показан народ, доведенный мудрым правлением «до такой степени культуры и образованности», что превосходит прочих смертных. В этой сказочной стране люди обязаны с детства овладевать навыками земледелия – отчасти в школах, отчасти на ближайших к городу полях. Кроме земледелия каждый должен изучить какое-либо специальное ремесло, унаследуя по большей части дело отцов. Обязательный шестичасовой рабочий день оставлял достаточное количество времени и для научных изысканий. Утопийцы имели обыкновение устраивать ежедневно, по утрам, публичные лекции (своего рода «открытый университет» для взрослых). Высшего рода занятием среди утопийцев считалось занятие наукой. Причем, наиболее способным они навсегда даровали освобождение от ремесленного труда – «для основательного прохождения наук».[132] Мор состоял в дружбе и с Эразмом Роттердамским.
Семью он называл важнейшим общественным институтом. Будучи дважды женат, Мор сумел обрести в женах, дочери, сыновьях духовную опору, источник жизненной силы. Он писал любимице-дочери: «Я уверяю тебя, что скорее откажусь от всех своих обязанностей, расстанусь со всеми своими планами, чем допущу, чтобы дети выросли невежественными и праздными – а среди них у меня нет никого дороже тебя, моя любимая дочь». Мор верил в то, что «дети – подарок Господа родителям, самому Господу и всей нации». Свою семейную жизнь он выстраивал по примеру платоновской «Академии». Семья представлялась ему «моделью семейного счастья для всех времен». Его дом стал, по сути дела, как бы образовательным институтом, где он учил членов семьи чтению, пению, игре на музыкальных инструментах, пониманию философии, религии и т. д.[133]
История феерического взлета Т. Мора на вершину власти и последовавшего затем падения могла многому научить тех, кто и сам не раз размышлял над дилеммой – заняться ли политикой или посвятить себя наукам. Когда кардинал Уолси впервые представил Мора новому королю Генриху VIII, тот был им буквально очарован. Не будем перечислять всех постов и миссий, что возлагал на него король. Мор-дипломат в полной мере проявил свои способности на переговорах в Камбре, когда он спас Англию от участия в континентальной войне. Он стал членом парламента, заместителем шерифа Лондона, Государственным казначеем, спикером Палаты общин. Далее, как пишет К. Уотсон, автор эссе о Томасе Море, его избрали ректором Оксфордского (1524) и Кембриджского (1525) университетов, назначили канцлером герцогства Ланкастер (1525), а затем лорд-канцлером и даже главным советником короля (1529). Мудрый Томас упорно не желал занимать последний пост, понимая, сколь ненадежна и переменчива судьба советника властительной особы… Нет более тяжкой доли, нежели выступать с советами для сановных особ, лишенных ума, полных самомнения, неспособных слушать никого, корме себя самого.
Вскоре он понял: одно дело прислуживать королям или парламентам, и совсем другое – честно служить интересам государства и народа! Находясь более 20 лет на службе короля, он оставался слугой нации…
Мор считал, что королю нужно воздавать кесарево, а Богу – богово. Он ратовал за строгое разделение властей, понимая, что любая бесконтрольная власть (монарха, церкви, парламента, президента) неизбежно ведет к трагедии и злоупотреблениям. От него доставалось всем ветвям власти: кардиналу Уолси, погрязшему в коррупции, священникам, которым он запретил совмещать ряд церковных постов, королевским сановникам и даже королю. Томас Мор отказался присягнуть закону о главенстве короля, дать развод Генриху VIII. Возражал он и против того, чтобы король стал одновременно главой церкви.
Какая великая и мужественная натура! Он пошел на плаху, так и не дав развода королю, утверждая приоритет закона и чести… В иные времена жалкие правители с легкостью «дадут развод» великой державе, утверждая приоритеты абсолютизма и полнейшего беззакония.
В «Утопии» им высказана мысль о прямой зависимости судеб государства от личности правителей («от правителя, как из какого-нибудь неиссякаемого источника, распространяется на весь народ добро и зло»). В книге показана жизнь английского общества, где распространено воровство, жестокие законы против воров (тех вешали повсеместно, иногда по двадцати на одной виселице). Положение крестьян отчаянное («овцы пожирают людей»). В стране существует чудовищное неравенство: на одной стороне жалкая бедность, на другой – дерзкая роскошь. Вместо высшего права – «высшее бесправие властей».
Ганс Гольбейн Младший. Томас Мор. 1527 г.
Какой же выход предлагает Томас Мор?
Руководящая роль в «Утопии» отдана избранникам («отцам»). На них возлагалась главная обязанность «заботы и наблюдения» за тем, чтобы никто не сидел праздно и усердно занимался трудом. «Простой народ с его тупой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, да ему и жизни на это не хватит, так как она занята у него добыванием пропитания». Мюнцер также призывал народ довериться «избранному», который изложит некое «откровение» и смело пойдет «во главе». В таком же духе писал Т. Кампанелла в «Городе Солнца». Здесь верховным правителем является самый ученый человек общества, знающий «историю всех народов, все обычаи, религиозные обряды, законы», знакомый едва ли не со всеми науками. Его он называет «Солнцем». На Руси также был князь Владимир (Красное Солнышко), заложивший основы обучения!
Это в некотором смысле демократическая республика (на острове Утопия), население которой занято «единым общим делом». «Братство по природе» связывает людей теснее и крепче, чем всяческие правовые соглашения. Здесь царят веротерпимость и мирные законы. Утопийцы выучены заботиться не только о себе, но и о благе ближнего. «В других местах если даже и говорят повсюду о благополучии общества, то заботятся о своем собственном. Здесь же, где нет ничего личного, утопийцы всерьез заняты делом общества». Известна фраза о нравах утопийцев: «Из золота и серебра… повсюду они делают горшки и всякие сосуды для нечистот». Не исключено, что эта фраза и побудила В. И. Ленина сделать заявление: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».[134]
Как известно, Томас Мор превосходно владел латынью и греческим. Он – автор 280 латинских эпиграмм и небольших поэм. Он переводя вместе с У. Лили с греческого «Прогимнасмата» («Школьные упражнения») и Лукиана (с Эразмом Роттердамским). Приведем лишь один из образцов его творчества, человека, о котором оксфордский грамматик Р. Уиттингтон скажет: «Человек ангельского ума и редкостной учености. Равных ему я не знаю… Человек для всех времен».
Томаса Мора, красноречивейшего юноши, эпиграмма на ученые занятия Холта. Книжечка, что ты читаешь, – благое хищение Холта. Муж ты иль мальчик, – ее «млеком детей» назови. Думаю я, по заслугам столь сладкое имя имеет Книжка, что детям несет сладкое млеко наук.[135]Итог жизни и деятельности Т. Мора подвел Эразм Роттердамский, который, узнав о его казни, заметил, что душа Мора «была белее снега, а его гений таков, что у Англии никогда не было и не будет гения подобного масштаба». Европа вскоре поняла тяжесть потери. Император Карл V сказал по поводу его казни: «Мы также не поняли Короля, и если бы у нас был подобный советник, свидетелем многих дел которого мы были все эти годы, мы бы скорее согласились потерять лучший город в наших владениях, чем потерять его». Ушел из жизни «человек на все времена». Мир лишился того, кого звали «британским Периклом».[136] Мор во многом подготовил Английскую революцию, которую некоторые историки назовут «последней революцией Средневековья», или «первой революцией Нового времени».
Слава Мора затмила славу Генриха VIII (1491–1547), более известного читателю прозвищем «Синяя Борода». Говорят, перед вступлением в брак он выглядел «как юная дева». К финалу же его не очень долгой жизни он стал похож на истасканное «пугало» (бурные романы с дамами – включая шесть жен, двух из них он отправил на плаху – дали о себе знать). Плоды его царствования довольно противоречивы.
Английский король внес заметный вклад в историю страны, осуществив курс на «Реформацию». Это действие называют «Актом о супрематии» (1534). В результате Генрих VIII был провозглашен верховным главой церкви Англии, ее протектором. Для Англии это имело немаловажное значение. Власть Папы была упразднена. Королю перешли все титулы, почести, доходы, привилегии. «Гарант законности» (не «комиссар») разгонял монастыри, учинял погромы в церквях. По его указанию обезглавливали статуи, оскверняли иконы и мощи святых. По стране прокатилась волна конфискаций церковного имущества. Оное пустили на рынок. И тем не менее историк Д. Лоудз пишет: «Мы в самом деле должны рассматривать Генриха как одного из главных политических архитекторов, превративших средневековую Англию в мощного партнера современного национального государства. И хотя он никогда не был протестантом, он также главным образом отвечает за то, что Англия к концу шестнадцатого века стала протестантским государством, а к концу семнадцатого – мировым оплотом протестантизма. Какие бы суждения ни выносились относительно его убеждений или морали, его политические свершения оправдывали его исторический статус».[137] Так вот мыслят буржуазные историки – «Цель оправдывает средства» (разгром церквей не в счет).
Правда, Генрих не очень-то преуспел в своих попытках оттеснить Францию в их вечном споре. Король, судя по всему, оказался все-таки куда лучшим «бойцом» в постели, чем на поле битвы (война с Францией обошлась стране в 2 миллиона фунтов, оставив государство в долгу, как в шелку). Когда же министр Т. Кромвель стал резко выступать против чрезмерных военных расходов, тот отправил его на плаху (1540). Возможно, он припомнил ему и его дерзкий язык. Как-то выступая в палате общин (1523), Кромвель иронично заметил: «война заставила бы нас, как уже было однажды, использовать кожу для чеканки монет. Я бы сим вполне удовольствовался со своей стороны. Но ежели король лично отправится воевать и, не приведи Господь, попадет в руки неприятеля, то как выплатить выкуп за него? Коли французы за свои вина желают получать только золото, примут ли они кожу в обмен за нашего государя?»[138] Король не забыл дерзкой аналогии. Кожу с него он не стал сдирать (зная повадки англосаксов, мог бы), но просто отрубил голову своему ближайшему помощнику. Век спустя уже другой Кромвель отплатит королю той же монетой, отправив на плаху Карла.
Остановимся на судьбе Елизаветы I (1533–1606), дочери любвеобильного Генриха VIII и сексапильной и умной Анны Болейн. Генрих, как известно, обвинил жену во всех смертных грехах. Последовал процесс. Королева Анна была казнена (1536). У нее отняли все титулы вместе с репутацией. Перед казнью она держалась с достоинством и мужеством. Святой она не была, но и счастливой тоже (хотя ее девизом и были слова «Счастливейшая из женщин»).
Обри Бердслей. Как прекрасная Изольда писала послание сэру Тристраму.
Иллюстрация для книги Т. Мэлори «Смерть Артура», 1893–1894 гг.
Все признают, что Елизавета была очень умной девочкой (читала и говорила по-латыни, по-гречески, по-французски, по-итальянски). Ее любимейшими авторами стали Цезарь, Цицерон, Демосфен, Тит Ливий, ее учителями – свободно мыслящие молодые ученые Кембриджа, преподающие в колледже Сент-Джон (У. Гриндел и Р. Эшам). К счастью, последняя жена Генриха VIII, Екатерина Парр, любила детей, сумев стать для Елизаветы заботливой матерью и учителем.
Девочка отдалась наукам со всей страстью. Роджер Эшам помогал ей переводить латинские и греческие тексты. Елизавета старалась овладеть и премудростями теологии. Любимые книги – книги по истории. Погружаясь в них, она не раз вспомнит девиз Эшама: «Науки – это убежище от страха». Дева была ненасытна в своей жажде знаний (к старым языкам она прибавила изучение испанского, фламандского, немецкого). В свободное время она, будучи прекрасной наездницей, носилась, как ветер, по полям королевства. Елизавета любила красоту и умела одеваться со вкусом (это она ввела в Англии моду на французские ажурные чулки).
Тогда проявились редкая наблюдательность и твердый характер Елизаветы. В отношении лорда Сеймура, одно время собиравшегося на ней жениться, она сказала: «Он умен, но ему не хватает рассудительности». Это в 16 лет! Прогноз оказался точен. Вскоре его арестовали по обвинению в государственной измене, отправили в Тауэр, а затем на плаху. Елизавету стали допрашивать, интересуясь, не причастна ли она к заговору. Ведь о его заигрывании было известно всему королевскому двору. Однако даже, изощренные судейские не смогли из нее ничего вытянуть, признав ее «острый ум». У нее, как отмечает историк О. Дмитриева, был удивительный нюх на умных и способных людей. Уильяма Сесила, секретаря совета. Она почтила его своей перепиской, званием друга, а затем возложила на него контроль за ее финансами. Именно У. Сесил спас ее от смерти. Он станет в ее правительстве первым министром.[139]
В Англии на престол взошла королева Мария Тюдор (1553), Мария-Католичка. Будучи полуиспанкой, Мария стала насаждать в стране католицизм. Уже в течение 20 лет Англия была протестантской страной. Выросло новое поколение, воспитанное в новой вере. Однако католичка не желала никого слушать, намереваясь вернуть церкви земли, конфискованные и переданные другим владельцам. Фанатики реформирования везде одинаковы (что в Англии, что в России). Однако народ более не желал дважды входить в одну и ту же реку. По стране прокатилось восстание дворянина Т. Уайта. Итог его печален для Елизаветы (ее упрятали в Тауэр). В стране пылали костры, на которых в муках корчились протестанты. В одном лишь Оксфорде сожгли трех епископов, сподвижников Генриха VIII в деле Реформации (Ридли, Латимера, Кранмера). Все это делало из Елизаветы если не мученицу, то бесспорно объект любви и преклонения среди простых англичан. Тогда впервые и стала зарождаться легенда о «елизаветинском веке».
В 1558 г. Мария Тюдор, получившая в истории нелестное прозвище «Кровавой», умерла. Королевой Англии вновь стала женщина. Не все были в восторге от женского правления. Мужьям, видимо, и дома вполне хватало их господства. В 1558 г. шотландский протестантский проповедник Джон Нокс разразился трактатом, который метил в «Иезавель Англии» – в ненавистную Марию Тюдор. Трактат назывался «Первый трубный глас против безбожного правления женщины»: «Допустить женщину к управлению или к власти над каким-либо королевством, народом или городом противно природе, оскорбительно для Бога, это деяние, наиболее противоречащее его воле и установленному им порядку, и, наконец, это извращение доброго порядка, нарушение всякой справедливости. Природа… предписывает им быть слабыми, хрупкими, нетерпеливыми, немощными и глупыми. Опыт же показывает, что они также непостоянны, изменчивы, жестоки, лишены способности давать советы и умения управлять… Там, где женщина имеет власть или правит, там суете будет отдано предпочтение перед добродетелью, честолюбию и гордыне – перед умеренностью и скромностью, и жадность, мать всех пороков, станет неизбежно попирать порядок и справедливость».[140] Все это Елизавета сумела опровергнуть!
Суровые уроки жизни вынуждали Елизавету действовать. Главное – ей удалось решить проблему кадров. Эта женщина оказалась во сто крат умнее и способнее многих мужчин-аристократов, опытных министров, церковных и университетских олухов, которых и тогда, замечу, хватало на политической сцене Англии. У руля Британии встала Женщина, свободно владевшая несколькими языками (включая как древние, так и современные). А у нас не то что в XVI, а и в XXI в. масса политиков только и умеют, что мычать, как бараны, да показывать все на пальцах (как аборигены). Там, где это оказывалось необходимо, она проявляла твердую решимость, где была нужна осторожность, проявляла должный такт и неспешность, где требовалось достичь экономии, вступал в силу закон бережливости.
Она же, нисколько не колеблясь, отправила на плаху шотландскую королеву-католичку Марию Стюарт (1587). В романе Э. Питаваля «Голова королевы» есть сцена, в которой Елизавета I дает понять слуге, как следует поступить с противницей: «Существует замок Фосрингай, а в нем – женщина, которая приговорена к смерти. Закон осудил ее, приговор ей произнесен и может быть приведен в исполнение, но мне противно назначить его к исполнению. – Ваше величество, вы вправе еще и теперь всемилостивейше отменить приговор! – Конечно… Но мне одинаково неприятно и помиловать виновную… Я думаю, – продолжила Елизавета, улыбнувшись при виде его изумления, – что вы поняли теперь, в чем дело. Народ хочет смерти Стюарт. Страна нуждается в этой развязке. Заключенная – слабая, больная старуха, изнывающая в долгом заточении… Если бы она умерла естественной смертью, у меня камень скатился бы с души».[141]
Сочетание деловитости, ума, ловкости, железной хватки и коварства и породило первую «железную леди» – Елизавету I. Ей обязана страна закладкой фундамента здания Британской империи. «Будущая Британская империя начиналась в Плимуте – порту на западном побережье Англии. Ее крестными отцами стали местные мореходы Уильям и Джон Хоукинсы, крестной матерью – королева Елизавета».
Как это часто бывает, в основе великого предприятия лежал денежный интерес. Хоукинс покупал в Гвинее рабов и доставлял их в Новый Свет колонистам, обустраивавших там Америку. Попытки вести торговлю с Америкой натолкнулись на сопротивление испанцев. Английские корабли были атакованы и сожжены. Скоро возник шанс отмстить испанцам. Шторм прибил к берегам Англии испанские корабли, груженные золотом (для герцога Альбы в Нидерландах). Их королева и прибрала к рукам. С Елизаветы одним из правил британской политики стало – прибирать все земли и богатства на земном шаре (особенно, если они «плохо лежат»).
Ни на земле, ни на море в то время гармонией и миром и не пахло. Время грабителей, убийц, флибустьеров, заговорщиков! Если присмотреться к иным нынешним хваленым «демократиям», увидим: меч и кулак (да еще деньги) лежат в основе права многих «цивилизованных народов» Европы! Пиратство, убийства, грабежи, насилие – вот основные методы капиталистического накопления и утверждения в недавнем прошлом как, впрочем, и ныне. Британия не была исключением из правил. Подобно тому как английские, французские, испанские пираты получали от правительств мандаты на законное ограбление судов конкурентов и противников, так нынешние бандиты и пираты из НАТО получают одобрение своих президентов, премьеров, парламентов, штабов, королей и королев, банков и компаний.
Первым корсаром, завоевавшим известность, была жившая в XIV в. Жанна де Бельвиль… Ее флотилия («Флот возмездия в Ла-Манше») грабила французские торговые суда, а добычу отправляла в Англию. Корабельная команда почти всегда истреблялась. Во Франции ее звали «кровожадной львицей». Знаменитый Фрэнсис Дрейк (род. в 1540 г.), о котором написано две сотни сочинений (куда больше, чем о всех английских педагогах вместе взятых, был дерзким пиратом, напрямую финансируемым Елизаветой, ибо та рассчитывала получить немалые прибыли от его разбоя. Жак Шастенэ так говорит о первой встрече королевы с Дрейком: «В этом человеке тридцати пяти лет, коренастом, краснолицем, белобрысом, с вульгарными манерами, она сразу же почуяла существо того же склада, что и она сама: энергичного, хитрого, англичанина до мозга костей. Согласие было достигнуто быстро». Елизавета не ошиблась, став, как мы говорим, «спонсором бандита»… Пират предоставил Англии отнятые им у испанцев сокровища, золото, секретные карты, описи товаров и т. п. Награда была поистине королевской. Ему жалуют титул барона. Каждый английский школьник знает сценку наизусть. Елизавета поднимается на борт корабля под названием «Золотистая лань», заставляет пирата опуститься на колени и берет из его рук шпагу. При этом заявляет: «Дрейк, королю Испании нужна ваша голова. Я пришла, чтобы отсечь ее». Насладившись сценой (великая актриса), она, мило улыбаясь, обнимает разбойника и говорит: «Встаньте, сэр Фрэнсис!» В 1588 г. пират назначается вице-адмиралом, а в 1592 г. уже с важным и серьезным видом сидит в английском парламенте («сенатор»). Как видите, и в почтенной монархической Англии грабителям по плечу «сенаторская мантия».[142]
Неизвестный мастер. Фрэнсис Дрейк. Лондон. Национальная портретная галерея.
Англичане называют ту эпоху «золотым веком». Правильнее было бы назвать ее «золотым веком грабежей», поскольку блеск денег заворожил буквально всех, включая и научную братию. Времена рыцарей Круглого стола минули. Стало выгоднее, почетнее перейти в ранг Морганов, Дрейков или Робин Гудов… Вот и некто Генри Мейнуэринг, окончив Оксфорд и получив диплом, решает: чем годами заниматься довольно скучными, нудными юридическими делами и крючкотворством, не лучше ли поискать счастья в ведомстве «перераспределения собственности»?! Он нанимается на корабль и быстро дослуживается до офицерского чина. Но обычная служба не обещала скорого богатства. Что делать «истинному джентльмену»? Не долго думая, он решает собрать группу «морских волков». Имя Дрейка еще у многих на слуху. Так он стал пиратом. Успех был полнейший. Вскоре он уже был богат и могущественен (к 1614 г. ему исполнилось всего-то 26 лет). К нему присоединился еще один собрат из «общества», Уолсингэм, без колебаний вступивший на путь морского разбоя, несмотря на то, что принадлежал к одному из аристократических родов Англии. Конец этой истории по-своему закономерен. Яков I официально помиловал его, заявив, что «его не обвиняют ни в каком серьезном преступлении». Англичане говорили о них так: хотя это и сукин сын, но, понимаешь ли, «наш сукин сын». Оксфордское воспитание в дальнейшем сказалось. Мейнуэринг спускает пиратский флаг, меняет шпагу на перо, садится за мемуары и научный трактат о пиратстве, посвятив оный королю. Ему и принадлежит фраза, которая могла бы стать крылатой: «В коммерческих делах нет места патриотизму».[143] Как видите, и в славных Оксфордах бывают свои пираты.
Пиратство в те времена считалось традиционным занятием лиц, которые были готовы сорганизовываться ради получения крупной наживы… Так, на Балтике действовали «Братья-разбойники» (Victual Brothers), напоминавшие организацию рыцарей-тамплиеров. Их девизом было – «Бог нам друг, а весь остальной мир – враг», и грабили они всех подряд. Английские купцы не брезговали никаким «грязным промыслом» – будь то пиратство или работорговля. Хотя король Альфред издал закон, ограничивавший возможности работорговли, в XI в. (да и позднее) купцы скупали рабов по всей Англии для продажи их в Ирландию. Запрещалось лишь продавать собственных детей в рабство иностранцам. Что же касается грабежей и разбоя, тут англичане всегда были большими мастерами и искусниками! Не только «белые вороны», но и вполне приличные джентльмены, купцы, ученые, даже слуги церкви этим не чурались. Вспомним, как в романе Стивенсона «Остров сокровищ» почтенный сквайр Трелони говорит о пирате Флинте тоном глубочайшего уважения, отчасти смешанным с величайшим восхищением: «Горжусь, что мы принадлежим к одной нации!»
О том, что английское общественное мнение всегда смотрело и смотрит сквозь пальцы на источники обретения богатств, говорит следующий факт. Некий моряк из Винчелси преспокойно захватил судно собратьев-торговцев из Дорсетшира (совершил уголовный акт). Это ничуть не помешало ему спустя несколько лет занять пост мэра в родном Винчелси (а мы удивляемся, что в России кое-где воры и бандиты преспокойно занимают кресла мэров). В XV в. некоего кентерберрийского аббата обвинили в ограблении судна с грузом вина. Его, правда, заставили вернуть награбленное, но сана не лишили, сочтя сей грех вполне безобидной шалостью (или, на худой конец, «искушением сатаны»).[144]
Королева Елизавета I: период царствования – с 1558 по 1603 г.
То было время дерзновенных приключений и захватов… Кто успел, тот и съел. Кто пришел первым к добыче, тот и получил её. Если же добыча была у другого, более слабого, её следовало отнять. Закон джунглей. Историк Р. Хаклюйт в своем трактате выражал надежду на то, что пришел час англичан основать империю. Он уверенно заявлял: «подходит наше время и теперь мы, англичане, можем разделить добычу, если мы этого сами захотим…».
Всего за пару десятков лет «птенцы Елизаветы» донесли флаг своей страны (с красным крестом св. Георгия на белом фоне) до отдаленных уголков мира. Философ, поэт и моряк Рэли открыл Гвиану, прошел через дебри Амазонии и Ориноко в поисках легендарного Эльдорадо. Английские купцы из Московской компании отыскали сухопутный путь через Московию в Персию. Лоцманы и моряки достигли загадочной Сибири и рассказали европейцам о реке Обь. Другие обследовали северную оконечность Америки, дошли до Гренландии. Дж. Ньюбери двинулся на Восток (через Сирию, Ормузский пролив, развалины древнего Вавилона – в Гоа, Индию и Голконду).
Королеве Елизавете и ее сподвижникам удалось воспитать в нации дух уверенности в своих силах, дух бойцов-победителей. Никакого пораженчества, никаких хныканий! И когда наступил грозный час испытаний – вся Англия встала на защиту родины против той самой «Великой Армады». Российский историк пишет: «По всему побережью от Девона и Дорсета до самого Кента один за другим загорались сигнальные огни, пробиваясь сквозь туман и оповещая Англию о том, что настал долгожданный и страшный час испытания. Графства поднимались по тревоге, старики и мальчишки облачались в кирасы. Вот когда Елизавета могла с гордостью сказать, что не напрасно верила в своих подданных и что ее политика религиозной терпимости оправдалась. В момент национальной опасности вокруг нее сплотились все. Уолтер Рэли, мореплаватель и царедворец, писал в те дни: «Пусть ни один англичанин, какую бы религию он ни исповедовал, не думает об испанцах иначе как о врагах, которых он должен победить во имя нашей нации». Все ополчились против общего врага, и не стало ни католика, ни протестанта.
С её эпохи родился и клич: «Правь, Британия, морями!» Оказался устранен едва ли не главный религиозный и геополитический противник – католическая Испания. Англия стала страной суверенной (недаром Елизавету прозвали «леди-суверен»). Она никогда не забывала о своей главной миссии – сохранении и упрочении величия Британии. Король Яков считал, что она «в мудрости и счастливом управлении превзошла всех государей со времен Августа». Кромвель ностальгически вспоминал «славной памяти королеву Елизавету». Конечно, и у нее были свои маленькие слабости. Но не будем лицемерами, ведя себя подобно перезрелой девственнице, на невинность которой никто так и не покусился. Любовь и увлечения – это человечно (лучше войн и грабежа). Р. Сесил как-то сказал: «Она, пожалуй, была больше, чем мужчина, но меньше, чем женщина».
В ее правление многие подданные стали жить заметно богаче. Те из англичан, кто еще не успел разбогатеть, стали увереннее смотреть в будущее. Особо отмечу ее доброе и уважительное отношение к народу. Народ всюду и везде похож на большое и доверчивое дитя. Верховная власть часто воспринимается им в образе отца и матери. Он запоминает ее поступки, перенимает манеру ее поведения. Это учла королева. Оставим легенду о ее девственности, что стала «краеугольным камнем пропагандистского мифа о Елизавете» (почитание непорочной девы Марии имеет давнюю христианскую традицию). Важнее то, как сумела она использовать сей миф. Сознание народа наделяло английских королей магическими свойствами. Согласно старым кельтским верованиям, они могли являть мистическую силу, исцеляя больных людей. Раньше это считалось исключительно привилегией королей-мужчин (до XVI в.) и не распространялось на королев. Вслед за своей сестрой королевой-Марией к этому эффектному пропагандистскому приему прибегла Елизавета, регулярно устраивая встречи с народом она, на Пасхальной неделе, в чистый четверг, по примеру Иисуса Христа, совершала омовение ног такому количеству бедных женщин из народа, сколько ей на тот момент исполнилось лет (миниатюра работы Л. Тирлинг удачно изображает эту сцену). Елизавета опускалась перед ними на колени, омывала им ноги в серебряном тазу с ароматической водой и цветами, вытирала, целуя при этом каждую ступню и осеняя ее крестным знаменем. В конце церемонии женщины получали по куску сукна на платье, паре туфель, стакану вина и кошельку с деньгами. Не мудрено, что многие в Англии говорили о ней так: «Она – наш земной бог!» Народ же попросту называл ее «доброй королевой Бесс».[145] Конечно, в этом «романе с нацией» был точный политический расчет.
Среди достоинств английской нации я бы назвал её трепетное и ревностное отношение к Union Jack («государственный флаг», «родина»). Елизавета показала, как надо отстаивать национальные интересы. Предателей же, нарушивших эти интересы, она, не колеблясь, отправляла на плаху или в Тауэр. Туда им и дорога… Лорд Болингброк с уважением писал: «Она унаследовала страну, кишащую всяческими фракциями. Но те и по своему влиянию, и по опасности, которую представляли, были иными, нежели фракции наших дней. Нынешние фракции рассыпались бы в прах под одним её дуновением. Правда, она не могла их объединить: паписты оставались папистами, пуритане – пуританами; одни неистовствовали, другие были себе на уме. Но она объединила всю массу народа на почве своих и их собственных интересов. Она зажгла его единым национальным духом и, вооруженная этим, поддерживала спокойствие в стране, приходя на помощь друзьям и сея ужас и страх в стане врагов. При ее дворе были заговоры и бурно интриговали ее министры. Говорят, что она не противилась их существованию. Однако она не давала распрям выйти за пределы двора. Интриги не расползались по всей стране, сея раздоры в народе. Ее любимец граф Эссекс поплатился за это головой…».[146] Может оттого и сильна Британия, что в ее дворцах до сих пор блуждают тени казненных фаворитов и претендентов на трон! Власть, особенно если ей не хватает культуры и воспитания, всегда должна ощущать присутствие «всадников смерти»!
Общие экономические и политические итоги ее правления ощутимы. Потерпела поражение Непобедимая армада, рассеянная океаном. С её царствования началась мощная экспансия Англии по всему миру (от Америки до Азии и Африки). Елизавета сплотила протестантские силы, что в условиях противоборства католического Юга против протестантского Севера было непросто и крайне важно с точки зрения геополитики. Не зря же ее будут называть «протестантским папой». Если оставить в стороне естественные для женщины слабости (а она была твердо убеждена, что и после 60 лет могла внушать мужчинам пламенную к себе страсть), это безусловно была выдающаяся личность. В её царствование явился Шекспир.[147]
Ее трон унаследовал Яков VI Шотландский (1603–1625). Как «чужаку», ему пришлось нелегко. Чтобы быть хорошим королем, недостаточно быть мужчиной. Король начал, впрочем, с решительных мер. Во-первых, он запретил нещадное ограбление крестьян. Время было неспокойное. Купцы всё еще занимались скорее пиратством, чем торговлей. Грабежи испанских «серебряных галионов» приносили англичанам баснословные богатства, превосходящие в сумме всю прибыль от законной торговли. Когда Яков заключил мир с Испанией, изгнав из портов пиратские корабли лондонских купцов, заправилы Сити затаили обиду и ненависть на короля.
Не следует думать, что в Британии не было законов. Законы были, и очень даже свирепые (особенно, когда они обращены против бедного народа). Отнимая землю у крестьян под овечьи пастбища, аристократы и богачи щедро «награждали» своих вассалов. В первый раз поймав за просьбой милостыни, их привязывали к телеге и стегали плетью до крови, помещая в колодки. Поймав во второй раз, секли пуще прежнего и отрезали ухо. За третью попытку их клеймили и продавали в рабство. В четвертый раз награждали и вовсе по-царски – бедняг вешали!
Нам предстоит висеть в ночи, Качаясь над землею, А нашу рухлядь палачи Поделят меж собою.В повести-сказке «Принц и нищий» М. Твен описывает времена короля Эдуарда VI (1553). Легенда гласит, что тот пользовался симпатией народа. Однако нравы даже той «доброй и старой Англии» красноречивы. Один из нищих героев повести говорит: «Я – Йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем… Жена и ребята померли; может, они в раю; а может, и в аду, но только, слава богу, не в Англии! Моя добрая, честная старуха мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб; один больной умер, доктора не знали отчего, – и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон! Поднимите чаши! Все разом! Веселей! Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада! Спасибо, братцы, спасибо вам всем! Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собою голодных ребят; но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах… Выпьем еще раз за милосердный английский закон! Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки… ну, ясно, пока меня, по закону, гоняли плетьми из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы, – один только глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла!.. наконец меня продали в рабство – вот на моей щеке под этой грязью клеймо… Английский раб! Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают – будь проклята страна, создавшая такие законы! – я буду повешен».[148]
Шло время. Рыцари наживы стали предпочитать фамильной шпажонке и пиратскому флагу векселя и билеты акционерных компаний. Хозяйственно-коммерческая деятельность требовала знаний иного рода. Буржуа посылают сыновей учиться уму-разуму не у схоластов Оксфорда, а в лондонские или манчестерские компании. К примеру, из 125 учеников, принятых в компанию купцов Ньюкастла (за 1625–1635 гг.), 42 были сыновьями йоменов, а в 40 случаях их родители называли себя «джентльменами». В Англии возникают «школы бизнеса и коммерции». Успехи подобного обучения очевидны. В 1600 г. основана Ост-Индийская компания, «соединившая под своим владычеством более подданных, чем все королевство Англии» (Т. Н. Грановский). К тому времени состояние английских джентри в три раза превышало состояние пэров, епископов, зажиточных йоменов и деканов капитулов вместе взятых.[149]
Хартия Вольностей заложила основы конституции (с 1215 г. парламент укрепил власть). Палата общин с XVI в. стала важнейшей палатой английского парламента, который нарекли «матерью всех мировых парламентов». В отличие от резиденции короля, здесь собирались не столько самые сановные, сколь самые состоятельные, беззастенчивые и нахрапистые люди. Говорили, что Палата общин так богата, что могла бы уже трижды купить всю Палату лордов. Ей уже не нужны были ни король, ни лорды. Вскоре парламент покончит с вассальной зависимостью от короля, ликвидирует феодальные привилегии, и сам станет выдавать доходные должности (разумеется, с немалой выгодой для парламента).
Некоторые из его законов были разумными. Ни один налог не вводился в Британии без утверждения парламентом. Англичан приучили относиться с уважением к налогообложению. Впоследствии Б. Франклин любил повторять, что в этом мире неизбежны лишь смерть и налоги.… К началу Английской революции торгово-ремесленная буржуазия прошла уже достаточно серьезную школу (как видим, не только «трудового накопления капитала»). У народа была масса претензий к буржуазии, но все же ее деятельность, в целом, пользовалась большей поддержкой населения.
Парламент и королевская власть изменялись на протяжении веков. Французский историк О. Тьерри пишет: «Слова парламент, палата пэров, палата общин утратят тот престиж, которым они окружены благодаря свободе, коей пользуется в настоящее время английский народ. Тогда увидят, что эта свобода, плод современной цивилизации, выросла в недавнее время, выросла из общественного строя, основанного на самом антилиберальном принципе, – строя, в котором могущественная часть нации хвасталась своим иностранным происхождением и тем, что она острием меча узурпировала свои наследственные права, титулы и дворянство, строя, в котором различие между отдельными классами выражалось только расстоянием, отделяющим завоевателя от завоеванного, в котором королевская власть, по праву принадлежавшая потомству предводителя завоевателей, была, собственно говоря, не учреждением, а фактом. Из всего этого выросла современная Англия, которая почти во всем является противоположностью старой Англии. Отрезок времени, лежащий между ними, скорее представляет собой постепенное крушение насильственно установленного строя, чем медленное формирование общества, предназначенного служить примером для других… Завоевание является общим источником всех политических властей, какие существовали в Англии, начиная с XII века».[150]
Многие политики плохо знают историю… Сколько можно вдалбливать в их головы, что свобода с демократией успешно работают только там и тогда, где все и вся подчинено суровому закону, где воцаряется приоритет титульной нации (англичане, немцы или русские), когда все без исключения четко выполняют постановления всех ветвей власти. По сути дела, в Британии вот уже много веков действует жесткая диктатура короны и закона. Эти порядки должны войти в плоть и кровь нации, прежде чем настанет пора «демократии». Я уже не говорю о том, что их «демократия» стоит на пьедестале виселиц, казней, разбоя. Вместе с тем даже сильная власть не может еще служить стопроцентной гарантией успеха. Сильному телу необходима умная голова и крепкие руки.
Однако почему именно XVII в. стал тем поворотным пунктом европейской и мировой истории, с которого собственно и ведет происхождение система современных буржуазных обществ? Американский ученый Т. Парсонс, один из классиков социологии XX в., даёт такое объяснение: «Мы предпочли датировать зарождение системы современных обществ не XVIII веком, с его эволюцией в сторону «демократии» и индустриализации, а XVII веком, с его изменениями в устройстве социетального сообщества и в особенности в отношении религии к легитимизации общества».[151] Что это означает? Окунемся в жизнь английского народа, проникнуть в атмосферу эпохи, в «психологию народов» (В. Вундт).
В чем же состояло это «величие»? Порядок и благосостояние зависят от сочетания гражданских, политических, социально-экономических элементов. Социолог Парсонс в этой связи писал: «Заметное процветание Англии и Голландии в особенности, но и Франции в том числе, еще до появления изобретений, несомненно, было результатом развития рыночных систем в этих странах, что, в свою очередь, зависело от наличия политической и правовой безопасности, а также юридической практики, основанной на собственности и контракте, которые благоприятствовали становлению коммерческого предпринимательства. Английское и голландское процветание было, кроме прочего, следствием относительно слабого давления государства на экономические ресурсы при отсутствии многочисленных постоянных армий и отсутствия у аристократии резко негативного отношения к «торгашеству», характерного для большинства стран континента».[152] Однако было ли в этой стране нечто такое, что побудило впоследствии Ф. Энгельса изречь не характерные для него восторги: приходишь в изумление «от величия Англии еще до того, как вступишь на английскую землю»?[153]
Разбой, войны, торгашество и стали теми тремя китами, на которых обосновалась англосаксонская цивилизация… Вся история Великобритании (и США) – история кровавой, безжалостной борьбы за территории и рынки. Англосаксы – те же иудеи, только закамуфлированные под протестантизм (с точки зрения их философии и принципов). Алчность и злато – их истинная религия. Не случайно и истоки денежной философии Нового и Новейшего времени, известной как «меркантилизм», появились именно здесь – в Альбионе. Весьма характерным является и то, что меркантилисты сделали своим девизом древнее изречение, приписываемое иудейскому царю Соломону «Деньги всё могут». Впоследствии точно так же будет названо известное произведение меркантилиста Вандерлинта («Money answers all things», 1734). Огромное значение придавалось и торговле. Из всех методов обогащения нации (помимо откровенного разбоя, разумеется), как считал англичанин Л. Робертс, «внешняя торговля считается самым надежным и легким».[154]
Движущей силой Английской революции, «нервом буржуазных преобразований» стали кальвинисты (т. е. сторонники Кальвина). Их называли еще пуританами («чистыми»), подразумевая под этим строгость их нравов, набожность, скромность в одеждах и образе жизни. Ценности аскетического протестантизма способствовали победе Английской революции. В стране утвердился религиозный плюрализм.
Особая роль в этой идейно-классовой борьбе принадлежала Библии… Библия стала настольной книгой англичан! Поэт и критик Мэтью Арнолд (1822–1888), отмечая роль этой книги в воспитании целого ряда поколений британцев, скажет: «Тот, кто не знает ничего, не знает даже своей Библии»… Напомним о важной роли переводчика Библии, вольнодумца Дж. Уиклифа. Он стал учителем многих «бедных священников», из среды которых вышел «мятежный поп» Джон Болл, идеолог крестьянского восстания 1381 г. В конце XIV в. стали появляться социальные реформаторы в характерном религиозном обличье («бормотуны»).
Революция явилась миру в пуританских одеждах. Общество давно разделилось на пуритан и католиков. Естественно, что внутри религий шло оформление групповых интересов. Различным было отношение к вопросам культуры и образования. Король и католические священники относились с подозрением к книге и Библии. По их мнению, даже статуи и иконы – не более чем «книги неграмотных». Протестанты же видели в книге мощное орудие. «Мы привлекаем людей к тому, чтобы они читали и слушали Слово Божие», – писал епископ Джуэл. «Мы склоняем к знанию, а они (католики) к невежеству». В самом факте широкого распространения знаний иные видели средство установления социальной справедливости и народного благосостояния. В 1640 г. пала цензура. Пуритане надеялись, что с книгопечатанием распространится знание и «простой народ, зная свои права и свободы, не станет более управляемым путем угнетения». Как бы там ни было, а то, что в гущу народных масс пришли дешевые библии (с эпохи Реформации и по 1640 г. тут распространено свыше 1 млн. изданий Библии и Нового Завета) большое значение.
Книга стала лакмусовой бумажкой прогресса. Вокруг печатного слова кипели битвы. В 1628 г. Карл I чуть не задохнулся от гнева и возмущения, когда общины в Англии потребовали от него напечатать «Петицию о праве» (первое вмешательство народа в королевские прерогативы). Он возражал против того, чтоб народные массы вообще знали об этом требовании. Бурно отреагировала Палата лордов на призыв Палаты общин напечатать «Великую ремонстрацию» (в первый и последний раз в своей истории члены Парламента обнажили шпаги).
Каждый вычитывал в Библии то, что и желал прочесть. Уровень научных знаний был ничтожен, а система обучения в обществе еще только-только складывалась. К. Хилл писал в этой связи: «Низкий образовательный уровень духовенства усиливал стремление пуритан к домашней религии, к чтению Библии… Но что хуже всего, университетское образование продемонстрировало свою несостоятельность в качестве стража веры. В новом мире конкуренции, развертывавшемся вокруг, молодые люди, учащиеся университетов обнаружили, что Библия противоречит иерархическому обществу и иерархической церкви. Церковники поставляли предателей из своей собственной среды. Как только Писание было переведено на английский язык и отпечатано, ящик Пандоры открылся… Библия явилась разделяющим фактором в обществе, где копилось социальное напряжение».[155]
Таким образом и пуританская вера зачастую черпала энергию, энтузиазм, даже идеи в учении Христа-революционера! О роли Библии в жизни английского общества говорил в «Опыте о нравах» и философ Вольтер. Он писал: «Во времена Кромвеля место всякой науки и литературы занимало подыскивание текстов из Старого и Нового Заветов и применение их к политическим распрям и самым жестоким революциям». Время требует новой Библии справедливости!
Из той плеяды пуритан выйдут герои Английской революции, а также «отцы-пилигримы», основавшие первые поселения в Америке. О них не скажешь, что они «купались в деньгах». Благодаря их влиянию, мужеству, энергии и решимости английскому парламенту удалось отстоять принципы законности и правопорядка, приняв в 1719 г. знаменитый «Закон против мошенничества и спекуляции». Для иных стран и парламентов спустя три века ноша эта оказалась непосильной. Нет той строгости, мужества, патриотизма, нет элементарного здравого смысла. Английское пуританство «дало образцы массовой целеустремленности, методичности», а также «превратилось в суровую школу самодисциплины, перевоспитания и преобразования духовного облика своих приверженцев». Протестанты Англии и Голландии проявляли интерес и к работам иноверцев. В XVII веке в Оксфорде выходит повесть суфийского мыслителя XII в. Абу Ибн Туфейля «Философ, воспитавший себя сам» (1671). Через год ее печатают и в Амстердаме. Что заинтересовало в ней протестантский «истеблишмент»?
О. Домье. Хороший отец преподает сыну урок нравственности. 1847 г.
Некая идея, недоступная «новой элите» в России. Власть и деньги (в любом нормальном обществе) должны все же хоть как-то соответствовать культуре, образованию, воспитанию. В аннотации книги, объяснявшей её нужность и важность, было сказано: «Повесть о Хайе ибн Йокдане, индийском принце, или Сам себя обучивший философ», в которой показывается, с помощью каких шагов и ступеней человеческий разум усовершенствованный тщательным наблюдением и опытом, может достичь познания природных явлений и через них прийти к открытию вещей сверхприродных, особенно Бога, и вещей касающихся другого мира». Публикация повести Ибн Туфейля окажет заметное воздействие на становление жанра «робинзонад» (Д. Дефо).[156] Впрочем, читатель наверняка «поймает автора за руку», и указав ему его же собственные страницы, где он показал бандитское происхождение капитала и буржуазной элиты Англии.
Всё, это не отменяет высокой оценки пуритан, которые пытались воспитывать людей в строгости и благочестии. Дисциплина, меркантилизм и практицизм – вот Столпы, на которых держалась система обучения. Так, правила Сидни-Сассекского колледжа при Кембриджском университете, куда поступил учиться будущий протектор О. Кромвель, запрещали студентам ношение длинных или завитых волос, пышных воротников, бархатных панталон и прочих украшений, равно как и посещение городских таверн, увеселительных заведений и т. п.
За годы революции кардинально изменился вчерашний простолюдин. Ранее его (этого «великого немого») всерьез не воспринимали короли, парламенты, дворяне и церковники. В эпоху же гражданской войны он (повсюду, не только в Англии) решительно и грозно выдвинулся на авансцену мировой истории. Однако, чтобы нагляднее объяснить, что означало появление пуритан (во главе с Кромвелем и сподвижниками) для различных сфер – политики, управления, культуры, науки, образования – придется отойти от сухих оценок и обратиться к отдельным личностям и судьбам. Что представляли собой эти реальные англичане тех времен («без румян и прикрас»)?
Им присущи черты новаторства и бунтарства, избранничества и мессианства. Так было едва ли не с каждым великим народом, вступившим на путь исторических свершений. Он старается возвыситься над остальными. Ранняя сепаратистская «тайная церковь» Р. Фитца (1567–1568 гг.) видела в Англии подобие Израиля, которому благоволит Бог. Милтон считал, Бог дал откровение «согласно своему обычаю, сначала своим англичанам». Многие открыто говорили о том, что англичане – избранный народ, а Дж. Эймлер в примечании одной из своих книг утверждал: «Бог – англичанин» (1559). Т. Картрайт благодарил Бога за то, что тот, «минуя многие другие нации… доверил нашей нации» Евангелие (1580), а Дж. Лили в том же году и вовсе настаивал на том, что «живой Бог – это только английский Бог». Такого рода люди, в основном, и составили духовно-энергетический центр Английской революции.[157]
В Британии революция не предварялась идейными движениями (как это было во Франции). Никто не ставил задачу создания и «Энциклопедии». Зато всюду шла образовательная работа, публиковались переводы мировой классики. Усилия нации обращены в двух направлениях: 1) создание широкой системы образования; 2) воспитание грамотной, профессиональной элиты. Выделим период с 1480 по 1660 годы. К началу периода в десяти графствах (взятых наугад) было открыто 34 школы, а к 1660 г. уже действовало 305 школ и ещё 105 было учреждено, но ещё не функционировало. К концу периода в стране имелась одна «граммар скул» на 4 тысячи 400 человек. Даже в отдаленной местности (типа Йоркшира) любой ребенок мог ходить в школу, находившуюся не дальше 12 миль от дома. Свою лепту внесли церковники. Во многих приходах святые отцы взяли на себя подготовку талантливых мальчишек, обучая их латыни и готовя к поступлению в университетские колледжи. Более всех от такой политики выигрывали сыновья йоменов, мелких торговцев, ремесленников.
То, что происходило в Англии, без преувеличения можно назвать «культурной революцией». О её значении говорил и профессор истории Принстонского университета Лоуренс Стоун: «Между 1540 и 1600 гг. случился в английской истории один из тех знаменательных сдвигов, в ходе которого классы собственников сумели заметно умножить, повысить и обогатить высший образовательный ресурс нации. Совершив эту важную работу, они тем самым обосновали и закрепили за собой право на власть в новых условиях современного государства, а также смогли перехватить у другого класса (церковников) пальму культурного первенства, заполучив также право называться «интеллигенцией».[158] Обратите внимание: в классической стране капитализма буржуазия вначале все же обосновывает свое законное право на интеллектуальное лидерство и первенство, а затем уж захватывает власть.
Разумеется, мы рассмешили бы весь белый свет, заявив, что деньги и собственность не сыграли никакой роли в возникновении Английской революции. В основе конфликта, переросшего в гражданскую войну, лежали имущественные интересы. На одной стороне оказались король и роялисты (пэры, бароны, рыцари, богатые эсквайры, джентльмены), на другой стороне – средние классы (среднее и мелкое джентри, купцы, люди ученых профессий, мастеровые, ремесленники, священники, йомены, фригольдеры, зажиточные фермеры). Вот как оценил социально-экономические причины возникновения Английской революции один из английских историков, член Британской академии наук Дж. Э. Эйлер: «Недовольство, вызванное монополиями, правительственным контролем и другими формами вмешательства в сельское хозяйство, промышленность, торговлю и транспорт, мы безусловно должны включить в число многих элементов в ситуации, сложившейся перед 1640 г., без которых последовавшие события не смогли бы стать такими, какими они были в действительности».[159] Скажем вдобавок о заметном ухудшении финансового положения короны (в период между царствиями Генриха VIII и Якова I), усилении роли Лондона как одного из самых больших экономически активных городов мира, а также о заметном росте влияния идеологии протестантизма (позднего пуританства) на средние слои английского общества. Представители нового революционного класса не скрывали своего презрения к дворянам за их косность и невежество. Джон Скелтон сочинил такие вирши:
Зачем на свет родился ты? Дворянство – семя суеты! К ученью глухи и тупы, Вам все бы обивать мосты, Баклуши бить, разинув рты…Мы видим, конфликт между двумя лагерями – «джентльменами» и «простецами» – возник задолго до революции. «Джентльмены» считали, что у них достаточно богатств, «прав крови», чтобы и далее занимать лидирующие роли. «Простецы» так не думали. Их соперники (их благородия) не были заинтересованы в умственном и духовном развитии чад… К примеру, один из джентльменов даже гордо заявил: «Клянусь телом Христовым, я скорее соглашусь увидеть моего сына повешенным, чем зубрящим буквы в школе. Разве сыновьями джентльменов становятся не для того, чтобы ловко дуть в охотничий рог, вести элегантно и красиво охоту за дичью и зверем, с должной грацией держа ястреба и умело дрессируя его?! А за буквами да цифрами пусть сидит деревенщина». Деревенщина училась. Примерно в таком же духе описывают премудрости обучения благородных дворян Т. Старк и другие… Первый прямо указывает на то, что главным в подготовке этих кругов к жизни являлось их обучение искусству охоты, танцам, игре в карты, приему пищи и спиртных напитков… Оказывается, самое важное – не труд, не деловые навыки человека, а развлечения и удовольствия. Он говорит: «В Англии джентльменов учат скорее тому, как вырастить хорошую породу собак, нежели мудрых наследников». Э. Дадли считал английское дворянство «наихудшим из всех того, что воспитано христианским миром».[160] Надо задуматься над тем, а почему с тронов сбрасывают королей.
Англия XVII в. представляла бурлящий котел личных, династических, политических страстей. Век начался с утверждения личной унии между Шотландией и Англией (1603 г.) под короной Стюартов. Сын казненной Марии Стюарт Яков стал королем (до 1625 г.). Он настроен пораженчески к католицизму, ища поддержку у Испании, врага Англии. Это привело английское общество к расколу на тори и вигов. Первые твердо стояли за короля, вторые решительно – за парламент. В условиях противоборства богатый сквайр Р. Кетсби организовал «пороховой заговор» (1605), целью которого стала физическая ликвидация короля Якова I и его сына в британском парламенте. Неспособность короля Якова, «ученейшего дурака», противостоять вторжению католицизма и привела в итоге к расколу страны, жестокой гражданской войне и казни сына, короля Карла I (1625–1649). Стремление же Карла и его сторонников «кавалеров» править единолично не было подкреплено ни финансами, ни внушительными военными силами.
В это время «круглоголовые» (сторонники парламента) предпочитали заниматься не пустой болтовней, а укреплением руководства движения, во главе которого встал 43-летний сквайр Оливер Кромвель. Кромвель (1599–1658), бесспорно, главное лицо Английской буржуазной революции. Это – сложная и противоречивая фигура. Историки справедливо говорят о том, что XVII век его ненавидел и презирал, XVIII век не понимал и только XIX век сумел-таки воздать ему должное. «Ближайшее потомство клеймило Кромвеля как нравственное чудовище, а в позднейшее время его прославляли как величайшего из людей».[161] Где же истина?
Истина, как это часто бывает, находится посредине. В нем сочетались черты великого политика, сурового пуританина, деспота. Противоречивость вообще характерна для великих фигур истории (Наполеон, Петр Великий, Ленин, и т. д.). Иные никак не могут понять одной истины: совершить крутой перелом в сознании и жизни миллионов людей, изменить весь ход истории, вырваться из порочного круга преступного правления, вывести народы из тупика (а, увы, не заводить людей в тупик) нельзя, не применив к врагу силу в союзе с разумом. Вспомним, как тот же Мор возлагал надежды лишь на разум и мудрость. И что же? Он был казнен ничтожным правителем. Оливер Кромвель отчетливо понял, что разум надо вооружить, дополнив его аргументацию железом гвардейцев, смелыми генералами. И на плаху справедливо был отправлен бездарный и безвольный правитель…
Однако все это произойдет позже… Имя Кромвеля будет овеяно легендами. О нем будут рассказывать сказки, создавать мифы: что, якобы, уже в четырехлетнем возрасте он разбил в кровь нос 3-летнему наследнику престола, будущему королю Карлу I, а вскоре увидел и устремленные на него огненные глаза. Чей-то громовой голос, якобы, воскликнул: «Ты будешь великим человеком»… Оставив легенды, расскажем о ранних годах его жизни. Учился Оливер в пуританской школе, где царили суровые порядки. Доктор Бирд не жалел ни молитв, ни розог. В 1616 г. (а это был год смерти Шекспира) 17-летнего Кромвеля привели в Кембридж. Здесь тогда преподавали богословие, геометрию с арифметикой, риторику с логикой, латынь и греческий язык. Учился он довольно средне.
Недруги будут позже обвинять Кромвеля в злоупотреблении виски и женщинами, но какой сильный и здоровый юноша не отдавал дани грехам молодости. Особенно если ты очутился в компании студентов, изучающих право! Разве не затем изучают законы, чтобы в зрелые годы не устоять от соблазна их нарушить?! Во всяком случае доподлинно известно то, что из стен университета он вынес искреннее преклонение перед светскими науками (особенно, историей). Учеба была краткой, через год он вынужден будет уехать домой: умер отец и нужно было помочь матери вести хозяйство. В 21 год Оливер женится на дочери богатого лондонского купца-меховщика. Вернувшись в родные места, он взвалил на себя все хозяйственные заботы. Уже тогда в нем выработались такие завидные качества как точный расчет и железная хватка.
Скромный, трудолюбивый фермере, внешне угрюмый и замкнутый человек. Впрочем, причислять Кромвеля к обычным фермерам было бы неверно. Его род в отдаленном родстве с министром Генриха VIII Томасом Кромвелем, по прозвищу «молот монахов» (он изгонял святых отцов, разрушал их монастыри и распродал с молотка почти все их земли). Среди его предков были и те, кого звали «золотыми рыцарями». Король Яков I однажды остановился у дяди Оливера. Одним словом, его вполне можно было отнести к джентльменам.
Уединившись в сельском доме, он обрабатывал землю, ежедневно молился (вместе со слугами), умело читал проповеди, укрывал и ободрял преследуемых священников. Выступал он защитником общественных интересов в вопросе о земле, отчуждаемой у крестьян графом Бедфордом. По словам Карлейля, он призвал власть к ответу, сделав то, на что никто другой не решился. Так он прожил почти в полной безвестности до сорока лет. В округе все его знали и уважали как человека справедливого, разумного, решительного и мужественного. Вскоре граждане Гентингдона избрали его в парламент. Тогда в Англии никому и в голову не могла бы прийти такая глупость – избирать в парламент по спискам, да еще никому не известных выскочек. Выдвигали только тех, кого знали на местах. А с королем стране не повезло. Самовлюбленный циник, он требовал от законодательной власти все новых субсидий (пытаясь одобрить свой разбухший бюджет). При этом заявлял: «Помните, что парламенты всецело в моей власти, и от того, найду ли я их полезными или вредными, зависит, будут ли они продолжаться или нет».
Смело и отважно сражались против деспотии короля английские политики (Пим, Эллиот, Гемпден), пытаясь отстоять права и привилегии нового дворянства и буржуазии, и прежде всего «полную собственность на свое имущество, земли и владения»… Король требует денег, вместе с тем категорически запрещая выдвигать обвинения против должностных лиц короля и правительства (даже обоснованные). «Мое правительство всегда право,» – таков его циничный лозунг. Впервые палата общин парламента Англии отказалась повиноваться воле короля. Трусливого спикера заставили принять революционные решения: отныне врагом и предателем страны должен считаться всякий, кто разрешит взимать пошлины без согласия парламента(даже король), кто добровольно заплатит неутвержденные парламентом налоги, кто одобрит привнесение папистских новшеств в англиканскую церковь. Король распускает парламент. Организаторы «парламентского бунта» (1629 г.) брошены в казематы Тауэра. За сочинения, направленные против епископов, их клеймили раскаленным железом и отрезали уши.
Пришел, наконец, и час Кромвеля… В парламенте появились сила, отвага, ум, решительность. Сочетания этих качеств явно не хватает ныне в России. В английском парламенте оппозиция была представлена палатой общин (из 500 ее членов 91 представляли графства, 4 – университеты, остальные – города и парламентские местечки Англии). Кромвель в Долгий парламент 1640 г. попал от Кембриджа. Здесь-то и проявился его «огненный характер».[162]
Вскоре он разбил пустоголовых «кавалеров», резонно не доверяя королю Карлу. Кромвель понял: с ним «нельзя вести никакого дела». А если уж такой человек как Кромвель вошел в политику, он должен был или уйти сам из нее, или устранить со своего пути короля. Нам абсолютно понятны его слова: «Если бы в сражении мне пришлось столкнуться с королем, я бы убил его». Здесь нет места личной ненависти и неприязни. Просто король обманул и предал свой народ. Ясно, что необходимо уничтожить этого врага Англии и народа. В Кромвеле видится «идеал» буржуазного политика. Им восхищение Карлейль, заметив, что ни в истории Англии, ни в истории других стран не было борцов, более беззаветно преданных своему делу. Не станем сравнивать его с русскими героями, но считаем в порядке вещей, что этот хантингдонский фермер станет в недалеком будущем «действительным королем Англии».
В 1643 г. Кромвель страной как великий полководец и государственный деятель. Когда страна переживает период смуты, острого гражданского противоборства, так и бывает: из гущи народа вдруг появляется отважный человек, ранее ничем себя особенно не проявлявший, но «в час икс» ставший спасителем отечества. Такие люди рождены самим Провидением! И тут вступает в действие великий закон, который я называю Законом революционной необходимости! Он выведен на скрижалях крупнейших революций. В основе его лежат насущные требования широких слоев народа. Англия была первой страной, где этому закону удалось продемонстрировать свою железную поступь. История Английской буржуазной революции может поведать о многом. Если глубокие противоречия меж большинством и меньшинством (властью) не удается разрешить мирным образом, начинается война. Капиталисты и «новые дворяне» могли захватить собственность, скупив в ходе «приватизации» за гроши поместья и земли, находившиеся в руках прежних господ. Однако новым буржуа было еще не под силу одолеть короля.[163]
Буржуазия решает создать свою армию (железнобоких) во главе с Кромвелем. Среди офицеров было немало выходцев из народа: полковниками станут извозчик Прайд, сапожник Хьюстон, шкипер Рейнсборо, котельщик Фокс. Армия Кромвеля была крепка верой и дисциплиной, не знала пьянства и разврата, не допускала насилия над мирным людом. Он набирал солдат из пуритан и сектантов. Основу его армии составляли солидные йомены (крестьяне), вкладывавшие «в общее дело всю свою душу». Поэтому она и стала непобедимой. Когда глава государства (король) попытался, было, договориться с парламентом за спиной народа и армии (они всегда стараются договориться за нашей спиной и обмануть простых людей), произошло нечто неожиданное для верховной власти.
В 1647 г. корнет Джонс, всего-то с небольшим отрядом, арестовал короля. В ответ на требования предъявить полномочия корнет указал на драгун («Вот мои полномочия!»). Королю ничего не осталось, как признать убедительными: «Мне никогда не приходилось видеть полномочий, написанных более четким почерком». Мятежная армия смело и решительно шла на Лондон. Парламентарии и ростовщики столицы с ненавистью наблюдали за народными когортами. Вскоре после попыток «закулисы» (с помощью иностранцев) изменить ход событий военные устроили чистку в парламент. Оттуда была решительно изгнана чуждая «пятая колонна». Полковник Прайд пропустил лишь малую часть депутатов (десятую часть прежнего состава, 50 человек). Ответ на вопль: «По какому праву?» Он ответил: «По праву меча!»
Часть парламента (в Англии) показала свое истинное и гнусное лицо. Напрасно он взывал к их вере, совести, гражданским чувствам: «Отрешитесь от себя и пользуйтесь властью, чтобы обуздать гордых и наглых. Облегчите угнетенным их тяготы, прислушайтесь к стонам бедных узников Англии…» Все напрасно. Эти преступники и предатели понимали лишь язык силы, закона и меча. «Охвостье» парламента (есть оно и в России) сосредоточило в руках властные полномочия и постановило: мы навсегда останемся во главе страны, дополнив ряды такими же проходимцами. Что прикажете делать с ворьем? Надо прибегнуть к силе!!! Кромвель буквально «стащил с трона» жалкую кучку воров, шутов, болтунов и демагогов. Под дулами мушкетов! Долгий парламент был разогнан – и, как заметил венецианский посол, «ни одна собака даже не тявкнула».[164]
Так спасают свой народ от тиранов… Венцом тех революционных перемен стали события января 1649 г., когда страна по сути дела восстала против правителя-короля на стороне парламента (но это был, заметим, революционный парламент!). Суд принял верное решение в отношении предателя-монарха. Заметим, сделано это под воздействием «ежовых рукавиц» Кромвеля. Тот «попал в цель», воскликнув: «А я вам скажу, что мы отрубим ему голову вместе с короной». Выбор между народом и королем сделан. Король Англии Карл I был казнен. Хотя один из ближайших сподвижников Кромвеля генерал Т. Ферфакс отказался заседать в суде и подписать приговор; даже такой противник абсолютизма как Дж. Лильберн отверг предложение войти в состав членов специальной судебной палаты. Последовал билль от 7 февраля 1649 года, гласивший: «Опытом доказано, и вследствие того палатою объявляется, что королевское звание в этой земле бесполезно, тягостно и опасно для свободы, безопасности и блага народного; поэтому отныне оно отменяется». К власти в Англии пришел не народ, а купцы, ростовщики, банкиры. Наступил период стабилизации. Это уже потом лицемерные английские буржуа будут патетически восклицать, отводя глаза в сторону и потупив взор: «Монарх – это навсегда».[165]
Суд над королем.
Пока солдаты и офицеры, дети народа, вели битвы, властные тузы и ворюги занимались приватизацией и накопительством. И тогда появились агитаторы, говоря: «Даже наиболее скромный гражданин должен воспользоваться своей истинной свободой и собственностью… Мы прошли сквозь все трудности и опасности войны ради того, чтобы завоевать для народа и для самих себя обильную жатву свобод, но вместо этого, к великому огорчению и скорби наших сердец, мы видим, что угнетение теперь столь же велико, как и раньше, если не больше». Были ли основания для этих заявлений и обвинений? Разумеется, были. Ведомые офицерами и генералами, солдаты (Англии) восстали, потребовав не только возместить им долги, но и вернуть крестьянам отобранные земли, а также предоставить простолюдинам избирательные права.
Итогом гражданской войны стало обнищание народных масс. Вот что было сказано в одном из документов «левеллеров»: «Пусть неумолимые требования наших желудков дойдут до парламента и до сити; пусть увидят они слезы наших несчастных голодных детей; пусть вопли их любящих матерей, требующих для них хлеба, будут отчеканены на металле. Если бы только наши страдания могли открыться сочувствующему взору. Пусть узнают, что ради хлеба мы продаем наши постели и одежду. Сердца наши почти не бьются, и мы в любой момент можем умереть посреди улицы». Таковы не радужные итоги событий тех лет.
Когда завершилась первая (1642–1646) и вторая (1648) гражданские войны, победа буржуа была достигнута, а власть полностью оказалась в руках Кромвеля. В 1649 г. им провозглашена республика, а в 1653 г. он установил в стране режим неприкрытой единоличной диктатуры. Где-то тут и находится рубикон, за которым иная героическая эпопея сменяется фарсом, герой становится тираном. Размышляя над тем, как подойти к изображению Кромвеля («этой причудливой и колоссальной личности»), Гюго долго ломал голову над тем, как бы невольно не опуститься в своих описаниях этого выдающегося человека до примитивного гротеска. Многие, рисуя его портрет, ограничивались образом лишь Кромвеля-воина, Кромвеля-политика. Не мудрено, что образ получался каким-то плоским, суровым, однообразным. Кромвель – существо многогранное и сложное. «Увидев перед собой этот редкий и поразительно целостный образ, – писал Гюго, – автор этих строк не мог уже удовлетвориться пристрастным силуэтом, набросанным Боссюэ». Он стал присматриваться к этой великолепной фигуре, и его охватило пламенное желание изобразить гиганта со всех сторон и во всех его проявлениях. Материал был богатый. Рядом с воином и государственным деятелем нужно было еще нарисовать богослова, педанта, стихоплета, духовидца, комедианта, отца, мужа, человека-Протея, словом – двойного Кромвеля, homo et vir» (человека и государственного мужа). Далее рисуется сцена, когда республиканец, железный вождь парламента, цареубийца, вдруг, проявил страстное желание стать королем. Какой урок обладателям единоличной власти… Вчера они еще были глашатаями свободы и демократии (по крайней мере, казались таковыми). Но вот власть у них. Как она прекрасна, несравнима, восхитительна![166]
«Голосуй – а не то проиграешь!» Вот уж и Вестминстер, и подмостки убраны флагами. Ювелиру заказана корона. Назначен день коронации… Как же на все это реагирует английский народ? Он недоумевает, глухо ропщет и явно возмущен «при виде цареубийцы, вступающего на престол». Однако химера, как пишет В. Гюго, ускользает. Игра Кромвеля, как говорят простые люди, «сорвалась»… Впрочем, и сам Кромвель прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь переменчив и непостоянен народ. Однажды он философски изрек: «Э! Да народ с таким же восторгом пошел бы смотреть, если бы меня повели и на эшафот». И тут он прав.
Итоги правления Кромвеля противоречивы… Ему вменяли в вину роспуск парламента (хотя он его и не расстреливал), его властолюбие, неумеренную пышность жилья и кабинета (расположился в королевских, царских покоях), преследования соратников и т. д. Вольтер писал о Кромвеле: «Поработил Англию с евангелием в одной руке и со шпагой в другой, с набожной маской на лице. Достоинствами великого правителя прикрыл преступления узурпатора».
Но в его деяниях было немало и позитивного. При нем окрепли финансы, строгим стало управление ими, упорядочена была судебная власть, отменены дуэли, улучшено положение школ и школьных учителей… Полагая, что деньги не пахнут, в 1655 г. он с большим почетом принял и главу иудейской общины в Амстердаме бен Израэля с его раввинами. Те просили отменить закон 1290 г. об изгнании евреев из Англии. Хотя никакого постановления на сей счет так и не было принято, евреи вскоре почувствовали себя здесь заметно вольготнее и тут же перенесли из Амстердама в Лондон свои главные деловые конторы, активно участвуя в британской торговле.
Англия при нем не только не теряла земель, но приобретала, присоединив Шотландию и Ирландию, победив Голландию, разгромив испанцев на суше и на море. И, что гораздо важнее – вскоре стала торгово-промышленным гегемоном всего мира. Однако замечу: прежде чем это случилось, во главе страны встал Кромвель!!! Хотя с сегодняшних позиций это – не лучший тип политика. На его совести многие преступления. Вскоре после упрочения своей власти он открыто порвал с народом, устранил левеллеров, набросился на Ирландию, аки пес, возложил на себя королевские полномочия лорда-протектора, стал мечтать о мировом господстве («постучался бы в ворота Рима»).
О судьбе Ирландии стоит сказать особо… Если бы в истории британской короны не было больше никаких преступлений, кроме покорения Ирландии, то и этот акт по отношению к талантливейшему и мужественному народу не дает право Британии кичиться её «демократией». В. Гюго справедливо заметил, что Шотландию Кромвель превратил в вилайет, а Ирландию – в каторгу! Близость ирландцев и англичан очевидна. На земле кельтской Ирландии и Британии создана обширная литература. Историки называют как латинские сочинения (Гильдас, De excidio Britanniae, около 560 г.), которыми кельты впервые «дебютировали во всемирной литературе», так и собственно ирландские источники. Соссей отмечал: «Начиная с V в. Ирландия была местопребыванием культуры; классическая литература изучалась там в то время, когда знакомство с греческим языком почти исчезло в остальной Западной Европе; в VII в ирландцы стоят на вершине культуры, и еще в школах времени Каролингов они были излюбленными учителями. Впрочем, эта ирландская культура была классическая и христианская; тем не менее она сохранила также некоторые туземные сказания, и позднее, именно во время викингов, при столкновении с датчанами и норманнами, эти сказания получили развитие… Ирландский народ в течение нескольких веков классического и христианского образования воспринял столько чуждых элементов, что языческая мифология никак не могла сохраниться у него в чистом состоянии».[167]
Еще во времена Тюдоров англичане коварно натравливали клан на клан, дожидаясь своего часа. К несчастью, лорды-землевладельцы и вожди кланов Ирландии так и не смогли объединиться: «все воевали со всеми» (Т. Джексон)… «За полтора года они (мятежники) были доведены до такого отчаянного положения, что даже каменное сердце сжалось бы. Из всех углов, из лесов и долин они выползали на руках, так как ноги уже отказывались служить им; это были живые скелеты; они говорили так, что, казалось, мертвецы дают о себе знать стоном из своих могил; они пожирали падаль, радуясь, когда могли найти ее; затем они стали пожирать друг друга или трупы, которые не ленились вырывать из могил. Если они находили лужайку, поросшую салатом или трилистником, то собирались толпой, как на праздник, но не в состоянии были долго пировать; таким образом, за короткое время от них почти никого не осталось, и густо населенная, обильная страна внезапно опустела, лишившись и людей, и скота».
Колонизацию Ирландии «триумфально» завершил все тот же Кромвель. Он принялся уничтожать силы ирландских «мятежников» (борцов за свободу родины). В иных городах он полностью истреблял гарнизоны вместе с гражданским населением, заодно уничтожая и ненавистных католических монахов, если они попадались на глаза. Нет ничего страшнее межнациональных, религиозных войн. Конечно, вы вправе сказать, что точно так же вели себя усмирители крестьян в Германии, Альба в Нидерландах, Мария Медичи во Франции и т. д. Это не оправдывает «железного карателя». В итоге всех его действий, к 1652 г., после 11 страшных лет войны, Ирландия представляла собой ужаснейшую картину. Всюду царят нищета, болезни, эпидемии, опустошения, мор и глад. Современники писали: «Целые районы обезлюдели». Один английский офицер вспоминал: «Можно было проехать двадцать верст и не встретить ни одного живого существа – ни человека, ни животного, ни птицы».[168]
Говоря об отношении англичан к ирландцам, право, трудно удержаться от возмущения. Как только не издевались англичане над этим родственным им по языку и культуре народом… Священник и острослов Сидней Смит (1717–1845) однажды даже заметил: «Как только произносится слово «Ирландия», англичане, кажется, забывают о человеческих чувствах, об осторожности и о здравом смысле и действуют, уподобляясь варварам и самодовольным глупцам». Показателен и такой факт. После 1867 г. полицейским из Royal Irish Constabulary в Ирландии выдали оружие, а в самой Англии они не были вооружены.[169]
Ирландия перешла в собственность британской короны. Какой триумф демократического духа! Какая слава диктаторскому правлению! Какой прекрасный пример для нравов нарождавшейся буржуазной республики! Вот бы иным «либеральным слизнякам» честно и рассказать об этом британском опыте. Но они предпочитают (на грязные деньги англосаксов) хаять Россию!
Народ устал от революционного правления, наивно полагая, что шедшие на смену «железному правителю» будут обладать умом и деловым расчетом. Он глубоко заблуждался. При Карле II страна бросилась в иную крайность. Если пуритане были людьми суровых взглядов и твердой морали (так они, явно перебарщивая, считали театр вертепом), то при новой власти и развратнике-короле беспутство стало обыденным явлением. Король поторопился окружить себя метрессами. И даже благосклонно принял кличку «старина Раули» (так называли в шутку закупленного им жеребца королевской конюшни). Он сразу же стал попустительствовать всем взяточникам и казнокрадам, что без зазрения совести растаскивали государственную казну. А король только тупо и недоуменно пожимал плечами, восклицая: «Не понимаю, куда же могли деться столь крупные государственные суммы»… Вокруг кишмя кишели иезуиты. Устраивая заговоры и пытаясь убить короля, они считали себя хозяевами страны. В Лондоне случился страшный пожар, словно наказание Господне.[170] И все же поразительно, как ничтожества везде и всюду готовы воевать не с живыми (на это у них не хватило бы духу, их-то они славословили), а лишь с прахом и тенью великих революционеров!
Оливер Кромвель – лорд-протектор.
Кромвель, его соратники и солдаты вынесли на своих плечах всю тяжесть революции. Пришедшие же им на смену «наследники» (из числа новой буржуазии) были карьеристами и мздоимцами. Они ловко воспользовались плодами народной победы. «Билль о правах» оказался пустой бумажкой, бесплодной прокламацией, которую «власть безнаказанно разорвала в клочья». Первое, что они сделали – запретили указом любое обсуждение действий государственных лиц. Люди 1688 г. отвергли протестантов-нонконформистов, самую патриотическую из сект. Они установили цензуру для книг и рабский режим для типографий.
«Сливки общества» насмехались над общественным мнением, позвав в новый кабинет старых политиканов (Денби, Нотингемы, Галифаксы, Джефри). Произошел симбиоз старых и новых негодяев. Все эти важные чиновники, богачи, банкиры, аппарат власти вступили в странный союз с лозунгами свободы и отечества. Те, кто обладали всеми титулами, сразу же нашли общий язык с теми, кто ранее не имел таковых (но втайне страстно желал их заполучить). Они заявили «соискателям от оппозиции»: «В чем дело, господа, давайте править вместе, надувая наш любимый народ сообща, во славу капитала!» А когда возмущенные жертвы «демократии» потребовали (нет, не возвращения старых порядков и не кровавых репрессий, боже упаси!), а законного возмездия за те новые преступления, что совершены сановными жуликами и их подчиненными, правительство актом амнистии распространило на них свою защиту.
Дело ясное: вор вора никогда не осудит. Manus manum lavat («рука руку моет»). «Наступила пора самого бесстыдного взяточничества; энергии хватало только на интриги, – писал О. Тьерри. – Поэтому не прошло и 20 лет после революции 1688 года, как английский народ уже проклинал ее и кричал: «Долой вигов!», так же как он раньше кричал: «Долой Стюартов!» А виги, подобно Стюартам, отвечали на это обвинениями в государственной измене, смертными казнями, новыми налогами, новыми указами для сохранения титулов и должностей. Передача престола, произведенная якобы в национальных интересах, чуть не была нарушена уже подлинным национальным восстанием. Потребовалось прибегнуть к такому отвратительному средству, как помощь иностранцев».[171]
Виктор Гюго: «Не следует забывать, что в 1705 году, и даже значительно позднее, Англия была не та, что теперь. Весь ее внутренний уклад был крайне сумбурен и порою чрезвычайно тягостен для населения. В одном из своих произведений Даниэль Дефо, который на собственном опыте узнал, что такое позорный столб, характеризует общественный строй Англии словами: «железные руки закона». Страшен был не только закон, страшен был произвол. Вспомним хотя бы Стиля, изгнанного из парламента; Локка, прогнанного с кафедры; Гоббса и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса. Если начать перечислять все жертвы статута seditious libel (английский, авт. – «о крамольных пасквилях»), список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы; ее приемы сыска стали школой для многих. В Англии было возможно самое чудовищное посягательство на основные права ее обитателей… Такова была свобода»….[172]
Поэтому о демократии, свободе и равенстве, якобы, присущих английскому государству, речь может идти лишь с большой натяжкой. Даже русский монархист К. Н. Леонтьев вынужден был признать, что английские свободы, так сказать, «с душком»… Он писал о них: «Равенства, в широком смысле понятого, в Англии было сначала, пожалуй, больше, чем, например, во Франции, но потом, именно по мере приближения цветущего периода (Елизавета, Стюарты, Вильгельм Оранский и Георги), и юридического и фактического равенства стало все меньше и меньше… С первого взгляда кажется, как будто Англии посчастливилось больше других стран Европы. Но едва ли это так. Посмотрим, однако, повнимательнее. Конечно, Англии посчастливилось сначала тем, что она долго сбывала свои горючие материалы в обширные колонии. Англия демократизировалась на новой почве – в Соединенных Штатах Америки».[173]
Как видите, даже самый беглый анализ этого важнейшего периода английской истории, который часто готовы воспринимать в качестве «золотого века», явно не выглядит таковым. Хотя мы должны признать то, что Англия совершила в этот период истории колоссальный прорыв в вопросах создания центра мировой экономической власти. Достаточно сказать, что объем английской торговли с 1610 по 1640 гг. увеличился в десять раз. Основанный в 1694 г. Английский банк станет вскоре самым крупным финансовым центром мира, а фунт стерлингов, по сути дела, превратится в самую сильную денежную единицу в Европе.[174]
Англия, Голландия, Франция своими успехами обязаны отнюдь не вульгарно понимаемым «рыночным отношениям», но тому институциональному контексту, в рамках которого и оказались возможны все важнейшие достижения и заслуги. Благодаря этому развернулась научно-промышленная революция, общество дифференцировалось путем введения шкалы вознаграждений и поощрений. В таком обществе почетным и выгодным делом считается не только торговля, но и занятия философией, наукой и техникой. Таким образом в сознании европейцев стала постепенно утверждаться и светская культура.[175]
Философ Э. Берка сказал: «Сделайте революцию залогом будущего согласия, а не рассадником будущих революций». У Англии была другая, более позитивная и светлая сторона. С уходом «старого мира» британцы достигают и на ниве культуры, поэзии, просвещения, науки многие ощутимых результатов. Духовный мир англичан формировался с помощью школ и книг. Достойно изумления то, с каким пиететом взирали они на перо и книгу. Как тут не вспомнить У. Оккама (1285–1349), философа, учившегося и преподававшего в Оксфорде, предвестника эпохи Реформации. Людвигу Баварскому он сказал: «Защищай меня мечом, а я буду защищать тебя пером». Сила английской буржуазии в том, что она умело воспользовалась тем и другим. Ричард де Бери, епископ Дарэмский (XIV век) подчеркивает воспитательное и образовательное значение книг: «Какое огромное наслаждение познания скрывается в книгах! Как легко и откровенно доверяем мы книге тайну своего невежества! Книги – учителя, наставляющие нас без розог и линейки, без брани и гнева, без уплаты жалованья натурой или наличными. Подойдешь к ним – они не дремлют, спросишь у них о чем-нибудь – они не убегают, ошибешься – они не насмехаются. Вот почему сокровищница мудрости дороже любых сокровищ. И тот, кто считает себя приверженцем истины, счастья или веры, неизбежно должен быть приверженцем книг».
Из книг, наук и техники англичане создали храм, «купель святого причастия». В книгах видели первопричину успехов и несчастий. Памфлет «Тревога Англии» (1587) усмотрел корень восстаний и беспорядков в Ирландии в «дороговизне исторических книг». Патриотизм у всех на слуху. Пособие «Совершенный джентельмен» (1622) требует от англичан не быть чужестранцами в своей стране, изучать собственную историю. Бюргеры Лондона, других городов читают хроники, трактаты, сборники мудрых мыслей. Помимо обязательного преподавания истории в школах Лондона вводится должность «хронолога», записывающего достопамятные события. Распространяются дешевые исторические издания. «И хотя строгие пуритане, – отмечал историк, – с подозрением и осуждением относились к чрезмерному поклонению «великому идолу», именуемому образованием, для истории делалось исключение, поскольку от нее ожидали наставления в благочестии».[176]
В XVII веке взошла звезда историка Р. Хэклюита, автора «Основных плаваний английской нации» (умер в 1616 г.). Его книги по популярности сравнимы с Библией. Этот талантливейший ученый и писатель считал главным публикацию документов. Впервые его книга появилась на свет сразу же после разгрома испанской Великой армады (в 1589 г.). Уже тогда английские историки преспокойно выполняли «социально-политический заказ» своей страны и никто при этом не лил крокодиловых слез (как это делает в России антирусское лобби). Книгу Хэклюита даже называли «руководством по колонизации». Зная нравы англичан, эта оценка воспринимается, скорее, как похвала. В трехтомном издании представлены многочисленные документы и карты (не только английские). Он обосновывал права англичан на мировые пространства, прокладывал путь в Индию, Китай, Южную Америку. В книгах присутствовали элементы открытой пропаганды имперского мышления. Это был яростный и верный защитник британского господства. Историк станет и одним из основателей Ост-Индской кампании. Это еще более укрепило культ Хэклюита, идеолога британского колониализма. О книгах его говорят, что это «эпическая поэма английской нации». Надо отдать должное и его писательскому мастерству. Не случайно в Британии этого историка по сей день считают (конечно же, наряду с великим Шекспиром) отцом-основателем английской литературы.
Хотя Карлейль, заявил во всеуслышание: «Англичане – немой народ. Они могут совершать великие дела, но не могут описывать их». Сущий вздор! В конце концов, разве не из этих «щенков знания» (хорошей бульдожьей породы) выросла большая часть британских «имперцев» или (чуть позже) американских научно-технических «акул» и «волкодавов»?! Разве не из стен славных английских и шотландских университетов явятся яркие представители исторической науки?! Разве не английской нации принадлежат имена Э. Гиббона и А. Тойнби?! Следует с осторожностью отнестись к эскападам Ф. Энгельса (немца!), характеризовавшего образованного британца, как «чучело», которое слепые люди называют выразителем «духа» времени.[177]
При всей справедливости приведенной критики английских порядков, не будем забывать: Британия стала колыбелью политических свобод, оплотом деизма, цитаделью материалистических учений в Европе и мире. Как итог раскрепощенной энергии разума следует превращение ее в промышленную мастерскую человечества. В философии выделим имена Гоббса и Локка, в экономике – Смита и Рикардо, в поэзии – Шекспира и Милтона, в естественных науках – Ньютона и Фарадея. Подлинная палата умов Нового времени! Позднее к ним присоединятся и известные родоначальники позитивизма – Дж. С. Милль и Г. Спенсер, и другие. Подобно тому как экскурсию по Лондону начинают с показа башни Большого Бена, путешествие по духовному Альбиону, вероятно, следует начать с Шекспира, возможно, закончив просмотром его «Возлюбленной» (фильма, получившего «Оскара»).
Шекспир – это целая вселенная. Нужен был поистине великий гений, чтобы вот уже четыре столетия подряд заставлять людей погружаться в глубокие раздумья о судьбе Гамлета, лить слезы над судьбами Офелии и Джульетты, содрогаться от преступлений четы Макбетов. Шекспир – лучшая школа для душ, возжелавших бессмертия. О нем говорят, что он равен Микеланджело по пафосу и Сервантесу по юмору. Но, кажется, и ныне еще никому из смертных не удалось в полной мере раскрыть «задушевную тайну его существа».
Уильям Шекспир (1564–1616) – крупнейший гуманист эпохи Позднего Возрождения, человеком Нового времени. Считалось ранее, что он появился на свет в Стрэтфорде-на-Эвоне, маленьком и живописном городке, описанном им в комедии «Сон в летнюю ночь». Родом Шекспир был из богатой крестьянской семьи. Его отец начинал с торговли шерстью и хлебом, а затем получил должность чиновника, сумев подняться до поста старшего бургомистра. Никто из родителей Шекспира, так и не смог закончить школы.
Уильяма определили в Стрэтфордскую вольную школу, где обучали латыни и чтению отрывков из Овидия, Вергилия, Цицерона, Сенеки. Об этих страницах школьной жизни он упоминает в «Виндзорских проказницах». Вероятно, на формирование юношеских взглядов оказала воздействие местность (Уорвик, Ковентри и др.). В дальнейшем тут разыгрывались действия его исторических пьес. Стрэтфорд посещался странствующими актерами. У юноши была прекрасная возможность ознакомиться с английским театральным репертуаром. Он решил отправиться в Лондон, где он застал славный век Елизаветы. Англия тогда вела ожесточенную борьбу с могущественной Испанией. В 1587 году свершилась казнь королевы Марии Стюарт, а в 1605 году Гай Фокс, возглавлявший «пороховой заговор», предпринял попытку взорвать здание английского парламента. Эпоха интересная и занимательная. Борис Пастернак писал в стихотворении «Шекспир»:
Извозчичий двор и встающий из вод В уступах – преступный и пасмурный Тауэр, И звонкость подков, и простуженный звон Вестминстера, глыбы, закутанной в траур. И тесные улицы; стены, как хмель, Копящие сырость в разросшихся бревнах, Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль, Как Лондон, холодных, как поступь, неровных…[178]Учителем Шекспира в области драматического искусства стал Кристофер Марло (1564–1593). Этот сын башмачника закончил Оксфорд, получил магистерскую степень, но в итоге стал актером и писателем. О жизни Шекспира сохранилось немного сведений. Не найдено никаких личных писем. Отсутствуют его рукописи. Имеется всего пять или шесть собственноручных подписей Шекспира. Нет полной уверенности и в отношении подлинности авторства его работ. Неизвестно, кому он посвящал изумительные сонеты. Мы не знаем многого.
С уверенностью можно сказать одно: мы имеем дело с титаном, мастером исторического психологизма. По словам Гете, этот бард умел, как никто другой, «выворачивать наизнанку внутреннюю жизнь». Он проникал в потаенные глубины бытия, тонко улавливал самую суть явлений. Пушкин скажет в этой связи: читая Шекспира, я словно бы заглядываю в бездну. Мы назвали бы его величайшим гением познания. Историки отмечают поразительную осведомленность его в английском праве. Опытные юристы нашли в его пьесах, изобилующих юридическими терминами, ни одной ошибки. Богатству приводимых им сведений о природе мог бы, пожалуй, позавидовать маститый ученый-натуралист. Знакомство его с деталями книгопечатного искусства побудило увидеть в нем ученика типографии. Глубокое знание им Библии подтолкнуло епископа Вордсворта сочинить книгу «Знание и употребление Библии у Шекспира». Возникло предположение, что подлинным автором его сочинений был Ф. Бэкон. Поэту предписывают авторство самых смелых медицинских идей (относящихся к XVIII веку). Изображения им сумасшедших точны в профессиональном отношении. Врачи-психиатры восторгаются верностью описания болезни Лира и Офелии. Актеры и постановщики испытывают священный трепет перед «шотландской» пьесой Шекспира – «Макбет», таинственные заклинания которой по сей день леденят кровь актеров. Одним словом, колдовство этого гения очаровывает многих. Гете полагал, что все философские книги не заключают в себе столько духовной материи, света, сколько содержится в одном лишь его образе – Гамлете. Возможно, именно поэтому он и называл Гамлета по отношению к грядущему – Zukunftmensch («Человек Будущего»).
Исаак Оливер. Портрет молодого лорда, которого долго не удавалось идентифицировать (вторая половина 1590-х гг.) Теперь появились основания считать, что на нем изображен Роджер Мэннерс, граф Рэтленд.
Будущий премьер-министр Англии Бенджамин Дизраэли в романе «Венеция» говорит устами своего персонажа: «А кто такой Шекспир? Мы знаем о нем не больше, чем о Гомере. Написал ли он хотя бы половину приписываемых ему пьес? Написал ли он хотя бы одну пьесу полностью? Сомневаюсь в этом». В Нью-Йорке некий Дж. Харт бичевал Барда как самозванца, говоря: «Он был не пара литературным деятелям своего времени, и никто не знал этого лучше, чем он сам. Навязывать нам его дутую славу – это мошенничество мирового масштаба. У него нет ничего, что стоило бы передать другим поколениям». Харт полагал, что была группа способнейших литераторов, создателей драм, авторство которых приписывали ему. Но самую серьезную атаку на творчество Шекспира предприняла учительница из Америки Делия Бэкон (с 1852 г.). «Ни один человек, покойный или ныне живущий, – восклицала она в своем письме Н. Готорну, – не оскорблял меня так своими противоречиями. Он так опозорил гениальность и науку, что я была не в силах ни у кого требовать, чтобы они хоть что-нибудь изучали (из его творчества)». Она тщательно исследовала работы всех выдающихся творцов той эпохи. И пришла к выводу: «шекспировские» пьесы написаны группой лиц, движимых некой единой целью, как сказали бы в театре некой сверхзадачей. Среди них она называла Фрэнсиса Бэкона, сэра Уолтера Рэли, Эдмунда Спенсера и несколько других «высокорожденных умов и поэтов» (Уоллес И.).[179]
Внесли свою лепту в дискуссию и российские ученые. Ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН И. Гилилов отмечал, что серьезный анализ произведений Великого Барда показывает: их автор был не только гениальным поэтом и драматургом, но и глубоко образованным человеком, свободно владевшим иностранными языками, прекрасно знавшим жизнь самой родовитой знати и монархов. Он абсолютно чужд низменным страстям и ростовщичеству. Однако с другой стороны, все известные и документальные факты о человеке, уроженце Стрэтфорда-на-Эвоне, известном под именем Уильям Шакспер (именно так писалось в документах его имя) говорят совершенно о другом человеке. Шакспер никогда и нигде не учился, все члены его семьи (включая детей) были неграмотны! Не существует ни единой строчки, написанной его рукой. В тщательно составленном завещании Шакспера перечислено все имущество (до мелочей) и деньги (до пенсов). Однако в этом списке вовсе нет рукописей или книг, хотя в те времена они стоили недешево. Наконец, известно, что он продавал солод, скупал земли, не брезговал даже правом на сбор церковной десятины с продаж сена, ссужал деньги под проценты, а должников жестоко и неумолимо преследовал по судам. Так кто же на самом деле написал эти дивные произведения, вот уже четыре столетия потрясающие людей?[180]
Российский ученый выяснил, что имя «Шекспир» является псевдонимом или маской, за которой наряду с Роджером Мэннерсом (5-м графом Рэтлендом) скрывались и поэты его круга. Портрет Р. Мэннерса и сейчас можно увидеть в родовом замке Рэтлендов в Бельвуаре (графство Лейстер). Чем было вызвано создание такой маски графом и поэтами его круга, догадаться не трудно. И дело все-таки, полагаю, не в желании посмеяться над читателями, хотя излюбленным обращением к ним в елизаветинскую эпоху и было приветствие: «К идиотам-читателям». Мы уже говорили о том, какая судьба постигла Т. Мора, равно как и других знатных и уважаемых граждан. В те времена обращение к слову, а уж тем более столь масштабное и гениальное творчество было делом крайне небезопасным. Р. Мэнннерс закончил Кембридж и получил диплом магистра искусств. Затем он отправляется в Европу продолжить свое образование (Нидерланды, Германия, Италия, Швейцария, Франция). В Падуанском университете однокашниками графа Рэтленда-Мэннерса становятся двое студентов из Дании – Розенкранц и Гильденстерн (затем они перекочуют в текст «Гамлета»). Он принимает участие в морской экспедиции Эссекса против испанцев, где эскадра попадает в шторм (стихотворения «Шторм» и «Штиль»). В походе вместе с ним участвовал и поэт Дж. Данн. Рэтленд-Мэннерс (Шекспир) не оставляет учебы, при этом особенно усердно овладевая латынью, греческим, древнееврейским, несколькими европейскими языками. В 1599 г. он женится на Елизавете Сидни. Поэзия Шекспира переливает красками, как перья павлина (павлин венчал и родовой герб Мэннерсов). Его жизнь и дружба с семейством Сидни, главенствовавшим тогда на поэтическом Олимпе Англии, стала не только примером священного духовного союза, но и неким назиданием. Мы не раз говорили и будем говорить о холодности и бессердечии англичан. Но англичанин англичанину рознь. Перед нами жив пример Шекспира и его жены, Елизаветы Сидни, которая была умна и хороша собой и которая в 27 лет принимает обет уйти из жизни вместе с мужем, хотя их брак и носил платонический характер. И когда Шекспир (Роджер Мэннерс) умер, она почила через месяц после его смерти, тайно приняв яд. А ведь это была талантливейшая поэтесса, которую современники величали Фениксом английской поэзии. Вероятно, их и похоронили вместе, как шекспировских героев Ромео и Джульетту. В Соборе Святого Павла в Лондоне сегодня нет места, где покоится прах великого Шекспира, но это и не важно. Его прах развеян над земным шаром. Видимо, он не случайно когда-то назвал создаваемый им театр – «Глобус».
Возглашаем антифон: Умерли Любовь и Верность — Феникс с Голубем. Навечно Их союз огнем скреплен. Так слились одна с другим, Душу так душа любила, Что любовь число убила — Двое сделались одним…..[181]Не менее важно ответить на вопрос: «А почему вообще стал возможен Шекспир?» Его появление стало возможным благодаря богатству Лондона и возникновению слоя процветающих горожан. Горожане, обладая довольно высокой культурой, нуждались и в театральных постановках. Эти постановки не только развлекали их, но и выполняли культурно-информационные функции. В Англии отношения между писателями и драматургами, с одной стороны, и классом капиталистов, с другой, никогда не были идеальными. И все же налицо взаимный интерес. Богатые члены лондонского сообщества активно участвовали в процессе подготовки различного рода процессий, спектаклей, церемоний. К этому их побуждали требования конкуренции и престижа: нужно было превзойти соперников и затмить их. Скажем, одна из самых дорогих постановок времен Шекспира (1613) обошлась организаторам в немалую для того времени сумму (свыше 1300 фунтов стерлингов).[182]
Шекспиру под стать был и упомянутый Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Отец, сэр Николас – хранитель большой печати Англии (второй по значению пост в государстве). Мать Бэкона владела древнегреческим и латынью. Юноша три года учился в кембриджском Тринити-колледже. В 16-летнем возрасте, желая видеть его дипломатом, Бэкона отправляют в составе миссии в Париж. Выполняя ряд дипломатических поручений, он знакомится с жизнью Италии, Испании, Германии, Дании, Швеции, Польши. Затем его назначают старшиной юридической корпорации. Идея to sit in judgment (англ. «быть судьей»), скажем прямо, его не особенно вдохновляла. Постами он не был обделен (адвокат, генеральный прокурор, хранитель печати и государственный канцлер). Находясь на премьерском посту (1618), Бэкон не сумел удержаться от соблазнов. Даже философу трудно порой удержаться на краю бездны, именуемой «алчность». Став членом парламента, он стал жить на широкую ногу, беря взятки. На него накопился такой компромат, что английский король уже не мог терпеть. А так как короли в Англии были в те времена еще независимы, они могли бороться с коррупцией. Король не стал угрожать прокурору, а арестовал первое лицо (премьер-министра страны). Будучи прижат к стенке, Бэкон признался в 23 случаях коррупции. Его удалили от двора, приговорили к штрафу в 40 тысяч фунтов стерлингов и даже (на два дня!) поместили в Тауэр (видно, для острастки).
Придется отделить личные качества этого человека от его роли как ученого. Как человек он, мягко выражаясь, несовершенен. В тяжкую годину его жизни граф Эссекс, друг Бэкона и королевский фаворит, много сделал для него. Он даже подарил ему поместье в Твикнем-парке (в качестве материальной поддержки). Но когда Эссекс уйдет в немилость и будет отстранен от власти, никто иной как королевский адвокат Фрэнсис Бэкон обвинит его в обдуманном и злонамеренном заговоре. Это закончится казнью бывшего друга. Мало того. Он напишет подлую обвинительную «декларацию», тут же обнародованную правительством. И этот жалкий лицемер, что turns King`s evidence (выдав, стал свидетелем обвинения), еще не стесняется оставлять в назидание потомству светлый афоризм: «Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести». Предатели, как видите, существовали во все времена. И даже, как видим, были порой весьма неглупыми людьми. Сей пример из жизни высших чиновников Британии наглядно показывает всё их двуличие и лживость.
Справедливую характеристику дал Лоран Бэкону английский поэт Александр Поп: «The wisest, greatest, meanest of mankind!» (англ. «Мудрейший, величайший, подлейший из людей!»). Ф. Бэкон носил пышный титул лорда Веруламского, хотя правильнее было бы назвать его лорд Вероломный! Неужто прав был другой английский поэт и романист Дж. Мередит, когда в одном из своих сонетов сказал: «Предательство живет в нас изначально»?!
Фрэнсис Бэкон.
В Бэконе сочетались типичные качества британца, создавшие славу и позор Британской империи (проницательный ум, решительность, энергия, лицемерие, коварство, низость). Его судьба еще раз подтверждает справедливость мнения, что во многих из нас живут the idols of the cave (англ. «призраки пещеры», т. е. заблуждения, предрассудки). Если так, то, полагаю, возможен риторический вопрос: «Что оправдывает существование умного негодяя?» Если уж нельзя иначе, если время оказывается сильнее, то, вероятно – лишь неутомимый труд во славу науки и культуры отечества. Тут уместно вспомнить и слова Вольтера, сказанные им в адрес Бэкона: «Он такой великий человек, что невольно забываешь его недостатки».[183]
Ф. Бэкон особое значение придавал прогрессу разума, развитию науки и образования. Там, где их роль велика, сохраняются мир и союз. Когда же они деградируют, все впадает «в анархию и смятение». С их крахом разрушается и государственная основа. Он пишет: «Но это становится еще более очевидным, когда сами цари, владыки или магнаты оказываются людьми образованными. Ведь хотя, может быть, и кажется слишком пристрастным тот, кто сказал: «Только тогда государства будут благоденствовать, когда философы станут царствовать, или цари станут философами», однако по опыту известно, что под властью образованных правителей государства переживали самые счастливые периоды своей истории. Да и сами сенаторы и советники, если они образованны, опираются на более прочные принципы, чем те, которые руководствуются только практическим опытом. Ведь образованные люди заранее видят опасности и вовремя их предупреждают, тогда как необразованные видят их, только вплотную столкнувшись с ними, замечают только то, что им непосредственно угрожает, пребывая в уверенности, что, если будет нужно, они сумеют благодаря своей смекалке выбраться из самой гущи опасностей».[184] Тут он прав. Народ должен выбирать себе в вожди образованных людей.
Фрэнсиса Бэкона относят к «поздним гуманистам». Вера в разум и справедливость, еще присущая Т. Мору, покидает Бэкона. Его совершенно не интересуют вопросы нравственные, вопросы социальной справедливости. «Новая Атлантида», написанная им в старости (ему уже за 60 лет), отражает итоги долгого жизненного опыта. Они не очень-то обнадеживающи. Его отправили в отставку. Под видом описания утопического государства он предлагал читателю новую систему воспитания и образования. Как заметил английский ученый А. Мортон, здесь «в сущности, излагается программа государственного колледжа экспериментальных наук». Описываемый Ф. Бэконом Бензалем – это обычная монархия, ортодоксального типа, где всем и вся заправляют король, его обслуга и чиновники. Все в государстве (кроме властителей и правящей элиты), заняты земледелием. Знания обретаются в школах, практические навыки – на полях. Каждый изучает лишь одно ремесло. Впрочем, желающие могут расширить круг своих навыков и познаний. Большинство (в свободное от работы время) имеет возможность заниматься науками. В качестве главного управляющего предлагается элитарная «коллегия Соломона». Обитатели Бензалема должны слепо ей повиноваться. Философ надеялся трактатом вновь привлечь благосклонное внимание короля Якова, считавшего себя добродетельным, и заигрывавшим с евреями-финансистами. Те обожали, когда их называли «Соломонами своего века».
Трудно ожидать от безнравственных и подлых (хотя и умных) людей нормального воспитания будущих поколений. Теккерей дал Ф. Бэкону такую характеристику: «Бэкон сносил грубое обращение знатных, и в свою очередь, подобно школьнику, передающему значок нарушителя дисциплины следующему провинившемуся, грубо обращался с людьми, стоящими ниже его».
И все же значение Бэкона велико. Дело не только в том, что он дал науке «несравненную рекламу». Ему принадлежит заслуга начертания плана ее развития. Его по праву считают, наряду с Р. Декартом, основателем систем современной науки и философии. Позже Дидро, излагая цели и программу энциклопедистов, отметил его огромный вклад в развитие наук: «Если мы смогли достичь этого, то нашему успеху мы обязаны главным образом канцлеру Бэкону, который набросал план всеобщего словаря наук и искусств в те времена, когда, в сущности, ни тех, ни других не было. В те времена, когда еще было невозможно написать историю того, что было известно, этот необычайный гений написал историю того, что еще предстояло изучить».[185] Фрэнсиса Бэкона считают одним из первых натурфилософов, объявивших эмпиризм главным «делом философии».
Правда, его взгляды на науку как на «дитя революций» не совсем отвечают историческим реалиям. Величайшие открытия действительно часто содержат в себе мощный революционный заряд, но ограничивать процессы познания одними лишь революциями и гениями нельзя. В этом случае может быть несправедливо забыт ценный труд тех, кто работал в тени великих людей, да и в более мирные эпохи. Кому двигать мировую науку далее, если вдруг наблюдается нехватка гениев? При таком раскладе у истории нет ни прошлого, нет будущего. А это крайне печальное и опасное заблуждение.
Согласно такому подходу, как писал Дж. Агасси в «Науке и обществе», физика начинается лишь в XVII в., химия – в конце XVIII в., оптика – в начале XIX в. При этом ничего не стоит впасть в грех революционного экстремизма. Нечто похожее допустил однажды даже великий Лавуазье, когда он и его последователи пришли к заключению, что вся химия, существовавшая до него, была основана «на одних лишь предрассудках». В итоге же, мадам Лавуазье торжественно сожгла труды Шталя, предшественника Лавуазье и выдающегося химика. Подобного рода примеры можно будет встретить и в истории современной науки (хотя бы и в советской России). Автору ближе идея Пьера Дюгема, сторонника континуалистской концепции развития науки. Согласно этой концепции, каждое достижение науки может и должно быть модифицировано, подвергнуто пересмотру (даже учение Ньютона). Хотя Дэвид Юм и считал, что учение Ньютона будет оставаться неизменным до скончания времен. Эйнштейн же подтвердил правоту Дюгема.[186]
Если Бэкон был «головой» новой английской науки, то Уильяма Гарвея правильнее было бы назвать ее «сердцем». У. Гарвей (1578–1657) родился в семье кентского иомена, который с помощью торговли нажил приличное состояние. Гарвей – один из десяти детей. Известно, что в Кембридже он изучал классиков, философию и медицину. Получив степень бакалавра, он должен был уехать в Европу, ибо только во Франции и Италии процветали медицина с анатомией. Гарвей посетил Францию, Германию, а затем поступил учиться в Падуанский университет, где преподавали такие светила анатомии как Везалий, Фаллопий, Коломбо, Фабриций. Здесь он получил степень доктора медицины и право на преподавание во всех странах и учебных заведениях. Гарвей начал практиковать как врач в Лондоне (1609). Ему покровительствовали лорд-канцлер Ф. Бэкон, а затем король. В 1623–1625 гг. его назначили придворным медиком (при Якове и Карле). Карл I был человеком образованным и помогал ему, чем мог (доставлял животных для вскрытии и вивисекций, присутствовал на опытах, защищал от нападок). Гарвей чурался политики. Но в начале революции, граждане Лондона, которых он терпеливо, усердно лечил, разграбили его квартиру. Погибли его рукописи (плод сорокалетних трудов). В 1615 г. ему предложили кафедру анатомии и хирургии в Колегии врачей, а в 1616 г. он уже излагал свои взгляды на кровообращение. В этой связи интересно вспомнить, что Шекспир (умер в 1616 г.) уже намекал на существование кровообращения. К примеру, Брут говорит Порции (в «Юлии Цезаре») о каплях крови, «что движутся в моем унылом сердце», а обретающий дар речи живот (в «Кориолане») бурчит: «Не забудьте, что пищу ту я шлю вам вместе с кровью, что чрез нее и мозг и сердце живы, что от меня вся сила человека». Мысль о кровообращении возникла у Гарвея, видимо, еще в Италии. «Я преподавал и изучал анатомию не по книгам, а рассекая трупы, не по измышлениям философов, а на фабрике самой природы», – скажет он. Его предшественником был Гален, считавший, что кровь движется по венам от сердца и не ведавший, что кровь из артерий переходит в вены и возвращается в сердце. В одном Гален был глубоко прав: в организме человека действительно есть два рода крови – «грубая» и «одухотворенная» (с точки зрения поэзии и мудрости это, вероятно, так). И они крайне редко смешиваются. Более того. Два типа крови в конечном счете и весь род человеческий делят на два различных класса людей. Вскоре вышло его «Анатомическое исследование о движении сердца и крови в животных» (1628). Тем самым тайна природы кровообращения была открыта. М. А. Энгельгардт пишет: «Если Гарвею удалось реформировать физиологию, то эти он обязан своему методу… Он не только открывал новые физиологические явления; он преподавал самые приемы научного мышления. То, что его современник Бэкон проповедовал на словах, Гарвей проповедовал на деле. Первый рассуждал о необходимости индуктивного метода; второй ввел его в науку жизни». В своей работе он опирался и на труды древних мыслителей, ученых и поэтов (Аристотель, Гален, Вергилий). Он хорошо был знаком со многими светилами того времени (Бэкон, Гоббс, Коули, Драйден и др.). Известно, что Драйден и Коули писали в его честь стихи. Гарвей не мог не оценить по достоинству ума и остроумия Бэкона, хотя и говорил, что тот «пишет о философии, как лорд-канцлер». Он и сам был остроумным собеседником. «Когда послушаешь нашего Гарвея, – говорил Веслинг, – поневоле поверишь в обращение крови». На свои деньги он выстроил дом для Лондонской коллегии врачей, где поместил библиотеку. Буквально до последних дней он, как говорится, дышал его любимой наукой.[187]
Уильям Гарвей.
Крупнейшим европейским материалистом XVII в. предстал английский философ-эмпирик Томас Гоббс (1588–1679). Он явился на свет, как мы бы сказали, в «разночинной» семье (мать – крестьянка, отец – рядовой священник). Ходил в церковную и городскую школы. К 14 годам он так основательно овладел древними языками, что смог перевести на латынь «Медею» Еврипида, а в 15 лет Томас уже поступил учиться в Оксфордский университет, который с успехом закончил. У него остались не лучшие воспоминания о схоластической манере преподавания. Поэтому, признавая полезную роль университетов, он нередко критиковал методы обучения. Университеты Англии представляли собой консервативные учебные заведения. Математика считалась «черной дьявольской наукой». Естественные науки делали только первые шаги. Гоббса рекомендовали гувернером в одну из самых знатных семей Англии. Это давало возможность совершенствоваться в науках и языках.
Гоббс, переводит «Историю пелопоннесской войны» Фукидида. Цель перевода – осмыслить опыт древних народов, чтобы избежать в будущем повторения трагических ошибок. Знание прошлого помогает найти верную дорогу. Как скажет впоследствии Карлейль: «Ничто так не научает, как сознание своей ошибки». Гоббс много путешествует, проведя более двадцати лет во Франции, Италии, Германии. Встречается с Галилеем, Декартом, Гассенди. Все это время занимается философией («единственная вещь, которая требовала от меня верности ей»). Он принадлежал к породе людей, о которых англичане говорят как о self-made-man (англ. – «человек, всем обязанный самому себе»). Такие люди не привыкли рассчитывать на покровителей. Гоббс с головой окунулся в политику: в споре короля с парламентом он занял сторону первого. Карл II, «душка Чарли» – прилежный, но не очень талантливый ученик великого мыслителя. Урокам и умным беседам он предпочитал хороших лошадей. (Правда, с той эпохи Англия всерьез полюбила скачки). Не очень хорошо складывались отношения Гоббса с парламентом. Тот провел реформы, ограничившие королевскую власть. При этом некоторые министры были объявлены государственными преступниками, а граф Страффорд обвинен в государственной измене и казнен. Пришлось и философу задуматься над своей возможной судьбинушкой.
Символическое изображение Левиафана.
Гоббс бежит в Париж, где работает над книгами – «О гражданине» (1642), «О теле» (1655), «О человеке» (1658). В «Левиафане» изложены вопросы политической теории и государства. Государство представлено как бы в виде «искусственного человека». Одновременно рассматривается и «материал, из которого он сделан». Из книги Гоббса многие будут черпать материал для своих теорий и размышлений. Она многих сделает «государственниками». Впрочем, и враги государства обрушились на Гоббса с острой критикой. Ведь он осмелился написать о том, что людям свойственно терять человеческий облик во время гражданской войны. Не пожалел он и правителей, сказав, что те живут в постоянной вражде друг с другом, снедаемые жесточайшей и непрерывной завистью («короли и лица, облеченные верховной властью»). Книга сразу попала в число запрещенных работ. Вот как говорилось о ней в печати: «В Лондоне опубликована книга, и была она прочитана великими и учеными мужами, и стала она известной, называясь ужасным именем – «Левиафан». Какова главная ее идея? Конечно же, не в расхожем определении, что в естественном состоянии «человек человеку волк» (Homo homini lupus est). Это было известно и ранее. Ну а если, как скажет позже О. Мандельштам, «не волк я по крови своей»? Хотя для читателя, окунувшегося в мрачно-апокалипсические реальности нынешних будней, думаю, понятен призыв философа к сильной и справедливой власти.
Наилучший образец власти в подобные смутные времена – просвещенная диктатура, даже если это и связано с известным риском. Почему Гоббс выступил сторонником авторитарной власти? Потому что он считал, что большим государством только так и можно эффективно и хорошо управлять. Он сравнивал рассредоточение власти в руках многих с положением, как если бы верховная власть «находилась в руках малолетнего». При авторитарной власти правитель (если, конечно, он смел, умен, образован) вынужден стремиться к благоденствию народа, ибо ведь и его положение обусловлено богатством, силой и славой подданных. При демократическом или аристократическом правлении такая возможность чаще всего отсутствует. Там любой корыстолюбивый или честолюбивый государственный деятель, как правило, scoundrel («негодяй»). Его главная забота – обеспечить правдами и неправдами свое собственное благополучие, а не благосостояние народа.
В своих рассуждениях Гоббс не мог обойти молчанием пример Голландии. Что бы там ни говорили, а та выглядела привлекательнее всем известной деспотической монархии. Он пишет: «И я не сомневаюсь, что многие люди были бы рады видеть недавние смуты в Англии из желания подражать Нидерландам, полагая, что для увеличения богатства страны не требуется ничего больше, как изменить, подобно Нидерландам, форму правления. В самом деле, люди по своей природе жадны к переменам. Если поэтому люди имеют перед собой пример соседних народов, которые к тому же еще разбогатели при этом, то они не могут не прислушиваться охотно к тем, которые подстрекают их к переменам. И они рады, когда смута начинается, хотя горюют, когда беспорядки принимают затяжной характер, – аналогично тому как нетерпеливые люди, заболевшие чесоткой, раздирают себе (тело) своими собственными ногтями, пока боль не становится нестерпимой».[188] Позволю себе тут заметить, что указанные слова Гоббса полностью ложатся на пример ельцинской России, где огромные массы людей точно так же решили, что достаточно им перенять образ правления «демократических и цивилизованных» государств США и Западной Европы, как они тут же разбогатеют в результате этих перемен и станут жить, как у Христа за пазухой. К счастью, период этого «либерально-демакратического» безумия почти закончился и наступило отрезвление здоровой части общества.
Хотя ведь и Британия демонстрировала главенство буржуа над королевским абсолютизмом! Сменились не только формы власти – изменился правящий класс. Центром и арбитром в стране стал Парламент. Формально первым европейским парламентом считался исландский (тинг-альтинг), но англичане закрепили в сознании мира и Европы образ разумной парламентской республики. Так что в общепринятом понятии «свободы», если внимательно присмотреться, на самом деле масса деталей от костюма англицкого покроя.
Главной задачей демократического правления является защита граждан (их жизни и собственности) от действий бандитов и корыстных преступных политиков. Это достигается законом, а также свободой слова. Вспомним слова Цицерона: «Мы истинно свободны, когда мы сохранили способность рассуждать самостоятельно, когда необходимость не заставляет нас защищать навязанные и, в некотором роде, предписанные нам мнения».
Гоббс говорит: «И чинимые ими (авт. – знатью) насилия, притеснения и обиды не смягчаются, а, наоборот, усугубляются высоким положением этих лиц, ибо они меньше всего совершают это из нужды. Последствия лицеприятия по отношению к знатным людям развертываются в следующем порядке. Безнаказанность рождает наглость, наглость – ненависть, а ненависть порождает усилия свергнуть всякую притесняющую и наглую знать, хотя бы и ценой гибели государства. К равномерной справедливости относится также равномерное налоговое обложение, равенство которого зависит не от равенства богатства, а от равенства долга всякого человека государству за свою защиту… И если многие люди вследствие неотвратимых случайностей сделались неспособными поддерживать себя своим трудом, то они не должны быть предоставлены частной благотворительности, а самое необходимое для существования должно быть им обеспечено законами государства… Иначе обстоит дело с физически сильными людьми, ибо таких надо заставить работать, а для того чтобы такие люди не могли отговариваться отсутствием работы, необходимо поощрять всякого рода промыслы, как судоходство, земледелие, рыболовство и все отрасли промышленности, предъявляющие спрос на рабочие руки».[189]
Гоббс убедился, как трудно быть пророком в своем отечестве. Он вынужден бежать во Францию, опасаясь преследований со стороны Долгого парламента. Вернувшись на родину в годы Реставрации, он увидел, что и власть королей ничуть не лучше. Несмотря на то он пару лет обучал математике будущего короля Карла II, тот, наградив его пенсией в 100 фунтов стерлингов в год, забывал ее выплачивать. Палата общин создала специальный комитет, чтобы исследовать атеистические работы, куда включила и работы Гоббса (не зря он обозвал свою злую работу о парламенте «Бегемотом»). «Бегемота» печатали за границей. Собрание сочинений появилось в Амстердаме (1668).[190] А как повели себя английские ученые мужи? Вскоре после смерти Гоббса иные умники из Оксфордского университета не постеснялись выпустить суровый декрет против «некоторых вредных книг и достойных осуждения ученых, которые подрывают авторитет священных особ монархов, их правительства и государства» (1682). В документе осуждались те стороны теории Гоббса, где сказано о зависимости власти от народа и о том, что всякая власть корнями своими уходит в волеизъявление нации: «Глас народ – глас Божий?»
Их кредо было иным: свобода и право существуют только для них, избранных. Демократия – всего лишь удобная ширма, за которой можно скрывать преступления или обычную трусость. Поэтому они и плетут заговоры против народов. Книги Гоббса «Левиафан» и «О гражданине» были преданы сожжению в цитадели науки и свободы – в Оксфордском университете (под аплодисменты профессуры). Хотя в это трудно поверить (как? в Англии!?). Счастье еще, что, как говорится, littera scirpta manet (написанное остается).
Ученые мужи лишь подтвердили высказывание Д. Локка: «Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими духовными задатками; в людях, не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще более глупыми и дурными». При всех своих недостатках люди народа нам ближе и понятнее. Образы таких вот пуритан-англичан запечатлел Вальтер Скотт в лице Аввакума Многогневного и Джона Берли в одноименном романе. Здесь впервые заговорили народные массы. Заговорили как проповедники, солдаты, учителя. Их трибуна – не университетская или церковная кафедра, а на открытое поле, в стане восставших. А это, как говорят в Шотландии, а far cry (огромная разница) по сравнению с парламентской трибуной, с которой выступали буржуа. Иначе звучат и речи… «Речь Многогневного была в такой же мере дикой и несообразной, в какой неожиданным и несвоевременным было его вторжение на трибуну, но она била в самую точку, так как поднимала больные вопросы, обсуждение которых, с общего согласия, предполагалось отложить до более благоприятной поры».[191] Fiat justitia… (лат. «Да свершится правосудие»). Страсть и искренность восставшего народа выше воспитания и культуры.
Консервативные пресвитерианцы выступали за введение строгой цензуры на печатные издания. При иных обстоятельствах известная доля строгости и пуританизма жизненно необходима для общества. Важно чувство меры. В Англии философов, отстаивавших принцип свободы и независимости, энергично поддержали литераторы. Воздадим должное светлой памяти английского первопечатника Уильяма Кекстона(1422–1491). Благодаря ему идеи свободомыслия, науки, культуры нашли в Англии материально-экономическую опору. «Презренный металл», будучи вырван из рук ростовщиков-иудеев, обретал в Англии легитимность, ореол почитания и благочестия, явившись в пуританско-реформаторских одеждах.
Последовательным защитником свободы слова и печати выступил великий английский поэт Джон Милтон (1608–1674). Родился он в Лондоне, где и пройдет вся его жизнь, в семье состоятельного нотариуса. Отец был не чужд знаний и талантов. Атмосфера, царившая в семье, заметно ускорила духовное и интеллектуальное развитие юноши. Здесь любили литературу, звучала музыка (отец играл на органе и скрипке, сочинял мадригалы. Милтон учился упорно и настойчиво. Он писал: «Жажда знаний была во мне столь велика, что, начиная с 12-летнего возраста, я редко когда кончал занятия и шел спать раньше полуночи». О годах своего детства (устами Христа в «Возвращенном рае») он скажет:
И будучи ребенком, не любил Я детских игр. Мой ум стремился к знанью, К общественному счастию и благу.Он посещает лучшую лондонскую школу того времени (при соборе св. Павла). Здесь царит культ знаний. Повсюду латинские надписи типа: «Ingredere ut proficias» («Начни, дабы принести пользу»). Наиболее краткая и внушительная: «Либо учить, либо учиться, либо уйти». Директором тут был известный гуманист У. Лилли. Порядки в школе строгие. Учат латыни, греческому, древнееврейскому, восточным языкам. В 16 лет Милтон стал студентом Кембриджа. Если Оксфорд слыл цитаделью англиканских убеждений, то Кембридж считался центром пуританизма. Студенты распределялись по 16 колледжам, и Джон Милтон попал в «Колледж Христа». Трудно сказать, чего еще рассадником был тогда почтенный Кембридж, но Милтона поселили в грязноватом здании со зловещим названием – «Крысиный зал». Через 4 года он стал бакалавром, а спустя еще 3 года – магистром искусств. Для преподавания в университете пришлось бы надеть рясу (таковы были правила). Его это не прельщало. Милтон укрылся в поместье отца в Хортоне и весь отдался литературе (первые стихи написаны в 15 лет). В 1638–1639 гг. он посещает Италию – родину итальянских гуманистов. Штудирует и философию, говоря: «Божественная философия! Ты не сурова и не суха, как думают глупцы, но музыкальна ты как лютня Аполлона! Отведав раз твоих плодов, уже вечно можно вкушать на твоем пиру тот сладостный нектар, от которого нет пресыщения».[192]
Его пуританская натура рвется из Италии домой, к родным берегам. Ведь, на родине, в Англии, назревают серьезные события. Страна гудит, как растревоженный улей. Грядет битва за свободу. «Я считал, что было бы низко в то время, когда мои соотечественники боролись за свободу, беззаботно путешествовать за границей ради личного интеллектуального развития». Милтон спешно возвращается в Англию, где начинает выступать с острыми памфлетами против господствующей англиканской церкви. Его талант сравнивают с гением, что может «высечь колосса из гранитной скалы».
Занимаясь воспитанием племянников, он работает над трактатом «О воспоминании» (1644). Вскоре ему пришлось окунуться в гущу действительности. Пуритане-пресвитерианцы приняли в парламенте закон о введении строгой цензуры на печатные издания. Милтон отвечает «Ареопагитикой, или Речью о свободе слова». Свобода слова рассматривается как важнейший принцип демократии. Как же можно «убивать» книгу?! «Убить книгу – почти то же, что убить человека, – писал он. – Тот, кто уничтожает книгу, убивает самый разум… многие люди живут на земле, лишь обременяя ее, но хорошая книга есть жизненная кровь высокого разума». Таково его понимание роли книги в жизни человека и общества. Пушкин скажет: «Милтон, друг и сподвижник Кромвеля, суровый фанатик, строгий творец… Тот, кто в злые дни – жертва языков, в бедности, в гонении и слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный рай».
В трактате «Обязанности королей и магистратов» Милтон доказывает, что источник подлинной свободы – народ. Народ может избрать правителя, либо его отвергнуть («поставить его или сместить»). Когда суверен заботится не о нуждах народа, а лишь о себе и своих приближенных, народ обязан призвать его к ответу (и даже казнить). Революции нужен был такой просвещенный, умный, честный и энергичный человек. В итоге, 13 февраля 1649 г. его назначают Секретарем Республики по иностранным делам. Разве не так же два с половиной века спустя молодая Советская республика призвала заниматься иностранными делами образованнейшего Г. В. Чичерина?! Милтон не щадит себя, работая днем и ночью. Он переводит Декларацию об установлении республики, текст которой вскоре разошелся по миру. Английские революционеры понимали: революция должна уметь себя защищать. И не только огнем пушек, но и сильным, разящим словом. Государственный Совет приказывает президенту Брэдшоу: «приготовить акт, запрещающий печатать бранные и оскорбительные памфлеты против республики». 20 сентября 1649 г. учрежден Акт о печати, требовавший строгого контроля над газетами и информационными листками. Милтон поставил дело так, что стоеросовой цензуры не было («цензоры согласно этому акту не назначаются, так что каждый может публиковать свою книгу без разрешения цензуры, при условии, что имя печатника или автора будет указано, если это понадобится»). Говори правду, но не смей клеветать и лгать, ибо можешь понести за это наказание!
Джон Милтон.
Представляется и сегодня нелишним выступить в защиту умной и честной печати, дав всего лишь один отрывок из милтоновской «Ареопагитики (О свободе печати)». Вот что он пишет: «…Итак, видя, что те многочисленные книги, которые якобы оскверняют и жизнь, и веру, нельзя запретить без ущерба цивилизации и свободного мнения; что всякого рода книги чаще и прежде всего попадают в руки людей ученых, которые могут передать остальным все, что в них есть еретического и порочного; понимая и то, что дурные навыки распространяются и без книг тысячью других способов, которые невозможно устранить, да и ложные учения могут проповедоваться помимо книг, ибо их сторонники могут обходиться и без печатных сочинений и таким образом пренебрегать запрещениями, – сознавая все это, я отказываюсь видеть в этой хитроумной затее с цензурою что-нибудь еще кроме повторения старых, тщетных и бессмысленных предприятий. И, право, трудно тут удержаться от забавного сравнения с тем господином, который запер ворота своего сада, надеясь таким способом переловить в нем всех ворон… И потом, если справедливо, что умный человек, подобно хорошему старателю, умеет добыть золото из самой пустой книги, тогда как дурака не исправит ни самое лучшее чтение, ни совершенное отсутствие оного, – то для чего же нам лишать умного возможности обнаружить свой ум, в то же время заботясь о глупце, которого эта мера никак не избавит от глупости?»[193] Как тут не вспомнить известный афоризм, сказанный некогда в нашей в России: «Пусть пишут, дабы глупость каждого была видна».
Показателен и один из милтоновских сонетов, выразивших его позицию (сонет «Новым гонителям свободы совести при Долгом парламенте»):
Как смелы вы, кем требник запрещен И свергнут лишь затем прелат верховный, Чтоб вновь с Многоприходностью греховной Блудил, как с девкой, ваш синедрион, Настаивать, что должен нас закон Синодам подчинить, лишив духовной Свободы, данной нам от бога, словно А.С. иль Резерфорд мудрей, чем он? <…> И наш парламент скоро Меч против фарисеев пустит в ход, Не уши им, но руки отсечет И край от них спасет…Каковы его взгляды на характер власти и того общественного строя, что утвердился в Англии в результате революции? Он был яростным сторонником «Доброго Старого дела», имея в виду всю гамму пуританских и индепендентских ценностей. Конечно, он восхищался Кромвелем, другими вождями Республики несмотря на то, что те разогнали парламент, где заседало «охвостье». Милтон уверен: это отвечало коренным интересам английского народа и революции в то время. Несмотря на слепоту (сказались годы тяжкой, неусыпной работы), Милтона оставляют на посту секретаря. Тем не менее в парламенте и Совете («собранье развратителей») он предпочитал редко бывать.
Наихудшие опасения поэта подтверждались. Новые правители стали обогащаться, ударились в соблазны и роскошь. Милтону ясно: ни элита, ни народ не отвечают требованиям времени. Что делать? Просвещать тех и других. Сама Реформация нуждается в реформе. Необходимо написать еще более убедительную книгу, нежели «Защита английского народа». Нужно предостеречь народы против власти ловких демагогов. Он терпеть не мог «грубое большинство, шумливое и кричащее», однако не идеализировал и либеральное охвостье.
Массам необходимо хорошее воспитание, культура, образование. «Чтобы сделать народ пригодным выбирать, а избранных – пригодными управлять, – диктует он (зрение покинуло его), – необходимо исправить наше испорченное и никуда не годное образование, учить людей вере в сочетании с добродетелью, умеренностью, скромностью, рассудительностью, бережливостью, справедливостью, учить его не восхищаться богатством или почестями; ненавидеть буйство и амбиции; ставить каждому свое личное благосостояние и счастье в зависимость от всеобщего мира, свободы и безопасности». Он требует повсеместного создания школ и академий для детей из всех слоев общества.[194]
Английские мыслители оставили заметный след и в педагогике. Философ Джон Локк (1632–1704) – бесспорно ярчайшая фигура, подлинный основатель английского Просвещения… Джон появился на свет в семье адвоката, придерживавшегося строгих взглядов на воспитание детей. В 15 лет его посылают в Вестминстерскую школу Лондона. В школе Локк изучал классические языки (латынь, греческий, древнееврейский). Учеба тогда была делом не простым: учебный день начинался – в 5.15, в Оксфорде – в 5.00, в классах частенько пороли. О том, что представляло собой тогдашнее обучение, писал и сам Локк, говоря о Вестминстере как о «суровой школе». Он советовал Э. Кларку направить своего непутевого сына в одно из таких «богоугодных заведений», где его как следует выпороли бы, дабы тот «впоследствии, возможно, проявил больше склонности и желания учиться дома». Его заветной мечтой было поступление в университет Кембриджа или Оксфорда. Он получил на конкурсной основе стипендию в 20 фунтов, что дало ему возможность поступить в колледж Крайст Черч в Оксфорде. Изучая историю, философию, языки, ботанику, химию, медицину, он стремился объять необъятное (в его библиотеке – 3600 книг, 402 – медицинские и 240 – научные). Локк стал старшим преподавателем колледжа, отдав свое сердце студентам. Родители и оба брата умерли. Жениться так и не удосужился. Дальнейшая его жизнь связана с педагогической деятельностью: учитель в семьях знатных вельмож. Локк воспитывал детей, наблюдал за их здоровьем, учил их чтению. Авторитет его школы рос быстро.
Если во взглядах Гоббса есть нечто от английского шкипера, укрощающего корабль в волнах океана, то Локк – прагматик свободного толка, дающий разуму право выбора. Он придавал большое значение «реальному обучению»: естественнонаучным дисциплинам, стенографии, бухгалтерии («знаниям, требующимся для промышленности и торговли»), наряду с изучением истории, этики, права. Локк подчеркивал важность занятий историей, «так как никто не учит и ничто не восхищает так, как история». Искусство воспитания и обучения непременно должно способствовать укреплению в человеке системы нравственности, гражданских начал, подлинного ars vitae (искусства жизни).
«Мысли о воспитании» (1693) – важный документ образовательного кодекса. К ребенку нужно подходить строго индивидуально, так как «вряд ли найдутся двое детей, в воспитании которых можно было бы применить совершенно одинаковый метод». Локк – противник формальных методов обучения. Они навевают скуку. Он советовал подходить с умом к обучению: «Счастье или несчастье человека большей частью является делом его собственных рук. Тот, чей дух – неразумный руководитель, никогда не найдет правильного пути, а тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не будет в состоянии продвинуться вперед по этому пути». А то о многих людях можно сказать – better fed than taught! (англ. «вырос, а ума не нажил»). Важное дело и воспитание характера: «Обучать мальчика нужно, но это должно быть на втором плане, только как вспомогательное средство для развития более важных качеств. Ищите человека, который знал бы, как можно формировать характер мальчика, отдайте его в такие руки, которые смогут, в пределах возможного, охранить его невинность, любовно поддержать и развивать в нем хорошие начала, мягкими приемами исправлять и искоренять все дурные наклонности и прививать ему хорошие привычки… Это самое главное…»[195]
«Мысли о воспитании» Локка ставят в один ряд с: «Воспитателем» Томаса Элиота (1531), «The Scholemaster» (1570) Роджера Эшема, книгами под названием «The Compleat Gentleman», первая из которых была написана Генри Пичемом в 1622 г., а вторая – Жаном Гейяром в 1678 году.[196]
Политическая деятельность Локка отмечена взлетами и падениями. В политику его привлек Эшли, граф Шефтсбери, чьим другом и помощником он был. В 1672 г. Шефтсбери стал главой правительства (когда его кабинет пал, Локк уехал во Францию). Вновь в кабинет Локк попал уже в 1679 г. (с тем же Шефтсбери, назначенным лордом-председателем Тайного совета). Позже тот обвинен в заговоре против короля Иакова II и заключен в Тауэр за участие в Монмутском восстании. Шефстбери уехал в Голландию и там умер. Туда же направился и Локк, живя под чужим именем. Он был деловым человеком. Будучи комиссаром торговли и колоний (с 1696 г.), Локк активнейшим образом влиял на внешнюю политику страны, способствовал учреждению Английского банка и ряда частных компаний, проведению денежной реформы, утверждению свободы печати. Таков сей многогранный и необычайный талант, воплотивший лучшие черты английского народа.
Локк развил свои идеи в «Опыте о человеческом разуме» (1690), произведении, над которым автор проработал в общей сложности около 20 лет… В книге рассмотрены различные стороны познания. Учение Локка оказало влияние и на Вольтера. Французский философ называл теорию Локка «учением о душе», отведя ей видное место в «Английских письмах». По его мнению, до Локка единственное, чего удалось добиться «резонерам», так это написать «романы души». Локк первый «скромно изложил ее историю», сумев раскрыть человеку его разум так, как «хороший анатом объясняет строение органов человеческого тела». Англия и Локк позволили Вольтеру выйти во всеоружии на битву с католицизмом и Римской церковью.
Локк свято верил в нерушимость законов частной собственности. В его понимании они сродни законам природы. Мы не склонны абсолютизировать роль собственности в жизни человека. Тем не менее не стоит и преуменьшать ее организующее, дисциплинирующее воздействие. Далеко не все способны добровольно подняться до сияющих высот Разума. Вероятно, есть доля истины в латинском изречении: «Mens hebes ad verum per materialia surgit» («Тупой ум восходит к истине через материальные блага»).
Однако это же справедливо и в отношении любой власти. Она нуждается в кнуте и дамокловом мече. Почти все крупнейшие просветители Европы – сторонники концепции равновесия сил и разделения властей. Поскольку надежд на то, что «закон будет править королем», мало, исполнительную верховную власть нужно жестко ограничить. Англичане сочли, что главное место среди ветвей власти должно принадлежать парламенту (прежде всего Палате общин). А Болингброк заметил: «парламенты – истинные хранители свободы».
Жесткую позицию в этом вопросе занимал Локк. Он отдавал пальму первенства законодательной власти, отмечая, что все другие виды власти «проистекают из нее и подчинены ей». Исполнительная же власть (прежде всего ввиду ее огромных полномочий и возникающих в этой связи колоссальных возможностях злоупотреблений) должна быть не только строго подотчетна парламенту, но и может быть изменена и смещена им в случае надобности. Сыны народа, представленные в парламенте, должны «открыто и откровенно разговаривать с правителем». Все ошибки его правления, «какими бы постыдными они ни были, не должны замалчиваться, а, напротив, должны быть открыто обнародованы с тем, чтобы устранить их последствия». Подумать только, англичане 300 лет тому назад уже осмеливались делать то, о чем мы, россияне, сегодня только-только еще робко начинаем говорить!
Карикатура на общество английских бюргеров (1819 г.). «Кому живется весело и вольготно в Европе?»
Чтобы сдержать короля и помешать злоупотреблениям со стороны его самого и его свиты, парламент обязан «подхлестывать» и чиновников. Локк прямо высказывался в отношении некоторых нерадивых особ: «Если министров и их приспешников будут ожидать не титулы, голубые ленты, ордена Подвязки, дары, пенсии, денежные вознаграждения, должности, конфискованные владения и т. д., а тюремные заключения, штрафы, публичные осуждения за их плохую деятельность, то мы очень скоро увидим совершенно иной стиль работы».[197]
Учение Локка воскресило идею цельного человека Возрождения, придав ей в том числе и новое терминологическое значение. Как писал историк Г. Хикольсон, из всех английских мыслителей Локк наиболее впечатляющ и велик. «Никто иной как Локк ввел в научный обиход такие известные ныне категории, как «индивидуализм», «разум», «толерантность», «собственность», «полезность», «величайшее счастье для наибольшего числа людей». Джон Локк был куда более открыт свободному поиску истины и протесту, нежели хотя бы тот же Юм, смертельно боявшийся каких-либо потрясений и утверждавший, что любой, даже самый наихудший установившийся порядок лучше наисправедливейшей из революций. Видно, не случайно не откуда-либо, а именно из локковской школы в скором времени и выйдут такие глашатаи свободы в Англии как Толанд, Шефтсбери, Болингброк».[198] Локк – сторонник сохранения в отношениях меж людьми определенной этики. Он говорил: «Вежливость – первая и самая приятная добродетель».
О его жизни можно сказать кратко – Res ipsa loquitur (лат. «Дело говорит само за себя»). Поэтому написанная им самим эпитафия, помещенная на его могиле вполне соответствует тому, что он сам всегда думал о себе, равно как и о смысле всей жизни: «Здесь покоится Джон Локк. Если вы задаете себе вопрос, каким человеком он был, то ответ состоит в том, что он был доволен своей скромной судьбой. По образованию ученый, он посвятил свои научные изыскания поискам истины. Об этом вы можете узнать из его сочинений».[199]
Когда в Англии бушевала гражданская война, а армия парламента схватилась с войском короля, в рождественскую ночь появился на свет Исаак Ньютон (1642–1727)… Он родился, когда доживал свои дни великий Галилей… Порой создается впечатление, что сама природа позаботилась о том, «чтобы цепь гениев не прерывалась». В суровое время явился на свет этот болезненный и одаренный мальчик. Чума и пожары, ураганы и армии проносились над Англией, подобно безжалостным «всадникам смерти».
Семья И. Ньютона была обеспеченной. Отчим был человеком достойным, но ребенок в основном воспитывался бабушкой. А мальчик, предоставленный лишь женскому вниманию, имеет не много шансов стать настоящим мужчиной. Все это делало его нелюдимым и замкнутым. Безумные мысли преследовали Исаака: не сжечь ли дом отчима (за то, что «отнял» у него мать). Этим список его «грехов» исчерпан.
В школе он сторонился сверстников, не принимая участия в их играх. Однако всегда выигрывал у них в шашки. Сверстники отмечали его неуживчивый характер. Нельзя сказать, чтобы он выделялся и умственными познаниями. В списке успеваемости он находился на предпоследнем месте, опережая, по словам историка, лишь «явного идиота». Впоследствии эту удивительную и шокирующую оценку опроверг сам Ньютон, рассказав, как из последнего ученика сделался первым. Произошло это так. Один из школьников жестоко его избил. Ньютон избрал оригинальный способ мести «толпе»: стал усиленно заниматься и вскоре сделался первым учеником в школе. Если бы силу множества идиотов можно было остановить одним мановением высокой мысли гения и таланта, сколь прекрасен стал бы наш мир!
Юноша в тиши уединения читал Овидия, рисовал, конструировал (солнечные и водяные часы). В записную книжку («Сад») он заносил зерна идеи, мысли, проекты, изобретения, результаты экспериментов. Член Королевского общества У. Стьюкли (автор «Мемуаров», увидевших свет в 1936 г.), писал: «Мне кажется довольно вероятным, что раннее мастерское владение сэром Исааком Ньютоном механическими приспособлениями и его мастерство в рисовании и проектировании сослужили… хорошую службу в его экспериментальном пути в философии и подготовили прочный фундамент для развития его пытливого ума». Механика проложила путь его открытиям. Он проявлял любовь к живописи и поэзии (писал картины и стихи).
Непросто складывалась судьба молодого Ньютона и в Кембридже, где он из-за скаредности матери фактически очутился на положении слуги. Жизнь его принимала скрытный характер (сжег письма, не вел никаких дневников, не остался в воспоминаниях соучеников, часть бумаг сгорела во время пожара в Кембридже). Он весь ушел в учебу. Страшная чума 1665–1666 годов удержала молодого человека дома. Год великого пожара, когда исчез старый Лондон, почему-то именуется им в биографии как annus mirabilis («изумительный год»). В 1665 г. он получил степень бакалавра, затем степень магистра искусств (1668), став постоянным сотрудником Колледжа Св. Троицы.
Взор Ньютона обращен к Декарту… Тот подхлестнул его ранние опыты в области механического конструирования. Декартовские «Начала философии» стали настольной книгой юноши. В записной книжке Ньютона читаем: «В философии не может быть государя, кроме истины… Мы должны поставить памятник из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: «Платон – друг, Аристотель – друг, но главный друг – истина». В поисках истины он обращается к гоббсовскому «Левиафану», к трудам Р. Бойля, к «Диалогам» Галилея. Он трудится ночами, испытывая упоение от занятий наукой. Молодой ученый не только вначале пренебрегал публикациями, но порой и выказывал к ним «нескрываемое отвращение». Смысл своих научных бдений Ньютон выразил одной фразой: «Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов».
Интеллектуальным отцом Ньютона стал Исаак Барроу, известный в Англии эрудит, знаток древних языков, математик, физик, богослов, один из самых знаменитых британских проповедников. Поэмы его читались королевским двором, живой литературный язык восхищал англичан. Известен он и как автор поэмы «Слезы Кембриджа». Он во многом и помог Ньютону быстро подняться по академической лестнице и получить профессорское место. Уже в то время быть английским профессором считалось престижным (им платили порядка ста фунтов в год). Ньютону везло на тех, кто помогал ему упрочить славу. Так, члены Королевского общества, осуществлявшие регулярную переписку с английскими и континентальными учеными, разослали по всему свету статью Ньютона («Об анализе уравнений с бесконечным числом членов»). Можно смело утверждать: знаменитое «ньютоново яблоко» не упало бы, если бы прежде не потрясли древо науки. Говорят, что учение о всемирном тяготении явилось в результате отшельничества Ньютона. В Кембридже явилась эпидемия (1666). Ньютон уединился в Вульсторпе, рассуждая под небом – и «эврика». Что же до легенды, о законе гравитации, выведенном Ньютоном под деревом, Байрон скажет о нем так: «Man fell with apples and with apples rose» («Человек пал из-за яблока и с яблоком воспрянул вновь»).
Ньютон впоследствии признавал, что математической формуле, в которой выражена суть этого закона, он во многом обязан изучению законов Кеплера. Тот в 1619 г. издал знаменитую «Гармонию мироздания», находясь «на расстоянии одного шага от открытия Ньютона». То, как шли и идут к истине ученые, свидетельствует в пользу единого научного сообщества.… За Кеплером шел Роберт Гук. В том же 1666 г. он прочел в Лондонском королевском обществе отчет об опытах над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела относительно Земли. Надежды Гука построить «целую систему мироздания» не завершились успехом. Он еще не обладал математическим методом анализа бесконечно малых величин, известный ныне как дифференциально-интегральные исчисления. Позже француз Огюст Конт скажет, что дифференциальное исчисление, или анализ бесконечно малых величин, есть тот мост, который был перекинут Ньютоном между конечным и бесконечным, между человеком и природой. Прошло не так много времени и Ньютон удивил мир. Три года спустя после француза Пикара, он сумел вычислить диаметр земного шара. Рассчет оказался точен: сила, заставлявшая тела падать на Землю, равна той, которая управляет движением Луны. Это дало ему возможность создать «систему мирозданья». Так родился ряд его выдающихся теорем о движении планет. Оправдались слова ученого о том, что гений это терпение научной мысли, сосредоточенное в известном направлении. Ньютон впоследствии не раз проявлял свои потрясающие способности.[200]
Наконец, увидел свет его знаменитый труд, на титульном листе которого стояло: «Математические начала натуральной философии. Автор Ис. Ньютон» (1687). Напомним, что крупнейшее математическое сочинение древности, трактат Эвклида, имело сходное название – «Архай» («Начала»), как и труд глубоко почитаемого им Декарта – «Начала философии». Правильнее было бы назвать сей труд – «Математические основы физики», ибо речь тут шла о важнейших её категориях (пространство, время, движение, силы). Третьей книге «Начал» Ньютон предпослал «Правила философствования» (их четыре). Для анализа этапов эволюции человечества, вероятно, наибольшее значение имеют первых два правила, выводящих некий общий закон его развития… Ньютоновы «правила» звучат так: «Не следует искать в природе других причин, кроме тех, которые достоверны и достаточны для объяснения явлений. Недаром философы говорят: природа ничего не делает напрасно. Напрасно – значит при помощи многих средств, когда можно обойтись немногими. Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Поэтому одинаковые явления нужно объяснять по возможности одними и теми же причинами. Например: дыхание у человека и у животного; падение камня в Европе и в Америке; свет от огня в очаге и свет от Солнца; отражение света на Земле и на планетах…»[201]
Оставим анализ математических открытий Ньютона специалистам, бросим взор на то, как чувствовал себя Ньютон в роли 27-летнего профессора в Кембридже. Исследователи его жизни и творчества отмечали, что Ньютон имел обыкновение тщательно готовиться к лекциям. Однако Кембридж переживал не лучшую пору. На лекции и занятия Ньютона, как и на лекции Барроу, ходили плохо. Он даже сравнивал себя с Софоклом (тому приходилось играть в пустом театре, без труппы и без хора). Студенты пренебрегали обязанностями, в чем им подавали пример их профессора… Профессор арабского языка, даже прибил на двери аудитории табличку: «Завтра профессор арабского языка уходит в пустыню» – а затем и вовсе прекратил читать лекции. Ньютон, если кто-нибудь забредал иногда на его лекцию, читал ему полчаса. Если же в аудитории его встречали пустые стены, он уходил через пятнадцать минут. Любопытно, что ни один из окончивших Кембриджский университет так и не смог впоследствии точно вспомнить, что он когда-либо слушал лекции почтенного Ньютона.[202]
За фигурой «отца и главного архитектора классической механики» хотелось бы разглядеть человека. Жизнь его определялась воздействием двух главных факторов: преданностью науке и пуританской верой. Как пуританин Ньютон придерживался строгих воззрений. Это помогало ему в жизни и труде. Однако в церкви колледжа он не появлялся, так как часто просыпал утреннюю службу. Да и вообще считал это «дело», как игру в кегли и другие развлечения, пустым занятием… Перед нами уравновешенный и спокойный человек (по крайней мере, до кризиса 1693 г.). Таковы одаренные и целеустремленные натуры. Его секретарь Хэмфри Ньютон (однофамилец) отмечал: «Он постоянно был занят работой, редко ходил к кому-нибудь или принимал у себя гостей… Он не позволял себе никакого отдыха и передышки, не ездил верхом, не гулял, не играл в кегли, не занимался спортом; он считал потерянным всякий час, не посвященный занятиям. Редко уходил он из своей комнаты, за исключением только тех случаев, когда ему надо было читать лекции… Занятиями увлекался он настолько, что часто забывал обедать… Раньше двух—трех часов он редко ложился спать, а в некоторых случаях засыпал только в пять—шесть утра. Спал он всего четыре—пять часов, особенно осенью и весной, когда в его химической лаборатории ни днем, ни ночью почти не гасился огонь. Я не мог узнать, чего он искал в этих химических опытах, при выполнении которых он был очень точен и аккуратен; судя по его озабоченности и постоянной работе, думаю, что он стремился перейти черту человеческой силы и искусства».[203]
Ньютон был человеком идеи, дела, а не заядлым книжником или кабинетным мыслителем. Его больше занимала физическая, нежели духовная материя. У него была солидная библиотека. Женщин он не баловал своим вниманием. Его волновали иные страсти. Ньютон увлекся тайнами алхимии, собрав более 200 книг со всего света на эту тему. В неустанных опытах в своей лаборатории он провел более 30 лет, тщательно проверяя и испытывая старые рецепты. Возможно, надеялся, что ему откроются тайные знания, которые, согласно легенде, открыл Адаму сам Господь Бог.
В 1696 г. Ньютона назначают смотрителем монетного двора. С 1689 г. он – член Согласительного парламента, откуда его и выдвигают на пост сначала смотрителя, а затем начальника монетного двора. В итоге производительность двора за годы его правления увеличилась в 8 раз. На этом посту он проявил себя как государственник. Его научные изыскания стали основанием для того, чтобы начиная с 1703 г. и до самой смерти он оставался главой Академии наук (т. е. президентом Лондонского Королевского общества). Однако чины и звания еще никого не сделали лучше. Все чаще окружающие стали замечать в сэре Ньютоне неприятные черты (раздражительность, подозрительность, самомнение, гордыню). Он укрепился в своей гордыне, увлекшись арианством, одним из направлений христианской теологии, восходящим к учению Ария (IV в. н. э.). Ариане считали Христа первым творением Бога-Отца, однако ему «ни равным, ни совечным». Это означало, что они отрицали Троицу. Почему Ньютона заинтересовала эта проблема? Ньютон работал на кафедре кембриджского Колледжа Св. Троицы (1672). Религия в те времена главенствовала во всех учебных процессах. Англиканская же церковь свято следовала догме тринитаризма (Троицы). Ньютон же принял сторону «нечистых», отверженного еретика Ария, то есть «отождествил себя с Арием и интеллектуально, и эмоционально».[204]
Неординарность сэра Ньютона проявились и в его трактовке цепи исторических событий. Более 40 лет он изучал историю Древнего мира, произвел тысячи расчетов и вычислений, предложив науке новую хронологию событий. Результатом его труда стали две книги: «Краткая хроника исторических событий, начиная с первых в Европе, до покорения Персии Александром Македонским» и «Правильная хронология древних царств». Тщательность, с которой Ньютон работал над ними («Краткую хронику» он переписывал от руки 80 раз), говорит об исключительной важности трудов. Суть его открытия состояла в том, что ему удалось открыть принцип так называемой «искусственной дуплексии» (то есть раздвоение событий). В итоге таких «раздвоений» многие события как бы отодвигаются, удаляются во времени. Ученые пожелали «распространить» историю Египта и Вавилона на тысячелетия. Хотя в той же Библии, которую он считал Библию куда более точным хронологическим источником, указана дата сотворения мира –4000 лет до Рождества Христова.
Ньютон доказывал, что в основе практически всех научных трудов древности лежат мифы и сказания. Там есть правда, а есть вещи и события фантастические, сказочные. Но для чего нужно было вносить путаницу в историю? В споре народов за первенство важна роль древности. «Все нации, прежде чем они начали вести точный учет времени, были склонны возвеличивать свою древность. Эта склонность увеличивалась еще больше в результате состязания между нациями». Выводы, сделанные им, потрясли воображение современников. Он сдвинул во времени многие известные события (правление фараона Менеса, миф о Тезее, Троянскую войну и т. д.) на сотни, а то и на тысячи лет. Вся «шкала времени» согласно предлагаемой им формуле (x-535) x 4/7 + 535 = y) должна быть сокращена в соотношении 4:7… В итоге, «возраст» Эллады укорачивался в несколько раз. Несмотря на необычность подобного «математического» подхода к истории и хронологии, к нему прибегали и другие ученые. К примеру, немецкий ученый Леншау в 1938 г. в трудах по истории Древней Греции при помощи астрономических методов доказывал, что Олимпийские игры проводились тогда не раз в 4 года, а ежегодно. Сегодня «ньютоновские ноты» звучат достаточно громко.[205]
По словам А. Эйнштейна, «самой судьбой он был поставлен на поворотном пункте умственного развития человечества». Ньютон осветил дальнейший путь и множеству механиков и изобретателей. Вероятно, в его лице Англия обрела некий «вечный движитель» грядущей промышленной революции. «Великий систематизатор» в строгой одежде пуританина. Английский поэт Александр Поп напишет о нем вдохновенные строки, которые даются нами в нашем собственном, достаточно вольном и свободном переводе:
Во тьме сокрыты таинства Природы, Но с Ньютоном ее светлее своды…Без достижений других великих умов и трудов не состоялся бы и Ньютон. Таким трудом была кеплеровская «Новая астрономия» (Astronomia nova). В отношении этого сочинения справедливо говорят: «Ньютон никогда не написал бы своих «Начал естественной философии», если бы он долго не размышлял над теми замечательными местами, в которых Кеплер совместил столько счастливых своих изысканий. Соединенные писания этих двух людей – поразительное доказательство того, на что способен человеческий ум, вооруженный наблюдениями и геометрией».[206] Не только Кеплер был той ступенью, с которой Ньютон встал на путь славы и успеха. Заметную роль в истории науки и культуры Англии сыграл Роберт Гук (1635–1703), сын бедного священника. Велики его заслуги перед наукой и государством. Это были времена, когда экспериментальная наука делала лишь первые шаги. Известно, что он помогал делать аппаратуру для экспериментов Р. Бойля, одного из инициаторов создания Королевского общества (Бойлю предложили стать президентом Академии наук, основанной в 1663 г.).
Усыпальница Ньютона. На постаменте надпись: «Превзошел разумом человеческий род».
Оценивая его роль в науке, Дж. Бернал отмечал, что если бы Гук имел более обеспеченное общественное положение и не страдал от своего уродства и хронических болезней, он не был бы таким обидчивым, мнительным и сварливым человеком и его выдающаяся роль в истории науки получила бы полное признание. Если Бойль представлял собой душу Королевского общества, то Гук был его глазами и руками. Он был величайшим физиком-экспериментатором до Фарадея и, подобно ему, не имел математических способностей Ньютона и Максвэлла. Гук интересовался механикой, физикой, химией и биологией. Он изучил упругость и открыл то, что называется законом Гука, кратчайшим в физике: ut tensio sic vis (растяжение пропорционально силе); он изобрел круговой пружинный маятник, применение которого сделало возможным создание точных часов и хронометров; он написал «микрографию», первый систематизированный обзор микроскопического мира, включающий и открытие клеток; Гук применил телескоп для астрономических измерений и изобрел микрометр; вместе с Папеном он подготовил почву для создания паровой машина. Его величайший вклад в науку, только сейчас начинающий получать признание, – это провозглашение им оригинальной идеи о всеобщем законе квадрата и всемирном тяготении. Здесь, как мы видим, он был превзойден блестящими математическими достижениями Ньютона, однако в настоящее время становится ясным, что лежащие в основе их физические идеи принадлежали Гуку и что он был совершенно несправедливо обойден в признании его заслуг в выдвижении этих идей. Жизнь Гука служит примером тех возможностей и трудностей, которые встречал на своем пути талантливый экспериментатор XVII века».[207] История Ньютона и Гука – иллюстрация к тому, сколь неблагодарными могут быть и великие ученые к тем, кто являлся их предтечей, создавшая пьедестал для их славы.
В действительности, по мнению тех, кто очень хорошо знал Гука, великого ученого-энциклопедиста, то был человек обаятельный, щедрый и благородный. Он поражал своей энергией и конструктивностью. Роберт Гук – дитя Английской революции (1640–1660). Со школьных лет мальчик проявил необычайную одаренность. Достаточно упомянуть, что шесть труднейших книг Евклида он изучил всего за одну неделю. Затем он знакомится с философией и геометрией Декарта. Гук успешно изучил греческий и латинский языки, постиг древнееврейский, научился играть на органе. Это помогло ему стать хористом в Оксфорде, в церкви Христа. Оксфорд слыл кузницей кадров интеллектуальной элиты Британии (здесь преподавали Роджер Бэкон, Джон Дунс Скотт, Томас Мор).
В 1654 г. он встретился с физиком Робертом Бойлем и стал работать его помощником. Бойль (автор закона сжатия газов, известного как закон Бойля-Мариотта) поручил ему разработать конструкцию воздушного насоса. У Бойля – немалое состояние, оставленное отцом, а Гук был беден, что вынуждало учиться и работать одновременно. Первую степень он получил только в 1662/63 гг., будучи известным ученым. В 1660 г. вышла книга Бойля «Об упругости и весе воздуха». Тогда же в помещении Грешемовского колледжа под председательством профессора астрономии Кристофера Рена создано Общество для распространения физико-математических экспериментальных наук. Ученые обязались платить по шиллингу в неделю в качестве взноса. Карл II сделал их организацию легальной (1662), присвоив наименование «Королевского общества» и даровав ему герб с девизом «Nullius in Verba» (ничто словами).
В Лондонском Королевском обществе Роберт Гук получил должность куратора. В 1661 г. опубликована первая работа Гука, а в 1665 г. вышел в свет его знаменитый труд «Микрография» (с описанием экспериментов). Десять лет спустя, в 1671 г. в члены Академии принят Исаак Ньютон, представив в Общество зеркальный телескоп. Известные «Математические основания натуральной философии» Ньютона появились в 1681 г. Так что он следует за Робертом Гуком не только хронологически. Ньютон читал его труд, как прилежный ученик, делая выписки, внимательно ознакомившись со всем, что написал Гук о теории света. Имеется личное признание сэра Ньютона на сей счет. Однако несмотря на это, он в «Оптике» ни словом не упомянул об исследованиях Гука.
Цели и задачи Королевского общества сформулированы Гуком в документе, оригинал которого хранится в Британском музее (1663). Королевское общество должно «совершенствовать познания натуральных вещей и всех полезных искусств, мануфактур, механической практики, машин и изобретений при помощи экспериментов (не вмешиваясь в богословие, метафизику, моральные знания, политику, грамматику, риторику и логику)», рассматривать все системы, теории, принципы, гипотезы, элементы, истории и эксперименты естественных, математических и механических вещей, а также стараться восстановить по мере сил «такие допустимые искусства и изобретения, которые утеряны».
Научные занятия Гук перемежал с решением важных практических задач, которые стояли тогда перед столицей Британии. В 1666 г. случился страшный лондонский пожар. Сгорело 13 тыс. домов, 80 церквей, включая кафедральный собор Св. Павла (без крова остались 200 тыс. лондонцев). Если великий Ньютон бросил столицу и сбежал к себе в деревню, то Гук решительно принялся за восстановление города (их статус был различен). Биолог и геолог, астроном и механик стал еще и архитектором. Правду говорят, что энциклопедисты могут все! Эпоха поощряла широту интересов и увлечений. Профессор астрономии Рен был также архитектором. В Оксфорде он выстроил Шелдонский театр (большой лекционный зал) и ряд зданий Тринити-колледжа. Рен Гук и представили свои проекты перестройки Лондона. Проект Гука (с системой улиц, пересекавшихся под прямым углом) понравился заправилам Сити. Те сделали его своим представителем или «надзирателем за восстановлением города». Эта работа отняла у него без малого 30 лет. Дни заполнены до отказа. Труды приносили деньги и почет – и не меньшее число завистников и недоброжелателей. Важным местом в архитектурном творчестве Гука стал дом для умалишенных (знаменитый Бедлам), выстроенный в 1675/76 годах. В этом сумасшедшем доме, похожем на дворец, вполне могло бы ныне расположиться английское правительство и парламент (в особенности штаб-квартира НАТО).
Гук строил торговые холлы, школы, особняки, правительственные здания. Ум его был в постоянном движении, изобретая то одно, то другое. В сферу научных интересов входило изучение причин тяготения. В Лондонском королевском обществе Гук выступил с важным сообщением на эту тему. Зная способности Ньютона в области математики, он напишет ему письмо, предлагая ряд основополагающих идей. Отнюдь не мифическое яблоко, якобы, упавшее на голову Ньютону, послужило причиной установления Закона всемирного тяготения, а опыты и наблюдения Роберта Гука. Ньютон быстро уловил суть подсказки, но так и не смог в дальнейшем забыть «смертной обиды». Черная зависть сжигала его сердце. В течение 30-летнего спора о первенстве он всячески принижал заслуги великого ученого, стараясь везде, где возможно, превозносить своё первенство в физике. И хотя закон всемирного тяготения по праву считается делом Ньютона, легенда о яблоке – фикция. Она рассказана племянницей Ньютона некой К. Бэртон Вольтеру (между 1726 и 1729 гг., когда он жил эмигрантом в Лондоне), а тот уже дал ей ход.
Спор о приорите Ньютона или Гука в этом вопросе еще не закончен. Попытки Ньютона вычеркнуть имя соперника и конкурента из истории науки крайне несправедливы. Очевидно, что Ньютон до 1679 г. вообще не занимался вопросами гравитации и начал свои исследования лишь под влиянием Гука. Русский ученый С. И. Вавилов, проанализировав все «за» и «против», приходит к такому выводу: «Ньютон был, очевидно, не прав: скромные желания Гука имели полное основание. Написать «Начала» в XVII в. никто, кроме Ньютона, не мог, но нельзя оспаривать, что программа, план «Начал» был впервые набросан Гуком».[208]
Ревнивый Ньютон только после смерти Гука вошел в состав Королевского общества. Далее стали происходить удивительные вещи. Вдруг, ни с того ни с сего, исчезают рукописи Гука, в других работах появляются его «посвящения» Ньютону. Затем тем же таинственным образом куда-то «испарились» все портреты Роберта Гука, и даже следы его могилы. В Королевском обществе чья-то невидимая рука будет стирать следы великого ученого. Как видим, «комплекс Сальери» распространим и на фундаментальную науку. Возродив Академию и став в 1703 г. её президентом, Ньютон в ряде случаев вел себя автократично, спекулировал славой, превратив общество в «орудие второй и третьей вендетт своей жизни» (против астронома Дж. Фалмстида и философа Г. В. Лейбница).
Заседание Лондонского королевского общества в XVII веке.
Творческая работа шла не только в Лондонском королевском обществе. В Англии уже повсюду была питательная культурная среда, которая жадно и неистово впитывала все доступные ей знания. Даже лондонские подмастерья днем трудились, а вечера проводили в чтении и яростных спорах о будущем. В такой атмосфере вырос Джерард Уинстэнли (1609–1676) – торговец, философ, защитник бедняков. О жизни его известно немногое. Судьба уготовила ему совсем иную участь, нежели дело торговца. Вскоре он стал жертвой обмана, лишившись предприятия и денег. Как писал сам герой, он «потерпел неудачу в воровском искусстве продажи и покупки и разорился из-за обременительных налогов в начале войны». Вернувшись в свою деревню, он стал развивать теории об общей собственности на землю. Уинстэнли стал главой движения, известного как «истинные левеллеры» (уравнители). Если другой вождь левеллеров (Лильберн) выступал в защиту прежде всего политических свобод, являясь борцом за гражданские права и равенство всех перед законом, то Уинстэнли считал все это лишь внешней стороной свободы. Что толку в демократической конституции (на которую уповал Лильберн), если богатые при этом контролируют буквально всё, владея землей и ее плодами… На кой черт нужна человеку свобода, если тот лишен элементарной собственности и минимальных средств к существованию. Истинная свобода едва ли возможна в индивидуалистическом обществе, где всем заправляют сила и деньги. Уинстэнли заявлял: «Человеку лучше не иметь тела, чем не иметь пищи… для него… Истинная свобода там, где человек получает пищу и средства для поддержания жизни, а это заключается в пользовании землею».[209] Справедливость такой позиции становится сегодня очевидной для многих людей (в России).
Словолитец. С гравюры И. Аммана.1568 г.
Страна нуждалась и в хорошей конституции. Вопросы политико-административного, хозяйственного устройства выдвигались в число первоочередных. Отвечая на вызов времени, Дж. Уинстэнли создает трактат «Закон свободы, изложенный в виде программы, или Восстановление истинной системы правления» (1652) и передает его Кромвелю. В проекте сказано: «…большая часть народа вопиет» под гнетом налогов. Необходимо не только «сменить лиц, стоящих у кормила правления», но и изменить законы. В противном случае правителя ждет скорая гибель, а потомков – еще большее рабство.… В 1649 г. Уинстэнли (якобы, получив божественное указание) стал вместе с соратниками вскапывать пустошь, с тем чтобы выращивать здесь зерно, бобы, другие культуры и тем самым прокормить всех нуждающихся. Что может быть праведнее и справедливее права человека на тяжкий и полезный труд. Так левеллеры стали диггерами («копателями»). Власти «самой справедливой страны» мира, увы, отнеслись с полнейшим равнодушием к нуждам тружеников. Имя «Уинстлей» (как, впрочем, и имя Т. Мора) помещено правительством революционной России на стеле знаменитого Александровского сада, что возле московского Кремля. Тут же должно было быть высечено золотыми буквами и имя отважного Джона Лилберна, защитника бедняков
Специальная глава в трактате Уинстэнли посвящена проблемам воспитания и обучения детей. Школы должны быть одинаковыми для всех, а образование – обязательным. Пусть дети учатся «читать законы республики», знакомятся искусствами и языками. Они должны получать полный набор так называемого классического образования, со всем комплексом необходимых этических, профессиональных и международных познаний. Он призывал покончить с грубой монополией на образование Оксфорда и Кембриджа. Относясь с предубеждением к схоластической манере обучения, он полагал, что такая метода «ведет к праздной жизни», множит ряды бездельников, живущих за счет других. Сюда он относил лордов, чиновников, священников, юристов и т. п. Особое внимание при обучении следует уделять тем, в ком есть то, что называют «божьей искрой», кто проявляет исключительные способности к всяческим изобретениям и усовершенствованиям… В этой мысли философа ощущается пуританское (и христианское) преклонение перед ремеслом обычного простого труженика. Преклонение, впрочем, вполне оправданное и нам понятное: ведь и Моисей был пастухом, апостолы – рыбаками, а сам Христос – сыном плотника…
Его политические позиции изложены в «Новом законе справедливости» и в «Законе свободы». Уинстэнли твердо высказался в пользу республиканского правления. Всякое монархическое правительство является авторитарным и «вполне может быть названо правительством разбойников с большой дороги», ибо оно отняло силой землю у младших братьев и продолжает удерживать ее силой. Оно проливает кровь «не для освобождения народа от угнетения, но для того, чтобы быть самому царем и быть правителем над угнетенным народом». Только при честном и справедливом правлении настанут изобилие, мир и довольство. Однако поскольку власти склонны к порокам и злоупотребениям, всех должностных лиц должно выбирать и переизбирать ежегодно. Если вода застаивается, она портится, как и власть, занимающая высший эшелон. Уинстэнли убежден, что в том случае, «если общественные должностные лица будут долгое время оставаться на ответственных постах, они выродятся и утратят смирение, честность и внимательную заботу о братьях, так как сердце человеческое склонно предаваться соблазнам алчности, гордыни и тщеславия…» Избираться могут все, кроме невежд, пьяниц, лжецов, болтунов, склочников, земельных спекулянтов. Он решительно выступал против «поспешной распродажи земли», предпринятой правителями («прежде, чем народ отдал себе отчет в положении дел» в данной области). Он рекомендует гражданам Англии: «Выбирайте людей мирного духа и мирного поведения… Выбирайте мужественных людей, не боящихся говорить правду, ибо позор для многих в Англии наших дней, что они погрязли в вязкой тине рабского страха…»[210]
Похоже, что само время старается найти более точные инструменты для оценки любого рода «товара», включая людские поступки и деятельность. В этой связи нельзя не упомянуть имени английского экономиста, статистика, физика, механика, врача Уильяма Петти (1623–1687), родоначальника классической буржуазной экономии, считавшего сферу производства главным источником богатства (кстати говоря, он же первым выдвинул трудовую теорию стоимости). Наряду с французом Сен-Симоном, его считают предшественником науки социологии. В XVII веке зарождается такое понятие, как «политическая арифметика» (термин принадлежит тому же Петти), обозначавшее первоначально любое теоретическое исследование социальных явлений (в основе которых лежит количественный анализ). В сочинении «Политическая анатомия Ирландии» (1672) он называет источник своей методологии – труды Ф. Бэкона. В 1691 г. выходит в свет и его «Политическая арифметика», в которой он говорит о необходимости применить бэконовские методы науки при оценке социальных явлений: «…я вступил на путь выражения своих мнений на языке чисел, весов и мер (я уже давно стремился пойти по этому пути, чтобы показать пример политической арифметики), употребляя только аргументы, идущие от чувственного опыта, и рассматривая только причины, имеющие видимые основания в природе». В дальнейшем идеи «политической арифметики» У. Петти найдут продолжение в идеях «социальной математики» французского философа Ж. А. Кондорсе и в знаменитом труде основоположника демографии Томаса Мальтуса – «Опыт о законе народонаселения» (1798).[211]
Воскрешая образ Англии XVII–XVIII веков, не следует думать, что умственная жизнь британца сосредоточена только вокруг вопросов политики и экономики. Как и всюду, здесь масса интересных событий культуры и литературы. Вспомните все запоем читали книги Д. Дефо и Дж. Свифта… Выходец из среды йоменов, Даниель Дефо (1660–1731) – коренной лондонец, проживший жизнь, полную удивительных приключений, взлетов и падений. Он стал автором 350 произведений. Одно (и главное) принесло ему всемирную славу – «Робинзон Крузо». «Робинзон» считается первым классическим английским романом, к которому применимо название «история современника». В известном смысле, это вообще первый современный детский роман. Чем интересен для нас Дефо? Происходил он из семьи фламандских предпринимателей Де Фо, переселившихся в Англию «из огня интервенции». В Англии назревала гражданская война. Король и чиновники вынуждены облагать капитал непосильными налогами. Позором правительства было и падение производства, и упадок торговли, и обнищание народа, и эмиграция, в результате которой умелые мастера уезжали за границу (в Голландию и Америку). Одним словом, картина схожая с тем, что происходит ныне в России. Кромвель потребовал наведения в Англии «тирании порядка». В год крушения республики (1660) и появился на свет Д. Дефо.
Дефо у позорного столба.
Известно, что каждый мальчишка в душе Робинзон. Он все желает делать сам. Это столь же естественно, как стремление к путешествиям и романтике, как мечты о подвигах и ярких встречах. Замученный школьными уроками или опекой родителей, ночи напролет предается он дикой, но сладостной идее – убраться куда-либо подальше от всех, на необитаемый остров. Кто из нас не жаждал обрести Пятницу, верного и благодарного друга?! Многим из нас хотелось бы, чтобы вместо скучной и монотонной школы нам подарили «робинзонаду». Д. Дефо писал: «Одному богу известно, что в моих рассказах было больше добрых желаний и намерений, чем знаний, и надо признаться, что при этом со мною произошло то, что в подобных случаях бывает со многими. Поучая и наставляя Пятницу, я учился и сам: то, что прежде мне было неизвестно или о чем я прежде не рассуждал, теперь ясно представлялось в сознании, когда я передавал это моему дикарю. Я никогда не был столь одушевлен изучением спасительных истин, как теперь, в беседе с ним».[212]
История жизни Д. Дефо, писателя, торговца, политика, авантюриста и соглядатая, настолько удивительна, что было бы непростительно ограничиться детскими воспоминаниями о Робинзоне. Влияние его произведений на поколения европейцев огромно. Англичане месяцами откладывали пенсы и шиллинги, чтобы купить его книгу, цена которой составляла добрую часть породистого скакуна. К концу XIX века в разных странах насчитывалось уже до семисот изданий «Робинзона Крузо». Возникло и целое явление – «робинзонада». Роман Дефо был переведен почти на все языки мира. О нем будут писать многие исследователи в разных странах. Руссо сделал роман одной из главных книг в воспитании Эмиля («Эмиль»).
Дефо жил в эпоху Карла II… Из всех правителей Англии тех лет тот, пожалуй, был ближе других к народу. Он, в целом, немало сделал для науки и просвещения, подписав в 1660 г. исторический указ о создании Королевского общества (Академии наук). Им же был принят важный «Закон о церковном единообразии». Однако для сына протестантов Даниеля Дефо двери англиканских школ (Кембриджа, Оксфорда) были закрыты. Дефо закончил пансион и академию Ньюингтона, где получил разностороннее образование. Кстати, здесь же учился и Тимоти Крузо (будущий герой его бессмертного произведения). Хотя писатели-классицисты А. Поп и Дж. Аддисон и клеймили Дефо как «невежду», сам он так писал об уровне полученных им знаний: «Владею французским столь же бегло, как и английским; знаю испанский, итальянский, славянский, португальский; обладаю обширными знаниями в области экспериментальных наук и солидной научной коллекцией; в географии весь мир передо мной, как на ладони («ходячая географическая карта»); по любой европейской стране могу дать обзор истории, политики, торговли; искусен в астрономии…» Видимо, это и дало известное основание для некоторых биографов называть его «гражданином современного мира».[213]
Д. Дефо активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Известен сатирический памфлет против душителей свободы – «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (карикатура на священников). За этот дерзкий вызов писателя поместили в тюрьму, трактат сожгли, а его самого на три дня выставили у позорного столба в колодках. Впрочем, «казнь» завершилась триумфом. Восторженные почитатели забросали его цветами, столб увили гирляндами, в его честь стали слагать песни. Памфлеты его расходились по всей Англии. Не пощадил он и соотечественников в ироничном эссе «Чистокровный англичанин». Там он решительно высмеял идею «чистокровности», ибо и англичане как нация сложились в ходе смешения многих племен: норманнов, англосаксов, германцев, датчан, евреев. В другом памфлете «Просьба бедняка» Дефо протестует против алчных богатеев, губительной власти злата и лживой парламентской демократии: «Я видел изнанку всех партий. Все это видимость, простое притворство и отвратительное лицемерие… Их интересы господствуют над их принципами». То была необычная и авантюрная личность… Известно, что он «торговал решительно всем: от табака и водки до общественных убеждений». Жизнь Дефо преподносила ему немало сюрпризов. Он позже признался: «Судеб таких изменчивых никто не испытал, тринадцать раз я был богат и снова беден стал». Однако «человек ста псевдонимов» не терял мужества и надежды на успех.[214]
Дефо не ограничивался литературным творчеством. Ему пришла в голову дерзкая и авантюрная идея: план по созданию в стране шпионской сети (под чужим именем объехал восток страны, выясняя шансы правительства на выборах). Вскоре ему удалось создать эффективную шпионскую агентуру и за рубежом. Не знаю, может, поэтому Горький назовет «Приключение Робинзона» «империалистическим произведением». Известный знаток жизни творчества Дефо – критик Доттен – также называл «Робинзона» своего рода «учебником колонизаторства».
Воздадим должное и таким качествам буржуазного индивида, как терпение, трудолюбие, упорство, практицизм, профессионализм, бережливость, аккуратность. Эти достоинства попытался так или иначе пропагандировать Дефо сначала в «Робинзоне», а затем в «Образцовом английском купце», «Образцовом английском джентльмене» и «Всеобщей истории торговли» (1713). Впрочем, его внимание к homines oeconomici (лат. – «людям экономики») оправдано. Капитал, который в общем-то во все века был persona gratissima (в высшей степени желательное лицо) при дворах князей и монархов, во времена Дефо стал полновластным властелином и господином. Нынешний мир стал создаваться по его образцу и подобию. Бурная его деятельность затронула также материальное, духовное и культурное производства всего общества. Nolentes – volentes! (Желают они того или нет).
Как социолог и экономист Д. Дефо не всегда точен в определениях. Так, при характеристике категорий лиц, занятых торговлей, у него в этот разряд попадают различные особи (от фермера до лавочника). Но для нас существенна авторская позиция, проникнутая уважением к «торговой династии». Главная мысль Дефо в следующем: он считал торговлю наивернейшим путем к обретению богатства нацией. Англичане эту идею прекрасно поняли и поддержали. Даже король Карл II заявил: истинное английское дворянство – это купечество. Несмотря на столь высокую оценку их роли, английские купцы, не доверяя верховной власти короля, не желали давать ему взаймы. Жизнь свидетельствовала в пользу купечества как полезного для страны сословия. По мысли Дефо, оно трудолюбиво, осторожно, бережливо и аккуратно. Не будем забывать, что Дефо ведь и сам был хватким купцом. Современники даже упрекали его в насаждении «системы выжимания пота». Качества, превозносимые им в известных романах и публицистике, заставят известного французского теоретика культуры И. Тэна высказаться недвусмысленно о его талантах: «Его воображение было воображением делового человека, а не художника». Эти же черты купеческой философии отмечали в Робинзоне и другие известные мыслители и писатели. В частности, Ф. Энгельс в своем письме к К. Каутскому охарактеризовал Дефо как «настоящего буржуа».[215]
Не будучи восторженными почитателями буржуазного порядка, не можем не заметить, что вышеупомянутые черты в некотором смысле необходимы для обустройства жизни. Любая нация должна, видимо, пройти через эту «школу прагматизма», «торговую робинзонаду», не позволяя, как говорят французы, чтобы «сердце брало верх над разумом». Кстати, еще до Дефо, по заказу знаменитого министра финансов Франции Ж. Кольбера, неким Савари был написан «Совершенный негоциант» (1675), где был дан образ «героя своего времени». Сочинение с полным основанием можно отнести к категории так называемой учебно-справочной литературы. В нем содержалось подробное изложение торгового права и товароведения, сведения по экономической географии, бухгалтерии, мерам и весам, а также профессиональная информация. Вознося хвалу купеческому сословию, автор выдавал и образовательные рекомендации. Не следует детей в обязательном порядке заставлять идти «по стопам отцов»… Пусть сами выберут себе занятие (по душе). Не стоит и чересчур превозносить богатство, ибо любимые чада, скорее всего, начнут его презирать. Учить надобно тем вещам, которые необходимы для обыденной жизни (языкам, истории, арифметике, географии). В то же время изучение латыни, риторики, философии, искусств может отвратить наследников от священного дела торговли. Кто же тогда умножит или хотя бы сохранит капиталы семьи?! Понятно, что не всем «героям» тех времен надо подражать, равно как не все рекомендации Дефо заслуживают похвалы и одобрения. В деловых кругах всегда было немалое число авантюристов и жуликов. Боже милостивый, сколько дутых компаний и предприятий рождалось и быстро исчезало в Англии в XVII–XVIII веках! Некая лондонская «Компания Южных морей» выпустила уйму сомнительных акций и, наобещав народу баснословные прибыли, разумеется, надула легковерных – обычный способ действия махинаторов всех племен и народов. За ее крахом последовало разорение акционеров. Однако число бесспорных олухов, как и количество отпетых негодяев, ничуть не уменьшилось. Закон капитализма в том, видимо, и состоит: число первых должно уравновесить число вторых.[216]
Яркий отклик нашло в сердцах людей замечательное творение Джонатана Свифта (1667–1745) – «Путешествие Гулливера». Этот сатирический роман вначале задумывался Свифтом как «разоблачение фантазий» Дефо. Кого не заинтригует посещение «летучего острова» Лапуты? У нас по сей день немало «универсальных искусников», что уже на протяжении 10–15 лет так «улучшают человеческую жизнь», что жизнь народа стала невыносимой. Иные догадки писателя оказались пророческими. Спустя 150 лет после выхода этой книги ученые подтвердили мысль Свифта о наличии у планеты Марс двух спутников!
Немало светлых и умных голов, внесших значительную лепту в сокровищницу просвещения, было в Шотландии и Ирландии. На ниве знаний сталкиваются представители различных слоев общества, разных профессий. Священник Э. Картрайт изобретает механический ткацкий станок. Слепой от рождения Дж. Меткаф (самоучка) выступает как строитель дорог и инженер. Герцоги заняты сооружением каналов. Философы увлечены экономическими проблемами. В XVII в. духовенство во многом еще определяло настроения нации. Особенно истово поклонялись Богу в Шотландии. «В течение XVII в. шотландцы, – писал Г. Бокль, – вместо того чтобы развивать искусства, совершенствовать свой ум или увеличивать свое богатство, проводили большую часть времени в том, что называлось религиозными занятиями». Он живописует страхи и ужасы пресвитерианской церкви. Шотландские священники обещают прихожанам в случае непослушания место в ужасной геенне огненной. Если в других странах народ веселится на свадьбах, то тут духовные лица, якобы, запрещают веселиться, стремясь предупредить излишнюю радость жениха и невесты. Были установлены и суммы, которые разрешалось потратить на эти цели. Дело доходило до того, что под контроль церкви был поставлен и набор блюд.[217]
Оставим «брань» на совести Бокля. Нам кажутся разумными цели и идеи, скажем, квакерского движения, что возникло в Шотландии в XVII–XVIII вв. Собираясь в старых «молельных домах», члены его мечтали об установлении мира, дружбы и взаимопонимания между народами. Это умнее и человечнее, чем насаждать свои порядки крестом и мечом.… Религия пресвитериан ограждала многих верующих от излишеств и земных пороков (от сластолюбия и чревоугодия). По мнению историка К. Хилла, шотландские заветы были уникальными в истории европейской Реформации в том смысле, что они объединяли аристократию с простым народом против чужеземного и католического правления. Нечто схожее наблюдалось и в Нидерландах. В итоге у шотландской реформации была «более прочная и более неоспоримая народную база», нежели, скажем, у англиканской церкви.[218]
В Британии границы религиозной терпимости были все же несколько шире, чем в Европе. Протестантизм не означал обязательного политического единомыслия. Это дало основание Монтескье сделать даже такую запись в книжке: «В Англии нет религии; из числа членов Нижней Палаты только четверо или пятеро присутствуют при совершаемом для Палаты богослужении и проповеди… Как только кто-нибудь заговорит о религии, все принимаются смеяться. Человек сказавший при мне «Я верю в это, как в символ веры», был поднят на смех всеми присутствующими… У них есть комитет, обязанный иметь попечение о положении религии, но на него смотрят, как на смешное учреждение».[219] Богослов и острослов С. Смит выразил эту мысль таким образом:
В одном случае лучшие умы идут на службу церкви, в другом они находят пристанище в университетах и колледжах. Вольтер заметил, что во Франции в его времена был лишь один профессор, труды которого стоило бы прочесть (да и тот иезуит Порре). При том количестве просвещенных умов, какое видим во Франции, это действительно вызывает удивление. Что едва ли не вся классическая французская философия вышла из стен католических школ (в том числе иезуитских). На это обстоятельство обращая внимание и А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», приводя пример философа и математика П. Гассенди, что лишь в начале карьеры занимал место профессора в университете г. Экса. Однако после того как стал очевиден его высокий уровень, он получил приглашение в систему церкви. Там его ждало более спокойное и благополучное существование. Церковь нисколько не мешала его научным занятиям. Это важный момент, мимо которого нельзя пройти. Выходит, церковь в ряде стран не только преследовала, но и поощряла науку и знание. К подобному выводу приходит и А. Смит, говоря, что фактически во всех романских, католических странах лучшие головы были не в университетах. Пост профессора мог привлечь разве что тех, кто посвятил себя физике или юриспруденции. Подобная же ситуация складывалась и в Англии, поскольку англиканская церковь была второй по богатству и влиянию после Римской. В этой связи и тут самых талантливых рекрутировали в лоно церкви. Поэтому в английских университетах редко можно было тогда увидеть знаменитостей. Совершенно иная картина складывалась в странах протестантизма. В Женеве, Голландии, Шотландии, Германии, Швеции и Дании большая часть выдающихся людей, напротив, становились профессорами университетов. Поток талантливых умов устремлялся в этот оазис.[220]
Быстро растет население Шотландии. Наблюдается подъем промышленности. В системе образования Шотландии авторитетом пользуются университеты Эдинбурга и Глазго. Достижения высшей школы напрямую связываются с ростом торговли и богатства в вышеупомянутых городах, да и в стране в целом. Просветитель А. Фергюсон, как полагают, первым вводит в употребление термин «цивилизация» (в «Очерке истории гражданского общества», 1767). Если для французов и англичан «цивилизация» представляла собой продукт общественного договора, законов, соглашений между группами и классами, то шотландцы видели в ней продукт человеческой практики. Независимо от воли человечество вынуждено следовать этой дорогой. Не зная законов истории, оно «выполняет их». В их позиции важно то, что они все народы в той или иной степени считают «детьми цивилизации». Читаем у А. Фергюсона: «Что дикарь изобрел или увидел… суть ступени, которые ведут народы»; «…самые последние достижения человеческой мысли… есть только продолжение определенных достижений, которые использовались в самом грубом состоянии человечества»; «люди продолжают труды через многие века вместе, они строят на основаниях, заложенных предшественниками в течение веков».[221] И здесь шотландцы и ирландцы оказались на голову выше их соотечественников – англичан!
Вот как описал характерную для Шотландии ситуацию тех лет писатель Смоллет в романе «Путешествие Хамфри Клинкера»: «Не только торговля, но и наука процветает в Глазго. Здесь есть университет, в коем профессора по всевозможным отраслям науки тщательно отобраны и хорошо обеспечены. В этот город я попал во время вакаций, а потому не мог вполне удовлетворить свое любопытство, но, без сомнения, система образования здесь во многом предпочтительнее нашей. Студенты не обучаются приватно у разных учителей, но каждый профессор преподает свою науку в публичных школах или классах».[222]
Центры просвещения в Англии, которые перед тем долгое время были связанные с двором или со старыми университетами, как и Лондонское королевское общество («Олимп науки»), несмотря на Ньютона и Гука, представляли собой довольно безотрадное зрелище. Многие члены перестали платить взносы, коллекция инструментов «покрыта пылью, грязью и копотью», научные инструментов были сломаны и испорчены. Наука нуждалась в притоке «молодой крови», в тесной и органичной связи с промышленниками. Возникла нужда в сильных, ярких, деятельных натурах, о которых говорят: «То кровь кипит, то сил избыток». Произошло выхолащивание бэконовской идеи фундаментальной науки, предполагавшей служение истине и человечеству. Бэкон писал в «Новом Органоне»: «Подлинная же и надлежащая мета наук не может быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми открытиями и благами. Но подавляющее большинство людей науки ничего в этом не смыслит. Это большинство – только наставители и доктринеры, и лишь иногда случится, что мастер с более острым умом, желая славы, устремится к какому-либо новому открытию. Это он совершает почти с убытком для своего достояния. Но большинство не только не ставит себе целью увеличение всего содержания наук и искусств, но даже из имеющегося содержания ищет и берет не больше, чем может обратить для целей поучения или наживы, или для того, чтобы прославить свое имя, или для другой прибыли этого рода».[223]
Наука в Англии не смогла тогда вполне реализовать себя. Поэтому и пришло в упадок Лондонское королевское общество. Исследования носили все более отвлеченный характер. Свифт высмеивал тогдашних членов академии. Он говорил: в Лондонском королевском обществе взвешивают воздух! На этот факт ухода наук от магистрального пути служения обществу указывали многие исследователи (М. Эспинас). Произошел разрыв между «скромными прикладными науками» и прикладными науками, что призваны продвинуть вперед дело развития ремесленных технологий.[224] С такими же проблемами столкнулись в дальнейшем многие страны.
Адам Смит.
Самое почетное место среди великих шотландцев занял Адам Смит (1723–1790), классик политэкономии, идеолог промышленной буржуазии. Он родился в семье контролера таможни. Отец его обучался в университетах Абердина и Эдинбурга. В 1707 г. заключена важная уния, объединившая Англию и Шотландию. Купцы, промышленники, крупные фермеры, составлявшие партию вигов, поддержали этот союз. Шотландия пережила трагические времена короля-убийцы Макбета, желала двигаться вперед. Но были и свои «националисты» (тори), выступавшие против союза. На их стороне выступали вожди кланов горной Шотландии, желавшие сохранить власть над соплеменниками-горцами.
Столкнулись интересы союзной торговли, промышленности, науки, техники, образования, культуры, с одной стороны, а с другой, эгоистические интересы порой невежественных «горцев», которые во имя своей мифической «свободы» готовы уморить народ голодом или извести его в кровавых битвах, только бы не допустить главенства более передовой страны. Пусть все разваливается и гибнет, а мы будем и впредь тешить свою клановую гордыню, держа народ во мраке и нищете. Конечно, это менее всего затрагивает национальную честь шотландцев, которые прославились как великие ученые, яркие писатели, умелые воины. Эти строки правильнее обратить на другие страны и регионы, где бушует сепаратизм (знакомая для современной России ситуация).
О детских и юношеских годах А. Смита известно немногое. Иные даже вынуждены были назвать их «кошмарным сном биографа». Роберт Хейлброунер говорил о нем так: он «был неважным корреспондентом, ревнивым хозяином своих сочинений (некоторые из них он велел сжечь, находясь на смертном одре) и вообще человеком, чья покойная и замкнутая жизнь оставила весьма скудные следы для его биографов». Учился он в университете Глазго, где тогда преподавал Хатчесон, виднейший деятель шотландского Просвещения (читал лекции по проблемам стоимости товаров в торговле и природе денег). Смит занимался самостоятельно, запоем глотал Гроция, Бэкона, Локка. Ухаживал за дамами. Очаровательная М. Кэмпбелл, дочь принципала, выглядела в глазах юноши разумнее, чем «все профессора, вместе взятые». В те дни ему приходила на память пылкая эпиталама английского поэта Дж. Деннау, ставшего епископом, вспоминавшего с нежностью годы студенческой молодости в «Эпиталаме времен учебы в Линкольнз-Инн»:
…А вы, повесы, гордые юнцы, И знать разряженная, их отцы Бочонки, что чужим умом набиты; Селяне – темные, как их телки; Студенты-бедняки, От книг своих почти гермафродиты, Глядите зорче все! Вот входит в Храм Жених; а вон и дева, очевидно, Ступающая кротко по цветам; Ах, не красней, как будто это стыдно! Сегодня в совершенство облекись И женщиной отныне нарекись![225]В 1740 г. Адам Смит получает ученую степень магистра искусств и стипендию в Оксфордском университете. Отныне он мог, в течение 11 лет, обучаясь в Оксфорде, получать по 40 фунтов ежегодно. Путешествуя по Альбиону, он не раз убеждался: Англия богаче его родной Шотландии. Шесть лет он безвыездно провел в Оксфорде. Нелегко находиться вдали от родных мест. Итог образования – в нем сочетались шотландский патриотизм с английской просвещенностью. Вскоре Смит приступает к чтению лекций в Эдингбургском университете, следуя девизу Сенеки: «Homines, dum docent, discunt» (лат. «Люди, уча других, учатся сами»). Судя по отзывам, он был отличным педагогом. Хотя его «Теория нравственных чувств» (1759) не принесла ему столь громкой славы, как иные сочинения, она сыграла свою роль («Теория» при жизни выдержала несколько переводов и шесть переизданий), став основой его лекционного курса по «нравственной философии». Среди мыслей, нашедших отражение на ее страницах, выделим следующие: человек должен руководствоваться в жизни симпатией к людям; ему должно быть присуще чувство справедливости, ибо это – та «несущая колонна, на которой держится все здание» общества; страсти, что движут нами, в конечном счете должны быть благотворными для людей; всем нам должен быть присущ голос совести, который является внутренним судьей каждого.[226]
Путь А. Смита в экономику лежал через нравственность. «Разумное и нравственное всегда совпадают», – любил говорить Лев Толстой. У пуритан moral restraint (нравственное самовоздержание) вообще играло довольно важную, если не определяющую роль при формировании системы общественных нравов. Нравственная философия в XVIII веке включала в себя как бы все науки об обществе. А это предполагало (по крайней мере, в теории), что экономика и политика должны быть непременно «нравственными». Сегодня почти всюду эти истины, увы, лишь отринутые и забытые слова.
Что подвинуло его к смене научных интересов? То ли находящаяся поблизости от университета кожевенная фабрика, считавшаяся самой большой в Европе, то ли дух времени, превративший Глазго в крупнейший торговый город и порт, то ли ряд обстоятельств (в 1778 г. он был назначен таможенным уполномоченным и служил на этом посту до самой смерти), сказать трудно. Возможно, все это вместе взятое. Недалеки от истины те, кто называли Глазго «экономической лабораторией» шотландца, а идеи «Богатства народов» относили к заслугам в первую очередь самой промышленной революции. Конечно же, и само время изменило некоторые из взглядов философа. Ранее он, осуждая голый и безграничный людской эгоизм, сурово порицал и бичевал «безнравственные системы».
Справедливости ради заметим: эгоизм шотландских предпринимателей был все же куда более созидателен и конструктивен. Они не грабили до нитки свой бедный народ, но давали ему работу, а с ней и более или менее достойные условия существования. Вот как описывал автор биографического повествования о жизни Адама Смита эту эпоху… Прибыль в Глазго стекалась отовсюду… Молодой и энергичный капитал приносил прибыль, и та в свою очередь вновь превращалась в капитал. Капиталисты строили суда и фабрики, нанимали все новых рабочих. Рынки казались безграничными, а крестьяне и обнищавшие ремесленники, горцы из разрушенных родовых кланов шли в Глазго и окрестные города, заполняя фабрики и мастерские. Автор первой истории города, вышедшей в 70-х годах XVIII в., с восторгом пишет, что после 1750 г. с улиц исчезли нищие и даже малолетние дети были заняты работой. Накопление шло безудержно. Однако интересно и то, что лишь малую толику прибылей купцы и промышленники тратили на себя и свои семьи. Лондонцев, давно привыкших к столичной роскоши и расточительству старой и новой знати, поражал «аскетизм» глазговских богачей. В Глазго почти нет богатых особняков. Во всем городе – 3–4 частных выезда. Смит сообщал, что в его студенческие годы ни у кого в городе не было более одного человека мужской прислуги. Вызывающая роскошь просто-напросто считалась тогда дурным тоном. «Скупость пришпоривает усердие», – писал его друг Юм, выражая дух эпохи.[227]
Главный духовный импульс исходил от шотландских университетов, отличавшихся (в лучшую сторону) от тогдашних британских вузов (сильная профессура, демократическая манера преподавания, низкая плата за обучение). Эти университеты, словно магнит, притягивали зарубежных студентов, среди которых были даже русские. Высокий уровень подготовки давали общеобразовательные школы Шотландии, во главе которых стояла пресвитерианская церковь. Возникали и благотворительные школы. Как известно, президент Российской академии наук Е. Дашкова также хотела отправить сына учиться в Шотландию. Она писала по этому поводу: «Из Спа я написала историку Робертсону, ректору Эдинбургского университета, что осенью приеду в Эдинбург и поселюсь в нем на долгое время, пока мой сын не закончит свое образование; ему было всего тринадцать лет, и я просила Робертсона руководить его образованием в течение нескольких лет».[228] Ректор университета посоветовал княгине сперва как следует подготовить отпрыска, прежде чем отправлять за границу. Та поняла и не стала гнать сына из отечества.
В своей знаменитой работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), которую некоторым «горе-экономистам» неплохо бы прочитать от корки до корки, дабы восполнить элементарные «вузовские пробелы», Адам Смит говорил, что положение государства зависит от решения нескольких ключевых проблем (труд, производство, торговля, возможности профессионального образования, свобода капитала). Он писал: «Восстановите так же, как для солдат и матросов, эту естественную свободу заниматься по своему усмотрению любой профессией для всех подданных его величества, т. е. уничтожьте исключительные привилегии корпораций и отмените устав об ученичестве, ибо они представляют собою действительное ограничение естественной свободы, и прибавьте к этому отмену закона об оседлости, чтобы бедный работник, лишившийся работы в одной отрасли промышленности или в одном месте, мог искать ее в другой промышленности или в другом месте, не опасаясь преследования или выселения, и тогда ни общество в целом, ни отдельные лица не будут страдать от увольнения того или иного разряда мануфактурных рабочих больше, чем от увольнения солдат».[229]
Университет Глазго в конце XVII века.
Смит один из первых привнес в науку понятия «варварского» и «цивилизованного» общества. Одно от другого отличается не только определенным видом занятий (охота, пастушество, земледелие, промышленность, наука, торговля), но и образом общественной философии. Наличие в обществе деления на классы, различные уровни дохода в разных группах населения, дифференциация видов, размеров собственности рассматривались им как признак «цивилизованности». При внимательном прочтении Смита выясняется, что он отнюдь не был сторонником дикого, бандитского капитализма. Скорее в нем можно увидеть глашатая строгой народной нравственности и морали. Говоря современным языком, Смита можно назвать защитником философии «тружеников», нежели идеологом свободной, распущенной и алчной элиты (интеллигенции). «В обществе, где уже вполне установилось разделение на классы, всегда существовали одновременно две схемы или системы нравственности, из которой одну можно назвать строгой или суровой, а другую – свободной или, если хотите, распущенной». Народ в его представлении гораздо более строг, праведен и справедлив, чем господа, чья «распущенность» с годами, по мере все более бешеного развития капитализма, переходит все рамки приличия, обрекая «простонародье» на заклание хищным выводкам (выродкам) «светски воспитанного общества».[230]
Позже автор «Истории цивилизации в Англии» Г. Т. Бокль даст его трудам такую оценку: «Об Адаме Смите можно сказать, не боясь опровержения, что этот одинокий шотландец изданием одного сочинения больше сделал для благоденствия человечества, чем было когда-либо сделано совокупно взятыми способностями всех государственных людей и законодателей, о которых сохранились достоверные известия в истории». Какие же силы неба (или ада) надо разбудить, чтобы bad fairy (англ. «злой гений») российской власти и буржуазии не счел за труд прочесть хотя бы XXI главу второго тома «Богатства», названную – «Nota bene» – «Об ограничении ввоза из-за границы таких продуктов, которые могут быть производимы внутри страны»!? Как видим, понадобились бомбы и ракеты Запада, что упали на братскую Югославию (а завтра будут сброшены на Россию!), чтобы понять всем необходимость того, что можно было бы сегодня назвать «ограниченным и мобилизационным протекционизмом».…
В Шотландии, «медвежьем углу Европы», благодаря усилиям науки и просвещения был создан удивительный анклав прогресса. Здесь (по сути дела, впервые на севере Европе) возникли предпосылки промышленного переворота. Сельское хозяйство равнинной Шотландии стало образцовым. Так что у давней пословицы «Горд, как шотландец» есть свое обоснование. Кроме всего прочего, шотландцы к середине XVIII в. прославились блестящей плеядой литераторов, философов, историков. В самом деле, не случайно столицу страны – Эдинбург – кое-кто уже стал гордо величать «Северными Афинами», а наступившие годы культурного подъема в Шотландии впоследствии получат название «века Перикла».
Дэвид Юм. Гравюра Гедана с портрета А.Рэмси 1766 г.
Выдающейся личностью Шотландии был и философ Дэвид Юм (1711–1776). За благожелательную и миролюбивую натуру друзья называли его не иначе, как «наш добрый Дэвид». Жизнь Юма стала своеобразным «гимном интеллектуальной красоте» (Шелли). Выходец из добропорядочной графской семьи, Юм отказался от властной карьеры, предпочтя карьеру ученого. Он закончил Эдинбургский университет (начал учиться в 12 лет), многое почерпнув и в культуре Франции, где прожил три года. Философ получил широкую известность своим «Трактатом о человеческой природе». Его он написал во Франции в 26 лет. О содержании оного можно сказать просто и кратко – это наука о человеке. В основе труда лежит идея прямой зависимости общего состояния наук от степени познания ими науки о человеке. Религия, математика, естественные науки, логика, этика, политика связаны с этим разделом науки. Наука о человеке является единственным прочным основанием других наук. Юм отвергал «моральные атрибуты Бога», считая суеверием христианскую священную историю. Он оспаривал саму идею организации божьим промыслом Вселенной. Мало вероятно, говорил он, чтобы столь умная ее организация была «делом рук» какого-то устроителя, скорее всего – это плод естественного воспроизводства.[231]
Будущее человечества зависит от уровня развития культуры, человеческого ума и характера, общественного воспитания и морали. А уже как следствие действия упомянутых факторов – возможность появления справедливого строя. Юм понимал, сколь далеки от реальности его мечты. Лучшее из его произведений («Исследование о принципах морали», 1752) так и «не было замечено». Эдинбургский университет не пожелал дать ему место преподавателя философии (1744) из-за полного отрицания им религиозных принципов. Прекрасный знаток истории (автор фундаментальных «Истории Англии» и «Истории дома Тюдоров»), в жизнь своих почитателей он вошел как скромный певец знаний, нарисовавший в воображении духовный Новый Иерусалим – «город с золотой мостовой и рубиновыми стенами».
Юм придавал исключительное значение задаче улучшения человеческой природы с помощью культуры. Он прямо говорил о том, что «напрасны были бы наши ожидания найти в неподвергшемся влиянию культуры (uncultivated) естественном состоянии средства» против человеческих, общественных пороков и недостатков. Ныне иным правителям не грех вспомнить некоторые азы нравственных и экономических положений его философии. В частности, он установил прямую связь между понятиями «собственности, права и обязательства» и «идеями справедливости и несправедливости». Особо стоило бы подчеркнуть следующие его слова: «Собственность человека – это какой-нибудь предмет, имеющий к нему некоторое отношение; но данное отношение не естественное, а моральное и основано на справедливости. Поэтому очень неразумно воображать, что у нас может быть идея собственности до того, как мы вполне поймем природу справедливости и укажем ее источник в искусственных установлениях людей. Происхождение справедливости объясняет и происхождение собственности». Иначе говоря, нелепо закреплять права собственности, если они не подкреплены справедливостью. Точно так же было бы безумием возводить град на зыбкой почве социальной несправедливости, назови его хоть «Европейским домом», хоть «Американским градом на холме», хоть «Российской демократией».
Он предупреждал, что враги разума и справедливости охотно готовы приобрести «патент», скрепленный печатью разума, чтобы скрыть собственные тайные и эгоистичные цели… «Всё может произвести всё». Это утверждение философа в высшей степени справедливо, если, конечно, не возводить его в принцип построения цивилизации. Вместе с тем легко убедиться, что никакой научный патент, никакой академический титул не спасет от краха политэкономическую или идейную доктрину, если та эгоистична и индивидуалистична, противореча интересам абсолютного большинства. Если личный интерес есть «первичный мотив справедливости», то еще важнее симпатия к общественному интересу. Общественный интерес должен быть источником морального одобрения и оплотом любой политики. Главная обязанность политиков, как и системы воспитания – поддержание в обществе «уважения к справедливости и отвращения к несправедливости». Нужно так строить общественную систему, чтобы чувство чести смогло «пустить корни в нежных душах детей» и обрести нужные твердость и крепость. Общество, лишенное равенства, справедливости и порядочности, не спасут и права собственности, ибо в стране утвердится власть негодяев.[232]
Юм и Смит – бойцы на поле битвы за культуру (эстетический смит-и-вессон, что был приставлен к виску бессовестной и хамоватой буржуазии). Их слова образны и доходчивы. Они дают программу «краткого курса» в сфере эстетики. Нормы времени вырабатываются путем сравнений. Все сравнивается со всем. Ныне могут быть иные нравы, вкусы, понятия, критерии. Когда-то славили иных поэтов, писателей, ученых. Сегодня их время ушло. Мы «никоим образом не в состоянии» наслаждаться их произведениями. Возьмем хотя бы Гомера. Какое впечатление остается от него, если взглянуть на него глазами современников. Сплошные марши и сражения, грохот щитов, непонятные и напыщенные речи. Жестокость и кровь. Нет, с Гомером нынче как-то неуютно. Но это не значит, что нужно выбрасывать его из библиотек. Как было бы преступлением и глупостью «выбросить портреты наших предков из-за того, что они изображены на них в рюшах и кринолинах» (или, скажем, даже в комиссарских тужурках!).
Затрагивает он и стороны эстетического опыта. Говоря о духовных вкусах, мы порой рассуждаем, подобно поварам или парфюмерам. Ведь так оно и есть. Духовная пища – то же блюдо, только посложнее. Философия и культура не одобряют однообразных «диет». Считающий себя воспитанным человеком не стал бы доказывать итальянцу, что шотландская мелодия звучит приятнее итальянской оперной арии. «Если вы умны, то каждый из вас допустит, что вы оба правы» (Юм). Это же можно сказать и в отношении того, что мы говорили о культуре и цивилизации. У каждого народа – свои привычки. То, что считается этичным и прекрасным у одного народа, в одну эпоху, вызывает недоумение, страх, даже отвращение у других (в другие времена). А. Смит приводит пример: тонкие черты, белый цвет лица в Гвинее считается уродством и, напротив, черный цвет, толстые губы и сплюснутый нос – красотой. Некоторые аборигены в Америке имели обыкновение сжимать головы детям дощечками, сдавливая их почти до квадратной формы. Однако ведь и европейские женщины до недавнего времени заключали в жутчайшие тиски корсетов «прекрасные естественные формы своего тела». И этот обычай был принят «среди самых цивилизованных народов мира». В период царствования Карла II распутство считалось среди знати Англии знаком светского воспитания (как и во Франции). Столь же различна манера проявления чувств у народов: «Живость и чувствительность, которые французы и итальянцы, два самых культурных европейских народа, проявляют по всякому поводу, удивляют прежде всего тех общающихся с ними иноземцев, которые воспитывались среди людей, обладающих более слабой чувствительностью. Эти иноземцы не могли приобщиться к столь бурной манере себя держать, какую им никогда не приходилось наблюдать у себя в стране. Молодой французский аристократ, которому отказали в получении полка, в состоянии плакать в присутствии всего двора. Итальянец…проявляет больше волнения, когда его штрафуют на двадцать шиллингов, нежели англичанин, которому читают смертный приговор» (А. Смит).[233]
В XVIII в. возросло значение университетов. Если Исаак Ньютон читал лекции при полупустых аудиториях, то на лекции Ф. Хатчесона, А. Смита, других известных преподавателей собираются толпы студентов. Фрэнсис Хатчесон (1694–1746), primus inter pares (лат. «первый среди равных»), стал читать лекции на английском, а не на мертвой латыни. Под влиянием его идей формируются взгляды Д. Юма, Э. Берка, А. Смита. Следы его мысли вспыхивают, словно ночные звезды, в работах великих умов (Лессинга, Канта, Дидро, Гердера). Он – один из тех «виртуозов мысли», которых Шефтсбери называл «тонко и изящно образованными людьми». Хатчесон верил в существование врожденных (генетических) способностей человека. В его представлении они – наиважнейший исходный материал. Образование, культура, воспитание суть лишь инструменты. С их помощью, конечно, можно увеличить способности ума, полнее раскрыть, то что заложено природой. Но если люди лишены способностей или вообще склонны к лени и безделью, тут «никакое образование не поможет». Хатчесон пишет: «Образование может заставить невнимательного гота вообразить, что его соотечественники достигли совершенства в архитектуре; а отвращение к его врагам, римлянам, может соединить определенные неприятные идеи даже с их зданиями и поднять его на их разрушение; но он никогда бы не образовал этих предрассудков, если бы был лишен чувства красоты. Разве слепые когда-либо спорят о том, какой цвет более тонкий, пурпурный или алый? И разве может какое бы то ни было образование расположить их в пользу какого-либо из этих цветов?»[234]
Наука, образование, искусства пользовались в Англии, Шотландии, Ирландии почетом и уважением. Правящий класс этих стран проявил изрядную долю здравого смысла, мудрости и прозорливости. Идеологи реформ (не чета нашим, российским) всячески холили и лелеяли отечественную науку… Таков был и лорд Шефтсбери (1671–1713), аристократ, живший в Италии и посвятивший себя философии. Это – один из наиболее ярких представителей века Просвещения. Британия сравнивается им с Древним Римом… Шефтсбери призывал правителей и аристократов «по своей доброй воле» оказывать помощь искусствам и наукам, дабы облегчить их «счастливые роды». Нации нужны поэты, рапсоды, историографы, хранители древностей всяческого рода. Художества и науки не могут быть оставлены без попечения в передовой стране мира. Он приучал английскую буржуазию к мысли о необходимости и важности выполнения роли domina omnimum scientarium! («властительницы над всеми науками»).
Без мощной поддержки духовной элиты власть не может работать. Пренебреги она людьми острого ума, вырази свое презрение свободному гению – и она обречена. Времена Кромвеля давно миновали. В Великобритании это поняли. Теперь, если власть и обратится к силе оружия – её ждет полнейшее фиаско. Поэтому Шефтсбери и рекомендует сильным мира сего любить и привечать «заслуженных людей, с тем чтобы они благожелательно относились к правительству и были его друзьями». Перед нами программа действий разумного и, смею сказать, весьма просвещенного правительства, искренне заботящегося о благе страны, а не сборища Tom fools («невежественных дураков и шутов»).[235]
Почтенные профессора, благодарные государственным мужам и состоятельной верхушке за поддержку их творческих и научных усилий (приносящих прибыль и славу им и Англии), выступали в поддержку и имперских притязаний Альбиона. Профессор Эдинбургского университета В. Уэльвуд поддержал претензии Карла I на владычество английской короны над водами океана, омывающего страну с юга, а также над Северным морем (XVIII в.). Какую позицию мог занять Ньютон, если он получил кафедру математики в Кембридже, учрежденную на деньги крупного собственника Лукаса. Английских ученых и интеллектуалов можно заподозрить в чем угодно, но только не в разрушении основ своей страны, а также тех условий, которые, собственно, обеспечивали им их благополучие и успех. В России в последние годы все наоборот. Кучка вороватых бездарностей, ничем не прославивших себя ни в науке, ни в производстве стала «реформаторами» (архитекторами краха великой страны).
Баллиольский колледж в Оксфорде в начале XVIII века.
Поступь века Просвещения становится все увереннее… Значение английской мысли и культуры в деле укрепления свобод, новых веяний в Европе велико. Ф. Энгельс был прав, заметив (1847): «Если Франция подала в конце прошлого столетия славный пример всему миру, то мы не можем обойти молчанием тот факт, что Англия подала этот пример на 150 лет раньше и что в то время Франция еще совсем не была готова последовать ему. А что касается идей, которые французские философы XVIII века, Вольтер, Руссо, Дидро, Д`Аламбер и другие, сделали столь популярными, то где первоначально зародились эти идеи, как не в Англии! Никогда не следует допускать, чтобы Милтона, первого защитника цареубийства, Алджернона Сидни, Болингброка и Шефтсбери вытеснили из нашей памяти их более блестящие французские последователи!»[236]
В Англию переезжают многие умные люди. В 1700 г. сюда из Голландии перебрался Бернард Мандевиль (1670–1733), закончивший Лейденский университет. Б. Мандевиль – родом из семьи французских протестантов. Уже тогда имели место процессы, позже названные «утечкой умов». Умы утекают и притекают. А чтобы этот процесс пошел на пользу стране, надо иметь умных правителей. Получив известность как автор едкой сатиры на нравы общества («Басня о пчелах», 1705), Мандевиль пишет «Опыт о благотворительности и благотворительных школах» (1723). Там он предлагал упразднить мелкие церковноприходские и частные школы, которые не смогли обеспечить должного уровня образования. Он настаивал и на отделении школы от церкви. Как полушутливо заметил литератор и ученый Дж. Аддисон (1672–1719): «Мы, англичане, отличаемся особой робостью во всем, что касается религии».
Особое внимание Мандевиль уделял университетскому образованию. Двери университетов должны быть открыты для людей «со всех концов земли». Способных юношей следует оставлять в университетах для продолжения образования, научной и педагогической работы. Университеты «должны быть открытыми аукционами для всякого рода литературы, подобно ежегодным ярмаркам разнообразных товаров и изделий, проводимым в Лейпциге, Франкфурте и других местах Германии, где нет различия между местными жителями и иностранцами и где участвуют люди со всех концов земли с одинаковой свободой и равными привилегиями». Интересны его оценки и тогдашней системы высшего образования Великобритании. Уже в первой четверти XVIII века английские университеты выглядят достаточно «богато». Однако там масса недостатков: «много бездельников, которым хорошо платят за то, что они едят и пьют, а также получают великолепные и удобные квартиры».[237]
Как жила профессура в то время? Тогдашняя элита общалась часто, шумно, плодотворно. Времени для этого было предостаточно. В клубах, университетах, гостиных, в бесчисленных кафе и пабах шли горячие дискуссии. Смит был знаком с Юмом. Частенько они встречались и, как говорится, расслаблялись. Смит, соперничавший с Хатчесоном, в компании друзей любил выпить. Трудно читать лекции с половины восьмого утра, да еще каждый день?! Осатанеешь. Юм рассказывал А. Смиту, как он писал труд «Историю Англии». В беседах участвовал лорд Кеймс, подтрунивавший над холостяцкой жизнью философов. Бутылка заменяла им жену, надо сказать, небезуспешно. Подумав, философы решили: нечего даже пытаться совмещать серьезное занятие наукой с женщиной. Тем, кто жаждет сильных ощущений, лучше взять да испробовать смесь пива и джина! Если бы они могли, то и поспорили бы с Карлейлем, который обрушился на любителей крепкой выпивки: «Пиво и джин: увы, это не единственный род рабства»… Расчувствовавшись, старики вспомнили Ньютона, с которым встречались, когда тот был уже стар. Ньютон тогда признался Кеймсу, что за два года (между 23 и 25-ью годами) сделал в науке больше, чем за всю остальную жизнь. Но при этом потерял любимую девушку. Ей надоело ждать ученого жениха. Она выбрала другого, возможно, и не столь умного, но более внимательного. Философы и лорд многозначительно переглянулись и, подняв стаканы, чокнулись, словно бросая вызов тем, кто дерзнул оспаривать девиз «in vino veritas», тем самым как бы подтверждая древнее название страны («веселая Англия»). Возможно, кто-то из них процитировал стихотворение немецкого поэта Иоганна фон Бессера (1654–1729), названное крайне многозначительно «Противу баб»:
Когда Господь, уже в последний день Творенья, Адама сотворил подобием своим, Восстал счастливец, кой из персти был творим, И мир предстал ему весь как его владенье. Земля и Рай, и зверь и птицы во служенье Ему, и всеми был покой его храним; И он блаженствует. Один. О счастья дым! Великим счастием толь кратко наслажденье! И се, да пребывал он впредь неодинок, Дана ему жена. Ужель не лют сей рок? Несчастный лег и спал, бессилен защититься. Создали из него жену и привели; И он познал ее. И горше дни текли: Пришлось уж в первом сне с покоем распроститься.[238]Перевод Е. Ханта
Вряд ли можно говорить о проблемах образования и воспитания, не касаясь психологии лежащей в основе большинства мотиваций интересов и поступков. Знаменательно, что именно в Британии, где Гоббс некогда придал ассоциациям силу универсального закона психологии, Локк пропел осанну воспитанию и опытному знанию, а Ньютон создал новую механику, появится и тот, кого считают основателем ассоциативной психологии. Им стал Дейвид Гартли (1705–1757), получивший богословское и медицинское образование. Благодаря ему это учение стало доминирующим в психологии вплоть до начала XX века. Он заставил педагогов осознать проблемы психологии воспитания, настежь распахнув затворенные двери школ и университетов. Основные положения теории автор изложил в «Размышлениях о человеке, его строении, его долге и упованиях» (1749). Психолог М. Ярошевский отмечал: «Исходя из представления о прижизненном формировании психики, Гартли считал, что возможности воспитания, воздействия на процесс психического развития ребенка поистине безграничны. Его будущее зависит от того, какой материал для ассоциаций ему поставляют окружающие: поэтому только от взрослых зависит, каким вырастет ребенок, как он будет мыслить и поступать. Гартли был одним из первых психологов, заговоривших о необходимости для педагогов использовать знание законов психической жизни в своих обучающих методах».[239]
О роли познания писал и епископ Дж. Беркли (1685–1753), потомок английских переселенцев, родившийся в Южной Ирландии. Закончив Тринити-колледж (в Дублине), он стал преподавателем, а в 1709-м принял священнический сан. Внеся вклад в теорию познания, он в меру сил старался обосновать и теорию послушания. Папы, епископы, патриархи традиционно занимают в истории сторону сильных мира сего. Этой цели служит сочинение Беркли «Пассивное послушание» (1712) и его открытые письма в «Дублинском журнале» (1745), направленные против ирландского «бунта». Читателю мало интересны его рассуждения по поводу «достоинств дегтярной настойки». Важнее его «Трактат о принципах человеческого знания» (1710), в котором подвергаются критике общие абстракции философов. Если оставить в стороне детали его спора с Локком, то нам представляется важным два взаимосвязанных момента в его книге. Во-первых, Беркли решительно противопоставляет мир людей и мир философов, поскольку последние живут, по сути дела, исключительно среди абстрактных понятий: «Простая и неученая масса людей никогда не притязает на абстрактные понятия. Говорят, что эти понятия трудны и не могут быть достигнуты без усилий и изучения; отсюда мы можем разумно заключить, что если они существуют, то их можно найти только у ученых». В таком случае (во-вторых) спросите их: «А в состоянии ли господа философы вообще понять жизнь? Не закрывают ли их символы, абстракции, термины от них истинные явления природы и человека?» Если вероятность этого велика, не следует ждать от них ни новых откровений, ни смелых и новаторских решений. Беркли вынужден признать: «В целом я склонен думать, что если не всеми, то большей частью тех затруднений, которые до сих пор занимали философов и преграждали путь к познанию, мы всецело обязаны самим себе; что мы сначала подняли облако пыли, а затем жалуемся на то, что оно мешает нам видеть».[240]
Но облако пыли, поднятое Английской революцией, а зачем и Реставрацией, давно улеглось. Ситуация изменилась. Просвещение уже не напоминает монастырскую обитель. Монастыри и церкви передают образовательную «эстафету» городским и сельским светским школам. В системе обучения и воспитания все более ощутим дух практических нужд, изобретательства, инженерии. Проявляются и конкурирующие моменты в деятельности высшей школы. С одной стороны, действуют традиционные, классические университеты и колледжи, с другой – промышленно-технические заведения нового типа, диссидентские академии. Обновляется и совершенствуется педагогическая метода. Возникают новые виды воспитательных заведений – скажем, знаменитая система кораблей-приютов «Трайнинг-шип». Меняется общий стиль преподавания.
На сцену поднимаются иные герои… Персонажами исторической «пьесы» становятся уже не только и не столько герцоги, лорды, святейшества, но и купцы, рудокопы, ткачи, учителя, изобретатели машин. Воззрения священников, джентльменов обогащаются и дополняются взглядами буржуа, тогда еще полных силы и дерзновения. Знание становится инструментом, с помощью которого преобразуют действительность. Человек получил возможность использовать накопленные знания в целях самоусовершенствования и улучшения жизни. «Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Заметно улучшилась работа системы земледелия, всей экономики. Для Англии характерен переход от эпохи эотехники к эпохе палеотехники. Упрочились связи между отдельными странами и сообществами. В труде Дж. Бернала читаем: «…Шотландия благодаря кальвинизму установила интеллектуальную связь с Голландией, в частности с Лейденским университетом, что обеспечило постоянный приток в страну высокообразованных людей, особенно в области медицины, включавшей также и химию. Великий Бургав, последователь Ван-Гельмонта и учитель, подготовивший половину всех химиков Европы, оказал особенно серьезное влияние на Шотландию, где его ученики играли ведущую роль во внедрении науки в университеты. В XVIII в. университеты Шотландии, несомненно, ни в чем не походили на своих английских братьев, они стали активными центрами научного прогресса, отличительной чертой которого было стремление связать практику с теорией во всех отношениях». Таковы некоторые самые общие итоги.[241]
Однако и в Англии в конце XVIII – начале XIX веков возрождение науки шло уже не из старых центров (Оксфорда, Кембриджа или Лондона), как это было в XVII в., а из Лидса, Глазго, Эдинбурга, Бирмингема или Манчестера. Манчестер – это легендарный город промышленной революции, подаривший человечеству первую публичную библиотеку, первую паровую машину, первый локомотив, первую железную дорогу (в ХХ в. здесь будет создан и первый компьютер). Перед нами «британские Афины» эпохи индустриализации. В отношении Манчестера английские историки говорят, что в Британии нет другого такого города, где бы на протяжении двух столетий ни прослеживалась столь явная связь между ростом индустрии и развитием наук. Манчестер считался городом торговцев и ремесленников. Тут обосновались многие из тех, кто занимался медициной и науками. Рост буржуазных отношений и накопление капиталов вели к появлению людей ученых или нацеленных на карьеру в области искусств. Из этой среды вышел Т. Персиваль, основавший научное объединение, которое затем трансформировалось в «Манчестерское литературное и философское общество». Учреждается колледж, готовящий юристов и священников. Т. Персиваль и его друзья (Т. Генри и др.) первыми предложили схему подготовки специалистов высшей квалификации для индустрии. В Манчестере прошли этапы жизни и деятельности химика Дж. Дальтона. Торговец Дж. Оуэнс учредил колледж, который должен был соперничать с ассами высшего образования типа Оксфорда и Кембриджа. Колледж выжил, процветая во многом благодаря тому, что стал неким «симбиозом капитала и культуры», переняв лучшее у шотландцев и немцев. Таковы лишь некоторые примеры деятельности купцов, банкиров, промышленников Англии середины и конца XVIII века.[242]
Манчестер в XIX веке.
Люди, стоящие близко к нуждам промышленности и торговли, первыми протянули руку помощи образованию и науке. Они понимали их значение лучше всяких банкиров. В труде Бернала читаем: «Значение науки, которая меньше ценилась в то время при дворе или в городе, было полностью осознано поколением северных промышленников и их друзьями. Они видели, что причиной того обстоятельства, что в прошлом наука не имела успеха, было то, что адепты ее не были людьми практическими. Затем, впервые в истории науки, ее начали систематически преподавать также за стенами морских школ. Несмотря на пренебрежительное отношение со стороны более старых университетов (во всяком случае, закрытых для оппозиционеров, какими было большинство людей нового направления), она нашла себе место в диссидентских академиях, подобных академиям Уоррингтона и Дэвентри. Поскольку академии эти были созданы на пожертвованные средства, успех их служил мерилом ощущавшейся в это время потребности в науке, и на протяжении XVIII века они давали лучшее, после шотландских университетов, научное образование в мире».[243] Такова плеяда ученых-практиков: «интеллектуальный отец капитализма» А. Смит, основатель современной геологической теории доктор Геттон, «владелец воздуха», святой отец Дж. Пристли, открывший кислород, наконец, Вениамин Франклин, которого иные называли «Бэконом XVIII века». Центрами научного прогресса становятся шотландские и новые английские университеты, где практика теснейшим образом увязывается с теорией. Деловые люди стараются следовать совету лорда Болингброка: «Давайте удовлетворимся частным, или экспериментальным знанием…»[244]
Интересна фигура Джозефа Пристли (1733–1804). Священник, ученый, мыслитель, педагог принадлежал к движению «рациональных диссидентов», выступающему за реформирование английской конституции и расширение прав и свобод личности. Читателю Пристли известен как ученый, «открывший кислород». Мало кто знает, что он был еще и педагогом. Он обучался в академии Дэвентри (1752–1755), учебном заведении нового типа, где, по словам Р. Уоттса, давалось самое «лучшее для своего времени высшее образование». В те времена Оксфорд и Кембридж превратились скорее в «стойло» для породистых английских джентльменов, нежели выступали в роли цитадели серьезной науки. Средние школы Британии находились в упадке. Разносторонняя личность Дж. Пристли немало дала английской системе образования. Он читал лекции по химии, анатомии, языкознанию, литературе, истории и праву. Он издал «Начала английской грамматики» (1761). Студенты Уоррингтонской академии, где он преподавал, получали на его лекциях внушительный запас знаний. Когда же он вынужден был покинуть ее стены, ректорату пришлось поделить чтение его курсов между тремя различными преподавателями.
Майкл Фарадей.
В трудах Дж. Пристли сформулирована идея прогресса цивилизации, который ставится им в зависимость от трех главных моментов – прогресса образования, факторов разделения труда, форм государственного и общественного правления. Последнюю сферу он называл «великим орудием прогресса человеческого рода». Пристли говорил, что благодаря этим факторам люди позднейших столетий стоят… выше людей предшествующих веков при одинаковом их возрасте. К такому прогрессу рода грубые животные не способны. «Ни одна лошадь этого столетия, по-видимому, не стоит выше лошадей прошлых эпох, и если имеется какой-нибудь прогресс в отношении рода, то он обязан нашим способам разведения и дрессировки лошадей».[245] А как сказал поэт: «Все мы немножко лошади!» Вскоре Дж. Пристли избирают в Королевское общество за создание научно-популярной работы по истории электричества (1766). Дж. Бентам, подчеркивая его роль в вопросе повышения престижа академии, писал: «Уоррингтон был тогда образцовым местом. Там жил Пристли». Он поддержал Великую Французскую революцию и решил уехать в Америку. Там, по предложению Джефферсона, им будет специально написана для института государственного образования в Вирджинии книга «Советы по организации государственного образования».[246]
Все заметнее и ощутимее прогресс и фундаментальных наук. Одним из наиболее выдающихся представителей экспериментального знания стал английский физик и химик Майкл Фарадей (1791–1867). Его предки были кузнецами. Показателен сам факт того, что выходец из подобной семьи получил в Англии возможность стать великим ученым. Свой трудовой путь он начинал с профессии переплетчика книг. Вскоре проявился его интерес к изучению тайн и загадок природы. В 1812 г. Фарадей попадает на лекции светила тех лет сэра Хэмфри Дэви. Прослушав их, он не сомневается в правильности избранного пути. Через год по рекомендации того же Х. Дэви его назначают ассистентом в лабораторию Королевского института Великобритании (важнейшего научного центра страны). Вместе с патроном молодой человек совершает путешествие по Франции, Италии и Швейцарии. В 1825 г. Фарадей стал директором лаборатории, а затем назначается пожизненным профессором химии в Королевский институт. Фарадей внес немалый вклад в науку: обнаружил химическое действие тока и электромагнитную индукцию, установил взаимосвязь между явлениями магнетизма, света и электричества, стал основоположником учения об электромагнитном поле («отцом электроники»).
Его исследования в области электромагнетизма и электрической индукции привели к тому, что колоссальная область электротехники стала, по сути дела, его вотчиной. Он – не только «царь физики», но и Орфей всей электрической Одиссеи. Никто не мог с таким искусством рассказать молодежи о свойствах физики и химии. Со времени его первой работы по физике (о «поющем пламени», 1818 г.) он сумел совершить столько, что у нас не хватит строк для перечисления даже его основных трудов. Так же, как он «играл земным магнетизмом, как волшебник магическим жезлом», он погружался в тайны природы, будучи уверен в единстве всех ее сил. Фарадей признавал действие физических сил на расстояние, был убежден в существовании телегенеза и телепатии. Он же в 1832 г. в общей форме высказал и теорию телеграфа, которая вскоре воплотилась в жизнь. Его называют великим благодетелем мира. «Только после исследований Фарадея в области электромагнетизма и индукционного электричества… появилась возможность превратить электричество в послушного слугу человека и совершать с ним те чудеса, которые творятся теперь», – писал Я. В. Абрамов. Он благороден, справедлив, гуманен и добр. «Он был демократом, готовым бунтовать против всякого авторитета, желающего незаконно ограничить свободу мышления», – писал Тиндаль. Его приоритетными интересами были – наука и образование. Правительству, предложившему ему государственную пенсию за открытия, он писал: «правительство поступает совершенно справедливо, награждая и поддерживая науку». Фарадей решительно помогал всем, кто нуждался в помощи. При этом он сам был абсолютно равнодушен к деньгам. Промышленные общества предложили ему заработать очень большие деньги путем «профессиональных услуг». Он пару раз выполнил их пожелания и сделал ряд анализов, но затем решительно оставил эти занятия, отдав все силы и время фундаментальной науке. Когда к нему обратилась комиссия Британского общества естествоиспытателей с запросом, что надо сделать правительству для улучшения положения ученых и представителей науки, Фарадей написал: «правительству ради своей выгоды следовало бы ценить людей, служащих стране и приносящих ей честь», и что «во множестве случаев, требующих научных знаний, правительству следовало бы пользоваться учеными». Но, к величайшему сожалению, в его Англии эта разумная и крайне эффективная практика не реализуется так, как это должно было бы быть с пользою для всех. Очевидно, продолжал ученый, «правительство, еще не научившееся уважать ученых как особый класс людей, не может найти верных путей и средств вступать с ними в сношения». Так, премьер Мельбурн, несмотря на уже всемирную славу Фарадея, ничего не слышал о нем и лишил его пенсии («какой-то химик»). Правда, будучи фантастическими невеждами, иные правители отделываются орденами да званиями. Впрочем, великий ученый был равнодушен к наградам, которыми его, «царя физиков», вскоре стали осыпать все страны Европы. Дважды отклонил он просьбу и собратьев-ученых стать президентом Королевского общества (Академии наук), мудро сказав: «Я хочу остаться до конца жизни просто Майклом Фарадеем, и позвольте мне вам сказать, что если бы я принял честь, которою удостаивает меня Королевское общество, я не мог бы более ручаться за непорочность своей души». Зная дрязги, зависть, склоки, что нередки среди академиков, он был прав. Он как-то бросил: «Факты были для меня важны, и это меня спасло».[247] Мы же полагаем, что лишь понимание элементарного факта главенства науки как формы жизни и существования большинства может «волшебным образом» снять груз проблем человечества.
В дверь цивилизации все явственнее, настойчивее стучится «машинный век»… Шотландец Джемс Уатт (1736–1819) – одна из интереснейших фигур. Среди его предков, шотландцев, были учителя математики и мореходства, создатели кораблей и строительных кранов, музыкальных инструментов… Его отец и мать были образованными людьми. Джеймс Уатт с детства отличался необычайной любознательностью и любовью к чтению. В гимназии он овладел латынью, преуспел в математике и астрономии, увлекся анатомией (однажды его поймали с головой мертвого ребенка, которую он хотел препарировать). Уатта влекли все области знания. В мастерской он помогал отцу тому собирать машины. Судя по всему, быть ему оптиком, мастером математических инструментов. В те годы это означало что-то вроде «ученого-механика». В Лондоне он некоторое время ходил в учениках. Вернувшись в Глазго, Уатт пытается найти работу. Ему повезло. В местном университете освобождается место мастера по изготовлению научных инструментов. Так способности юноши и его трудолюбие завоевали ему признание.
Профессор Робинсон (тогда еще студент) писал: «В его руках все становилось началом научной работы, все превращалось в науку… При его общепризнанном умственном превосходстве над сверстниками, в характере Уатта была какая-то удивительная наивная простота и открытость, которые делали привязанности к нему очень прочными. Его превосходство смягчалось беспристрастностью и всегдашней готовностью признать за всяким его заслуги и достоинства». Хорошим и достойным людям везет на приличных людей. В этом смысле Уатту действительно «везло», ибо он встретил тех, кто стал ему другом (Дикк, Смол, Болтон). У знаменитого изобретения (паровой машины) были, разумеется, предшественники. Герон Александрийский за 120 лет до нашей эры дал описание «шара Эола» (вращающегося на своей оси). Среди изобретателей паровой машины называли имена англичан – маркиза Ворчестера (1663), капитана Савари (1702) и кузнеца Ньюкомена (1704); французов – Соломона де Ко (1630) и Дениса Папина (1674); немцев – Герике (1672). Конечно, книга маркиза Ворчестера «Век изобретений» и книга Соломона де Ко «Причины двигающихся сил» не имели прямого отношения к созданию паровой машины.
Открытие свое Уатт сделал в 1765 г. Рудники и шахты в Англии уже стали истощаться. Чтобы поднимать руду, нужно было откачивать воду, спускаясь все ниже. Машина Уатта – спасение для тысяч рабочих и сотен промышленников. Страна и мир получили один из главных инструментов прогресса. Однако пройдут еще годы опытов, труда, борьбы с денежными трудностями, прежде чем паровые машины войдут в жизнь. Для научно-технического прогресса нужны деньги. Капиталистов можно «не любить», но деньги на научные исследования, переоснащение устаревшей промышленности брать придется. Поэтому воздадим должное тем, без кого никогда не состоялся бы и Дж. Уатт. Это – промышленник, в прошлом доктор медицины Ребак и талантливый предприниматель М. Болтон. Последний создал в 1765 г. самый большой и лучший завод в Бирмингеме («Зоо»). Обладая отменным деловым чутьем, он сумел оценить перспективы использования машины и предложил Уатту стать компаньоном. В письме он заявил, что готов делать машины «для всего света», предложив себя в роли «акушерки», которая поможет Уатту «разрешиться от бремени». (Рассчитывать только на частный капитал в деле поддержки научно-технических и промышленных усилий в конце ХХ века в России было бы не только наивно, но и смерти подобно).
Джеймс Уатт.
При всем уважении к Шотландии Уатту было трудно найти деньги у себя на родине. Уатт пришлось заняться стройкой канала (1770–1772). Затем он изобрел микрометрический винт (1770) и новый отражательный квадрант (1773). Работа над машиной отодвигалась. Умерла любимая жена. Уатт в отчаянии: «Мне дольше невыносимо оставаться в Шотландии, я должен или переехать в Англию, или найти себе какое-нибудь доходное место за границей!» Эта идея чуть было не воплотилась в жизнь. Профессор Робисон предложил ему переехать в Россию. Сам он переехал туда, занимая пост директора морского училища. Уатт колебался. В 1775 г. к нему обратился русский посланник, предложив место и оклад (10 тысяч рублей). Его просили построить в Петербурге машину для наполнения водой доков. К сожалению, дело не сладилось. Не желая упускать гениального изобретателя, Болтон пугал Уатта «страной медведей и беспардонных казаков, для которых закон не писан». Поэт Дарвин писал ему: «Боже, как я был испуган, услышав, что русский медведь наложил на вас свою огромную лапу и тащит вас в Россию. Пожалуйста, не ездите туда, если есть какая-нибудь возможность. Россия – это логовище дракона: мы видим следы многих зверей, ушедших туда, но очень немногих, возвращающихся оттуда. Надеюсь, что ваша огневая машина удержит вас здесь». В конечном итоге, чудо-машина была готова и стала приносить барыши. Уатт был самоучкой. Ни школ, ни университетов он не посещал. До конца дней он оставался скромным и добрым человеком, честно служившим своей стране. Он отказался от баронского титула, сказав, что не годится для него. От членства в различных научных обществах он не отказывался, считая это честью (член Лондонского королевского общества, Эдинбургского общества, Парижской академии). Когда ему исполнилось 70 лет, он скажет: «Большую часть своей жизни я тяжело работал на пользу общества и, надеюсь, не напрасно: instrumenta artis nostrae у всех в руках. Я служил уже государству в той форме, к какой меня предназначила природа…»[248] Достойный сын шотландского народа.
Примером того, как надо поддерживать инженеров и конструкторов, служит история создателя аналитической машины Чарльза Бэбиджа (1791–1871). Отец его был банкиром, оставив в наследство сыну приличное состояние. В школе тот увлекался математикой. Самой интересной книгой он считал учебник алгебры. Бэбидж обожал копаться во внутренностях игрушек, вопрошая: «А что внутри?» С 19 лет он учится в Кембридже, становясь одним из лидеров студенческого братства. В его круг войдут знаменитые Дж. Гершель и Дж. Пикок, ставшие друзьями. Они поклялись «приложить все усилия, чтобы оставить мир мудрее, чем они нашли его». В дальнейшем Бэбидж стал профессором математики в Эдинбургском университете. В молодые годы он составлял грамматику и словарь мирового универсального языка. И даже сочинил статью, которая была встречена с живым интересом «в кругу домушников», если они ее, конечно, читали («Об искусстве открывания всех замков»).
Подлинная слава ждала его в другой области. В Лондоне создается Астрономическое общество (1820). В его организации принял активное участие и Бэбидж (секретарь, вице-президент, член Совета). Тогда-то и зародилась у него идея создания машины, которая смогла бы облегчить работу вычислителей (в 1812–1813 гг.). С присущей ему энергией он приступил к работе и к 1822 г. построил небольшую разностную машину, сумев провести сложные подсчеты. Бэбидж был награжден первой золотой медалью Астрономического общества. Президент общества Г. Коулбрук высоко оценил труд создателя машины: «Ни в одной области науки или техники это изобретение не может быть использовано так эффективно, как в астрономии и связанных с ней областях, а также в разделах техники, зависящих от них». Обращаем внимание на позицию английской власти. Заправилы Англии (и Сити) быстро прикинули выгоды от такого изобретения. Их не смутило, что эта счетная машина (не станок, пушка или пароход) строилась более 10 лет. На ее создание ушли по тем временам огромные деньги (17 тысяч фунтов стерлингов из казны правительства и 13 тысяч средств Бэбиджа). Машина тем не менее была крайне полезной. С ее помощью сделан сравнительный обзор различных систем страхования жизни и были опубликованы достаточно точные таблицы смертности. Нынче видим, как правители иной страны равнодушно наблюдают за возрастающей шкалой смертности среди их народа, не давая и фунта для создания машин, во многом превосходящих машину Бэбиджа.[249] Бэбиджа считают одним из праотцов современного компьютера.
Число изобретений растет. Мир отдает отчет в значимости всего того, что происходит. Вот как, скажем, отреагировал украинский поэт Тарас Шевченко на эти события: «Великий Фултон! И великий Уатт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Мое пророчество несомненно».[250] Такого рода отклики на прогресс техники в Великобритании имели под собой основу. Грош цена была бы капитализму, если бы мысли и усилия его творцов были направлены только на грабежи, эксплуатацию и войны. Такой капитализм полностью исчерпал бы себя, не дав плодов.
Но капитал и тут не сразу явился «из головы Афины Паллады» (во всеоружии знаний и мудрости). И тут имело место множество нарушений. Обратим внимание на поведение Английского банка в начале XIX в. В этой связи особый интерес представляет позиция классика буржуазной политической экономии Давида Рикардо (1772–1823). Возьмем одну сторону его воззрений, которую условно назовем «Банки и Нация». Рикардо был акционером Английского банка. Он решительно поднял голос протеста против его политики Тем самым он, противопоставив корыстные интересы банкиров, на стороне которых стояли «министры и военная партия», интересам большинства народа, парламентской оппозиции, то есть «партии мира» (К. Маркс).[251]
Тогда как народ Англии испытывал тяготы положения, вызванного войной и общей сложнейшей экономической ситуацией, политика, проводимая частным банком, давала тому «невиданные барыши, причем доходы этой корпорации возрастали пропорционально росту тягот и трудностей всего общества». Рикардо предлагал лишить Английский банк права эмиссии банкнот, требуя передать эмиссионное дело в руки комиссаров, назначаемых парламентов и несменяемых. Рикардо предложил самому правительству взять в свои руки управление государственными финансами, тем самым освободив Английский банк от прибыльной миссии государственного казначея.
Рикардо даже высказывал пожелание полностью ликвидировать частный банк, создав на его месте единый Национальный банк. Думая о людях, там работающих, он предлагал казне выкупить здания частного банка, а всех специалистов трудоустроить. Однако, что вызывало столь резкую реакцию великого экономиста? Дело в том, что уважаемые господа банкиры, пользуясь бесконтрольностью центральной власти, фактически расхищали общественные ресурсы (деньги). Рикардо почти открыто обвинил директора Английского банка в недобросовестности, если не в открытом жульничестве. Один из руководителей Банка Торнтон, скрыл от общественного мнения тот факт, что только на государственных вкладах Английский банк получил 382 тыс. фунтов стерлингов в год. Рикардо с возмущением пишет: «Не прискорбно ли видеть, что такая великая и богатая корпорация, как Английский банк, выказывает желание увеличить свои накопления при помощи незаконных барышей, вырванных из рук переобремененного народа?»[252] Вы спросите: «А не прискорбно ли видеть, что еще более богатые корпорации в лице банков иной страны (скажем, России) пиратски увеличивают свои накопления, вырывая из рук не то что переобремененного, а просто-напросто нищего народа последние гроши?!»
Сборщики податей.
Все-таки надо быть более справедливым и честным. Английский капитал… порой проявлял немалую щедрость, когда дело касалось национальных интересов Англии, готовящейся стать промышленной и научной мастерской мира. Та накапливала ресурсы, включая всю мощь британского гения. Казалось, ну что английским министрам, парламенту и капиталу до каких-то там небесных высот, когда можно достигать земных благ и богатств, набивая свои карманы!
Почему же Англия вырвалась вперед в споре с другими странами? Небывалому развитию промышленности и торговли между 1848-м и 1866 гг. способствовала умная финансовая и налоговая политика. Все финансы Британии тогда решительно и смело были брошены на развитие промышленности и инфраструктуры. Перевозка товаров и пассажиров благодаря транспорту стала осуществляться вчетверо быстрее и дешевле. Наблюдается бурный рост капиталовложений в сельское хозяйство с упором на крупное фермерство. С 1851-го по 1871 год общее число ферм с количеством земли ниже 40 га в Англии уменьшилось, а число ферм в 120 га и, в особенности, свыше 200 га значительно возросло. Английские капиталисты прекрасно понимали и важность внедрения новейших достижений техники. Выставка Королевского сельскохозяйственного общества, проходившая в 1853 г., представила 2 тысячи сельскохозяйственных орудий. Все шире стали применяться и искусственные удобрения. Уже между 1845–1859 гг. заметно возросла заработная плата сельскохозяйственных рабочих. Так должен действовать прогрессивный капитализм, а не чудовищная пародия на него, которую мы наблюдаем в России (нам чужд нынешний тип капитализма).
Трансформируется и система образования страны. Меняется управление университетами. В Англии появляются инженерные институты (mechanics` institutes). Монополия старых вузов рухнула в 1826 г. с учреждением Лондонского университета. Хотя у того и не было вначале прав присуждать студентам научные степени, образование здесь оказалось более дешевым, практичным. Возник целый ряд институтов и колледжей (в Манчестере, Бристоле, Бирмингеме и т. д.), делавших упор на естественные и инженерные науки. Высшее образование в Великобритании становилось уделом более широкого круга людей. Торговля, наука, производство, изобретательство, свободные искусства требовали специальных знаний, многообразия умственных способностей. В 1782 г. в Лондоне публиковалось порядка 18 ежедневных газет, а «десятью годами позже там выходили уже сорок две» (Андерсон). Появился паровой печатный станок и тиражи возросли (1814).[253]
В Великобритании больше тех, кто проводил «труды и дни» в школах, университетах, лабораториях, мастерских, на заводах и фермах. Их-то, тружеников Альбиона, мы и славим. Английский поэт и публицист Мэтью Арнолд (1822–1888), идеал которого Древняя Греция, в одном из своих сонетов, который называют «программным» («Спокойная работа»), писал:
Урок, знакомый ветру и воде, Урок один мне преподай, Природа, — Урок того, как может год от года Труд жить в покое, а покой в труде, Урок того, как вечно и везде Живут плоды несуетной работы. Лишь тот способен покорить высоты Кто может суету держать в узде.[254]Перевод В. Орла
Английские школы и университеты воспитывали учеников в характерном для той эпохи имперско-колониальном духе. Как и чему здесь обучали? Перелистывать уставы и программы XVIII–XIX вв. мы не будем. Скажем лишь, что прошедший эту школу писатель и драматург Генри Филдинг (1707–1754), автор «Истории Тома Джонса, найденыша», пишет о тех годах с теплотой… Он изучал Овидия и Гомера, декламировал Цицерона и Демосфена, писал стихи на древнегреческом. Правда, математике и естественным наукам тут не обучали. Не было тогда и курсов по музыке или живописи. Воспитание носило спартанский оттенок. Однако к студентам жестких условий не предъявляли и от них не требовали обязательных занятий спортом. Сам писатель вспоминал о пребывании тут как о «живом роднике детства».[255] В романах английского сатирика предстают образы Англии, являя собой, как скажет Теккерей, «замечательные художественные памятники гения и искусства». В «Истории Тома Джонса» дан перечень тех, кого он призывает руководить пером и быть наставником в жизни. Филдинг пишет: «Прежде всего тебя, гений, дар небес, без чьей помощи тщетна борьба наша со стихийным течением вещей, – тебя, сеющего благородные семена, взращиваемые и развиваемые искусством. Возьми меня ласково за руку и проведи по всем закоулкам, по всему извилистому лабиринту природы. Посвяти меня в тайны, недоступные взору профанов. Научи меня – для тебя ведь это нетрудно – познавать людей лучше, чем они сами знают себя… Сорви тонкую личину мудрости с самомнения, изобилия – со скупости и славы – с честолюбия. Явись же, о вдохновитель Аристофана, Лукиана, Сервантеса, Рабле, Мольера, Шекспира, Свифта, Мариво, наполни страницы мои юмором, чтоб научить людей лишь беззлобно смеяться над чужими и уничиженно сокрушаться над собственными безрассудствами. А ты, почти неразлучный спутник истинного гения, Человеколюбие, ниспошли мне все теплые твои чувства… Руководи моим пером и ты, Ученость, – ведь без твоей помощи гению не создать ничего чистого, ничего верного. Тебе поклонялся я в ранней юности, в излюбленном твоем святилище, где прозрачные, тихо струящиеся воды Темзы омывают твои Итонские владения. С истинно спартанским мужеством приносил я в жертву кровь мою на березовый твой алтарь. Приди же и надели меня в изобилии из твоих несметных сокровищ, собранных в далекой древности».[256]
Обучение грамоте.
Британская модель обучения в XVIII–XIX вв. несовершенна. Система образования оказалась вся пронизана классовыми предрассудками. У. Теккерей в «Книге снобов» (1847) указывал на наличие в середине XIX века разных возможностей в обучении для детей знати и бедняков. В частности, он отмечал: «Потому что этот юноша – лорд, университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет. Ему не нужно сдавать экзамен, потому что он лорд». Гораздо труднее и мучительнее доставалось высшее образование средним слоям населения Великобритании, не говоря уж о бедняках: «Несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются «стипендиатами», а в Оксфорде – «служителями» (весьма красивое и благородное название). Различие делается в одежде, ибо они бедны; по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с товарищами-студентами».[257] Эти уродливые черты в ряде случаев сохраняются по сей день.
Впрочем, когда он сам учился в Кембридже, ведя жизнь «викторианского джентльмена», Теккерей не пожелал to bear the blame (англ. «принимать на себя ответственность») за «грехи» высшей школы Англии, а можно даже сказать, что и наслаждался всеми преимуществами богача и любимца элиты. Участвовал в веселых компаниях, писал стишки в студенческом альманахе под многообещающей вывеской «Сноб», время от времени вступал (правда, крайне неудачно) в единоборство с алгеброй, широко сорил деньгами и даже, как говорят, слыл весьма заядлым картежником. Нужно признать: жизнь будущего писателя в университете так и не сложилась. Понимая это, он завидовал тем, кто быстро находил себя в университете, превращая библиотеки в храмы. Там самым они могли самозабвенно служить своим «новым богам». Для него же заведенные тут порядки казались просто невыносимыми. Поэтому он так и рвался прочь из Кембриджа, где все ему казалось «странно мертвым».[258]
Если «сливки общества» располагали прекрасными привилегированными школами (Итон, Харроу и тому подобные), то вот средние и бедные слои вынуждены были преимущественно довольствоваться скромным гимназическим типом училищ (grammar schools). Впрочем, и тут самые бедные, но проявившие определенные умственные способности и усидчивость, могли обучаться в учебно-воспитательных заведениях типа «Христова приюта», «Школы синих курток», основанной еще королем Эдуардом I в XVI веке. Такая школа описана в романе Ч. Лэма «Очерки Элии». Приют рассчитан на 400 учеников и имел филологическую направленность. Условия обучения были суровы, порой жестоки. Что поделаешь. «Business before pleasure» (англ. «Делу время, потехе час»). Однако тут были и свои радости. О некоторых сторонах школьной жизни Ч. Лэм писал: «Были у нас собственные классики, и мы не были им обязаны ни «высокомерной Греции, ни надменному Риму»: «Питер Уилкинс», «Приключения достопочтенного капитана Роберта Бойля», «Удачливый мальчик в синей куртке» и прочие вроде них. Или мы развивали в себе склонность к механике и к науке, сооружая из бумаги крошечные солнечные часы или сплетая те хитроумные сетки, которые называются «кошачьими люльками», или заставляя сухие горошины плясать на кончике оловянной трубки, или упражняясь в военном искусстве по правилам достославной игры «французы и англичане», или убивая время на сотню затей подобного рода, сочетая при этом полезное с приятным, так что души Руссо и Джона Локка умилялись бы при виде наших занятий».[259] «Умиление» просветителей, имей оно действительно место, вряд ли было бы искренним, если бы те ознакомились с истинным положением вещей. В начале XIX в. свыше половины английских детей не получали никакого образования, а около 20 процентов вообще неграмотны. Процесс обучения скучен до невозможности. У. Блейк описал атмосферу, царившую в школах:
Но днем сидеть за книжкой в школе Какая радость для ребят? Под взором старших, как в неволе, С утра усаженные в ряд, Бедняги школьники сидят. С травой и птицами в разлуке За часом час я провожу. Утех ни в чем не нахожу Под ветхим куполом науки, Где каплет дождик мертвой скуки.[260]Перевод С. Маршака
Мир детей Чарльза Диккенса (1812–1870) суров и безрадостен. С тех пор как он сам попал в частную школу с пышным названием «Академия Веллингтон-Хаус», где преподавание носило случайный, бессистемный характер, дисциплина держалась на садистской жестокости директора, а учителя были никудышными, у него выработалась стойкая ненависть к английской системе образования. Во многом этими настроениями и навеяны его знаменитые романы («Оливер Твист» и др.). Конечно, если вы прочтете его очерк «Наша школа» и воспоминания современников, то увидите, что молодому человеку повезло. Ему жилось неплохо в стенах этой викторианской школы… Как отмечает Э. Уилсон, автор одной из книг о Диккенсе, детям там давали кукольные представления, их обучали игре на скрипке, им даже разрешалось держать мышей, кроликов, птиц и пчел (в партах). Выходила и ученическая газета, в которой многие из них принимали участие.[261]
Если вся атмосфера британского общества проникнута изрядной долей консерватизма, фарисейства и снобизма, то слепком времени не могли не быть и учебные заведения. Вот как описывал тот же Теккерей в «Ярмарке тщеславия» одно из таких почтенных заведений (школу «Уайтфрайерс»): «Первоначально она предназначалась для сыновей бедных и заслуженных духовных особ и мирян, но многие из знатных ее попечителей, благосклонность которых проявлялась в более широких размерах или, пожалуй, носила более капризный характер, выбирали и другого рода объекты для своей щедрости. Бесплатное образование и гарантия обеспеченного существования и верной карьеры в будущем были так заманчивы, что этим не гнушались и многие богатые люди. И не только родственники великих людей, но и сами великие люди посылали своих детей в эту школу. Прелаты посылали туда своих родственников или сыновей подчиненного им духовенства, а с другой стороны, некоторые высокопоставленные особы не считали ниже своего достоинства оказывать покровительство детям своих доверенных слуг; таким образом, мальчик, поступавший в это заведение, оказывался членом очень разношерстного общества. Хотя сам Родон Кроули за всю жизнь не изучил ни одной книги, кроме Календаря скачек, и хотя его воспоминания о школе связывались главным образом с порками, которые он получал в Итоне в ранней юности, однако он, подобно всем английским джентльменам, искренне уважал классическое образование и радовался при мысли, что его сын будет обеспечен, а может быть, даже станет ученым человеком».[262] Теккерей, как выражаются сами англичане, speaks by the book (англ. – «говорит на основании собственного опыта»).
В английской системе образования были изъяны. И это не только odds and ends (разные мелочи). В ней царили суровые и антигуманные законы. Они действовали даже по отношению к тем, кто составлял интеллектуальную элиту. Пуритане, например, одно время предлагали вообще упразднить университеты. Затем Кромвель в революционной горячке изгнал из стен университетов сторонников короны (несмотря на все их научные заслуги). С приходом к власти Карла II реставраторы тотчас же сделали ответный ход: заменили почти всех членов колледжей, ранее назначенных старым парламентом и Кромвелем. «Акт униформности» (1662) подтверждал власть короля в университетах.
Дж. Уоттс. Голод в Ирландии. 1849–1850.
При взгляде на английские порядки и в XIX в. нелегко было удержаться от оценок, встречающихся в романе британской писательницы Шарлотты Бронте… В романе «Учитель» (1847) у одного из англичан (некоего Хансдена) состоялся следующий разговор с девушкой: «– Англия – ваша родина? – спросила Фрэнсис. – Да. – И вы ее не любите? – Я был бы жалок, если б любил её! Маленькая, скверная, Богом проклятая нация, погрязшая в гадкой спеси и беспомощной нищете, прогнившая в своих пороках и, как червями, изъеденная предрассудками. – Всё это можно отнести почти к любой стране, везде есть пороки и предрассудки, и, думаю, в Англии их все же меньше, чем в других странах. – А вы поезжайте в Англию да убедитесь своими глазами. Съездите в Бирмингем да в Манчестер, побывайте в Лондоне – в квартале Сент-Джайлз – вы получите наглядное представление о нашем устройстве. Рассмотрите получше поступь нашей величественной аристократии – увидите, как шествует она по крови, мимоходом раздавливая сердца. Да загляните потом в лачуги английских бедняков, полюбуйтесь, как Голод застыл, припав к холодным черным камням очага, как Болезнь лежит на незастеленной постели, как Порок распутничает с Бедностью, хотя в действительности предпочитает как любовницу Роскошь, и герцогский дворец ему более по вкусу, нежели убогая лачуга с соломенной крышей… – Я думала не о пороках и нищете, существующих в Англии, я думала о том, что есть там лучшего – что называется национальным духом и характером, что взращивалось и передавалось из поколения в поколение. – Нет там этого «лучшего» – по крайней мере, того, о чем вы были бы способны судить; у вас ограниченное образование и слишком низкое положение, – потому вы совершенно не способны оценить ни успехов промышленности, ни прогресса в науках; что же касается Англии в историко-поэтическом свете – я не обижу вас, мадемуазель, если посмею предположить, что вы опирались на подобный сентиментальный вздор?»[263]
А взгляните, чем Англия прославилась в Ирландии. Расстрелами да грабежами. Хотя ученые ирландцы гораздо раньше англичан (еще в VI веке) явились в разоренную Европу с чисто просветительскими целями. Да и в Ирландских сагах поэтическое название Ирландии звучит как «Западный Мир». Им принадлежит заслуга «воспитания и образования» неотесанных английских и европейских королей и рыцарей. Ими основаны известные монастыри (Люксейль и Санкт-Галлен), являвшиеся, по сути дела, главными культурными центрами Европы. В Ломбардии под покровительством королевы-католички Теоделины они создали аббатство Боббио, располагавшее впоследствии богатейшей античной библиотекой. Так вот, именно этот, культурнейший и благородный народ безжалостно растоптали англичане. На века пролегла между ними и ирландцами межа недоверия и неприязни. В Лондоне, в здании, где размещалось английское купечество, состоялась «лотерея». Разыгрывались участки земель в покоренной Ирландии. Деньги вступительного взноса за право участия в этой «игре» принимались только от англичан и шотландцев протестантского вероисповедания. Ирландцы же (католики) к «лотерее» не допускались.[264]
О методах воздействия английских колонизаторов красноречиво говорит такой факт. В XVI веке в Ирландии, согласно статистике, насчитывалось 1,5 млн. ирландцев (до усмирения ее армией Кромвеля). После же высадки английской королевской армии в 1650 году и устроенной ею резни ирландцев в собственной стране осталось всего 600 тыс. человек. Две трети населения Ирландии было полностью уничтожено. Лорд-протектор издал «гуманный» приказ: правами английского гражданина награждаются лишь те ирландцы, что доставят «головы двух своих соотечественников или хотя бы одну голову католического священника». Вы скажете, что перед нами акт невиданного геноцида. Да, это так. Сервантес абсолютно прав, сказав: «Жестокость не может быть спутницей доблести».
Ту же политику геноцида видим в просвещении. В страшных, тяжелейших условиях обучались дети изгнанных со своих земель ирландцев. Приходилось буквально по крохам и крупицам собирать знания. Странствующие учителя (а другие были вряд ли возможны при английском господстве) занимались с детьми бедняков «под изгородью или в полях». В это время дозорные охраняли их от английских шпионов. Жизнь учителя в Ирландии была в те времена горше хмеля. Видный ирландский историк Т. А. Джексон писал о страшной практике Британии тех лет: «В случае поимки таких «подпольных» учителей им угрожала виселица или ссылка на каторгу по обвинению в государственной измене, а в лучшем случае – порка за бродяжничество. Платой за их труд было место у огня, ночевка на сеновале; с ними делили обед, для них собирали между собой одежду и мелкие деньги – сколько удавалось сообща наскрести. В них видели последних уцелевших хранителей одного из живых источников древнегэльского социального уклада, и в любой хижине в любое время они могли рассчитывать на сердечный прием. Многие из них в самом деле были потомками целых династий летописцев, хранителей родословных, учителей, брегонов, бардов, рассказчиков легенд того или иного клана; и если живая струя гэльской культуры никогда не иссякла, то лишь благодаря странствующим учителям и тем, кто давал им приют. Вместе с приходскими священниками эти подпольные учителя наряду со странствующими поэтами и музыкантами поддерживали искру гэльского огня в среде беднейших землепашцев, не отличавшихся в глазах англичан от домашних животных».[265]
Даже хваленая английская культура стремилась всячески принизить и оскорбить ирландца, его язык, традиции, его народ. Они поступали точно по методе вздорной и подлой леди Дэшфорт, героине романа М. Эджворт «Вдали отечества». Она старалась вредить ирландцам, где только было возможно, стремилась посеять в людях «презрение и отвращение к Ирландии и всему ирландскому», внушить к ней неприязнь или, по крайней мере, всячески унизить ирландцев в глазах английского общества.
Даже в XIX в. ирландцам неоднократно приходилось испытать буквально на своей шкуре жестокость и алчность англичан… Вот что писали о жизни ирландцев в конце XVIII в.: «Ирландцы в состоянии экспортировать (зерно в 1789 г.) лишь потому, что подавляющее их большинство не потребляет хлеба вовсе. Из страны вывозят не избыток, а то, что везде в иных странах считалось бы необходимым. На трех четвертях сего острова народ довольствуется картофелем, а в северной части – кашей из овса, из коей они делают сухари, и похлебкой. Таким-то образом бедный, но привыкший к лишениям народ кормит нацию (Англию), каковая имеет куда более природных богатств, нежели он сам». А события последующих лет («великий голод» 1845–1850 годов) даже породили поговорку: «Провидение погубило картофель, а Англия создала голод». В 1847 г., когда сотни тысяч людей умирали с голоду, под охраной английских войск из Ирландии вывезли пищевых продуктов на сумму 17 млрд. фунтов стерлингов. И те полтора миллиона людей, погибших в течение этих лет, пишет историк, «умерли не от голода, а были убиты арендной платой и прибылями предпринимателей».[266] Правительства англосаксов представляют безжалостную, тупую и позорную силу. Хотя когда-то говорят, у англосаксов существовал институт, получивший у историков название «уитенагемоты» (от древнеанглийского – witena gemot), то есть собрания мудрых. Все это в прошлом.
Так что огромное число бедняков в Ирландии всегда было готово дружно (в один голос) подхватить знаменитую песню Р. Бернса, получившую название «Честная бедность», где высмеивается английская знать, её верхушка – «бревно» (да у кого их нет – «бревен-то»!?):
Кто честной бедности своей Стыдится и все прочее, Тот самый жалкий из людей, Трусливый раб и прочее. При всем при том, При всем при том, Пускай бедны мы с вами, Богатство — Штамп на золотом, А золотой – Мы сами! Мы хлеб едим и воду пьем, Мы укрываемся тряпьем И все такое прочее, А между тем дурак и плут Одеты в шелк и вина пьют И все такое прочее. При всем при том, При всем при том, Судите не по платью. Кто честным кормится трудом, — Таких зову я знатью. Вот этот шут – природный лорд. Ему должны мы кланяться. Но пусть он чопорен и горд, Бревно бревном останется…[267]Перевод С. Маршака
Несчастные ирландцы массами устремлялись в Канаду и Америку. И оттуда посылали уже проклятия «доброй Старой Англии». Население Ирландии уменьшилось с 8170 тыс. в 1841 г. до 4700 тыс. в 1891-м, и за тот же период посевная площадь зерна там снизилась с 1,2 млн. до 600 тыс. гектара. Небольшие земельные участки были жесточайшим образом очищены от мелких фермеров, а на их основе (sic!) созданы крупные капиталистические хозяйства (а вовсе не наоборот, как стараются проделать варвары плутократии в ельцинской России).[268]
Внушительный счет могла бы предъявить англичанам и свободолюбивая Шотландия. В конце XIII века англичане, обескровив эту красивейшую горную страну, сделали ее своим вассалом, отняв право жить по законам предков. Лишь мужественный и непоколебимый дух народа, возглавляемого Уильямом Уолесом, позволил тогда разбить интервентов и выдворить их из страны. Писатель Т. Смоллет (1721–1771) бичевал всю беззастенчивость и подлость английских королей и знати, не раз вторгавшихся в Шотландию с карательными экспедициями. Его даже прозвали «исследователем темных душ». «Темная душа» английского завоевателя предстает со страниц многих его романов, а также исторических и поэтических трудов («Слезы Шотландии», 1746). Будучи шотландцем по происхождению, Смоллет терпеть не мог жестоких и безжалостных англичан, что поставили под запрет национальные обычаи и культуру великого народа. В одном из его романов устами героя он говорит, что Англия – «худшая страна во всем мире для пребывания в ней достойного человека».[269]
Не стану утомлять читателей перечнем пороков англичан. Они в конце концов есть у всех. Но каковы уроки морали и нравственности, проповедуемые тут? Ведь, с давних времен известно: «Qui proficit in litteris, sed deficit in moribus, plus deficit quam proficit» (лат. «Кто преуспевает в учености, но лишен нравственности, более теряет, чем приобретает»). Какие же «уроки нравственности и морали» сумели преподать английским юношам почтеннейшие отцы семейств? Английская система воспитания явила миру не лучшие черты, подтверждая справедливость высказывания лорда Шефтсбери: «Самый изобретательный способ поглупеть – это следуя системе». Описывая взгляды правящей элиты Великобритании XVIII в., американские историки Чарльз и Мэри Бирд отмечали наличие в английском обществе варварского уголовного кодекса, ограниченной и снобистской университетской системы. К негативным сторонам британской жизни относили жестко навязанную государством религию, лицемерие презрение власть имущих к людям труда, запрет на серьезное и всестороннее образование широких народных масс».[270]
Роберт Бернс.
Чему научает сына аристократ граф Честерфилд (1694–1773), бесспорно «муж редких дарований» (его полное имя – Филип Дормер Стенхоп)? Сам батюшка-граф получил по тем временам превосходное образование (в Кембридже), читал и переводил с одного языка на другой (английский, французский, латынь). К сожалению, учеба сделала из него педанта, просвещенного и карьерно-суетного. Подводя итоги своего пребывания в университете, он писал: «Когда я хотел быть красноречивым, я цитировал Горация, когда я намерен был шутить, я пытался повторять Марциала, когда я хотел казаться светским человеком, я подражал Овидию. Я был убежден, что только древние обладали здравым смыслом и что в их произведениях заключалось все то, что могло бы быть необходимым, полезным и приятным для человека». Поклонение древним, конечно, грехом не назовешь. Знаменательно (для понимания психологии британца) выглядят уроки светского воспитания и чиновной мудрости. Вот уж где торжество двуликого Януса! Почтенный муж, не стесняясь и не терзаясь угрызениями совести, подаёт отпрыску (в «Письмах к сыну») уроки высшего лицемерия и карьеризма, говоря: «Помнится, когда я учился в Кембридже, педанты этого затхлого учебного заведения приучили меня свысока относиться к литературе, все презирать и над всем смеяться. Больше всего мне хотелось что-то доказывать и с чем-то не соглашаться. Но достаточно мне было даже бегло ознакомиться со светом, как я увидел, что все это никуда не годится, и сразу же резко изменил свое поведение: я стал скрывать свои знания; я рукоплескал, не одобряя в душе, и чаще всего уступал, не будучи убежден, что это именно то, что я должен сделать…»
А вот еще ряд откровенных советов, вероятно, еще более полезных для лавирования в коридорах власти (всех времен): «В светской жизни манеры человека должны быть гибкими, так же как в жизни политической гибкими должны быть его таланты. Часто надо бывает уступить, для того чтобы достичь своей цели, унизиться – для того чтобы возвыситься; надо, подобно апостолу Павлу, стать всем для всех, чтобы завоевать расположение некоторых… Живя в свете, надо иногда обладать переменчивостью хамелеона и даже развивать в себе эти качества несколько больше и несколько раньше пустить их в ход, потому что тебе придется в какой-то степени принимать окраску мужчины или женщины, которые тебе нужны или с которыми ты хочешь завязать близкие отношения».[271] С. Джонсон высказался в отношении писем Честерфилда крайне резко: «Они учат морали шлюхи и манерам учителя танцев». Надо ли удивляться, видя, как лидеры Англии легко сочетают эту мораль с преступными наклонностями и лицемерной готовностью быть провозвестниками устоев мира!
Элите Британии присущи пороки (как и «элите» России). Места в стране покупались. Голоса членов парламента приобретались в обмен на пенсии. Шеридан отмечал, что на эти цели транжирятся «такие громадные суммы, на которые можно было бы обеспечить средствами к жизни всех трудящихся бедняков». Открыто продаются дворянские звания. Премьер У. Питт-Младший ухитрился пожаловать звание пэра 140 претендентам. Это была новая «плебейская аристократия», куда попадали «новые богачи», безвестные сквайры, хваткие дельцы, скотопромышленники. Глава правительства «вылавливал» их в коридорах банкирских домов, вытаскивал из недр бухгалтерий.[272]
Когда же к иным героям обращали упрек в бессовестности и продажности, чиновники отвечали тяжким вздохом, да словами небезызвестного мистера Шенди, героя романа Лоренса Стерна. Тот не без ехидства говорил в таких случаях: «Вы кричите, что мы погибший, конченый народ. – Почему? – спрашивал он, пользуясь соритом, или силлогизмом Зенона и Хрисиппа, хотя и не зная, что он им принадлежал. – Почему? Почему мы погибший народ? – Потому, что мы продажны. – В чем же причина, милостивый государь, того, что мы продажны? – В том, что мы нуждаемся, – не наша воля, а наша бедность соглашается брать взятки. – А отчего же, – продолжал он, – мы нуждаемся? – От пренебрежения, – отвечал он, – к нашим пенсам и полупенсовикам. Наши банковые билеты, сэр, наши гинеи, – даже наши шиллинги сами себя берегут».[273] Бедность – не порок! Но только, не в Англии и России!
Сколько же иронии и одновременно скрытой апологии в этих словах Стерна (точно так же наша «демократия» оправдывает правление коррупционеров). Вот тогда-то государственный корабль Британии начал давать крен и течь. Известно высказывание лорда Честерфилда: «Позаботься о пенсе, а уж фунт позаботится о себе сам». Жаль, почтенный лорд не одарил нас притчей: «Всякий фунт, не попавший в карман чиновника у власти, потерян для человечества».
Не менее критично к системе власти в Англии относился упомянутый Д. Рикардо. Он явно не был в восторге от своего парламента (как от нижней, так и от верхней палаты). Экономист требовал переизбирать депутатов чаще, ибо это давало бы возможность народу «обеспечить постоянное внимание к интересам народа». Сколько же можно терпеть в Палате общин столь некомпетентных людей: «Но неужели мы никогда не будем иметь хорошей палаты общин из-за того, что ее никогда не было раньше? Народные массы владеют теперь настолько большим количеством знаний, чем когда-либо прежде, что имеют право на лучшее представительство в парламенте, чем в прежние времена».
В душе он понимал все несовершенство Британской системы, представлявшей собой ящик с тройным дном. Народу не позволяют заглянуть внутрь. Ему показывают фокус с займом (траншем), что тут же по мановению банкира, министра, премьера, вдруг, исчезает. И поминай как звали! Честному человеку путь наверх закрыт (в министры, парламентарии и т. п.). Рикардо прямо говорит, со ссылкой на премьера Англии (1823): «Питт, в то время, когда он был другом парламентской реформы, сказал, что при такой палате общин для честного человека невозможно быть министром. Он придерживается такого же мнения. Он не говорит, что министры не хотят действовать честно, но они обязаны искать совета у людей, враждебных интересам народа, и принимать меры, противоречащие интересам народа. Каковы бы ни были их личные симпатии, они не могут поступать иначе, ибо чувствуют, что благодаря особенной конституции этой палаты они были бы вышвырнуты в одну неделю, если бы осмелились действовать честно».[274]
Что же касается состояния физического здоровья тогдашнего светского общества, об этом можно наглядно судить по сценке из книги английского писателя О. Шервина… Книга эта посвящена писателю Шеридану, автору знаменитой «Школы злословия». В Англии те годы называли не иначе как «хмельной эпохой»… Дело в том, что британцы пьянствовали почти все поголовно – и стар и млад. Причем, чем выше был сан и должность, тем чаще ударялись в запой. Королевское семейство и высшая знать так просто спивались (хотя король был скорее исключением из правил). Карикатуры тех лет изображают наследных принцев, министров, премьеров, депутатов, хлещущих спиртные напитки как минеральную воду в какой-нибудь Сахаре. Умный пил, стараясь еще более оживить свое воображение и речь, ловелас пил, желая увлечь даму, дурак же в силу природной тупости и ограниченности. «Отец английской поэзии» Джеффри Чосер, сын виноторговца (1340–1400), знавший нравы и порядки британской глубинки, оставил в назидание потомкам шарж, которым остряки-англичане разбавляют порцию виски:
Кто пьет вино, тот стал на путь разврата. В обличье пьяном не узнаешь брата. О пьяница! Твои штаны обвисли, От бороды несет отрыжкой кислой, И в храпе, сотрясающем твой сон, Ноздрей высвистываешь ты: Сам-сон. (А видит бог, Самсон не пил вина, В другом его тяжелая вина.) Увязшим боровом лежишь ты в луже, Сопишь без слов, ведь пьяному не нужен Язык. Коль пьяница откроет рот, Так до добра язык не доведет: Как пьянице не выболтать секрета? И вот, друзья, в уме держа все это, Воздерживайтесь впредь вкушать вино, Откуда б ни было привезено…[275]Крепко зашибал в молодости полководец Веллингтон, победитель Наполеона. Герцог Норфолкский, упившись в усмерть, валялся на улице, так что прохожие приняли его за мертвеца. Шеридан, хотя и «боролся» с зеленым змием, но, откровенно говоря, без особого успеха. Вскоре пара бутылок крепкого портвейна стали для него «легкой разминкой». Не без успеха выступали на этом ристалище парламентарии. Спикер ни в чем не уступал своим друзьям по партии. Часто его видели в палате общин за баррикадой из кружек с крепчайшим портером. Ясное дело, что и глава государства (главнокомандующий) никак не мог в столь серьезнейшем «сражении» дать слабину. Это значило – пасть в глазах друзей по партии и «их дому».
На фронтонах английских правительственных резиденций, парламентов, министерств, банков, мэрий давно уже пора выгравировать девиз, некогда украшавший шекспировский театр «Глобус»: «Totus mundus agit histrionem» (лат. «Весь мир играет комедию»). Хотя в отношении нынешних властей Британии, возможно, несколько уместнее иное выражение – «ломать комедию».
Английская газета «Морнинг кроникл», не пожалев красок, расписала и славные подвиги Питта-Младшего. С банкета, устроенного Кентерберийским муниципалитетом, он шел к карете, шатаясь «подобно его собственным законопроектам». В те развеселые времена в Англии у политиков в ходу шутливая реприза:
Куда наш спикер скрылся? Его ты видишь, друг? Ты, старина, напился: Я ясно вижу двух!От политиков не отставали отцы церкви, пустившись в развеселую жизнь (в 1802 г. им было дозволено не бывать в приходах постоянно). Из 10 тысяч приходов англиканской церкви половина не имела постоянного священника. От былого пуританизма святых отцов остались лишь смутные воспоминания. Ну чем не достойный пример для нашей «демократии», стремящейся во всем уподобиться Европе! Почтенные парламентарии, как и их оппоненты наверху, монархические особы и премьеры, дружно облевывали помпезные троны, резиденции, царские палаты, парламентские скамьи (но боже упаси, не свято чтимые законы страны, ни-ни)… Так что нет оснований приукрашивать нравы британского общества. Б. Шоу в адрес членов парламента сказал: «Алкоголь – очень важная штука.… Благодаря ему парламентарии занимаются в одиннадцать вечера тем, чем ни один нормальный человек не станет заниматься и в одиннадцать утра».
Уильям Хогарт. Улица Пива. Гравюра 1751 г.
Однажды немецкий писатель Г. Бёлль сказал в отношении ирландцев: «Ежегодно через каждую ирландскую глотку протекает маленькое озеро чая».[276] Вряд ли будет преувеличением сказать в отношении англичан то, что ежегодно через каждую английскую глотку протекает нечто вроде «маленького озерца виски», не считая целого моря пива. Став империей, Великобритания получила возможность завозить в страну и всякого рода колониальные деликатесы и товары. Англичане пристрастились к кофе. Джонатан Свифт шутил: «Многие по глупости принимают шум лондонской кофейни за глас народный».
Впрочем, пора перенестись из дворцов, парламентов, университетов в сельскую местность. Там протекала подлинная жизнь народа (с ее грузом проблем). Обратимся к роману Гарди «Мэр Кэстербриджа. История человека с сильным характером», как раз и описывающему эту жизнь. В романе дана история возвышения и падения мэра одного из английских городков. Факт перехода батрака и вязальщика сена Майкла Хенчарда в мэры сам по себе знаменателен. О его морали говорит то, что будущий мэр попав на деревенскую ярмарку и поев каши с ромом, захмелев от варева, решает продать свою жену: «А за пять гиней я продам ее любому, кто согласен заплатить мне и хорошо обращаться с ней. И он получит ее на веки вечные, а обо мне никогда и не услышит! Но за меньшую сумму – не пойдет! Так вот: пять гиней – и она ваша!» С типично английским цинизмом он, еще не мэр, уступает ее моряку за небольшую сумму. Минуло время… И вот мы в Кэстербридже, куда забрела его бывшая жена с уже выросшей дочкой (муженек продал её вместе с дитем). Оказалось, муж успел выбиться в мэры, разбогатев неясно каким способом. «Честная торговля не приносит барыша – в нынешние времена, богатеют только хитрецы да обманщики!» – говорит один из персонажей. А как же живет народ при этом мэре? Спросив, где в городе находится булочная (чтобы поесть), героиня получает ответ: «В Кэстербридже теперь на хороший хлеб так же трудно рассчитывать, как на манну небесную, – ответила одна из них, указав им дорогу. – Они могут трубить в трубы, бить в барабаны да задавать пиры, – она махнула рукой в сторону улицы, в глубине которой можно было разглядеть духовой оркестр, расположившийся перед освещенным домом, – а нам, хочешь не хочешь, приходится мириться с тем, что в городе не сыщешь пропеченного хлеба. Теперь в Кэстербридже хорошего хлеба меньше, чем хорошего пива». Далее видим мэра, занявшего высокое общественное положение. «Столп города!» Вот он сидит за столом, упитанный, во фраке и манишке, которую украшают драгоценные камни и тяжелая золотая цепь. К удивлению бывшей жены, в его хрустальные бокалы никто не наливает ни вина, ни водки… Оказывается, он дал обет на Евангелии и не пьет, являясь членом Общества трезвости. Образец святости! Поначалу мэру во всем сопутствует успех. К любой выгодной и крупной сделке он «прикладывает руку». Конец истории, пожалуй, знаменателен. Наступает время выборов… Мэр вынужден вступить в жесткое предвыборное соперничество. А так как на селе все зависит от урожая, он идет к вещуну, предсказателю погоды (по-нашему, к самому что ни на есть маститому астрологу-политологу). Этот жулик, нимало не смущаясь (а до того у него уже побывало пятеро фермеров из разных мест), уверенно предсказывает мэру, что «вторая половина августа будет дождливой и бурной». Он говорит: «Осень в Англии будет напоминать Апокалипсис. Хотите, я начерчу вам кривую погоды?» Всезнайка оказался провидцем, хотя и надул мэра. Все планы о возвращении во власть, грядущем триумфе оказались построены на песке. В результате, как говорится, «смертельного коммерческого боя» тот погиб. Мэр разоряется и умирает, одинокий и горемычный, в Эгдонской степи… Т. Гарди включил эту вещь в серию, названную им «Романы характеров и среды».[277]
Питт Младший.
И все же налицо отличие английского «правительства всех талантов» от стран, где наверху заняты лишь собственной карьерой и обогащением. У британцев есть чувство родины. Глава правительства Великобритании У. Питте был неподкупен и руководствовался национальными интересами. Воздадим должное У. Питту-Старшему (1708–1778), что проявил себя в делах управления с самой лучшей стороны, будучи сначала министром иностранных дел, а затем и премьер-министром Великобритании. При его правлении страна одержала победу в Семилетней войне (1756–1763) против Франции, главенствуя в колониальной политике и торговле. У. Питт делал ставку на патриотизм англичан. В критические моменты, пишут историки, «его рука, голос и глас были вездесущими». Такого политика, естественно, поддерживала Палата Общин, хотя он и не имел своей партии. В стране его почтительно называли «великим коммонером». Дело его продолжил У. Питт-Младший (1759–1806). Символичны последние слова У. Питта-Младшего, сказанные им уже на смертном ложе в 1806 году: «О, моя родина – как же я покину мою родину?!» Иные же правители, видимо, будут покидать сей бренный мир с жалкой и подлой мыслишкой: «О, мои капиталы – сумел ли я достаточно ловко и быстро ограбить «мой любимый народ» и унизить свое отечество!?» Невольно хочется позавидовать Британии, что имела когда-то таких великих премьеров как Питт-Старший и Питт-Младший. Именно У. Питт-Младший восстановил равновесие английских финансов, нарушенное войной в Америке. Доходы государства в 1791 г. достигли 16750 тыс. фунтов, на 500 тыс. фунтов выше средневекового дохода за предыдущие четыре года. Он делает все, чтобы уменьшить государственный долг, понимая, что это цепи на руках и ногах нации. При нем ресурсы бюджета возрастают. Наблюдается постоянное сокращение некоторых налогов, обременявших бедные классы. Стоит особо обратить внимание на то, в чем он видит причины растущего процветания страны. Он говорит: «Если, рассмотрев статьи доходов, мы перейдем к более непосредственному изучению ресурсов нашего процветания, мы обнаружим их в соответствующем росте наших мануфактур и торговли… Экспорт изделий английских мануфактур становится все более значительным и решающим критерием торгового преуспеяния».[278] Конечно, У. Питт-Младший – «восторженный последователь Адама Смита», но это и прекрасно. В итоге, как мы знаем, Франция, связанная по рукам и ногам монархическими путами, свалилась в политическую революцию, а Британия вошла в экономических подъем и промышленную революцию. Как жаль, что в России в конце XX века власть попала не в руки деловых и серьезных людей (промышленников, ученых, изобретателей), а оказалась служанкой у прохвостов и демагогов.
Как видим, у английской правящей верхушки были и другие сильные стороны. Она предпочитала залезать в долги, но берегла «жизненную основу нации» (армии коалиции против Наполеона стоили бешеных денег, но сохраняли жизнь англичан). С трепетом старой няньки, оберегающей обожаемое чадо, тут сохраняли и лелеяли интеллектуальную и профессиональную элиту.
Свой вклад в становление английской системы образования вносят многие гуманисты… С 1785 г. здесь действовало Sunday School Society (Общество воскресных школ). В школах этой организации обучалось 2 млн. человек (1851). Существовали и религиозные общества, где обучение шло по ланкастерской системе. В конце XVIII в. возникло обучение детей с физическими недостатками. Открылись первые школы для слепых в Ливерпуле и Лондоне. В середине XIX в. возникли вечерние школы. Согласно переписи 1851 г. в Англии и Уэльсе насчитывалось 1545 таких школ с 40 тыс. слушателями. В них обучались преимущественно представители низших и средних классов (ремесленники, клерки, продавцы). Большинство населения к 1880 г. имело лишь 2–3-классное образование. Христианские социалисты учредили Рабочий колледж в Лондоне (с Ф. Д. Морисом в качестве принципиала). Среди добровольных учителей наиболее известны имена Дж. Рескина, Д. Россети, Л. Стефена, Ф. Харрисона и других. В 1874 г. возник колледж для работающих женщин. Их усилия поддержаны образовательными сообществами Кембриджа и Оксфорда.
Другое дело, если обратить взор на состояние образования и культуры трудящихся масс. Число просветительских учреждений для этой категории невелико. Конечно, есть ряд дневных школ, в принципе, доступных рабочему классу, но, как правило, плохо посещаемых. Учителей лишены элементарных знаний. Обязательное школьное обучение отсутствует. Cистемы государственного начального образования, то ее практически не существует вплоть до 1870 года. Англия в этом звене обучения заметно отстает от других европейских стран. Из бюджета правительства (в 55 млн. фунтов стерлингов) на народное просвещение выделяется ничтожная сумма (всего 40 тыс. фунтов стерлингов). Жизнь бедняков безумно трудна. Во второй половине XIX в. половина детей из бедных семей умирала, так и не дожив до 5-летнего возраста.
В то же время уровень политической грамотности рабочих Англии вырос: «Итак, мы видим, что сделали буржуазия и государство для воспитания и просвещения рабочего класса. К счастью, самые условия жизни этого класса таковы, что они дают ему своего рода практическое образование, которое не только заменяет весь школьный хлам, но и обезвреживает связанные с ним вздорные религиозные представления и даже ставит рабочих во главе общенационального движения Англии. Нужда учит молиться и – что гораздо важнее – мыслить и действовать. Английский рабочий, который почти не умеет читать и еще меньше писать, все же прекрасно знает, в чем заключаются его собственные интересы и интересы всей нации; он знает также, в чем заключаются специальные интересы буржуазии и чего он может от этой буржуазии ожидать. Пусть он не умеет писать, зато он умеет говорить и говорить публично; пусть он не знает арифметики, зато он достаточно разбирается в политико-экономических понятиях, чтобы видеть насквозь ратующего за отмену хлебных пошлин буржуа и опровергнуть его; пусть для него остаются совершенно неясными, несмотря на все старания попов, вопросы царства небесного, зато тем яснее для него вопросы земные, политические и социальные» (Ф. Энгельс).[279] Борьба народа за свои права дала результат.
Войны, что вела Британия, требовали умелых солдат и моряков. Мы видим тут немало интересных, «эпических фигур». Одной из них был знаменитый Джон Черчилль, герцог Мальборо (1650–1722), одержавший ряд громких побед. Он не потерпел ни одного серьезного поражения. Это был талантливый полководец, человек хладнокровный, проницательный дипломат. В сложной игре, которую во все времена вынуждены вести политики и военные, от них порой требуется не только личная храбрость, но и умение переиграть противника. Бывает, что к месту сказанное слово, улыбка, уважение, даже лесть могут оказать большее воздействие, чем операции целых армий. В этом Мальборо был неподражаем и, как пишет Е. Черняк, умел льстить бездарным союзным генералам, уламывать комиссаров голландских Генеральных штатов, ловко обхаживать тщеславных германских князей. При этом он даже не стеснялся приписывать их увядшим матронам «прелести Венеры, а их не видевшим поле боя мужьям – таланты Александра Македонского». Английский историк Маколеу говорил, что Джон Черчилль принадлежал к числу деятелей, считавших верность убеждениям признаком тупоумия, честность – вздором, а патриотизм – пустым звуком.
Мальборо «превосходил в этом отношении всех политиков своего времени». Так сказать «венцом» его коварства стала выдача плана тайной экспедиции, подготовленной Вильгельмом против Бреста, тому, кому он изменил еще раньше (Якову II). В результате эта экспедиция кончилась полным провалом, и более тысячи английских солдат сложили свои головы на берегу Франции. Так Мальборо сотворил «свой Дюнкерк». Поэтому упреки в его адрес Свифта, Поупа, Теккерея, Маколея имеют под собой почву. Буржуазия сделала из него героя, ибо он любил деньги (приобрел на 10 тыс. фунтов стерлингов акции только что основанного Английского банка. Известная поговорка XVIII в., касающаяся британских войск гласит: «это армия львов, предводительствуемых ослами». Однако эта армия умела и умеет мужественно и отважно сражаться, когда это необходимо.[280] Что же касается «ослов» во главе, они есть везде, во всех слоях общества, кланах, профессиональных стратах и группах. Ведь даже Наполеон при нападении турецких войск на его армию в Египте однажды воскликнул: «Ослов и ученых в центр – и защищать по периферии всячески».
История великолепного Горацио Нельсона (1758–1805) «спасителя нации», героя Абукира и Трафальгара, отвечает духу той героической и прагматической эпохи. Происходил из знатной семьи (в его роду премьер-министры, известные моряки). С ранних лет он мечтал о море. Хотя отец его, Эдмунд Нельсон, имел честь учиться в Итоне и Кембридже, сын проявил полное равнодушие к наукам. Зато выделялся особой дерзостью. Большое влияние на его судьбу оказал брат матери, капитан М. Саклинг, прославивший победами над французами в Вест-Индии. После смерти матери Нельсон обратился к дяде с просьбой помочь устроить его морскую карьеру (в 12-то лет!). С типично английским юмором дядя ответил отцу так: «Чем провинился бедный Горацио, что именно ему, самому хрупкому из всех, придется нести морскую службу? Но пусть приезжает. Может, в первом же бою пушечное ядро снесет ему голову и избавит от всех забот».
Джеймс Кук.
В Англии моряки начинали нести службу рано… Многие были вынуждены оставлять учебу. Возможно, из морских офицеров не выходили люди особой учености, но дело свое они делали исправно. «Морская жизнь требует натур восприимчивых, гибких, и слишком большой запас учености при начале карьеры может иногда сделаться скорее обременительным, нежели полезным, потому что в ней нужно очень многому учиться из собственного или чужого опыта». Среди них был мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779), сын батрака-поденщика. Нельсон не был силен в знаниях. Не соблюдал правил грамматики, писал с ошибками. Но стиль его писем выразителен и энергичен. Один из его биографов так характеризует его «культурный багаж»: «…Нельсон мало чем интересовался, кроме моря. Он не был начитан, он проявлял очень мало интереса к политике и совершенно не интересовался искусством… В начальной школе Нориджа он получил начатки классического образования… И все же ни один человек никогда не писал лучших писем… Никто никогда не был так откровенен на бумаге, и никогда не было написано так много писем таким естественным стилем, свободным от фальшивых комментариев…»[281]
Слабая грамотность и равнодушие к науке не помешали ему стать адмиралом, национальным героем. Вовсе не обязательно быть отличником, чтобы храбро служить Отечеству! Юноша сразу проявил себя как волевой и смелый моряк. Во время экспедиции за Полярный круг он дерзко пошел на белого медведя (ему было 14 лет). Затем он перенес сильнейший приступ лихорадки, который чуть не отправил его на тот свет (в Индии). Одно время его посещали сомнения. Удастся ли карьера? Он вспоминал: «Сначала меня донимало чувство, что я ничего не добьюсь в своей профессии. Голова шла кругом от тех трудностей, которые мне придется преодолевать, интерес к службе почти пропал. Я не видел способа достижения своей цели. После долгих мрачных раздумий и даже желания выброситься за борт во мне вдруг зажглось пламя патриотизма: я представил себе, что мне покровительствует сам король и вся страна. «Ну что ж, – воскликнул я, – я стану героем, и Провидение поможет мне преодолеть любые опасности!» Оставим описание военных подвигов флотоводца военным историкам. В морском деле можно запросто запутаться (в мире пушек, кливеров, галсов). Расскажем историю романтичной любви Горацио к Эмме Гамильтон, женщине, чья красота порабощала мужчин.
Лорд Гамильтон, сочетавшийся впоследствии с ней браком, познакомился с 19-летней Эммой вскоре после смерти жены (1784). Эмма пользовалась шумной славой, выступая едва ли не главным действующим лицом «Храма здоровья», где заправлял врач-самозванец Д. Грэхем, лечивший от бесплодия и импотенции. Как происходило славное действо? Меж стеклянными столбами и магнитами на звездном ложе вольно восседали едва прикрытые одеждой молодые «жрицы», среди которых титул «Богини здоровья, красоты и мудрости» носила прелестная Эмма. Говорят, ее облик и возбуждающе откровенные красноречивые движения оказывали совершенно ошеломляющее воздействие на пуритан. Британцы, любя женщин и выпивку (понятные нам слабости), порой были готовы проявлять ненужный пуританизм там, где не требуется. К примеру, хотя Англия приютила великого Генделя, нашедшего тут свою славу (он «поставлял» оперы Георгу I, придворным композитором которого был), отношение к музыкальному искусству в XVIII в. оставалось сложным.
Дж. Казанова писал так о царивших в Лондоне нравах: «Это (парк Св. Джеймса) было единственное место, где разрешалось музицировать, так как парк находился под покровительством королевского дома. В других местах строжайше запрещалось давать концерты. По городу сновали шпионы, задачей которых было выискивание источников «музыкальных шумов», доносившихся из салонов. Если у них возникало малейшее подозрение, они прятались вблизи дома и при первой возможности проникали внутрь, чтобы арестовать непослушных христиан, позволивших себе воскресное музицирование». Однако посещение борделей не встречало возражений у властей или со стороны записных моралистов (власти и моралисты сами там бывали).
Итак, толпы возбужденных старых и юных развратников заполоняли собой «Храм». Среди них было немало морячков. Эмма развлекала гостей, танцуя на столе в обнаженном виде… Вскоре она стала содержанкой Ч. Гренвилла, с которым и прожила четыре года. В конце концов, тот уступил ее дядюшке, лорду Гамильтону, при условии, что тот сделает его наследником. В итоге стареющий дипломат женился-таки на девушке (невесте было 26 лет, ему – 71 год). Для людей, обладающих элементарным благонравием, такой поступок был бы чреват немалыми осложнениями. Даже Казанова заметил по поводу этого брака с явным сожалением: «Он (Гамильтон) был умным человеком, но кончил тем, что женился на молодой женщине, которая сумела его околдовать. Такая судьба часто ждет интеллектуала в старости. Женитьба – это всегда ошибка, а когда умственные и физические способности человека идут на убыль – это уже катастрофа». Чем меньше сил, тем громче зов искушения (и бес соблазна!).
Однако не будем святее папы – чрезмерными блюстителями нравственности.… Представим себе, что мог чувствовать опытный дипломат и старый «морской волк», увидев это чудо красы неземной! Добавим, что силу её обаяния испытали на себе Гете, писатель-романист Х. Уолпол, король Фердинанд, художник Ромни, да и многие другие. Что же касается мужа, искренне любившего Эмму, тот в шутку даже говорил, что Неаполь (где он был послом) – город, куда можно завлечь перспективой переспать с женой английского посла. Да, пожалуй, британец скорее готов уступить жену, чем самую малую крупицу счёта в банке.
Нельсон, бороздивший моря и океаны, сражавшийся против французов везде, где только можно, как-то оказался в Неаполе. К тому времени он уже был женат на Фанни Нисбет. Его друзья-моряки не одобряли женитьбы, говоря: «Когда такой офицер вступает в брак, это потеря для всей нации». В яростных морских битвах с испанцами и французами адмирал, наряду с рукой, лишился и глаза. Но это не помешало ему обратить единственное пылающее страстью око на Эмму. Их встреча произошла в Неаполе (1798). Нельсону тогда было 40 лет. Он в зените славы. В восторге от оказанного приема он пишет своей жене о леди Гамильтон («Это одна из самых лучших женщин в мире»). Отношения адмирала и леди Гамильтон долгое время были скорее чисто платоническими, что свидетельствует о романтическом характере их чувств (хотя оба и не были новичками в любви). Наконец, о долгожданный и сладостный миг, они перешли тонкую грань платонической любви и стали возлюбленными. Это была любовь, принесшая Нельсону двойню от божественной Эммы (выжила лишь дочь Горация). В письме к любимой он говорил: «Ты знаешь, дорогая Эмма, нет в мире ничего такого, что я не отдал бы за возможность совместной жизни и ради того чтобы наше дорогое дитя было с нами». В Англии они прекрасно ладили в поместье сэра Уильяма в Мертоне. В ходе Трафальгарского сражения Нельсон был смертельно ранен. Последними его словами стала просьба: «Помните, я оставляю леди Гамильтон и мою дочь Горацию на попечение моей страны». Что же Британия? Она, не единожды превозносившая героя на словах, воздвигшая ему памятник, тотчас же забыла о предсмертной просьбе героя. Такова суть Британской империи, как вообще почти всякой империи. У них нет сердца.
Раненный в сражении при Трафальгаре Нельсон на палубе «Виктори».
Слава участника 124 сражений, победителя при Абукире, перечеркнувшего планы Бонапарта захвата Индии и превратившего Средиземное море почти что в «английское озеро», героя Трафальгара, до сих пор живет в сердцах англичан. Вблизи испанского мыса Трафальгар (1805), английский флот под командованием Нельсона нанес сокрушительное поражение объединенным флотам Франции и Испании. Нельсон в парадном мундире, словно предчувствуя роковой для него итог битвы Перед битвой он передал всем офицерам и матросам сигнал: «Англия верит, что каждый исполнит свой долг». Началась битва, продолжавшаяся более трех часов. Победа англичан была полной и сокрушительной, но славный адмирал Нельсон пал от пули, перебившей ему позвоночник. Итог битвы таков: отныне Англия властвовала на море, и все планы вторжения Наполеона на остров были окончательно перечеркнуты.[282]
Великий Нельсон как воин и гражданин куда значительнее, чем Веллингтон. Это обстоятельство признавал и Байрон в своем «Дневнике»: «Нельсон был героем, а тот, другой – всего лишь капралом, разделившим с пруссаками и испанцами удачу, которой он не заслуживал. Он даже – но я так ненавижу этого дурака, что лучше умолкну… Негодяй Веллингтон – любимое детище Фортуны, но ей не удастся прилизать его так, чтобы получилось нечто приличное; если он проживет дольше, его разобьют – это несомненно. Никогда еще Победа не проливалась на столь бесплодную почву, как эта навозная куча тирании, где вызревают одни лишь гадючьи яйца».[283]
Как видим, для создания могучей и громадной империи, каковой и стали Британская и Российская империи, надо немало энергии, мужества, отваги, предприимчивости. Британцы это понимали – и следовали этим курсом. Поэтому они никому не позволяли разрушать памятников империи (как писал Байрон: «Ты топчешь прах империи – смотри!»), поныне сохраняя память о деяниях тех лет.
Наиболее колоритной и яркой фигурой конца XIX в. стал Сесил Родс (1853–1902). Слава его когда-то была столь велика, что его имя было присвоено двум странам (Южной и Северной Родезии). Пресса называла его «строителем империи», «африканским Наполеоном» и даже «отцом Британской империи». Обратимся к книге А. Давидсона об этом оригинальном «образчике» системы. При описании этой личности обычно используется два цвета. Один из них белый-белый. В таких картинах он предстает в образе великого героя, патриота, гения, чуть ли ни архангела (Твен так и скажет, что для одной части мира он был «архангелом с крыльями»). Другие предпочитали видеть в нем лишь выжигу, циничного дельца, авантюриста, почти что «дьявола с рогами». Однако те и другие отдавали должное его исключительной энергии, решимости, уменью сделать «при помощи денег все, что только можно сделать за деньги».
История превращения сына простого викария (отнюдь не аристократа) в премьер-министра, миллионера, создателя известной алмазной компании «Де Бирс» интересна и поучительна. Родители Родса дали жизнь двенадцати сыновьям и дочерям (двое из них умерли еще в детстве). Сесил Родс не отличался крепким здоровьем (страдал чахоткой, болезнью сердца). Образование юноши ограничилось местной гимназией. В школе он увлекался историей и географией, неплохо знал Библию, зачитывался Гомером и Плутархом, Аристотелем и Платоном. В поздние годы он не расставался и с «Мыслями» римского императора Марка Аврелия. У отца денег на привилегированные Итон и Харроу не было. Это глубоко уязвляло юношу. Как бы там ни было, а этот «империалист» до конца дней своих относился к системе образования с глубочайшим пиететом. В статье из российского журнала «Нива» (1902) о нем пишут: «Все свое колоссальное состояние в 150 миллионов рублей он завещал на английские школы и университеты, или, как он выразился, на «поднятие уровня умственного развития Британской империи». Вот с чем пожелал Родс перед смертью связать свое имя, и в светлом ореоле этого неслыханного пожертвования на истинно добрые дела должны померкнуть все черные тени его прошлого».[284] А «черные тени прошлого», конечно же, были, и в избытке.
Родс направился в Африку, надеясь обрести там славу, власть и богатство… Смеем думать, что эти три начала и являлись теми «моторами», что возносили к вершинам известности многих героев, представленных в наших книгах. Есть еще, разумеется, очаровательные женщины. Но их влияние на личность (как стимул творчества и величия) чаще встречаем у поэтов, нежели у политиков и предпринимателей. Кто только не направлялся тогда в Америку и Африку. Молодежь тем и прекрасна, что жаждет покорить и завоевать весь мир. Она стремится совершить нечто великое, невиданное. Отвечая на вопрос «Каков ваш девиз?», 13-летний Сесил ответил: «Совершить или умереть!» В Африку он направился по той простой причине, что, якобы, не мог сидеть без дела в 17 лет. Следует добавить, что на юге Африки тогда же обосновался один из его братьев.
Первое путешествие чем-то напоминает первую любовь к женщине… Оно, как правило, западает в юные сердца навсегда. Боюсь показаться вульгарным, но тогдашнее морское путешествие Сесила Родса (в окружении конкистадоров, джентльменов удачи и авантюристов) никак не отнесешь к идеальным образцам педагогического опыта. Позже, уже в старости, он сам отмечал, что с этого плавания «началось мое воспитание; моими учителями были игроки, авантюристы и женщины свободных нравов». Они составляли большинство пассажиров. Шлюп вошел в порт Дурбан английской колонии Наталь, населенной зулусами. Что представляла собой тогда Африка в сознании европейцев? Одни считали ее местом, где «умирают» (так посчитал виконт де Бражелон, которого Дюма решил отправить на далекий континент). Иные же увидели в Южной Африке «тихий и счастливый уголок» (как заявит Гончаров с борта фрегата «Паллады»). Тут бурно развертывалась алмазная лихорадка.
Пропустим историю подъема Сесиля Родса к вершинам богатства, власти и могущества. Он находил нужных людей, умело используя деньги. А затем уж деньги стали делать деньги. Ему будет сопутствовать удача. Удача немаловажный фактор для достижения успеха. Удача и воля. Чего-то не хватило его брату (тот погиб в результате пожара и взрыва бочонка виски). Иные гибли проще: в результате «винного пожара», сжигавшего их как бы изнутри. За редких женщин шла ожесточенная битва. Но чаще, конечно, гибли за золото, серебро и драгоценные камни. Ведь это и являлось главной целью многих из тех, кто устремлялся в Африку в поисках наживы. Родс дерзко и целеустремленно шел к намеченной им цели. Вскоре он стал богачом, главой Капской колонии, основателем известной компании «Де Бирс», королем алмазов и золота… Эта сторона его деятельности скорее может заинтересовать менеджера и управленца, нежели историка и философа. Нам важнее понять его идеологию и философию. Нация без философии – ничто. Если даже ей не хватает денег, оружия, техники, если ее одолевают долги или политические негодяи, это дело поправимое, ничего. (Примерно так говорил О. Бисмарк, вращая на пальце кольцо с русским словом «НИЧЕГО». После расспросов, он, помедлив, сказал, имея в виду русский народ: «Люди, которые ухитряются жить в таких условиях, при этом считая, что их жизнь «еще ничего!», поистине великие и непобедимые»). То, другое и третье можно изменить, добыть, восполнить. Глупых или подлых политиков можно в конце концов убрать (со всех их постов). К счастью, и они смертны… Но народ, лишенный идеи и здравой философии – песок. Его унесет неумолимый ветер истории.
У Сесиля Родса была такая Великая Идея: Великобритания нуждается в «строителях империи». Родс не верил ни продажным обюрократившимся политикам, ни парламенту страны, называя его «собранием людей, которые посвятили свою жизнь накоплению денег». Он видел, куда идет буржуазная система125 лет тому назад. Она все менее способна концентрировать силы и ресурсы. Родс создал документ, названный им «Символ веры» 2 июня 1877 г… В нем он признает, что главным стимулом его жизни и деятельности является не богатство, не счастливая семья, не дети, но «дело служения родине». Можно не соглашаться с некоторыми выводами, методами, целями С. Родса. Но он ясно видел свой долг в создании условий для захвата как можно большего количества земель и включения их в Империю: «Почему бы нам не основать тайное общество с одной только целью – расширить пределы Британской империи, поставить весь нецивилизованный мир под британское управление, возвратить в нее Соединенные Штаты и объединить англосаксов в единой империи… Давайте создадим своеобразное общество, церковь для расширения Британской империи». По сути дела, речь шла о создании «пакс Британика». Позже эту же идею подхватят американцы, воплотив ее в реализуемом ныне плане «пакс Американа».
Пионеры Сесила Родса.
Оставим геополитическую сторону проблемы. Создание всемирной империи – давняя мечта покорителей мира. Важно и значимо требование нации создать особый сверхэлитный отряд британцев, который полностью посвятил бы себя служению своему отечеству («может быть, одного из каждой тысячи, чьи помыслы и чувства соответствуют этой цели»). Таких людей – внедрять в школы, университеты, органы управления. Тренировать, тщательно учить, готовить, подвергая жестким испытаниям – а затем поставить на службу Родине. Иные назвали документ «ребяческим». Я бы обозначил оный как хартию укрепления Отечества (не путать с «Отечеством» хамелеонов). Речь шла о создании ордена высочайших профессионалов. В имени Родса было «что-то магическое». Киплинг называл его «послушником мечты». Шпенглер в «Закате Европы» увидел в Родсе знамение грядущего и поставил его в схеме истории «посредине между Наполеоном и людьми насилия ближайшего столетия».[285] Мы же назовем его просто – «романтиком Империи».
На земном шаре становилось все теснее. Весь мир оказывался местом жестоких схваток за довольно ограниченный массив благоприятных и ценных земель. Тут разыгрывались порой кровавые трагедии, достойные пера гениального Шекспира. Жизнь требовала идеологии, оправдывавшей процесс захвата земель.
Эту задачу выполнил Томас Мальтус (1766–1834), экономист и священник, создатель учения о народонаселении. Похоже, он не случайно появился на свет в Англии. Островная страна всегда испытывала определенные трудности в смысле создания условий для более или менее сносной жизни своих обитателей. Недостаток места и хорошей земли для сельскохозяйственных угодий, дикие нравы ее королей и аристократии, жестокие войны и религиозные распри – все это вынуждало англичан всерьез думать о проблемах жизненного пространства и населения.
Томас Мальтус родился в семье образованной.… Его отец учился в Королевском колледже в Оксфорде, который, правда, оставил в 1747 г., не получив ни диплома, ни степени. Он слыл поклонником философии XVIII века, пробовал себя на литературном поприще, писал статьи, был лично знаком с Юмом и Руссо (последний сделал его своим душеприказчиком). Мать Томаса, вероятно, рано умерла. В доме царила атмосфера полной свободы в духе laissez faire. Отец отдал воспитание сына в руки Ричарда Грэвса, автора «Духовного Дон Кихота» (сатиры против английских теологов). Затем юноша попал к мистеру Уэкфильду (Варрингтонская академия). Тот часто схватывался с Т. Пейном (автором «Века разума» и «Прав человека»). В общении с учеником он давал волю дискуссиям и спорам, любя повторять: «Величайшая услуга, которую может принести воспитатель молодому человеку, это научить его пользоваться своими собственными силами и вести к знанию постепенно, так, чтобы тот видел путь, которым он идет, и наслаждался сознанием своих способностей и своих успехов. Иначе могут выйти только куклы и полузнайки».
Мальтус учился в иезуитской коллегии в Кембридже, обнаружив немалые способности (пристрастие к языкам, истории, литературе, математике). В 1797 г. он получил степень магистра, стал адъюнкт-профессором в коллегии. Суть взглядов Мальтуса в следующем. Человек – существо ненасытное и алчное. Чем лучше условия его бытия, тем сильнее в нем половой инстинкт, те мощнее – стимул к размножению. Нищета, преступления, войны беды сдерживают рост населения. Не будь их, массы сметут все, увлекут страны в бездну перенаселения. Нищета и бедность – необходимые клапаны. Эти споры легли в основу мальтусовского «Опыта о законе народонаселения», увидевшего свет в 1798 году.[286]
Время, когда появилась на свет книга (напечатана анонимно), было «грозовым». Во Франции бушевали революционные страсти. В Англии разразился страшный неурожай (1795). Народ голодал, и даже в Лондоне толпы рабочих останавливали карету короля с кличем: «Хлеба, дайте нам хлеба!» Правительство судорожно ищет выход из тупика. Промышленная революция пока еще не давала тех плодов, которых все от нее ожидали. Власти стараются найти любую лазейку, чтобы хотя бы как-то оправдать эту преступную и страшную реальность. И тут появляется Мальтус, утешая правящие элиты: все естественно, никто из вас не виноват, дело, оказывается, лишь в безудержном половом инстинкте масс.
Если бы Господь решил вдруг одним мановением перста наполнить реки молоком, столы бедняков бесплатным хлебом, а кладовые знати отборным червонным золотом, то и тогда власть и буржуазия не возликовали бы так, как при появлении теории Мальтуса. Когда все настойчивее народ требует вернуть ему то, что им принадлежит ему по праву (свобода, капитал, собственность, права человека), а властям нечего и возразить, ибо идейно они были безоружны, вдруг появляется «научная теория» (во всей ее наглости и подлости), оправдывая гнет, нищету, эксплуатацию, бедствия низов. Для плутократов и эксплуататоров она явилась «манифестом антикоммунизма». Князь П. А. Кропоткин (1842–1921), думаю, не без оснований заметил в «Этике» (1922), что немногие книги имели такое вредное влияние на ход и развитие экономической мысли, как «Опыт об основах народонаселения» Т. Мальтуса. Возражая радикально-прогрессивному английскому мыслителю У. Годвину, тот утверждал, что равенство невозможно, а бедность большинства вызвана, якобы, вовсе не пороками буржуазного общественного строя, не чудовищными преступлениями и грабежом народа со стороны банкиров, президентов, знати, элит, а исключительно естественными биологическими причинами. Философия меньшинства облачена в форму «естественного закона». Какой великолепный подарок плутократам!
Кропоткин пишет: «Он говорил, что народонаселение увеличивается слишком быстро, что новым пришельцам нет места за общей трапезой и что этот закон не может быть изменен никакими преобразованиями общественного строя. Таким образом он дал богатым классам нечто вроде научного возражения против идеи равенства; а известно, что, хотя всякое владычество основано на силе, сила сама начинает колебаться, если более не поддерживается твердой верой в собственную правоту. Что же касается бедных классов, которые всегда чувствуют влияние идей, преобладающих в данное время среди зажиточных классов, то учение Мальтуса лишило их надежды на улучшение и поселило в них недоверие к обещаниям социальных реформаторов. По сие время многие самые смелые реформаторы не верят, чтобы было возможно удовлетворить возможности всех… Наука до сих пор держится учения Мальтуса, и политическая экономия основывает свои рассуждения на предпосылке о невозможности быстрого увеличения производства – невозможности, следовательно, удовлетворить потребности всех.… Мало того: даже в биологии (тесно связанной теперь с социологией) теория изменчивости видов нашла неожиданную поддержку в том, что Дарвин и Уоллес связали свою теорию с основной идеей Мальтуса, утверждая, что природных средств пропитания не хватает при быстром размножении животных и растений. Словом, теория Мальтуса, выражая в полунаучной форме тайные пожелания богатых классов, сделалась основанием целой системы практической философии, которой…проникнуты умы образованных сословий, и воздействовала (как бывает с практической философией) также на теоретическую философию нашего столетия».[287]
Труд детей на производстве.
Впрочем, эта сторона учения (при всей ее злободневности и актуальности) кажется нам не единственной. Наибольший интерес представляют другие обобщения. Так, он говорит о том, что все живые существа на Земле склонны размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи. На это же обстоятельство указал доктор Франклин, отмечая, что пределом росту растений является их способность получить питание из почвы. Так же и с людьми… Если бы на Земле не было других обитателей, «достаточно было бы одного народа, например, английского, чтобы в несколько веков заселить ее». Человек подчиняется тем же законам, что животные и растения. Природа бережлива и скупа. Она не может нести на себе безмерно тяжкого груза человеческой «биомассы». Но если растения и животные не думают о пределах роста, и природа просто лишает их средств к существованию, то с людьми – сложнее. Не встреть размножение населения препятствий, оно удваивалось бы каждые 25 лет. Понятно, что такие темпы должны были бы привести катастрофе. Мальтус высказывает сомнения в отношении способности почв бесконечно обеспечивать людей более высокими урожаями и питанием. Что же делать? Остается уповать на достижения цивилизации, хотя тут есть свои пределы.
Понимая, что вольно или невольно он возрождает тезис Гоббса «Человек человеку волк», а это попросту говоря означает, что надо «перегрызть горло» сопернику, он заклинал, устрашившись «логического вывода»: «ни на одну минуту нельзя допустить в голову мысль об уничтожении и истреблении большей части жителей Азии и Африки». Но слова словами, а жизнь жизнью (с ее суровыми безжалостными законами). И тут у него вырывается убийственный вердикт в отношении иных «неполноценных рас». Поэтому Он говорит о том, что в Америке, где население будет несомненно расти, эта часть нового населения неминуемо должна будет оттеснить коренных жителей в глубь страны, пока наконец «раса их не исчезнет совершенно». Если бы Мальтус жил сегодня, он наверняка бы заявил, что «золотой миллиард» должен убрать с поверхности Земли все остальные расы. Мальтус ничуть не стесняясь заявляет: «Цивилизовать же различные племена татар и негров, и руководить их трудом, без сомнения, представляется делом долгим и трудным, успех которого, к тому же, изменчив и сомнителен».[288] Так что татарам России (и г-ну Шаймиеву) нужно очень крепко подумать над тем, с кем и как его народ пойдет в будущее (учитывая опыт решения проблем в Косово «цивилизаторами» из НАТО, равно как и «светлый путь» Чечни Дудаева).
Англичане на словах провозглашали: «Где кончаются законы, там начинается тирания» (Питт). Но при взгляде на Англию видишь повсеместные их нарушения. Новые порядки шли на смену старым. Патерналистский стиль хозяйствования сменялся капиталистическим. В статье «Моральная экономия» низших слоев английского населения в XVIII в.» Э. Томпсон решительно спорил с теми, кто обвинял бедняков в их неспособности «встроиться в рынок». У народа, вопреки клевете знати и их клевретов, есть мораль и своя теория справедливости. Восстания и бунты народа – это не слепая реакция на повышение цен, безработицу, голод. Простые люди понимают «ход истории». Они готовы даже терпеть и страдать, но только в случае, если их представления о положении в стране соотносятся с поступками властей предержащих. Иначе говоря, они ставят перед элитой вопрос: «Что законно, а что незаконно из тех мер и шагов, что были предприняты властью». Томпсон рассмотрел «прямые акции» толпы (в 1740, 1756, 1766, 1795, 1800 гг.), в которых участвовали угольщики, ткачи, рабочие оловянных рудников, чулочники и др. В действиях восставших заметна строгая дисциплина, устойчивая модель поведения. Никаких краж, дележки зерна и муки, никакого ограбления амбаров (в голодные годы!) не было и в помине. Но был призыв к установлению твердых цен. Простые люди требовали от власти вернуться к прошлым законам, восстановить справедливость. В высшей степени знаменательный факт. «Элиты» ряда стран лезут из кожи вон, чтобы доказать обществу, что у восставшей толпы превалируют инстинкты грабежа и разбоя. И только когда выясняется, отмечает С. В. Оболенская, что одних лишь экономических требований масс недостаточно для просветления голов знати, те решают действовать. После того как во Франции разразилась революция, подметные письма и листовки появились и в Британии. В 1800 году в г. Ромсбери на дереве кто-то вывесил листовку, содержащую откровенный призыв к народу: «Долой правительство, купающееся в роскоши, светское и церковное, или же вы умрете с голоду. Вы наворовали себе хлеба, мяса и сыра… и забираете тысячи жизней для участия в ваших войнах. Пусть Бурбоны сами решают свои дела, дайте нам, британцам, заняться своими. Долой вашу конституцию. Провозгласите республику, иначе и вам, и вашим детям суждено голодать. Господи, помоги беднягам и долой Георга III!» Позже мотивы «моральной экономии бедноты» подхвачены и некоторыми социалистами, последователями Р. Оуэна.[289]
В слове «революция» слышен шум народной вольницы, рокот яростного народного гнева, грозящего перерасти в рев штурмующих «дворцы» толп. В нем, как писал социолог М. Ласки (США), слились «космический огонь и кровь человеческой доли» (тяжкой и кровавой народной доли). Чем вызван такой поворот? Рост неправедных богатств в мире обнажил колоссальную безнравственность и эгоизм властвующих элит. А власть в их руках, хваленое «разделение властей» – чистая фикция. Короли, парламенты, банкиры, как правило, «играют вместе», в одной команде, выполняя откровенно (или скрытно) реакционную и антинародную роль. Тогда и возникает необходимость вмешательства экстрапарламентарной силы – улиц, масс, Трудового народа. Чтобы произошел качественный сдвиг, должен заговорить во весь голос Его Величество Парламент Улиц! В чем-то радикалы правы: в борьбе с такой властью умеренность в принципе преступна. Хотя парламент может стать выразителем воли народа.[290]
Один из характерных «продуктов» английской системы – знаменитый Уинстон Черчилль (1874–1965). Потомок герцога Мальборо (Джона Черчилля – первого герцога Мальборо) родился в раздевалке во время гуляний и развесёлого бала. Видимо, оттого он приобрел привычку работать и думать, расхаживая раздетым по кабинету, поглощая в солидных дозах коньяк и виски. Думаю, что над его жизнью всегда висела в виде дамоклова меча судьба его экстравагантного отца – Р. Черчилля. В Англии он занимал посты министра финансов и министра по делам Индии. Побывал сэр Рендолф и в Африке, где встречался с уже упомянутым С. Родсом, составив себе там состояние. Отец У. Черчилля кончил плохо. Последствием сифилиса станут полный паралич и смерть. Отец Уинстона был аристократом, но по материнской линии в его роду потомки семейства пирата Фрэнсиса Дрейка. Так что характерец у Уинстона Черчилля был тот ещё. Когда его отправили учиться в привилегированную закрытую школу Хэрроу, «дите» на письменном экзамене по латыни сумело за пару часов лишь поставить единицу и рядом жирную черную кляксу. Но деньги и родовитость решали очень многое. Глава школы Вэлдон готов был принять кого угодно, лишь бы Харроу отвалили жирный кусок. Так вот буржуазия и аристократы пестуют своих избранников и любимцев. Впрочем, то обстоятельство, что Черчилль, как сообщал историк, «был самым последним учеником последнего класса школы», не помешала ему стать одним из лучших премьеров Англии.
Уинстон Черчилль во время англо-бурской войны. Слева – бурское объявление о награде в 25 фунтов стерлингов тому, кто поймает бежавшего из плена Черчилля.
Его отличала превосходная память. Он декламировал наизусть целые сцены из Шекспира. И даже заслужил премию за то, что прочел без единой ошибки 1200 строк из книги Маколея о Древнем Риме. Однако становилось ясно, что юриста из него не выйдет. В университет дорога была закрыта. Его решают направить на военную стезю. Черчилль и тут ухитрился дважды провалиться на вступительных экзаменах (в военное училище Сэндхерст). Тогда его направляют в школу капитана Джеймса, который, по словам самого Черчилля, мог даже круглого идиота подготовить для конкурса в училище. С большим трудом он с третьей попытки туда попадает. О чем мечтает в конце XIX в. этот честолюбивый британец? О колониальных войнах и расправах над покоренными народами. «К счастью, однако, – писал он, – были еще дикари и варварские народы. Были зулусы и афганцы, а также дервиши в Судане. Некоторые из них могут, оказавшись в подходящем настроении, однажды «устроить представление». Может произойти даже восстание или бунт в Индии».[291]
Черчилль – столь же важная достопримечательность Великобритании, как Вестминстер или Британский музей. По роли в истории его вполне можно сравнить с Питтом или, на худой конец, с Ричардом III. Черчилль считал, что ему гораздо ближе эпоха Людовика XIV или Генриха VIII, и что он был создан для викторианской эпохи. Это не так. Перед нами человек британской империи, империалист, служившей ей верой и правдой. Он, подобно Сталину, пытался удерживать в равновесии систему, содержа в полнейшем порядке механизм империи. Как сказал о нем английский историк Р. Джеймс, в лице Черчилля мы увидели «одного из наиболее удивительных людей нового времени; и, если Британской империи было суждено погибнуть, справедливо то, что на её закате блеснул такой блик славы».[292]
Почему же стала возможна подобная метаморфоза? Во многом благодаря отцу, лорду Рендолфу, и его матери, мудрой и толковой женщине, которая была вовсе не в восторге от перспективы увидеть в сыне бравого гусара. Вскоре место солдатиков на его столе заняли умные, серьезные книги – «История Англии» Маколея, «Утерянный рай» Милтона, «Упадок и падение Римской империи» Гиббона, «Европейская мораль» Леки, «Политическая экономия» Г. Фосетти и др. После смерти отца мать стала его самым верным другом, повлияв на духовное развитие сына (до самой смерти Черчилль хранил на письменном столе бронзовый слепок её руки). В ней соединились американский прагматизм и английская основательность. Её дом был первым домом в Лондоне с электрическим освещением. Ради карьеры любимого сына мать пожертвовала возможностью стать богатейшей женщиной мира (к вдове сватался владелец самого большого состояния в тогдашней Америки – У. Астор). В своих письмах к сыну в Индию, где тот проходил службу, Дженни упорно советовала: «Я надеюсь, ты найдешь время для чтения. Подумай, ты пожалеешь о потерянном времени, когда погрузишься в мир политики, и ощутишь недостаток знаний». Черчилль понял, что провести жизнь наедине с конским навозом – не лучшая перспектива для своенравного, хотя и безусловно очень одаренного юноши.
Он мечтал об университете, надеясь, что ему удастся «взнуздать английский язык» (как это сделал оратор XIX в. Э. Берк). В нем тогда же зарождается упорная страсть – «иметь хотя бы приблизительное представление о многих сферах мысли». Правилом жизни для Черчилля стало прочитывать ежедневно 50 страниц Маколея и 25 страниц Гиббона. Молодой лейтенант проявляет похвальное желание узнать в деталях историю Англии за 100 лет. Список книг для чтения заметно расширился (Шопенгауэр, Дарвин, Аристотель, Сен-Симон). «После чтения, – сообщает Уинстон матери, – я размышляю и, наконец, пишу. Я надеюсь, что подобной практикой создам совокупность логически и последовательно связанных точек зрения, которые помогут в образовании логического и последовательного ума… Маколей, Гиббон, Платон и прочие должны оттренировать мускулы и дать умственному мечу способности проявить себя максимально эффективным образом… Я читаю 3 или 4 книги сразу».[293] Так вот совершалось обучение и воспитание одной из самых ярких фигур XX в.
Интенсивный интеллектуальный и умственный тренинг стал едва ли не общим правилом для многих ведущих политиков Британской империи. С помощью книг и наук они развивали и совершенствовали свой ум, стараясь повысить разрешающую способность своего мозга. Однако только этим дело не ограничивалось. Нередко в число их увлечений входило и занятие тем или иным искусством (то, что нынче обычно называют «хобби»). Черчилль в поздние годы увлекся живописью (ему было тогда за сорок). История столь неожиданно вспыхнувшей страсти такова… После того, как в 1915 г. он, будучи первым лордом Адмиралтейства, по сути дела, провалил Дарданелльскую операцию (желая получить все лавры, он бросил флот в бой без поддержки сухопутных сил, в результате чего почти половина эскадры была потеряна). В качестве наказания его срочно убрали с поста военно-морского министра. По своей военной бездарности с английской политической элитой могут соперничать лишь янки. Это стало самым страшным ударом для самолюбивого и крайне амбициозного Черчилля. Его жена Клементина даже заявила: «Я думала, он умрет от горя». Трудно сказать, что же более всего помогло ему в трудные минуты (семья, искусство или алкоголь). В отношении виски и армянского коньяка, а он очень любил попивать их в зрелые годы, дефилируя голым в домашнем кругу, Черчилль говаривал: «Учтите: алкоголь больше обязан мне, чем я – ему».
Как бы там ни было, он решил уединитья с семьей в загородном поместье в Суррее. Там и явилась (словно «во спасение») муза живописи. Одиноко бродя по саду, он увидел акварельные наброски его свояченицы и дерзнул взяться за кисть. Его наставником в живописи стал сосед-художник Дж. Лэйври. В политике вдруг пробудился талант. Позднее Лэйври так говорил о способностях своего необычного ученика: «Если бы Уинстон карьере государственного деятеля предпочел живопись, уверен, он стал бы великим мастером кисти». Занятие политикой приносит человеку мало удовольствий (если не считать таковыми почёт, деньги, известность, прочую дребедень), тогда как искусство почти всегда благодарно. В случае с Уинстоном Черчиллем живопись помогла ему выстоять в годы тяжких испытаний. В 1921 г. умерла его мать, а затем и любимая трехлетняя дочь Мэриголд. В середине 20-х годов его картина получила первый приз на престижной выставке художников-любителей в Лондоне (работы оценивались анонимно). Полотно Черчилля даже хотели снять с выставки, сочтя профессиональным. Всего сохранилось 500 с лишним его картин. О том глубоком удовлетворении, что давало ему занятие живописью, говорит следующее признание. «Счастливы художники, – отмечал Черчилль в книге «Живопись как развлечение», – они никогда не останутся в одиночестве. Свет и цвет, умиротворенность и надежда сопровождают их до конца или почти до конца дней».[294] Было бы лучше и безопаснее для народов, если бы иные лидеры ограничивали бы амбиции писанием картин, не касаясь государства, законов, реформ. Но нет: те, кто не в состоянии нарисовать карандашом, написать маслом самую простую фигуру или сцену, дерзают «писать» судьбы целых народов, изводя при этом не краски, а целые потоки живой крови.
Пример Черчилля даже закоренелого пессимиста убедит в силе таланта. Он умудрился опровергнуть едва ли не все известные теории педагогики. Ведь на входе в образовательную систему в Британии не было никого, кто бы с таким постоянством ниспровергал все каноны и правила. И что же в итоге!? Человек, с трудом сдававший экзамены, проявлявший полное равнодушие к тестам и т. д., в конце концов стал выдающимся политиком, известным историком и писателем, автором пятидесяти шести книг, лауреатом Нобелевской премии по литературе, неплохим журналистом и художником.
Если У. Черчилль был наиболее известным политиком Великобритании, то Т. Карлейля (1795–1881) можно назвать самым почитаемым писателем второй половины XIX в. Впоследствии его назовут «английским Руссо», «пророком, почитаемым всей Англией». Как происходило становление этого потомка английского каменотеса? Воспитание было жестким. Карлейль позже вспоминал: «Мы все были заключены в кольцо несгибаемого Авторитета». В детстве Томас был «тощим, длинным, нескладным существом». Его послали учиться в семинарию в Аннане. Возможно, именно там в юноше пробудилось смутное ощущение каких-то грядущих свершений. В неоконченной повести «Роман об Уоттоне Рейнфреде» он представляет Уоттона-школьника «героем и мудрецом, осчастливившим и удивившим мир». Не тогда ли в сознании у него стали откладываться «кирпичики» здания той будущей концепции, что получит впоследствии название «культа героев»?! В семинарии он научился читать по-латыни и по-французски. Проявляя жадность к учебе, он приобрел познания в геометрии, алгебре, арифметике. Затем поступил учиться в университет (отец шел на немалые материальные жертвы во имя сына).
Карлейлю удалось выудить из хаоса университетской библиотеки «множество книг, о которых не знал даже сам библиотекарь». Он своими силами научился свободно читать «на всех европейских языках, на любые темы и по всем наукам» («Сартор Резуртус»). В 18 лет он всерьез подумывал о литературной славе. Окончив Эдинбургский университет он стал учителем математики. Работа не принесла ему удовлетворения. У поэта и писателя иные наклонности, чем у ученого и учителя. Поражает кругозор Карлейля. Как пишет Дж. Саймонс, его интересы простирались от Шекспира (который в Эдинбурге даже не упоминался и которого философ Юм считал талантливым варваром, лишенным вкуса и образованности) до таких книг, как «Трактат об электричестве» Франклина. Он знакомится с «Историей математики» Боссюэ, читает Ньютона, Цицерона, Вольтера, Байрона, Скотта. Книги вытеснили из его жизни женщин. Он признавал, говоря о себе и Ирвинге: «В основном мы оставались в роли зрителей… даже с образованными барышнями мы не завели знакомств, и это очень прискорбно». Впрочем, с ним не очень везло и женщинам. Жена его, госпожа Карлейль, в дни его триумфа, когда Томаса назначили ректором Эдинбургского университета, умерла прямо в карете, не успев принять участие в торжествах.[295]
Что же всех так привлекало в Карлейле? Чем он мог очаровать столь разных людей, как Герцен и Толстой, Гете и Ницше, Диккенс и Рескин, Эмерсон и Уитмен? Проницательный и мудрый Гете еще в 1827 г. сказал, что перед Карлейлем, которого он оценил как автора «Жизни Шиллера», «открывается большое будущее, и сейчас даже трудно предвидеть, что он совершит и каково будет его воздействие в дальнейшем». Гете оценивал в его трудах прежде всего моральное начало. Карлейль поставил во главу деятельности творца и художника главное – «нравственное зерно».[296]
Сегодня иные из могут задаться вопросом: «А не является ли Карлейль хладным светом далекой Луны или же еще более отдаленной планеты?» Люди быстро забывают вчерашних героев и звезд. У. Уитмен писал («Карлейль с американской точки зрения: «Людям будущего трудно будет объяснить себе, по одним книгам, личным симпатиям и антипатиям, почему этот мыслитель обрел такую власть над нашей эпохой, каким образом он придал свой особый колорит и нашим идеям, и нашему стилю мышления. Во всяком случае, я не берусь определить его влияние на меня. Но невозможно нарисовать хотя бы и неполной картины середины и конца девятнадцатого столетия без того, чтобы Томас Карлейль не занял в ней заметного места».[297] Это так. Однако триумф жизни стал плодом его собственных усилий. «Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого» Д. Каннинг. В Европе никому не удавалось вызвать любовь одновременно у немцев и англичан, у Гете и Энгельса. Никому не удавалось вызвать почтение сразу у двух соперничающих партий (у консерваторов и либералов). Он сменил на посту ректора Эдинбургского университета либерала Гладстона и нанес сокрушительное поражение в личном споре за этот же пост консерватору Дизраэли (657 голосами против 310). Оба стали затем премьер-министрами Великобритании. Вот где сокрыта духовная сила Англии: она ценит великого писателя и эссеиста выше премьер-министров! Поэт Сэмюэль Джонсон (1709–1784) был глубоко прав, сказав об отношении англичан к его личности: «Писатели – вот истинная слава нации».
В его мятежной душе странным образом соединились романтик-идеалист, революционер и консерватор, истово верующий в некое Высшее Существо, которое могло бы быть Богом. Карлейль – бунтарь и еретик считал, что Французская революция величайшее и благотворное явление мировой истории. Гете был бы в ужасе от таких мыслей. Признав роль Гете в литературе, Карлейль и по духу и по темпераменту был иным. В его дневнике вы встретите глубокое сострадание к обездоленным, ненависть к британским партийцам (в независимости от того, виги они или тори), гневную реакцию на подавление революции 1830 г. и слова: «Долой дилетантизм и маккиавелизм, на их место – атеизм и санкюлотство!» Байрона он называл «высочайшим духом Европы» и, получив письмо о его смерти, сожалел о ней, как если бы «потерял Брата».
Томас Карлейль.
Карлейль – пуританин с сердцем якобинца, с головой Кромвеля. Мысли и чувства в отношении эпохи он выразил в книге «Французская революция» (1836). Эту книгу встретили с сочувствием и теплотой очень многие (Диккенс, Теккерей, Саути, Эмерсон, Дж. С. Милль). Нам понятны слова Карлейля: социальные преобразования достигаются лишь революционным путем! Карлейль ушел далеко вперед по сравнению с иными современными «либералами» и «демократами». С присущей ему откровенностью и дерзостью он писал: «За всю историю Франции двадцать пять миллионов ее граждан, пожалуй, страдали меньше всего именно в тот период, который ими же назван Царством Террора». Карлейль заявит, что революция предначертана Богом. Я не знаю другого мыслителя (в Европе), кто бы увидел в Господе глашатая революции. Ведь до блоковских «Двенадцати» и до социалистической революции в России еще далеко:
В белом венчике из роз Впереди — Иисус Христос…Нам не кажется странным, что Карлейль соединил Революцию с Личностью, с Героем, который обязан возглавить освобождение народов. Будучи настоящим и пламенным художником, он и образы революции рисует огненными мазками. Кажется, что его герои творят, сражаются в окружении молний. Карлейль пишет с пугающей глубиной и прозорливостью о событиях 1789–1894 гг.: «Это день крещения Демократии; хилое время родило ее, когда истекли назначенные месяцы… Отжившая система Общества, измученная трудами (ибо немало сделала, произведя тебя и все, чем ты владеешь и что знаешь) – и преступлениями, которые называются в ней славными победами, и распутством и сластолюбием, а более всего – слабоумием и дряхлостью, – должна теперь умереть; и так, в муках смерти и муках рождения, появится на свет новая. Что за труд, о Земля и Небо, – что за труд!.. и, если возможны тут пророчества, еще два века борьбы, начиная с сегодняшнего дня! Два столетия, не меньше; пока Демократия не пройдет стадию Лжекратии, пока не сгорит пораженный чумой Мир, не помолодеет, не зазеленеет снова».[298] Время Лжекратии, по его оценкам: 1989–1999 годы!
В книге «Прошлое и настоящее» (1843) он развенчал образ Англии как, якобы, цитадели прогресса и демократии… В первой главе книги, носящей название «Мидас» (в греческой мифологии царь Фригии был известен своим богатством и непомерной алчностью, которая чуть не погубила) читаем: «Положение Англии… по справедливости считается одним из самых угрожающих и вообще самых необычных, какие когда-либо видел свет. Англия изобилует всякого рода богатствами, и все же Англия умирает от голода. В неизменном изобилии зеленеет и цветет земля Англии, волнуясь золотой нивой, густо усеянной мастерскими со всякого рода орудиями труда, с пятнадцатью миллионами рабочих, слывущих самыми сильными, искусными и усердными, каких когда-либо знала наша земля; эти люди находятся среди нас; работа, исполненная ими, плоды, созданные их руками, имеются тут в избытке, всюду в самом пышном изобилии…. Так для кого же это богатство, богатство Англии? Кому оно дает благословение, кого делает счастливее, красивее, умнее, лучше? Пока – никого. Наша преуспевающая промышленность до сих пор ни в чем не преуспела; среди пышного изобилия народ умирает с голоду; меж золотых стен и полных житниц никто не чувствует себя обеспеченным и удовлетворенным». Строки эти, словно письмена Валтасара, уже начертаны на стенах ряда других «псевдодемократических республик», что обрекли свои народы в на муки и нищету.
Трудно читать спокойно (ныне, в России конца XX века!) полные скорби и гнева слова Томаса Карлейля (глава «Демократия» в его «Героях, почитание героев и героическое в истории»): «И все-таки я позволю себе думать, что никогда, с самого возникновения Общества, участь этих немых миллионов работников не была до того невыносима, как в дни, проходящие ныне перед нами. Не смерть, даже не голодная смерть делает человека несчастным; много людей умерло; все люди должны умереть, – последний уход каждого из нас совершается на Огненной Колеснице Страдания. Но жить несчастным неизвестно почему, тяжко трудиться и ничего не получать; быть одиноким, без друзей, с разбитым сердцем, опутанным всеобщим холодным Laissez faire – это значит медленно умирать в течение всей жизни, в оковах глухой, мертвой, Бесконечной Несправедливости, как бы в проклятом железном чреве Фаларисова быка! Вот что является невыносимым и всегда будет невыносимо для всех людей, которых создал Господь. Удивляться ли нам Французским Революциям, Чартизму, Трехдневным восстаниям? Наше время, если мы внимательно обсудим его, совершенно беспримерно».[299] Удивляться ли и нам грядущим восстаниям?!
Итак, краткий очерк по Англии, что, по словам Герцена, «развила свою собственную народность, резко отделенную, как ее остров, от всех других народностей», близится к концу, оставляя у читателя, возможно, неудовлетворенность и недосказанность. Не все удалось поведать в этом рассказе. Чтобы узнать и полюбить лучшую Англию, надо ознакомиться с её письменной, устной, научной историями. Нужно исходить, изъездить вдоль и поперек равнины, парки, улицы, площади, музеи. Свои судьбы не только у народов и личностей, но и у городов. Большая часть правды о Великобритании – не в ее сражениях, и даже не только в трудах ее величайших писателей, философов, ученых, творениях ее изобретателей и инженеров, но и в обычных домах. Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость», а иностранцы подмечают: «Англичане строят так, словно жить вечно, а веселятся, будто умрут завтра». Это же справедливо в отношении шотландцев и ирландцев… По словам одного ученого, «…сердцем Дублина были частные дома». Во второй половине XVIII века в Великобритании возникла строительная лихорадка. Бурный экономический рост страны вызвал небывалый приток населения в города. Возводятся дома разных размеров и различных уровней комфортности. Методы проектирования были простыми. Возводился дом-монолит и окаймлял общую для всех площадь-сквер. Экономичность методов возведения давала возможность крупному подрядчику за год строить 600 домов! Эта схема работала по всей Британии. Речь идет о домах для среднего класса. Жилища эти скоро вытеснят старые дворянские усадьбы европейского типа. К примеру, герцог Морей вынужден был снести его роскошную виллу и переселиться в одну из секций монументального дома, где обитали, как мы бы сказали, обычные представители среднего класса. (В России же, напротив, норовят «из грязи, да в князи», вчерашний парий старается переплюнуть Букингемский дворец – и это в XXI в.). В Ирландии возобладали традиции частного дома в Ирландии (свою роль сыграли «ирландский патриотизм с антибританской окраской и приверженность к французской культуре»).
Средний англичанин сумел стать основой нации и общества. Он показал богачам и аристократам как их, так и свое собственное место в обществе. Вот что пишут, сравнивая два типа «домашней цивилизации»: «Что касается социальной стратификации городов Великобритании с ее значительно развитым средним сословием (за исключением Ирландии), то здесь определенность границ в системе расселения была уже утрачена и классовое обособление, столь четкое в России, не могло быть достигнуто. При явном стремлении английской аристократии и высшего слоя буржуазии обособиться путем создания «островных» ансамблей особняков… это удавалось лишь отчасти. Как свидетельствует история лондонского Вест-Энда, уже на граничивших с этими ансамблями фешенебельных улицах общество оказывалось смешанным. Так, на улицах вокруг Гросвенор-сквер усадьбы знати чередовались с домами ремесленников и торговцев, составлявших там до 56 % населения. Для Лондона и ряда крупных английских городов, особенно курортных, закономерностью стал… приток в район аристократической «новостройки» сперва рабочих всех строительных специальностей и отделочников, затем мебельщиков и далее торговцев и представителей разного рода профессий, обслуживавших многообразные потребности быта привилегированных слоев общества. В итоге эти районы оказывались заселенными преимущественно представителями среднего класса с вкраплениями «оазисов» знати».[300] В этом – одна из особенностей психологии бритта.
И все же не забывайте города Великобритании стали средоточием немалых богатств и внушительного достатка, которое свезено в них за многие века колониальных грабежей и господства над значительной частью мира. Едва ли не каждый дом в Англии – это своего рода лавка древностей и наглядный пример успеха захватнических походов этой «самой гуманной и демократичной из стран мира». А чтоб читатель не увидел в авторе этакого зловредного человечка, только и жаждущего вытащить очередной «скелет из шкафа», приведу отрывок из рассказа английского писателя Ивлина Во «Дом англичанина». В нем дается описание дома полковника Ходжа, человека хотя не денежного, но живо участвовавшего в делах Британского легиона. Еще больший интерес представляет оценка благосостояния простых жителей округи, чья жизнь самым тесным образом связана была с судьбой и доходами империи. Автор говорит: «Иностранцы, изумленные ценами в лондонских ресторанах и великолепием более доступных им герцогских дворцов, часто поражались богатству Англии. Однако о том, как она богата на самом деле, им никто никогда не рассказывал. А как раз в таких-то деревушках, как Мачмэлкок, и впитываются вновь в родную почву огромные богатства, что стекаются в Англию со всей империи. У здешних жителей был свой памятник павшим воинам и свой клуб. Когда в стропилах здешней церкви завелся жук-точильщик, они не постеснялись расходами, чтобы его уничтожить; у здешних бойскаутов была походная палатка и серебряные горны; сестра милосердия разъезжала по округе в собственной машине; на рождество для детей устраивались бесконечные елки и праздники и всем арендаторам корзинами присылали всякие яства; если кто-нибудь из местных жителей заболевал, его с избытком снабжали портвейном, и бульоном, и виноградом, и билетами на поездку к морю; по вечерам мужчины возвращались с работы, нагруженные покупками, и круглый год у них в теплицах не переводились овощи».[301] В основе их благосостояния лежали, конечно, и труды праведные, но все же едва ли ни под каждым камнем Британии – череп одной из бесчисленных жертв Империи.
Уильям Хогарт. Карьера шлюхи. Ее приезд в Лондон. Гравюра. 1731 г.
Пару слов о старом Лондоне, возникшем после завоевания римлянами Британских островов (в 43 г. н. э.). Названием он обязан древним жителям (в переводе с кельтского Llyn-Din – «крепость на озере»). Впервые упоминание некоего Лондиниума встречаем у римского историка Тацита. Город создали римляне по примеру своих городов в I в. н. э. на площади всего в 2,5 кв. км., выстроив мост, форум, храм, базилику, дома патрициев, следы коих давно исчезли. Что осталось от тех времён? «Лондонский камень», столб, аналогичный «Золотому столбу», стоявшему на знаменитом римском форуме. В результате скрещивания дорог всемирной истории между цивилизациями и возникают культурные родства. Судьба Британской империи оказалась связана некими внутренними узами с Римской империей. Как вы помните, после ухода римлян сюда вторглись германские племена в V в. н. э. После изгнания викингов англичане были побеждены норманнами. Вильгельм «Завоеватель» короновал себя в только что выстроенном Вестминстерском аббатстве (1066). Английский язык (смесь германского, скандинавского, норманнского языков) стал важным культурным посредником в Европе и в мире, хотя вплоть до XV в. знать говорила по-французски. Как вольный и богатый город, пользующийся немалыми привилегиями, City of London сложился где-то к XII в. В XI веке Вильгельмом «Завоевателем» возведен знаменитый Тауэр и Вестминстерское аббатство. В XVI в. строятся Королевская биржа, лондонские театры, Грэшэм-колледж, первый английский университет.
Пожар 1666 г. нанес Лондону страшный ущерб (больший, чем пожар Рима при императоре Нероне). Сгорело 13,2 тысячи домов. Перед этим чума унесла жизнь 100 тысяч жителей. За восстановление столицы лондонцы взялись миром. Среди шестерки архитекторов выделялся Кристофер Рен (1622–1723), видный ученый-физик, астроном, математик, один из основателей Королевского общества, ставший в 1680 г. его президентом (возвел ряд построек для Оксфорда и Кембриджа). Рен – римский Рем в архитектуре! При новом планировании Сити им взята за образец знаменитая Пьяцца дель Пополо в Риме. Прах создателя Лондона покоится в соборе Св. Павла. Надгробная надпись лаконична: «Читатель, если ты ищешь его памятник, оглянись вокруг себя!»
Лондон за полтора века превратился из скромного поселения (в 1509 г. при восшествии на престол Генриха VIII было всего 50 тыс. жителей) в быстро растущую метрополию (в 1660 г. в момент воцарения Карла II число жителей приближалось к полумиллиону). Как оценивать столь бурный прогресс? Здесь две стороны медали. Рост и развитие британской столицы шло за счет остальных городов и регионов. А. Поллард напрямую связывал деспотизм Тюдоров с властью Лондона над всею остальной страной. Это действительно была «могучая рука и надежный инструмент», с помощью которой власть управляла страной. Здесь концентрировались капиталы. Сила Лондона – не только в деньгах или в политической власти. Важна роль культурных классов, ударной силы Ренессанса (купцы, адвокаты, судьи, чиновники двора, священники, педагоги, военные, ремесленники).
Собор в Уэльсе.
Лондон стал средоточием власти в стране. Хроникер XV в. писал, что лондонский мэр является «следующей за королем фигурой во всех отношениях» (в смысле его власти и статуса). И это не преувеличение. С прерогативой и мнением лондонцев королям всегда приходилось считаться. Лорд-мэр тюдоровско-стюартовского Лондона в случае смерти монарха воспринимался как наивысший сановник королевства. Лондон был самоуправляющимся городом со своими законами, полицией, судами, армией и даже системой социального обеспечения.[302]
Однако не следует думать, что блага и привилегии доставались всем поровну. Отнюдь нет. Управление столицей было сосредоточено в руках нескольких «наиболее зажиточных и опытных граждан». Это были, разумеется, только состоятельные люди. В XV в. именно так понимали демократию. На выборное собрание знать предпочитали приглашать скрытно и тихо, а те уж выбирали мэра и олдерменов. Вот как описывает процесс один из источников: «Ввиду того, что с давних времен на выборы мэров и шерифов стекалась к зданию муниципалитета огромная толпа народа, и так как народных сборищ следует бояться, как это мудро засвидетельствовано в 26-й главе Экклезиаста, ибо при этом может подняться ропот и шум, мэр и олдермены за несколько дней до дня выборов имели обычай сходиться и обсуждать, каким образом провести эти выборы, чтобы избежать волнения и народного ропота».[303]
Роль Лондона как экономического центра Великобритании. По созданию национального рынка оценил Д. Дефо в его «Торговце» («Tradesman»). К 1700 г. город насчитывал уже примерно 550 тыс. жителей, что составляло 10 процентов всего английского населения. Он затмил все столицы стран Запада. Мы говорим «Англия» – подразумеваем «Лондон», говорим «Лондон» – подразумеваем «Англия». Он, по словам Ф. Броделя, «выстроил и сориентировал Англию от А до Я». Далее он же пишет: «Все английское экономическое пространство подчинялось царственной власти Лондона. Политическая централизация, мощь английской монархии, продвинувшееся сосредоточение торговой жизни – все работало на величие столицы. Но величие это само по себе было организатором пространства, над которым оно доминировало и в котором оно создавало многообразные административные и рыночные связи. Н. Грас считает, что Лондон на доброе столетие опережал Париж в том, что касалось организации его сферы снабжения. Его превосходство было тем большим, что Лондон был еще и весьма активным портом (обеспечивавшим самое малое четыре пятых внешней торговли Англии), оставаясь в то же время вершиной английской жизни, ни в чем не уступавшей Парижу, ибо он являлся громадной паразитической машиной роскоши, расточительства, а также при всем прочем и культурного творчества. Наконец, и это главное, квазимонополия на экспорт и импорт, какой Лондон пользовался очень рано, обеспечивала ему контроль над всеми видами производства на острове и над всеми формами перераспределения: для различных английских регионов столица была центральной сортировочной станцией. Все туда прибывало, все оттуда уходило вновь, то ли на внутренний рынок, то ли за пределы страны».[304] Оценка видным историком роли британской столицы в судьбах Англии возможно заставит читателя отнестись чуть снисходительнее к другой столице, где также налицо то, что, как выше было сказано, является «громадной паразитической машиной роскоши и расточительства».
Подобно Парижу, Риму, Москве, Петербургу, Лондон есть также город-музей. Здесь масса знаменитых построек и мест: Лондонский мост и основная достопримечательность столицы Тауэр, ныне населенный скорее воронами (по легенде, устои Британии незыблемы, пока вороны не покинут его), Мэншн-хауз, с коллекцией английского серебра XVIII–XIX, уступающей, по мнению некоторых, только русской коллекции в Кремле, «Египетским» залом, в котором представлены скульптурные статуи на различные сюжеты английской литературы (от Чосера до Байрона), Вестминстер-холл, с именем которого связаны многие события английской истории (XI в.), Вестминстерское аббатство, где вот уже 900 лет у алтаря проходят коронации и бракосочетания членов королевской семьи, где находятся усыпальницы Генриха VII, Елизаветы Тюдор, Марии Стюарт, покоится прах Ньютона, Дарвина, Диккенса, Шеридана, Спенсера, Теннисона и находится знаменитый «уголок поэтов» – Poet`s Corner (Шекспира, Милтона, Бернса). Сюда отнесем и Лондонский парламент, что расположен во дворце Вестминстера (недавно было отмечено его 730-летие) и тому подобные «реликвии». В Великобритании в настоящее время 450 тысяч памятников, охраняемых а рамках «Английского наследия».
В ряде строений Уайтхолла проступает строгая, классическая, изысканная простота, присущая лучшим европейским сооружениям. Дом, известный как Banqueting House (1619), украшен фреской Рубенса. Создан Банкетинг-хауз английским архитектором И. Джонсом. Прямо перед ним казнили Карла I. Главной королевской резиденцией стал Букингемский дворец, овеянный многочисленными слухами и легендами (1837). Перед дворцом высится величественный монумент королевы Виктории. Она окружена аллегорическими фигурами, каждая из которых символизирует Победу, Мужество, Правду, Справедливость, Науку, Искусство, Хозяйство. Сюда и направляются любопытные туристы и зеваки поглядеть на колоритную смену караулов. А неподалеку, на набережной Темзы, расположился самый древний символ Лондона – 21-метровый обелиск под названием «игла Клеопатры». Ее в 1798 г. предложили Британии за победу, одержанную в ходе битвы у Нила. Лишь через 90 лет этот обелиск занял почетное место в центральной части города. По-своему интересна и Fleet Street, где примерно 500 лет тому назад были созданы первые типографии и где доктор Джонсон составил первый словарь английского языка. И все-таки самым знаменательным памятником Лондона является Тауэр. Тут в «кровавой» башне (Bloody Tower) казнили принцев, аристократов, королев. Неподалеку казнён и великий Томас Мор. Тут же сокровища королевской короны (Crown Juwels). Смерть и сокровища всегда рядом… Вход в Тауэр лежит через «ворота предателей». Политики со страхом вступают под своды самой известной тюрьмы мира.[305] Светлое и радостное зрелище представляют многочисленные пейзажные парки и сады (Сент-Джеймсский, Грин-парк, Риджентс-парк, сад в Кью и др.). Когда на территории Гайд-парка открыли Первую всемирную выставку (1851), вызвавшую всеобщее внимание, англичане увенчали ее знаменитым «Хрустальным дворцом». Он был подобен оранжерее (построил его садовник Дж. Пэкстон). Позднее Корбюзье скажет об этом предвестнике современной архитектуры: «Я не мог оторвать глаз от этой торжествующей гармонии». Поэтому нам понятны слова англичан, обращенных к граду: «Устать от Лондона значит устать от жизни».[306]
Лондонцы непременно скажут, что их город ни разу в истории не был захвачен или разграблен, как это случалось с Римом, Антверпеном, Парижем и Москвой. Они приведут фразу Генриха VIII о том, что истинное назначение Англии – «это империя». Другие скажут, что камнем, на котором стоит город, является вера Христова. Р. Джонсон так воспел столицу:
Пусть будет долгой жизнь твоя… Храни господь могучий Лондон, Что триумфатором быть создан, Счастливый кладезь бытия…Восторг от посещения британской столицы не раз испытали на себе писатели, художники и ученые. Вот что писал о столице Англии итальянский скульптор Канова: «Вот я и в Лондоне, мой дорогой, мой лучший друг! В этой чудесной столице прекраснейшие улицы, прекраснейшие площади, красивейшие мосты, повсюду чистота и, что более всего поражает, – заметное благосостояние народа».[307] Есть правда и в словах английского премьера Дизраэли, сказавшего, что «Лондон – не город. Это нация».
Фасад Британского музея.
Лепту в прогресс культуры в Англии внесли не только мыслители, писатели, школы, университеты, не только книги, парламенты, но и Британский музей. Возможно, это – лучшее творение английского гения и государства, говоря словами теоретика культуры Я. Буркхардта, музей является выдающимся «произведением искусства». Хотя иные называют музеи «выставочными залами реликтов цивилизации», без них невозможна эволюция культуры. Британский музей – историческая и культурная жемчужина в короне Британской империи. Как и многие иные прославленные музеи и галереи мира, он вырос из частных коллекций. Его основателем стал врач и натуралист Х. Слоун (1660–1753), преемник Исаака Ньютона на посту президента Королевского общества (Академии наук). Будучи медиком и биологом, он имел обширную медицинскую практику в Лондоне. Его страстью стало коллекционирование. Получив в наследство от друга (У. Куртена) ценное собрание растений и минералов вместе с книгами, гравюрами и медалями, он на протяжении всей жизни неустанно дополнял оное. Коллекция разрослась, насчитывая к концу его жизни более 200 тысяч экспонатов (в их числе 40 тысяч книг и свыше 4 тысяч рукописей). Свои сокровища Слоун завещал государству. Так положено начало рождению музея.
Парламент принял специальный акт (1753), согласно которому это богатство объединено с давними коллекциями антиквара и библиофила Р. Коттона (1571–1631), друга Ф. Бэкона, Б. Джонсона и Р. Харли (1661–1724), лорда Оксфордского, имевшего богатейшую библиотеку. Вскоре дворянский особняк Монтегю-хаус, получивший наименование «Британский музей», принял первых посетителей (1759). Затем Георг II подарил музею свою Старую королевскую библиотеку, собираемую на протяжении двух веков английскими монархами. В 1823 г. Георг III отдает в Британский музей свою изумительную библиотеку (84 тысячи томов). Уже в 20-е годы XIX в. выяснилось, что «новое вино не вмещается в старой бутылке». Тогда-то и будет построено новое здание (1823–1847), фронтон которого украшен мраморными фигурами скульптора Р. Уэстмакотта, ученика Кановы. Внутри музея возведен круглый Читальный зал, купол которого уступал только величайшему в мире куполу древнеримского Пантеона. Это – словно «porta antiqua» (лат. «врата античности»), распахнутые в будущее. Коллекция музея пополняется. Благодаря замечательным открытиям О. Лэйярда и О. Рассама (в Ниневии) музей получил лучшую в мире коллекцию ассирийской скульптуры. Перечислять его богатства можно бесконечно. Среди постоянных читателей библиотеки Британского музея – философ Юм, историки Гиббон, Карлейль и Маколей, писатели Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей и Шоу, который завещал библиотеке треть своего огромного состояния. В. И. Ленин, регулярно работавший тут, говорил, что в Европе нет лучшего места для работы, нежели библиотека Британского музея со всеми ее фондами и прекрасным справочным отделом, с великолепно налаженной техникой обслуживания читателей… Древние верно говорили: «Habent sua fata libelli» (лат. «Книги имеют свою судьбу»). Видимо, свои великие, как славные, так и трагические судьбы, и у библиотек.[308] Истинная слава Британии (Glory of Empire) – не в золотых слитках и акциях британских банков, а в сокровищах мысли и искусства ее библиотек и музеев.
Лондон – прекрасен. Хотя есть в нем и некая мрачность и тяжеловесность. Ощущается, что одно время бритты были придавлены «римским сапогом». Их «имперский стиль» порой кажется замешанным на густом лондонском тумане и кровосмешениях. Мрачна и кровава ранняя английская история. Это делает нынешнюю столицу Британии иногда похожей то на покрытого пылью вояку-центуриона, то, в особо мрачные дни – на Джека Потрошителя. Многое зависит от того, с кем и с чем столкнетесь в «Вавилоне цивилизации». Если повезет и окажетесь на светлой стороне имперской столицы, Лондон представится земным раем. Если – нет, не исключено, что мнение ваше ничем не будет отличаться от мнения одной из героинь романа Т. Смоллета «Приключения Перигрина Пикля», которая с горечью признавала: «Лондон, по ее словам, был приютом беззакония, где честный доверчивый человек ежедневно рисковал пасть жертвой мошенничества; где невинность подвергалась постоянным соблазнам, а злоба и клевета вечно преследовали добродетель; где всем правили каприз и порок, а достоинства встречали полное пренебрежение и презрение».[309]
У Великобритании немало достоинств… Англия давала уроки политической свободы сначала Франции, а уже потом через посредство Франции – остальной Европе. Г. Бокль пишет: «Они были свидетелями, как политические и религиозные вопросы величайшей важности разбирались со смелостью, неизвестной в какой-либо другой стране Европы. Они были свидетелями, как диссиденты и церковники, виги и тори разбирали самые опасные теории и относились к ним безгранично свободно. Они были свидетелями публичных прений по предметам, о которых во Франции никто не отважился бы спорить; они были свидетелями, как государственные тайны и тайны веры были разоблачаемы и резко выставляемы перед взорами народа. А что особенно должно было поразить французов того времени, – это то, что они не только нашли прессу, обладавшую известной степенью свободы, но увидели еще, что в самих стенах парламента производились совершенно безнаказанно нападения на распоряжения короны; что избранные ею слуги постоянно подвергались порицаниям, и – что казалось страннее всего – что даже распределение ее доходов подвергалось деятельному контролю».[310] Французский писатель В. Гюго, воскликнет в 1855 г.: «Англия – великая и благородная нация, в которой пульсируют все животворные силы прогресса, она понимает, что свобода – это свет».[311] Историки Франции О. Тьерри и Ф. Гизо считали Англию «предшественницей и эталоном для Франции». Гегель в «Философии истории» отвел Британии роль чудо-генератора, мотора индустриально-торговой машины (1837): «Материальное существование Англии основано на торговле и промышленности, и англичане взяли на себя великую задачу быть миссионерами цивилизации во всем мире; свойственный им торговый дух побуждает их исследовать все моря и все земли, завязывать сношения с варварскими народами, возбуждать у них потребности, вызывать развитие промышленности и прежде всего создавать у них условия, необходимые для сношений, а именно отказ от насилий, уважение к собственности и гостеприимство».[312] В последних случаях Гегель, конечно, перегнул палку.
Русские относятся к шотландцам и ирландцам с большим почтением (чувства к англичанам у нас смешанные). Владимир Мономах был женат на дочери английского короля Гарольда II, во времена Ивана Грозного и королевы Елизаветы I Тюдор наши страны обменялись посольствами, а Петр I пригласил в Россию преподавать в Навигацкую школу профессора Абердинского университета Эндрю Фарварсона, математика и астронома, автора ряда учебников. Граждане туманного Альбиона нередко служили в рядах русской армии, были архитекторами, врачами и т. д. Шотландец Александр Лесли был послан царем на Запад с целью подбора в армию России знающих и умелых офицеров, а «бессмертный» Несбит Уиллоуби стал моряком-волонтером в рядах русской армии 1812 года. В Шотландию лежал путь и многих деятелей науки и российского просвещения. «Отец русской юриспруденции» С. Е. Десницкий (1740–1789), видный социолог и экономист, профессор Московского университета учился в университете в Глазго. Там же он, вместе со своим коллегой, И. А. Третьяковым, слушал лекции Адама Смита и других ученых. Он поддерживал дружеские отношения с изобретателем паровой машины Дж. Уаттом (и даже предлагал пригласить его в Россию). Сотрудничество наших культур и наук было довольно плодотворным. Десницкий перевел труды английского законоведа У. Блэкстона и специалиста по сельскому хозяйству Т. Боудена.[313]
Британия XVIII–XIX вв. представляет собой величественное зрелище, не менее внушительное, чем египетские пирамиды или соборы в Кремле. Английский язык распространялся по миру. Его стараются изучить корифеи науки, литературы, политики (Бюффон, Бриссо, Гельвеций, Монтескье, Вольтер, Руссо, Мирабо, Морелли, Рейналь, Лафайет, Монгольфье, Марат). В Лондон устремляются англоманы, как если бы там была Мекка и Медина. Все увлечены светилами английской науки и литературы (Локком, Ньютоном, Бэконом, Мандевилем, Шекспиром). Адамом Смитом зачитываются как во Франции, так и в России. В моде Байрон и английский сплин. Пушкинский Евгений Онегин «читал Адама Смита и был глубокий эконом». В Москве открывается «Английский клуб», где иная провинциальная дама, на миг отвлекшись от шляпок и модисток, «толкует Сея и Бентама».
Однако же в англичанах было и немало такого, что вызывало (и вызывает) у народов известную настороженность и опасения. Сюда можно отнести их любовь к закулисной игре, политическую беспринципность, коварство, в результате чего в политический обиход вошла фраза о «коварном Альбионе». Англичане, как и американцы, обожают устроить дело так, чтобы кто-то другой для них «таскал каштаны из огня». В том же XVIII в. Англия, по известному выражению, использовала европейские государства как «хорошую пехоту» ради достижения своих политэкономических целей.[314] Эти же привычки она переносит и в ХХI век.
Столь же ненасытны их финансовые аппетиты… Лондонская биржа не случайно является главным средоточием денежных потоков. Известно, из англичан не выжмешь даже и шиллинга (если сами они не получат за него фунт). Историкам хорошо известен факт, когда благородный король Англии Эдуард III отказался платить по векселям… В результате столь коварного (и явно не джентльменского шага) его главные кредиторы, банкирские дома Барди и Перуцци во Флоренции, потерпели полный крах. Это грандиозное банкротство не только вошло во все учебники, но и породило финансовый термин «банкрот» (от выражения «banka rotta», т. е. «разбитая скамья»). Если в старину менялу уличали в обмане, то тут же переворачивали и ломали его скамью и стол на рынке.[315] Всё это натолкнуло на интересную мысль… А если в России или где-либо правительство уличит иных «менял» (дельцов, воров, спекулянтов) в крупном жульничестве, то не целесообразно ли и им ответить адекватно?!
Кроме того, и распрекрасная демократическая Англия не всегда жаловала гениев. Говорят, факты – довольно упрямая вещь. Вспомним, как из страны фактически был изгнан великий Байрон. В жуткой нищете влачил тут свое существование Р. Бернс. Окончивший колледж в Итоне, затем поступивший в Оксфорд П. Шелли был исключен оттуда якобы за проповедь атеизма. Где же истинная «свобода мнений»? В 1737 г. в Англии был принят «Закон о лицензиях», по сути дела направленный против острых комедий Филдинга. Фарисеями отринут О. Уайльд, угодивший в английскую тюрьму. Трагично сложилась и судьба У. Блейка, погребенного в безымянной яме для нищих. Уайльд даже написал: «Байрон ужасно растрачивал себя, воюя с глупостью, посредственностью и филистерством англичан».
Уильям Блейк. Сцена Страшного суда. Три обвинителя. Гравюра на дереве.
А вспомним жизнь премьера Дизраэли, графа Биконсфильда (1804–1881). Он был потомком еврейской семьи, бежавшей в XV в. из Испании от инквизиции (в Венецию). Евреи были изгнаны из Англии еще раньше, чем из Испании и Португалии. Впрочем, показательно, что дед и тезка будущего лорда, the wandering jew (англ. здесь: «бродячий еврей»), при Георге II уже смог стать подданным Англии, хотя и без гражданских прав (1748). Отец Бенджамина слыл учеником Руссо. Юноше все же повезло, ибо отец стал известным писателем, открыв сыну путь наверх. Пришлось отказаться от пут иудейства. «Для сыновей особенно, если они не будут крещены, многие карьеры будут закрыты, так как евреи, как, впрочем, и католики, были лишены гражданских прав», – пишет А. Моруа.[316] В школе же юноше не раз приходилось отстаивать право свободно мыслить с помощью кулаков, а в жизни – уже с помощью денег и связей. Сам Дизраэли не заблуждался в вопросах тайной политики масонов. Выступая перед англичанами, лидер консервативной партии Англии и премьер-министр Великобритании говорил: «Миром управляют совсем не те, кого считают правителями люди, не знающие, что творится за кулисами… Существует политическая сила, редко упоминаемая, я имею в виду тайные общества. Невозможно скрыть, а потому и бесполезно отрицать, что значительная часть Европы покрыта сетью этих тайных обществ подобно тому, как поверхность земного шара покрыта сейчас сетью железных дорог. Они… стремятся к уничтожению всех церковных установлений». Дизраэли, зная своих сородичей, говорил, что этой тайной силой являются иудеи. Он даже предупреждал, что готовящаяся в Европе «мощная революция развивается полностью под еврейским руководством» (Иоанн. «Самодержавие духа»).[317]
Всем известно властолюбие, самомнение британцев, полагающих, что Бог создал Британию, чтобы посредством ее управлять всем миром. В британце гордыни больше, чем в любом представителе известных и отмеченных славой и величием наций. Иные из Британских энциклопедий ограничивают круг познаний событиями и именами «западного мира». Так, в «Кingfisher History Encyclopedia» (Лондон, 1995) есть обширные сведения о Наполеоне и, разумеется, о побеждавших его героях Британии (Нельсоне и Веллингтоне), но имена великих русских полководцев Суворова и Кутузова не упомянуты. Правда, утверждают, что английские офицеры и высшие чины империи поднимали тост за Суворова (в эпоху его блистательных побед) сразу же после тоста за английского короля.
Об этой особенности британцев (стараться упорно не замечать чужих успехов и талантов, равно как и признаков упадка собственной страны) упоминал еще Э. Гиббон в «Истории упадка и крушения Римской империи». Его формулировка «конца империи» стала «классикой»: «Судьба города, который мало-помалу разросся в империю, так необычайна, что останавливает на себе внимание философа. Но упадок Рима был естественным и неизбежным последствием чрезмерного величия. Среди благоденствия зрел принцип упадка; причины разрушения размножались вместе с расширявшимся объемом завоеваний, и лишь только время или случайность устранили искусственные подпорки, громадное здание развалилось от своей собственной тяжести. История его падения проста и понятна, и вместо того чтобы задаваться вопросом, почему Римская империя распалась, мы должны бы были удивляться тому, что она существовала так долго».[318] Её к месту и не к месту приводят бездарные и невежественные «апостолы» «конца русской империи». Хотя Гиббон указывал на наличие параллели между двумя (Римской и Британской) империями. «Из всех наших страстей и наклонностей жажда власти есть высокомерная и самая вредная для общества, так как она внушает человеческой гордыне желание подчинить других своей воле», – писал он. Его намек имеет вполне определенный адресат: «Утрата добродетели, силы и мудрости римской аристократии явились причиной падения Рима, – и пусть британский правящий класс помнит об этом…» Предостережения историка не помогли. Сегодня мы видим крах мифа о демократичности и свободолюбии англичан.
Упрекая соотечественников в близорукости, Гиббон недалеко ушел от них. В одной из ранних работ историка («Очерках мировой истории»), охватывающей хронологический период с V по XV века, всего один раз упоминается Россия (в связи с принятием христианства). Другие славянские страны не упоминаются вовсе. У нас его «Очерки» были изданы (1805 г.). Публикации «Очерков» Гиббона продолжали славную традицию М. В. Ломоносова и Н. И. Новикова – издавать важнейшие труды европейских просветителей.[319] Да и историк Н. Карамзин в «Письмах русского путешественника» отмечал заслуги английских историков и романистов: «одна земля произвела лучших Романистов и лучших Историков. Ричардсон и Фильдинг выучили Французов и Немцев писать романы как историю жизни, а Робертсон, Юм, Гиббон вливали в Историю привлекательность любопытнейшего романа, умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидида и Тацита ничто не может сравняться с Историческим Триумвиратом Британии». Но еще более поразила русского историка общая картина благосостояния и жизненной активности, открывшаяся перед ним в Лондоне (1790 г.). Он писал: «Какое многолюдство! Какая деятельность! И притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой».[320]
Англичане до начала XX в. как будто и вовсе не замечали существование русских гигантов. Об отношении англичан к А. П. Чехову писал в мемуарах У. С. Моэм: «В Англии же его по-прежнему почти не знают. Когда в 1904 г. Чехов умер, русские уже считали его лучшим писателем своего поколения, а Энциклопедия Британника (во II издании, которое вышло в 1911 г.), нашла для него только такие слова: «Но А. Чехов продемонстрировал большой талант новеллиста». Довольно кислая похвала. Только когда миссис Гарнет издала избранную часть огромного литературного наследия Чехова в 13 томиках, им заинтересовалась английская читающая публика. С той поры престиж русской литературы в целом и Чехова в частности у нас очень вырос».[321] Затем интерес к его творчеству в Англии рос столь стремительно, что скоро Чехов стал тут «своим» писателем. На представлении «Дяди Вани» Б. Шоу сделал театральному критику Г. Мэссингему («Нейшн») необычное признание: «Когда я слушаю пьесу Чехова, мне хочется порвать мои собственные» (1914). А профессор ряда британских и американских университетов У. Джерхарди, автор шеститомной «Истории английской драмы» заявил: «Чехов… был на голову выше всех шоу и ибсенов». Известный драматург Дж. Пристли затем скажет: «Чехов больше, чем любой другой современный драматург, имеет влияние на серьезный театр в Англии.… Своим магическим даром Чехов освободил современную драматургию от цепей старых условностей». Сам же Чехов считал: «мне кажется, для английской публики я представляю так мало интереса, что решительно все равно, буду ли я напечатан в английском журнале или нет» (1900).[322]
XIX век во многих отношениях может быть назван историками «английским золотым веком», как ранее все говорили о «золотом веке» её литературы. В викторианскую эпоху англичане добились наибольших успехов и в деле укрепления могущества империи. Этому в немалой степени способствовала и сама королева Виктория (1819–1901). И хотя королева не обладала каким-то исключительным набором талантов или умственных достоинств, у нее было нечто, что позволяло ей быть неплохой правительницей. С детства ее готовили к исполнению должным образом службы на престоле (и она была, так сказать, подготовлена «быть хорошей королевой»). На плечи этой женщины легли серьезнейшие государственные проблемы. Империя разрасталась, промышленный подъем требовал создания механизмов по удержанию в узде рабочего класса, страну сотрясали социальные конфликты. Все это она должна была регулировать железной рукой. Первая «железная леди» империи… К счастью, в ее деятельности ей помогали мужчины. Сначала это был дядя Леопольд, руководивший ее действиями до 1831 г. (когда он стал бельгийским королем), затем свое плечо подставил супруг Альберт Саксен-Кобург-Готский, ставший «ходячей энциклопедией для Виктории по любому вопросу». В поздний период важное место занял в ее окружении слуга Дж. Браун (он любил, как говорят, крепко заложить за воротник, напиваясь почти до бесчувствия, однако благодаря ему королева вступала «в спиритуалистическую связь» со своим мужем).
При всем уважении к английской культуре, не станем вводить в заблуждение, уверяя: всё, что хорошо для Англии, в обязательном порядке должно быть хорошо и для России. Хотя бы даже в жилах британских королей и Романовых текла родственная кровь. В ближайшем окружении русского царя было немало тех, кто благоволил к Англии. Жена Николая II Александра Федоровна восхищалась Англией, так как долгое время жила там. Постоянно бывал в Англии и великий князь Михаил Михайлович. Николай II, хорошо владевший английским, немецким и французским, был в тесном родстве с англичанами и немцами. Короли и цари – это ведь ещё не народ… Не говоря уже о том, что русские цари – давным-давно забытый звук, известно и иное: близкое родство монарших ветвей России и Великобритании не помешало Британии предать «дом Романовых», когда после низложения зашла речь о возможности его эмиграции. В ответ на запрос, нет ли возможности принять семейство низложенных Романовых в Англии, правительство Керенского получило недвусмысленный ответ, гласящий, что до окончания войны въезд бывшего монарха и семьи «в пределы Британской империи невозможен».[323]
Самые полезные и спасительные для России вещи не приветствовались элитой и короной Британии. Королева Виктория придерживалась антирусских позиций в политике. С присущим англичанам лицемерием она пишет после убийства Александра II, что казни в России необходимы, но было бы куда лучше, если бы они были тайными, а не публичными (23 апреля 1881 г.). Вот вам и вся суть английской демократии и либерализма! Виктория не верила в Россию, была в отношении её настроена апокалиптически, заявив 100 лет тому назад: «Состояние России настолько плохое, настолько прогнившее, что в любой момент может случиться что-то страшное».[324] Если не открыто, то тайно Англия всегда работала и работает на уничтожение или ослабление России!
Поэтому «демократия», являющаяся для них, возможно, и «привлекательной особой», для России в английском стиле, не подходит (разве что в крайне ограниченных и строго фиксированных дозах и рамках). Это справедливо как в отношении политики, так и в отношении и экономики. Напомню слова Н. Я. Данилевского: «Что невозможна общая теория устройства гражданских и политических обществ – это осознано давно, и мало уже таких доктринеров, которые бы думали, что, например, английское государственное устройство есть некий идеал, которого все должны стремиться достигнуть, что между государствами (или вообще обществами) есть, так сказать, только различие возрастное, а не качественное. Но один уголок общественных наук упрямо сохраняет это доктринерство, именно политическая экономия. Она думает, что всякое господствующее в ней учение есть общее для всех царств и народов… Политическая экономия утверждает, что так называемая свободная торговля, которая есть выгоднейшая форма мены для Англии, где эта наука изучала торговые и промышленные явления, должна непременно применяться и к Америке, и к России. По-моему, это то же самое, как бы утверждать, что дышать можно только жабрами или только легкими, невзирая на то, живет ли животное в воде, или на суше».[325] Данилевский повторял: начала цивилизации одного культурно-исторического типа нельзя передать народам иного типа. Кроме того, на чужой карете ведь далеко не уедешь!
Британия к концу XIX в. находилась в зените славы и могущества. Киплинг скажет в стихотворении «Сассекс»: «Господь нам эту землю дал, чтоб всю ее любить». Однако имперской земли становилось все меньше. И уж недалек был кошмарный для старины Джона Буля час. Империя скоро развалится, как карточный домик. Это вызовет у англичан ностальгию, которая русским, понятна более, чем кому-либо еще (хотя между Британской и Российской империей огромная разница. В первом случае уместно привести слова Шекспира: «Иногда мы и в самой потере находим утешение, а иногда и само приобретение горько оплакиваем».
Фарисеев древности должен был бы охватить жгучий стыд при виде столь совершенного творения, как английская «демократия». Ее защитники отпарируют фразой Уинстона Черчилля (уж не знаю, сколь она удачна): «На самом деле демократия – наихудшая форма правления – если не учитывать того факта, что все другие формы, которыми пользуются люди, еще хуже». Впрочем, говоря об английских порядках, вспомним фразу и Эдмунда Берка: «Идеальная демократия – самая постыдная вещь на земле». Возможно, оттого меня не покидает ощущение, что и английский тип – тип, обреченный если не на вырождение, то по крайней мере на отдохновение от той важной исторической роли, что была им когда-то сыграна в мировой истории. История внесет еще в бочку английского «меду» не одну «ложку дегтя».
У британцев есть не только недостатки, пороки, но и достоинства (тяга к бизнесу, науке и культуре, смелость, мужество, упорство, верность традициям и т. д.). Англичане являются нацией скрытной, не очень общительной. Но у них не грех поучиться чувству собственного достоинства, тому, что они всегда и везде на первое место ставят свой собственный народ и его интересы. Об этой их особенности в свое время упоминал немецкий философ И. Кант: «Для своих земляков англичанин создает огромные благотворительные учреждения, которых нет ни у одного народа. – Но чужестранец, которого судьба забросила на английскую почву и который попал в большую нужду, всегда может умереть на навозной куче, так как он не англичанин, т. е. не человек».[326]
У нас все иначе. Если кто-либо попал в беду, и у окружающих есть хоть малая возможность накормить, обогреть, приютить или просто выразить сочувствие словом, теплом человеческим, русский не преминет это сделать. Даже порой отдаст последнюю рубашку. К числу таких людей можно было отнести Г. Успенского. Люди, близко знавшие его как в молодые, так и в зрелые годы, вспоминали: «Часто… приходил Глеб домой в одних обрывках рубахи, изорвав ее всю на перевязки какому-нибудь больному нищему», или же случай, имевший с ним место в последние годы: «Снял с себя все до нитки и отдал замерзающему бродяге, вместе с последним рублем, который был у него в кармане».[327]
Впрочем, нам и тут не стоит особо «выставляться» перед англичанами. У нас бродягу-забулдыгу приютят и накормят (дело ясное: «божий человек»), а вот огромный талант, который величие, славу и богатство России множит, норовят «замордовать», затоптать или, на худой конец, забыть на веки вечные. Его боятся пуще смерти. Как тут не вспомнить классическую историю с лесковским Левшой. Умелец, «подковавший блоху», был направлен в Британию (как удивительный мастер). Казацкий атаман Платов его перекрестил и, как водится, «мудро напутствовал»: «Не пей мало, не пей много, а пей средственно»… Тульский мастер, прибыв в Англию, вынужден был признать, что англичане сильны в науках (а «мы в науках не зашлись»). Однако же несмотря на все уговоры и предложения ему «большую образованность передать» (и даже с англичанкою повенчать), он от предложения остаться в Англии отказался. Левша заявил, что «мы… к своей родине привержены», да и «наша русская вера самая правильная». Одним словом, как уж они его не прельщали «на жисть энту заморскую», а все ж так и не прельстили. Обнаружив, что английские ружья не в пример русским будут (из-за неумелого у нас с ними обращения), Левша и стал рваться на родину («я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать»). Англичане, все же умеющие ценить любые таланты, с почетом его «напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетитором», и с Богом отправили в Россию. После того, как Левша вернулся (на корабле, опять же, не обошлось без жуткой пьянки), он тут же попал в больницу. Англичане своего, как водится, – в теплые постели, под надзор лекарей да аптекарей. Наши же мужики Левшу по привычке обчистили, оставив полуголым, и отправили умирать в приют для бездомных («в простонародную Обухвинскую больницу»). Напрасно бедняга тужился донести до государя императора «военную тайну» («Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся»). Бедный Левша умер от запоя и нашей обычной российской неурядицы. Страна как была, так и осталась с толстыми генералами, что сильны в воровстве, паркетных «битвах» и в «тушении пожаров», за что им раздают чины, ордена и премии… А наши неумелые «цари», спустя полтора века вновь (в какой уж раз) бездарно проиграли «очередную Крымскую кампанию» и фактически вновь отдали Севастополь… Так что доводи-не доводи слова истины «до нашего государя», вряд ли в Крыму, или еще где на какой-либо важной войне «совсем бы другой оборот был».[328]
В британцах сочетались таланты и достоинства римлян, мудрость древних греков, сила и отвага викингов, ум и коварство друидов, безжалостность и жестокость гуннов. Как сказал о них Шатобриан: «Все англичане безумны по натуре или по повадке».
Фарисейство и коварство англичан стали нарицательными среди всех народов. Обратимся к интереснейшей книге В. Ф. Иванова «Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней», где он характеризует следующим образом двойственно-лицемерную политику англичан… В то время как в других странах новые государственные деятели зачастую разрушали то, что было сделано их предшественниками, в английской политике каждый новый деятель независимо от своей партийности и личных симпатий продолжал неуклонно идти теми же путями и к той же цели, как и все его предшественники. Разрушая традиции в других землях, Англия бережет их у себя как зеницу ока, ибо это – ее главное богатство, результат многовекового опыта, их триумфов и неудач, побед и поражений. (Тут они, безусловно, молодцы и умницы!). Осмеивая внешние формы традиционного быта других народов, Англия с умилением держится за свои формы, за свои обычаи и за свои церемонии – как факторы, отмежевывающие ее от остальных рас и народов, и в этом она следует по стопам другого народа, который благодаря таким же причинам пронес сквозь тысячелетия свою национальность и сохранил ее живые силы до настоящих дней (Рауль де Ренне). «Вся внешняя политика Англии, – пишет Г. Бутми, – представляет ряд вопиющих нарушений международного права, что не мешает, однако, той же Англии в большинстве случаев являться авторитетной толковательницей означенного права. Войны ведутся англичанами исключительно разбойничьи – против своих и беззащитных, притом с неслыханным варварством и нарушением всяческих конвенций. Невзирая на это, голос Англии признается решающим в вопросах гуманности. «Владычица морей» вносит войну и смуту во всякую страну, с которой приходит в соприкосновение. Тем не менее английские советники высоко ценимы при иностранных дворах, а сверженные благодаря им монархи уходят кончать бесславный остаток дней в ту же самую Англию, которой они служили и которая погубила их. История показывает нам, что всякое государство, заключающее союз с Англией, тем самым неизбежно вступает и на путь своей погибели. Но вопреки здравому инстинкту народов их дипломаты и руководители периодической печати не перестают стремиться к такому отчаянному для себя договору с этим современным Карфагеном».
Максим Горький прав, назвав английское лицемерие «наилучше организованным лицемерием». В отношении действий британской финансово-плутократической верхушки В.Ф. Иванов пишет: «Английские масоны в течение столетий проводили одну и ту же коварную политику. Проповедуя верность королю, они в чужих странах подготавливали и поддерживали революцию, дворцовые перевороты и даже цареубийства. Отстаивая для своего государства национальное единство, подвергая беспощадному удушению всякое проявление национальной самостоятельности индусов, буров, ирландцев и египтян, английские масоны в других странах культивировали сепаратизм, поддерживали национальные революции, толкали инородцев на отделение от центрального правительства, как, например, в России кавказцев, армян и т. д. Навязывая свободу и самое широкое демократическое устройство другим государствам, английские масоны-аристократы до мировой войны 1914 года фактически держали власть в своих руках, не допуская народные массы к управлению государством, держа их в бесправии и нищете… Провозглашая свободу краеугольным камнем всей своей национальной жизни, английские масоны-политики были неизменными проводниками узкого национализма и шовинизма… «Страна парламентаризма и свободы», Англия привлекала умы и сердца деятелей других стран, которые, увлекаемые миражем английской свободы, служили целям и видам английской политики и предавали интересы своих народов… За этот мираж политической свободы, благодаря глупости или доверчивости русских масонов, больше всего заплатила Россия. Русские масоны своим предательством национальных интересов укрепляли могущество Великобритании, которая всегда и неизменно добивалась для себя больших успехов, используя как орудие Россию».[329] У нас в настоящее время функцию масонов с успехом выполняют «демократы», щедро оплачиваемые Западом и Америкой. К сожалению, в СССР и России вот уже среди 2–3 поколений молодых людей (из рода тех привилегированных партийных, дипломатических, военных, научно-административных, литературно-журналистских, музыкально-артистических, базарно-торговых бонз, шоуменов) превалирует такая традиция воспитания и обучения, в основе которой смесь цинизма, лжи, полуправды, эгоизма. Итог их «философии» – сплошной «английский вздор», ибо в основе их примитивного мышления – «райский Запад». Может, господа почерпнули в противоречивой и сложной истории Запада то, что составляет его реальную силу (труд, упорство, профессионализм, ответственность или деловитость)?! Да ничего подобного! Эти «философы», подобно пресыщенному и избалованному дитяти, твердят лишь то, что им прикажет Запад. Народ имел глупость ввести во власть этих «митрофанушек». Как можно всерьез воспринимать идеи деятелей типа Гайдара, Козырева, Жириновского?!
Однажды Пияшева глубокомысленно и важно изрекла: «Моя программа – апробированный историей и выдержавший проверку на дееспособность добротный «английский» путь к «благосостоянию народов» – путь классического либерализма».[330] Нет я, конечно, ее понимаю. Что и говорить: Англия – «великая страна». Там вон профессура даже попыталась, хотя и безуспешно, из цветочницы сделать самую «настоящую леди» (Б. Шоу, «Пигмалион»). Но превращать «продавцов цветов» в вице-премьеров и лидеров великого государства даже они еще не научились! Право слово, мистер Шенди (герой романа английского писателя Стерна) был прав, заметив: «Одна унция своего ума стоит больше тонны ума чужого». Велик соблазн отдаться Европе!
Обри Бердслей. Ценезиус, склоняющий Миррину к соитию.
Сегодня ясно, к какой страшной трагедии привели народы России слепые и механические попытки этих вот господ следовать «добротным английским путем»… То, что имело ограниченный успех в Англии (не забудьте: после 1000 лет жестокого гнета, революций, войн, жутких грабежей), оказалось, вовсе не срабатывает у нас, в России. Почему? Наши реформаторы решили втиснуть РОССИЮ в прокрустово ложе копеечной Англии! Будучи вопиющими невеждами, они не смогли прочесть ни «Дневник писателя» Достоевского, ни Пушкина, ни Токвиля. Возможно, и задумались бы над последствиями. Отдавая должное «свободе личности», Токвиль был твердо убежден в том, что слепо копировать британские учреждения в любой иной стране нелепо или даже просто опасно (это равносильно тому, как если бы «приделывать голову свободы к телу раба»). В то же время, Токвиль верно заметил, что «в обеспечении свободы главную роль играет вековое воспитание народа, что одни конституционные учреждения по образцу английских еще недостаточны для этой цели».[331] Но к чему же свободной России голова раба! Отношение Пушкина к английским нравам и порядкам следует охарактеризовать как крайне сдержанное. Так, А. С. Пушкин в «Барышне-крестьянке» (1830) довольно едко высмеивал «настоящего русского барина» господина Муромского, который решил обустроить свое хозяйство на английский манер: «Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями, у дочери его мадам была англичанка. Поля свои он обрабатывал по английской методе. «Но на чужой манер хлеб русский не родится». Похоже, нынче решили пойти дальше классика в своих абсурдно-трагических устремлениях. У них уж не «Англия попала в Костромскую губернию», а напротив, всю Россию норовят подмять под Англию.[332]
Писатель Ф. Достоевский говорил, в частности, и о том, что вся эта нелепая болтовня «об увенчании здания» России неким сооружением (будь то рынок, валюта и т. п.) носит характер откровенно «стадный и механически-успокоительный»: «И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно механически-успокоительные утешения всегда легки и приятны и чрезвычайно сподручны: «Нужна-де только европейская формула, и все как раз спасено; приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль талером». Главное, что приятно в этих механических успокоениях, – это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться подавно… Чего думать, чего голову ломать, еще заболит; взять готовое у чужих – и тотчас начнется музыка, согласный концерт – «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем». (авт. – Не так сидим!?) Ну, а что коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе бы пускать не надо… если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? То есть их бы и можно пустить и должно, потому что все ж они русские люди (а многие так и люди хорошие), если б только они, со всей землей, захотели смиренно, в ином общем великом деле, свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор, целых два столетия, были особо, а тут вдруг и соединятся! Это ведь не водевиль, это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека… с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном и лаптем, – чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже невольно…»[333] Высокомерие и алчность – давние болезни российской псевдоинтеллигенции и плутократии.
Пример Великобритании особенно интересен тем, что англичане довели до совершенства индивидуалистско-буржуазный тип в истории человечества (тип хищника-дельца)… Всё безжалостное, цепкое, алчное, рациональное, хитрое, хваткое, чем как раз и отличаются люди этого склада, они возвели в наивысшую степень. Вместе с янки они создали уродца, устойчивый тип «сукиного сына», что ныне самовлюбленно пытается заправлять делами всей планеты. Думаю, они не обидятся на нашу прямоту, если, конечно, Вольтер не подвел нас, сказав в их адрес: «В то время был обычай в Альбионе по имени все вещи называть».
Г. Честертон говорил: «Меня всегда до глубины души поражает странное свойство моих соотечественников: неоправданная самонадеянность в сочетании с ещё более неоправданной скромностью». Таковы парадоксы. Английский «здравый смысл» в ряде случаев не более, как однажды сказал О. Уайльд, чем «унаследованная глупость отцов». Здравый смысл англосаксов умещается на одной банковской банкноте. Делакруа прямо говорил: «Англичане так и говорят о человеке: он стоит столько-то. Это звучит приблизительно так же, как если бы они, говоря о бирже, спрашивали, как ее здоровье».[334]
Сочетание высокого и низкого стилей здесь встречается чаще, чем семейное кровосмешение. В любом случае вы обязательно «попадете в точку», если, слегка потрафив британскому тщеславию, назовете Севастополь «английским Гибралтаром», Техас – одним из второстепенных графств Англии, а Косово – о. Мэн. Если же среди ваших отдаленных родственников найдется головорез-бритт, или же вы вдобавок ненароком упомянете, что джин с виски любимейший напиток великоросса, а бульдоги днем и ночью охраняют «наш Кремль», вас сочтут ещё и обладателем непревзойденного английского юмора, возможно, даже (кто знает) пожалуют званием «пэра». Писатель Дж. К. Джером безусловно имел право заметить в рассказе «О суете и тщеславии»: «Очень легко водить за нос наших хваленых стойких Джонов Булей, которые постоянно твердят: «Я ненавижу лесть, сэр» или «меня лестью никто не проведёт» – и так далее и тому подобное. Льстите им без удержу, уверяя, что они совершенно лишены тщеславия, и вы сможете сделать с ними все что захотите».[335] Учитывая, что Пушкин назвал Англию «отечеством карикатуры и пародии», и что Англия знавала лучшие времена, в обращении с ее сынами (будь то лютый пьяница, убийца, насильник или даже Блэр с Куком) следует добавлять – «Сэр»…
Дерево свободы и дьявол, соблазняющий Джона Булля. Английская сатирическая гравюра.
Будем помнить и о той реальной силе, что правит Британией. Ее отношение к миру определено рядом позиций – воинственность, алчность и гегемонизм. Характеризуя их политику, один француз сказал в XVIII в.: «Англичане рассматривают свои притязания как права, права же своих соседей – как узурпацию».… Они норовят обчистить вас до нитки – да еще заставят заплатить пеню по суду, если вы, вдруг, осмелитесь возмущаться… Будем же держать «застегнутыми на все пуговицы» не только карманы, но и душу, веру русскую, язык и народные традиции. Особо важно «держать наш порох сухим», ибо у Альбиона – сердце ехидны, прожорливость удава и желудок кашалота.
Жестокость и еще раз жестокость скрывается за внешне безупречными речами и манерами английской правящей верхушки. Мудрено ли, что англичане стоят у истоков всех заговоров и войн, которые развязывались на земном шаре за последнюю тысячу лет. Эта земля вспоена млеком злодейства. Все тот же историк Н. Карамзин, сказавший немало добрых слов в адрес Альбиона, писал: «Английская история богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более, нежели во всех других землях, погибло людей от внутренних мятежей. Здесь католики умерщвляли реформаторов, реформаторы – католиков, роялисты – республиканцев, республиканцы – роялистов; здесь была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! Какое исступление умов! Книга выпадает из рук. Кто полюбит англичан, читая их историю? Какие парламенты! Римский сенат во время Калигулы был не хуже их».[336] Это остервенение и жестокость, увы, перешли в XXI век. Англичане могут безжалостно лишить отечества целую нацию, но при этом же в Британии поспешат обустроить поистине царский «Дом собаки», под наблюдением королевской четы, где предусмотрены комнаты для реабилитации бездомных псов. Собаки дороже людей. Или же спалят дотла бомбардировками Дрезден или Белград, но принц Кентский даст пару фунтов на детский ожоговый центр где-нибудь в далекой России. А в сумме делается вид, что вроде бы они соблюли баланс.
Англия пережила свой век… Черчилль как-то сказал: «британцы – единственный народ на свете, который любит, когда им говорят, что дела обстоят хуже некуда». Пора бы англичанам вспомнить это изречение последнего трубадура империи. Стойкую антипатию к ним испытывают немцы, французы, китайцы и др. То, что никто не любит англичан, вполне закономерно.… В книге немецкого историка, корифея антиковедения Э. Мейера «Англия. Ее государственное и политическое значение и война против Германии» (1915) Британия предстает перед взором читателя как «отсталая в культурном и государственном отношении нация, запоздавшая в своем развитии, далеко опереженная Германией и не имеющая никаких прав…» (М. И. Ростовцев).[337] Как бы мы не относились к британцам, нельзя опускаться до шаржированного представления.
Вклад шотландцев, ирландцев, англичан в становление институтов европейской и мировой культур велик. Английский прозаик Дж. Фаулз заметил, что «значительные перемены в европейской культуре, которые произошли под влиянием богатого воображения бриттов (в первоначальном кельтском смысле слова), никогда, как я полагаю, не были должным образом оценены и признаны».[338] Все лучшее, умное, благородное, трудолюбивое вы скорее найдете у ирландцев, шотландцев и жителей Уэльса, нежели в самом Лондоне. Вспомним о роли шотландских университетов, о том, что многие мыслители и писатели Англии имели своей родиной горы и равнины Шотландии и Ирландии. В. Скотт признавал: «Наши каналы, наши железные дороги, все наши общественные стройки созданы руками ирландцев».[339] Хотя нельзя не признать, что и там порой встречаются выродки подобные нынешним кровавым Макбетам.
Что же до совокупного вклада в копилку всемирного человеческого опыта, то, вопреки прозвучавшей острой, хотя и небезосновательной критике, он значителен: 1) ими впервые создана, опробована и запущена в ход вполне жизнеспособная и достаточно эффективная модель парламентско-филистерской республики; 2) Великобритания добилась того, что в этой стране созданы внешние условия для политического и религиозного плюрализма; 3) ею был создан и задействован колоссальный потенциал экономического, культурного, научно-технического, промышленного прогресса (титул «мастерская мира»); 4) Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс сумели вырастить целую плеяду выдающихся деятелей промышленности, науки, техники, литературы, культуры, искусств, политики; 5) была образована «Империя», представляющая собой не только инструмент колониального господства, закабаления и эксплуатации, но и, в известном смысле, обучения и воспитания народов; 6) возник и Сити – важный центр мирового экономического господства, через который пойдут самые мощные торгово-финансовые потоки; 7) англо-саксонский тип стал одним из самых энергичных, деятельных, умелых, знающих, но вместе с тем и беспощадно-алчных типов, использующих любую возможность для личного обогащения (Черчилль сказал: «Девиз британцев – бизнес несмотря ни на что!»); 8) Англию, эту Северную Иудею, лишь условно можно бы назвать «демократией», поскольку она правила народами, сохраняя у них иллюзию праведности при полнейшем банкротстве идей и подлости намерений (к примеру, англичанам понадобилось 300 лет для предоставления Шотландии прав на собственный парламент!); 9) искусство управлять, не вызывая потрясений, скорее миф, вспомнив пример многовекового конфликта в Ирландии; хотя нельзя отказать властной элите в умении управлять, ловко манипулировать общественным мнением внутри самой Англии (мудрый У. Гладстон часто любил повторять: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны»); 10) в то же время Англия – родина масонов, которые стали тут в действительности «приказчиками плутократии» (принцип нашел выражение и в известной поговорке: «Виноград не растет у нас, но мы пьем вино всех наций», хотя было бы куда правильнее и точнее сказать в отношении всей британской олигархии и правящей верхушки, что она пьет не столько вино, сколько кровь и соки всех наций мира); 11) стремясь к добрым отношениям с британцами, всегда следует держать ухо востро: быть твердыми, умными, настойчивыми, жесткими, преданными идее своего отечества, сообразительными, выдержанными, мудрыми, преследуя национальные интересы и выгоды России, а порой и цинично-ироничными, то есть иметь необходимый арсенал для обуздания «цивилизованных джентльменов», какими англичане и предстали перед миром, убивая беззащитных детей и жителей (в Югославии).
Эпос английской истории, как и эпос Гомера, говоря словами Карлейля, казалось бы, просто обрывается. Однако у него, несомненно, будет дальнейшее продолжение. Ведь даже принимая в расчёт несомненный «гений английской расы», она существует не сама по себе в цивилизации, но во многом обязана своим прогрессом и достижениями другим народам Европы и мира. Если бы не патологическое себялюбие англичан и американцев, которое заставляет их с абсолютным презрением взирать на весь остальной мир, у них можно было бы даже кое-чему поучиться. Увы, сей недостаток делает их крайне опасными и совершенно непредсказуемыми детьми человечества. Видимо, У. Теккерей был прав, сказав: «Из всех пороков, унижающих личность человека, себялюбие самый гнусный и презренный». Подобно тому, как на почве Греции и Рима выросло новейшее человечество, так и история нового времени была бы неполной без культурного вклада французов, немцев и т. д.
Глава 5 Франция – волшебное дитя поэзии и философии
О роли Франции в судьбах не только Европы, но и мира рассказывает история XVII–XIX веков. Этой теме уделяли внимание многие мыслители. Англичанин Юм писал: «Если вы хотите знать греков и римлян, изучайте англичан и французов…» Ф. Ницше признавался (в письме к А. Стриндбергу): «Нет никакой цивилизации, кроме французской…» Высокая значимость французской культуры несомненна и для русских. Н. Я. Данилевский отмечал, что сами понятия о западной, европейской цивилизации строятся по французскому образцу: «Но, скажут, Франция – еще не Европа. Нет, Франция – именно Европа, ее сокращенное, самое полное ее выражение. От самых времен Хлодовика история Франции есть почти и история Европы, с одним исключением, которое, впрочем, также совершенно удовлетворительно изъясняется и подтверждает собою общее правило. Все, в чем Франция не участвовала, составляет частное явление жизни отдельных европейских государств; все же истинно общеевропейское (хотя и не всемирно-человеческое, как его любят величать) есть непременно и по преимуществу явление французское. Можно знать превосходно историю Англии, Италии, Германии и все-таки не знать истории Европы; будучи же знаком с историею Франции, знаешь, в сущности, и всю историю Европы. Франция была всегда камертоном Европы, по тону которого всегда настраивались события жизни прочих европейских народов».[340]
Что позволило ей стать подобным «камертоном»? Этому, очевидно, способствовало наличие нескольких факторов. Франция стала духовным центром Европы во многом благодаря своей культуре. Она впитывала ее отовсюду, находясь в родстве с многими европейскими нациями. Можно сказать, что у французов, как и у итальянцев, испанцев, немцев и англичан «множество общих предков, и они принадлежат к одним и тем же родословным деревьям» (А. Фуллье). Индивидуальные устремления здесь сочетаются с интересами и судьбой всей нации, порывы страсти уравновешиваются разумом, рациональное начало удивительным образом уживается с идеальным. Французы умеют ненавидеть и любить. «Любовь – самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, сердцем и телом» (Вольтер). Соединение этих качеств и обеспечивает им успех и победу. Хотя история Франции знает не только великие и героические, но и немало позорных, печальных страниц. Как писал А. Фуллье в «Психологии французского народа» (1899), несмотря на сильное индивидуальное начало (а у всякого француза есть собственная роль в жизни нации), французы «всегда более или менее связаны с интересами и обязанностями Франции». А коли так, то ее философия, политика, культура в немалой степени служат «общему благу, общему идеалу».
Этот коллективный детерминизм превратил французский народ в народ-лидер, народ идей, за которым тянутся другие этносы. Вместе с тем французы не боятся выделиться. Напротив. Многие видят в этом едва ли ни главный смысл жизни. Афоризмы, максимы, сентенции, шутки, остроты перемежают речь французов, ибо, как говорил А. Франс, «нет магии сильней, чем магия слов». Такая манера общения и поведения дает возможность проявлять наблюдательность и ум. «В государстве, в котором ум – это инструмент, позволяющий сделать карьеру, благовоспитанный человек имеет право показать свою образованность и считает почти своим долгом не скрывать свой ум». В то же время эта живость чувств, мысли и языка дополняется здоровой долей рационализма и скептицизма. Как пишет упомянутый А. Фуллье: «Соединение впечатлительности и общительности с светлым и ясным умом, присущее, как нам кажется, французскому характеру, не может впрочем обойтись без частых противоречий. Этим объясняется, в наших нравах, в нашей истории и политике, беспрестанная смена свободы и порабощенности, революции и рутины, оптимистической веры и пессимистического упадка духа, восторженности и иронии, кротости и насилия, логики и нерационального увлечения, дикости и человечности. Очевидно, что равновесие страсти и разума в высшей степени труднодостижимо и неустойчиво; между тем к этому именно равновесию непрестанно стремится французский характер. Нашим главнейшим ресурсом является страстное увлечение рациональными и здравыми идеями. Мы сознаем необходимость этого и нашу способность к этому. Мы стремимся укрепить самих себя, привязавшись мыслью и сердцем к цели, указанной нам умом и поставленной на возможно большую высоту».[341] Именно эти свойства французской нации (а отнюдь не легкомысленность, суетность, женственность, шутливость, фанфаронство и т. д.) и сделали ее великой. Французы возвели ум и книгу в королевское звание задолго до низвержения монархии. «Если бы к моим ногам положили короны всех королевств мира взамен моих книг и моей любви к чтению, я отверг бы их все», – заметил вполне искренне французский писатель-моралист Ф.Фенелон (1651–1715).
Неизвестный мастер. Благовещение. Витраж из капеллы Жака Кёра. 1447–1450 г.г.
Галлы, как порой называют французов, издавна славились тягой к знаниям и просветительству. Во главе их стояли друиды, организованные в жреческую корпорацию. Это – духовная элита, избиравшаяся из числа умнейших особей и лично не участвовавшая в войнах. В ее функции входило: осуществлять священнослужение, культовую деятельность, овладевать врачебным искусством и быть гарантом законов. Особую роль играли воспитатели, посвящавшие юношей в таинства учения. Передача знаний осуществлялась в устной форме. Обучение продолжалось двадцать лет. По свидетельству Цезаря, в «учебную программу» входило занятие космологией, изучение движения звезд, объяснение причины переселения душ и т. д. Со временем кельтская культура была вытеснена зрелой римской.[342] Со времен позднего средневековья и Возрождения Франция стала активно перенимать вкусы и культуру Италии.
В истории Франции были периоды взлетов и падений… Многое, если не все, в те суровые времена зависело от того, в чьи руки попадала страна, кто стоял во главе державы. Если при Филиппе IV Красивом (1268–1314), «железном короле», который создал Генеральные штаты (1302) и поставил папство в зависимость от французских королей, Франция процветала, то позже настали тяжкие и безрадостные времена. М. Дрюон писал в прологе к роману «Яд и корона»: «Слово «прогресс» никогда не означало идеального совершенства. Выпадали годы, когда Франция не слишком процветала, бывали периоды кризиса и мятежей; нужды народа отнюдь не были удовлетворены. Железный король умел заставить себе повиноваться, но средства, которыми он этого достигал, не всякому приходились по вкусу, он же больше пекся о величии своего королевства, нежели о личном счастье подданных. Тем не менее, когда Филиппа не стало, Франция была самым первым, самым мощным, самым богатым государством Западного мира. Целых тридцать лет наследники Филиппа Красивого с усердием, достойным лучшего применения, разрушали дело его рук, тридцать лет чередовались на троне непомерно раздутое честолюбие и предельное ничтожество – в итоге страна оказалась открыта для чужеземных вторжений, общество захлестнула анархия, народ был доведен до последней степени нищеты и отчаяния».[343] Правитель, не думающий о достойном наследнике, зачастую обрекает страну на муки и страдания, быть может, и сам того не желая.
История Франции – это roman a cle! (франц. «роман с намеками»). В ней видим удивительные аналогии и параллели. В том и состоит величайший смысл изучения истории, что она позволяет увидеть в чужих судьбах свою собственную. Особенно отчетливо прослеживается характер успехов или неудач страны в зависимости от ума и способностей ее верховных правителей. Пример Франции мог бы стать наглядным учебником управления государством. Ведь и другие народы не раз задавали себе схожие вопросы: «Как же могло случиться, что через 40 лет после смерти «железного короля», вдруг, все разом расползлось?!» Народы России, по крайней мере, довольно часто задумываются над этим в последние полвека.
Филипп IV, прозванный «железным королем», многое сделал для процветания Франции. С помощью брачных уз он присоединил к Франции испанское королевство Наварру; сумел противостоять всемогущему папству и даже объявил папу еретиком-святотатцем; наконец, в 1302 г. собрал представителей горожан и дворянства (Генеральные штаты). Он же разгромил орден тамплиеров, прославившийся разбоями и пороками (известна пословица «пьян, как тамплиер»). Филипп издал законы против роскоши, осуществив конфискацию богатств евреев, разбогатевших на спекуляциях. Он и изгнал их из Франции в 1306 г. (то есть, точно так же, как англичане, немцы, испанцы, португальцы – с помощью массовой этнической чистки страны, а заодно и всей ее финансовой системы). Заносчивую церковь он приструнил, подчинив своему влиянию. Резиденция папы Римского перенесена в г. Авиньон на юге Франции (1307). Это способствовало росту политического и духовного авторитета власти.
Французские короли высоко ценили знания и ум. Они не боялись приближать к себе высокообразованных дворян и толковых людей из простонародья, полагая, что «на земле нет ничего, более достойного уважения, чем ум» (Гельвеций). В их числе были законники-легисты, окончившие ведущие университеты. Среди таковых выделялся доктор права и профессор законоведения Гийом Ногаре. С 1296 г. он восседал в Королевском совете и считался «вторым я» Филиппа IV. Его и послал король в Рим с наказом доставить папу на вселенский собор. Когда же Бонифаций разразился потоком оскорблений и брани в адрес французского монарха, Ногаре просто разрешил сей спор: рукой в железной перчатке он прервал поток брани – и папа, получив оплеуху от профессора-рыцаря, потерял сознание. Вскоре Бонифаций приказал долго жить. После смерти Филиппа IV французский трон занял его старший сын Людовик X (1314–1316). Он успел вернуть в страну изгнанных евреев, простудился и умер. Папой был избран сын сапожника – Иоанн XXII (1316–1334), великолепный оратор, обладавший глубокими познаниями в юриспруденции и теологии. Помимо всех прочих талантов он был еще и гением по части налогов. Им была разработана искусная система налогообложения («такса апостольской канцелярии»). Личность была, прямо скажем, неординарная. Он отвергал идею ада и рая, подвергал сомнению небесное блаженство, называл «ересью» идеализацию нищеты и бедности. Кардинальские и прочие высокооплачиваемые должности он щедро раздавал только собратьям-французам (хотя и за приличную мзду).[344]
Терпение бедняков. Миниатюра XV в. Париж. Национальная библиотека.
Коррупция подтачивала силы общества, разлагала изнутри. Напрасно все задавались тем же вопросом, что и Дрюон («Когда король губит Францию»): «Как же могло случиться, что сорок лет спустя эта самая Франция была разгромлена на полях сражений страной, население которой было в пять раз меньше; что знать ее разбилась на враждующие между собой партии; что горожане взбунтовались; что ее народ изнемогал под непосильным бременем налогов; что провинции отпадали одна за другой; что шайки наемников отдавали страну на поток и разграбление; что над властями открыто смеялись; что деньги обесценились; коммерция была парализована и повсюду царила нищета; никто не знал, что принесет ему завтрашний день. Почему же рухнула держава? Что так круто повернуло ее судьбу? Посредственность! Посредственность ее королей, их глупое тщеславие, их легкомыслие в делах государственных, их неумение окружить себя нужными людьми, их беспечность, их высокомерие, их неспособность вынашивать великие замыслы или хотя бы следовать тем, что были выношены до них. Не свершиться ничему великому в области политической, все скоротечно, если не будет людей, чей гений, свойства характера, воля смогут разжечь, сплотить и направить энергию народа. Все гибнет, когда во главе государства стоят, сменяя друг друга, скудоумные люди. На обломках величия распадается единство».[345] Нищета народа возросла. Терпение бедняков было не беспредельным. Раздоры же между партиями ослабляли страну.
Восстановление пошатнувшегося авторитета Франции началось с того момента, когда лидеры страны всерьез задумались над причинами страшных бед. Главная беда – неудачная Столетняя война между Англией и Францией (1337–1453). Англичане в ходе побед при Слейсе (1340), Креси (1346), Пуатье (1356), Азенкуре (1415) упрочили свое господство на значительной части территории Франции. Страна была полностью разорена. Возникла угроза полного подчинения Англии. Казалось, что уже не осталось душевных сил на сопротивление оккупантам. А тут еще собственные бароны-грабители помышляли только о преумножении богатств и новых вотчинах. Из бедного народа выжимали последние соки. Поэт средневековья Ален Шартье (1386–1449) горестно восклицал: «И имя француза, когда-то столь гордо звучавшее для нас и столь почитавшееся среди иностранцев, теперь в тягость нам и в насмешку употребляется другими народами». Его «Откровенный разговор двух друзей о горестных бедствиях Франции» и «Обвинительный диалог» доносят правду до соотечественников. Он бросил в лицо знати страшное и позорное обвинение: «Вы не можете называться французами». Рыцари, духовенство, купцы забыли о нуждах родине. А когда-то среди них было немало тех, кто увлекался античной ученостью. Франция считалась наследницей Римской империи. Теперь же всюду царили подлость, тупость, алчность, предательство, вероломство. «Наш нынешний век так запятнан позорной жизнью людей, что по сравнению с другими веками он может быть назван веком нечистот». Если в недавнем прошлом имя француза славилось во время мира и во время войны, люди были сильны телом и духом, изобретательны, в речах глубокомысленны, в делах величавы, ибо отличались любовью к доблести и добрым нравом, то теперь – увы! – все переменилось в делах и нравах, и ранее благосклонная судьба отвернулась от них. Франция стала все чаще порождать людей ничтожных, «слабых телом и духом, с рассудком помраченным, легковесных в речах, нерешительных в делах». Не мудрено, что они более не ценят «ни наук, ни образованных людей».[346]
Поэт обвинил в прямом предательстве интересов Франции «цвет нации». «Обвинительный диалог» – приговор элите страны, потерявшей право считаться таковой. «Рыцари» с врагом «сражаются на словах, а на деле обрушиваются на народ». Повсюду – безначалие, своеволие командиров. Расплодившиеся отряды напоминают собой банды, шайки разбойников. Духовенство корыстолюбиво. Народ предался тщеславию, забыв веру и заветы отцов. Люди погрязли в пороках, презрели справедливость. В трагедии Франции виновны все без исключения. Исчезло чувство патриотизма даже в народе. Ты же получил жизнь от родины, от родителей, говорит Шартье, а поэтому «обязан отдать им собственную жизнь, особенно если ты вместе с ними оказался в смертельной опасности». Любовь к родине и государству – главный закон. Девиз и кредо поэта: «Спаси Родину! Защити Францию!» Лишь те имеют право управлять своим государством, кто «ради его блага даже и смерть принимают на себя».[347]
Поль Деларош. Допрос Жанны д`Арк кардиналом Винчестерским. 1825 г.
Женщины играют заметную роль во французской истории. С ними связаны многие яркие ее страницы (Екатерина Медичи, маркиза де Помпадур, Шарлотта Корде, г-жа де Сталь). Истинная Франция начинается с Женщины, имя которой Жанна д`Арк (1412–1431). Простая крестьянская девушка – l`enfant de la nature – оказалась честнее и мужественнее большинства мужчин из высшего круга, предавших свой народ. Король Карл VI был жалок и бездарен. Казалось, страна неумолимо шла к гибели. Тогда-то и поднялась крестьянская Франция (в Бовези и Нормандии действовали партизаны). Имена бесстрашных вождей летучих отрядов Робина Кревена, Жанена Гале, Ле Руа у всех на устах. В обстановке яростной борьбы, противостояния патриотов и предателей, явилась благородная и отважная воительница – Жанна. В труднейший для отечества час Жанна д`Арк возглавила силы сопротивления интервентам. Слава ее родилась под стенами Орлеана. Там стала она знаменитой «орлеанской Девой». Предатели в окружении короля и военные трусы сдавали англичанам крепость за крепостью. Торговцы и аристократы с полнейшим равнодушием взирали на позор Франции. И тогда Жанна подхватила меч, выпавший из рук ничтожных генералов. Она подняла знамя освободительной народной войны! На белом полотнище, усеянном золотыми лилиями, она выткала облик Господа – и нарекла эмблему простым и понятным каждому словом «мир». Затем (став главнокомандующим) она пишет захватчикам письмо, ознаменовававшее начало освобождения родины от иноземцев и отечественных предателей. Это была перчатка вызова, брошенная в лицо оккупантам, а заодно и трусливой отечественной знати, которая вела себя как последняя тварь. В письме было сказано: «…Король Англии и вы, герцог Бедфордский, что называете себя регентом французского королевства, вы, Вильям де ла Пуль, герцог Сеффолкский… отдайте Деве, посланной царем небесным, ключи всех добрых городов, захваченных и разрушенных вами во Франции… Она готова заключить мир, если вы послушаете ее и заплатите за все, что захватили во Франции. Если вы, король Англии, не сделаете этого, то я, ставшая во главе войска, заставлю волею или неволею удалиться ваших людей из Франции, где бы я их ни встретила; и если они не захотят слушаться, то я повелю всех их умертвить…» Жанна устыдила трусов. «Трус опаснее всякого другого человека, его надо бояться более всего» (Л. Берне). Трусы лишают нацию энергии, иссушают ее волю, убивают надежду на будущее. Историк Т. Грановский писал о состоянии народного духа в тогдашней Франции: «Вообще общего энергического движения не заметно было ни в каком сословии. Духовенство явно становилось на сторону Англии. Весьма немногие из архиепископов французских держались стороны Карла VII. И среди такого порядка вещей вдруг выступает девушка из крестьянского сословия – и выступает с мыслью освободить Францию».[348] Нечего увещевать предателей, цинично пренебрегающих интересами страны и народа, исходя из их «theorie des lois criminelles» (франц. «теории преступников»). Города, где засели феодалы-сепаратисты, готовые ради денег призвать хоть черта в союзники, взяли штурмом, феодалов уничтожили. Реймский поход завершился триумфом. Англичан разбили и выбросили из страны. Карл VII получил корону, а Франция стала свободной. Церковники и недруги сожгли Святую деву, но она навеки вошла в сердце французов. Вспомним строки Цветаевой:
И я вошла, и я сказала: – Здравствуй! Пора, король, во Францию, домой! И я опять веду тебя на царство, И ты опять обманешь Карл Седьмой!..Явлению Девы (так ее звали в народе) сопутствовало и изменение в обществе отношения к женщине. Менялось и представление о ней. Она уже не «сосуд греха и соблазна», как говорилось в средние века, но разумное и нравственное существо. Ей, как и мужчине, могут быть присущи таланты, ум, смелость. Такова Кристина Пизанская – первая французская поэтесса, защищавшая женские достоинства. В 1440 г. появилась поэма-диалог М. Лефрана «Защитник женщин», где место и роль женщины в обществе рассматривается с гуманных и демократических позиций. Появление Девы, которая ничем не уступала мужчинам, но даже в чем-то их превосходила, было событием немаловажным и экстраординарным. Словесный портрет Жанны д`Арк таков: «Дева сия сложением изящна; держится она по-мужски, говорит немного, в речах выказывает необыкновенную рассудительность; у нее приятный женский голос. Ест она мало, пьет еще меньше. Ей нравятся боевые кони и красивое оружие. Она любит общество благородных воинов и ненавидит многолюдные сборища. Обильно проливает слезы, хотя лицо у нее обычно веселое. С неслыханной легкостью выносит она и тяготы ратного труда, и бремя лат, так что может по шесть дней и ночей подряд оставаться в полном вооружении». Перед нами первая женщина, ставшая профессиональным военным. Жанна сделала для эмансипации женщин больше, чем все последующие представительницы слабого пола. Отметим и другое. В самое критическое для Франции время мужчины оказались бессильны и неспособны добиться освобождения страны. Им не хватало воли, веры и решительности. Эту миссию взяла на себя женщина… Хотя истории известны образы ветхозаветных героинь (Эсфирь, Юдифь и другие), но они спасали страны от поработителей, прибегнув к известным женским чарам. Тут же было совсем иное. Мужчины-рыцари повели себя, как скот раболепный. Они не смогли свергнуть тиранов. Какой укор воякам, имеющим оружие, но трусливо уходящим от гражданской и мужской ответственности. И тогда меч справедливости взяла в руки женщина! В народе жила молва: «Разве не предсказано, что Франция будет погублена женщиной, а затем возрождена девой?» Роль сыграла и христианская антитеза («Ева погубила, Мария спасла»). Жанну д`Арк сожгли в Руане в 1431 году. Это одна из самых постыдных страниц французской истории. Король не пошевелил и пальцем для спасения той, кто возвел его на трон. Филипп Добрый (она попала в плен к бургундцам) за большие деньги продал спасительницу Франции англичанам. Во время суда над Жанной мерзкую, позорнейшую роль выполнили профессора и магистры Парижского университета, юридически «обосновавшие» ее вину перед англичанами, захватившими Париж. К XVI в. Жанна стала любимейшим персонажем популярных историй «для массового читателя».[349] Позже и Ромен Роллан запишет в воспоминаниях: «Франция должна наконец создать свою героическую драму о Жанне д`Арк». Жители Руана, пытаясь хоть как-то искупить вину предков за содеянное преступление (смерть Жанны), воздвигли в городе «крест покаяния».
Впрочем, в последние годы возник острый спор. Известный историк Р. Амбелен подверг сомнению сам факт сожжения Жанны. Что выдвигается им в качестве аргументов? Прежде всего, ничего не известно о точной дате сожжения. Наукой взята дата (май 1431 г.) только для того, чтобы иметь хоть какой-то ориентир, подтверждающий общепринятую версию. В мемуарах монсиньора Кошона, непосредственно участвовавшего в позорном судилище, указывалось, что Девственницу приговорили к тюремному заключению. Другой источник, У. Кэкстон в его «Летописи Англии», утверждал, что, путешествуя по Бургундии, узнал, что Жанна, якобы, провела после имевшей место казни… 9 месяцев в тюрьме. Все протоколы казни были почему-то сразу же уничтожены. Атмосфера «сожжения» также наводит на размышления. Как известно, Жанне дали исповедаться, хотя сжигаемых еретиков такой процедуры не удостаивали. Лицо женщины, возведенной на костер, было полностью закрыто капюшоном, а свыше тысячи английских гвардейцев оттеснили толпу на такое расстояние, что ничего толком и разглядеть было нельзя. Р. Амбелен считает почти доказанным, что сожжение было простой инсценировкой. Жанну д`Арк, якобы, оставили в живых, подвергнув ее тюремному заключению. Косвенным подтверждением этого явились и слухи, появлявшиеся о ней вплоть до 1440 года. Причина помилования, опять же по версии историка, состояла в том, что Девственница была, вроде бы, и не пастушкой, а родственницей династии Валуа.[350]
Порой и до этих господ доходит глас истины и совести. К примеру, Гизо говорил в своей «Истории цивилизации в Европе»: «До восшествия на престол династии Валуа во Франции господствует феодальный характер; нет еще ни французской нации, ни французского духа, ни французского патриотизма. С династией Валуа начинается Франция в собственном смысле слова. Война с Англией и все превратности её в первый раз соединили дворянство, буржуазию и крестьян одною нравственною связью – связью общего имени, общей чести, общего желания победить чужеземных врагов. Напрасно, впрочем, было бы искать в эту эпоху истинно политического духа, великого, сознательного единства в правительстве и в учреждениях, как мы теперь понимаем их. Для Франции того времени единство заключалось в ее национальной чести, в существовании национальной королевской власти, какова бы она не была, лишь бы только в ней не участвовали иноземцы. В этом именно смысле борьба с Англией могущественно содействовала образованию французской нации и стремления к единству».[351] Так рождалось величие Франции. Здесь важна и ценна та мысль, что возрождение Франции началось с пробуждения чувства патриотизма в сердцах лучших сынов и дочерей.
Эта мысль важна и для нас, русских, ибо и Россия стала нынче ожесточенным полем боя (на одной стороне – патриоты, на другой – враги отечества). Актуально звучат и слова Гизо о «национальной власти». Ведь и мы сегодня решительно ставим вопрос о пришествии в России подлинно русской национальной власти! Мы говорим: нужно стремиться к тому, чтобы в ней, говоря словами Ф. Гизо, «не участвовали иноземцы»! С чем нельзя согласиться, так это с преувеличенным восхвалением заслуг «династии Валуа» (или иной царской династии). Народу нечего ждать отсюда (как и спасения России от новых «королей и царей»). Не король, не высший свет (рыцарство и богачи), губившие страну амбициями, подлостью и алчностью, спасли отечество, а «простая дева», «служанка»… Смысл нашего вердикта очевиден. Народу нельзя утолять жажду из этого безвольного и отравленного источника: «Короли и правители губят державу, спасают ее «простецы», иначе говоря, простой народ». Ряд стран имели «железных королей» (вождей-объединителей) и правителей-предателей. Разве Франция эпохи Генриха IV (1553–1610), партийно-религиозных войн (католиков и гугенотов), не напомнила вам иные страны, в которых также имели место «Варфоломеевские ночи»?! Разве иные «короли» не подпадали, подобно Генриху III, под влияние «Католической лиги», лиги демагогов, а скандалы и клевета во дворцах знати чем-то отличались от скандалов и склок в наших «благородных семействах»?! Разве в России на вершинах власти мало было тех, кого французы справедливо называют un homme tare («человек с подмоченной репутацией»)?!
Жан де Брюж. Карл V получает Библию из рук Жана де Водетара. Библия Жана де Водетара. Париж. 1372.
В то же время, думаю, и в России сердце труженика смог бы расположить к себе лидер, который, подобно Генриху IV, не только бы заявил (болтунов у нас хватает), но и сделал: «Я хочу, чтобы крестьянин (работник) хотя бы раз в неделю имел курицу к обеду». Французский король выступал в роли «природного социалиста», противника того, чтобы у одних было все, а у других ничего. Говорят, что однажды, проезжая через деревню, он приказал повесить человека-свинью, который ел за шестерых, но не работал. Король философски заметил: «Кто не работает, тот не ест!» В 20-е и 30-е годы XX в. схожий лозунг запустят в обращение японцы: «Курицу в каждую кастрюлю!». Вот вам и вся экономическая реформа in puncto puncti (лат. «в самом существенном»). Народ проникался доверием к такому вождю. Крестьяне говорили: «Сир, если Вам будет трудно, призовите нас!» Известна роль Генриха IV и как видного просветителя (не зря же он обучался в Collegium Navarra, самой аристократической школе Парижа). А знаменитая его фраза «Париж стоит мессы», когда он отрекся от кальвинизма и принял католичество, дабы взойти на престол. Разве она не стала девизом многих современных политиков?! Уйма политиков и в России отреклись от былых убеждений, дабы взойти «на престол» и заполучить собственность. Автор романа «Молодые годы короля Генриха IV» Г. Манн прав, говоря современникам: «Мы всегда соотносим любой исторический персонаж с собственной эпохой. В противном случае он оставался бы красивым образом, привлекающим наше внимание, но чуждым нам. Нет, исторический персонаж становится в наших руках, хотим ли мы этого или нет, наглядным примером испытанного нами самими, он не только что-то означает, но и является тем, что породила наша эпоха – или, к сожалению, не могла породить. Мы с болью указываем нашим современникам: оглянитесь на этот пример».[352] Впрочем, история любой страны полна достойных и великих примеров.
В годы испытаний знаменитый «острый галльский смысл» не был утерян. Правда, начитанность и интеллектуальные увлечения в придворно-рыцарской среде не считались главными достоинствами, но постепенно нобилитет Франции стал покровительство наукам и искусствам. Страстным библиофилом и меценатом прослыл в истории король Карл V Валуа (1338–1380). Он также был архитектором «крепостной» Франции: строил замки-крепости Венсена и Бастилии, перестраивал Лувр, принимая личное участие в руководстве работами. В одной из башен Лувра была размещена по тем временам огромная библиотека (900 томов). Тут находились книги по римскому праву, астрологии и астрономии, медицине и хирургии, философии и истории и т. д. (труды Платона, Аристотеля, Сенеки, Овидия, Лукиана, Тита Ливия, описания путешествий Марко Поло, сочинения отцов церкви, истории стран, энциклопедические компиляции, рыцарские романы, словари, грамматики, часословы). В дальнейшем она стала основой Национальной библиотеки Парижа. Появился ряд громких имен в литературе – Гийом Мишо (1300–1377), Эсташ Дешан (1346–1406), Фруассар (1383–1419), Кристина Пизанская (1364–1429). Все они работали в разных жанрах, но считали свой труд сродни научному.[353] Поистине в какой-то мере l'histoire est faite par des livres! (франц. «История сделана книгами»). Представим себе воочию атмосферу книжного пира в уединенной зале, прочтя стихи французского поэта Мориса Роллина «Библиотека» (перевод И. Анненского):
Я приходил туда, как в заповедный лес: Тринадцать старых ламп, железных и овальных, Там проливали блеск мерцаний погребальных На вековую пыль забвенья и чудес, Тревоги тайные мой бедный ум гвоздили, Казалось, целый мир заснул иль опустел; Там стали креслами тринадцать мертвых тел, Тринадцать желтых лиц со стен за мной следили. Оттуда, помню, раз в оконный переплет Я видел лешего причудливый полет, Он извивался весь в усильях бесполезных: И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен, И пробили часы тринадцать раз железных Средь запустенья проклятых этих стен.[354]Конечно, сегодня, когда вы проезжаете где-нибудь в районе Луары, Вандеи или Лангедока, взор невольно задерживается и на старых замках, что, подобно верному рыцарю, возносятся над местностью, унося вас в далекую эпоху (замки Юссе, Шенонсо, де Люд, Валансе, Борегар, Фонтенбло, Шантильи, Шамбор и т. д.). В частности, Фонтенбло с его знаменитыми колекциями антиков и шедеврами Рафаэля, Леонардо, других прославленных итальянцев сделался для французских художников своего рода академией искусств, «вторым Римом».
И все это несмотря на то, что XV в. во Франции считается временем идейного вакуума. Многие старые этико-политические и сословно-представительные концепции явно обесценились. Задачи становления нового централизованного государства требовали, с одной стороны, осуждения мятежных феодалов, а с другой, ограничения деятельности короля Генеральными штатами. Филипп де Коммин в «Мемуарах» (конец XV в.) писал, что хотя Франция и Бургундия уже тогда именовались «землей обетованной», расточительная жизнь знати ощутимо подрывала силы народа. «И мужчины и женщины тратили значительные суммы на одежду и предметы роскоши; обеды и пиры задавались самые большие и расточительные, какие я только видел; бани и другие распутные заведения с женщинами (я имею в виду женщин легкого поведения) устраивались с бесстыдным размахом… А сейчас не знаю, есть ли в мире более обездоленная страна, и полагаю, что несчастье на них пало за грехи, совершенные в пору благоденствия».[355] Как говорили древние, нет преступления без расплаты.
«Народ, зараженный суеверием, становится добычею шарлатанов всякого рода», – писал П. Буаст. Но в жизни трудно порой отделить ложь от истины. Это продемонстрировал и Мишель де Нотрдам (1503–1566), чья жизнь была подобна вспышке молнии, выхватывающей из мрака ночи смутные очертания окрест лежащих далей. Рожденный в семье торговца, Нострадамус с детства отличался умственными способностями. Свой вклад в его воспитание внесла семья. В школе и дома он овладел основами математики и латыни, греческого и древнееврейского. В школе все называли его «наш маленький астролог», не предполагая, конечно же, о том, что ожидает их однокашника. Юноша прошел курс наук в Авиньоне. Далее путь лежал в известную в Европе медицинскую школу (в Монпелье). Став после строгого rigorosum (лат. «испытание на докторскую степень») бакалавром, а затем и доктором, он получил и все традиционные регалии (докторскую шапочку, золотое кольцо и том Гиппократа). Теперь он имел полнейшее право приступить к медицинской практике. Ему удалось проявить себя на этом поприще: он избавил от чумы город Экс в Провансе. Врученные ему горожанами щедрые дары он передал в пользу сирот и больных. Примерно в это же время Нострадамус сочинил косметический трактат «Истинное и безупречное украшательство лица». Однако наибольшую известность ему принесли занятия оккультизмом. «Одинаковое внимание к реальным знаниям и к мистическим наукам, – пишет исследователь, – было вообще характерно для большого числа ученых Возрождения, особенно в его последней, самой блестящей и в то же время самой трагической стадии, в XVI веке. В это время надежды на близкое торжество разума постепенно развеиваются, а так как надеяться на что-то всегда надо, непомерно возрастает авторитет всего сверхъестественного».[356] Мы видим, что это так. К примеру, неуверенность масс в будущем всегда вызывает невиданный рост оккультизма.
Особый интерес в личности Нострадамуса, пожалуй, вызывает присущий ему дар так называемого «вещего духа». Человечество тысячелетиями движется в потемках. Опыт и знания в какой-то мере помогают находить верный путь. Однако мы все равно вынуждены брести вслепую, почти на ощупь, ощущая присутствие трагического Memento mori («Помни о смерти»). Легко представить, сколь велик соблазн хотя бы краешком глаза заглянуть-таки за завесу будущего. Эту задачу и пытался разрешить французский мистик и прорицатель. Вот уже несколько столетий «Пророчества мэтра Мишеля Нострадамуса» привлекают пристальное внимание специалистов, а еще более – обычных смертных. Все выискивают в его книге ответы на то, что ожидает человечество. Одни муссируют смутные намеки на «неплодную Синагогу», нашедшую приют в краю чуждой веры, другие готовы узреть в центуриях предсказание возвращения на русскую землю двуглавого орла и монархии, третьи трепещут в мистическом ужасе, узрев в пророчествах, якобы, скорое пришествие Великого Царя Террора, возрожденного Чингисхана (1999 год). В этом году на земле должен явиться дьявол в новом обличье. Наступит царство Третьего Антихриста, за которым грядет царство Сатурна или «новый золотой век». Фантазии, мистерии, смутные пророчества, как было сказано, особенно характерны для эпох неуверенных и болезненных! Если бы люди были бы чуть умнее и просвещеннее, они бы поняли: Антихрист никогда и не покидал нашу Землю![357]
Созвездие умов, талантов Франции огромно: Ронсар, Монтень, Декарт, Монтескье, Гельвеций, Гольбах, Бюффон, Вольтер, Руссо, Дидро, Робеспьер, Бальзак, Гюго, Стендаль, Шатобриан, Сталь. Сотни, а может быть и тысячи имен, любое из которых украсит науку, культуру, мысль любого народа. Присовокупим сюда имена Ришелье, Людовика XIV и многих других. Бомарше писал: «Людовик XIV оказывал искусствам широкое покровительство; не обладай он столь просвещенным вкусом, наша сцена не увидела бы ни одного из шедевров Мольера». Франция поэзии, мысли, живописи – это, конечно же, волшебник Монтень, с душой «ясной, безыскусственной, простонародной, какого-то особенно добротного закала» (Сент-Бев), Паскаль, Декарт, Гассенди, Бейль и Ламетри, неподражаемый Рабле, плеяда энциклопедистов: саркастичный Вольтер, «дивно-гениальный» Руссо (так называл его Чернышевский), энергичный Дидро, певец мудрости и разума – Гельвеций. Наконец, это великие лозунги Французской революции «Свобода, равенство, братство», лозунги, исключительным образом повлиявшие на развитие человечества. Сюда отнесем неповторимый французский юмор, изящество, темперамент, вкус и неповторимый шарм, присущий французской речи. Здесь в равной степени музы участвуют в воспитании души и тела. В кругу французов царит не осанна, не славословие вождей, а гомеровский неуничтожаемый смех богов (М. Бахтин). Французский смех сочетает в себе все виды ума… Он породил Рабле, Мольера, Вольтера, Бомарше. В итоге, он приведет к разрушению множества «бастилий». Там, где смех, переходящий в сарказм, разит ничтожных, уродливых правителей и их угодников, там заметнее общественный прогресс, эффективнее законы, гуманнее социальные институты, наконец, там лучше живется народу, свободнее и комфортнее чувствует себя личность. В хорошем сарказме больше «динамита», чем в сотне самых архиреволюционных, радикальных декретов. Ларошфуко писал: насмешливость – это «одно из самых привлекательных, равно как и самых опасных свойств ума». В самом деле, Франция начинала со смеха, а закончила революцией. «Смех – это сила, которой вынуждены покоряться великие мира сего» (Э. Золя). Французы недаром говорят: «Le ridicale tue» (франц. «Смешное убивает»). Хотя вспомним, что еще и римляне утверждали: «castigat ridendo mores» (лат. «смех исправляет нравы»).
Где лежат истоки французского Просвещения? Возможны различные толкования. Многое зависит от позиции исследователя. Одни называют Рабле, другие – Мольера, третьи – французских поэтов. Писатель волен начать с того, кто ему приглянулся. Историк обязан найти фигуру, которая бы отвечала роли культурного пионера и лидера. Одной из таких фигур, бесспорно, является писатель-гуманист Франсуа Рабле (1494–1553). Этот гигант чем-то даже похож на своего героя-богатыря Пантагрюэля. Одной ногой он еще стоит в ушедшей эпохе Возрождения, а другой уже готов шагнуть в эпоху Просвещения. Рабле прошел типичный путь молодого человека из мелкобуржуазной среды. Отец-аптекарь отдал его в монахи. В стенах монастыря можно было тогда получить необходимые знания, сделать приличную карьеру. Попав в монастырь Бомет, он знакомится тут с братьями Дю Белле и с Жофруа д'Этиссаком (в будущем тот станет епископом). Юноша усиленно овладевает латынью и греческим. Вскоре таланты юноши привлекли внимание. Отмечалось, что он сведущ «во всех науках». С ним переписывается знаменитый эллинист Гильом Бюде, основатель библиотеки в замке Фонтенбло и College de France. Рабле штудирует классиков, изучает естественные науки, еврейский язык, знакомится с итальянским, испанским, английским. Такая это была эпоха. Чтобы войти в культурную среду, тогда надо было свободно владеть многими языками. О степени его знания языков говорит занятная история. Однажды, когда он уже учился в университете в Монпелье, его попросили оказать важную услугу учебному заведению. Для этого нужно было встретиться с канцлером Дюпре, но тот никак не хотел принять провинциала. И вот Рабле нарядился в какую-то жуткую шкуру и стал дефилировать под окнами канцлера, возбуждая зевак. Заинтригованный канцлер не выдержал и послал слугу спросить, кто это и чего он хочет. Рабле стал говорить с ним по-латыни. Прислали клерка – он заговорил с ним по-гречески, и так далее – по-еврейски, по-английски, по-итальянски, по-испански. Канцлер вынужден был его принять. Будучи очарован его знаниями, он удовлетворил просьбу университета. Слава о его блестящем уме достигла и Маргариты Валуа, королевы Наваррской, сестры короля Франциска I. Эта блестящая умнейшая женщина знала массу языков, обожала Библию и Софокла. В Беарне и в Париже вокруг нее сложился круг самых одаренных умов того времени. Тут бывал мистик Бриссоне, поэт Маро, суровый и жестокий Кальвин, атеист Де Перье, мрачный Лойола и жизнерадостный весельчак Рабле. Главный лозунг этого, казалось бы, странного созвездия личностей – во всем обязательная и непременная терпимость. В 1532–1533 годах появляется его труд «Достославная жизнь великого Гаргантюа. Пантагрюль, король дипсодов». В XVI веке вышло до 60 изданий его романа. Им затем будут увлекаться Лафонтен и Мольер. О педагогическом значении произведения Рабле писала А. Анненская: «Одно, что представляется Рабле безусловно необходимым, – это свободное, всестороннее развитие личности… И там, где Рабле говорит о воспитании личности, он является передовым мыслителем, педагогм, значительно обогнавшим свой век. Основные положения его воспитательной системы повторены и разработаны гораздо позднее Локком в его «Thoughts concerning education» и в «Эмиле» Руссо. В противовес схоластической методе, заботившейся исключительно о формальном умственном развитии ученика посредством книжного обучения, Рабле подобно своим знаменитым последователям, отводит широкое место физическому развитию, прогулкам, играм на открытом воздухе и гимнастическим упражнениям. Он не отрицает, подобно Руссо, пользы науки, не говорит, как Локк, что научное образование необходимо исключительно ради развития характера; но ставит нравственнное усовершенствование выше умственного, находит, что, увеличивая сумму знаний и самостоятельность мыслительной способности, следует всегда иметь в виду влияние их на характер человека. Рабле был одним из первых проповедников наглядности в преподавании, необходимости облегчать ученику усвоение знаний, возбуждать в нем интерес к явлениям жизни и природы. Его Гаргантюа за два века до Эмиля посещает мастерские ремесленников и представления фокусников, чтобы ознакомиться со способами различных производств, и занимается физическим трудом».[358]
Современники были в восторге от его героев – Пантагрюэля и Панурга, посетивших ряд земель, включая остров Светочей, где встретили светочей Аристофана и Эпиктета, а также оракула Божественной бутылки.
Можно сказать, что Рабле прямо и недвусмысленно включает в образовательный цикл то, что мы бы сегодня назвали профессионально-техническим образованием. Вместе со своим учителем Гаргантюа отправляется на заводы: смотреть, как плавятся металлы, как отливают артиллерийские орудия. Они посещают алхимиков, монетчиков, ювелиров, гранильщиков, ткачей, часовщиков, зеркальщиков, печатников, органщиков, красильщиков и многих других мастеров, «всем давая на выпивку». Те, в свою очередь, предоставили им возможность «изучить ремесла и ознакомиться со всякого рода изобретениями». Активно посещались ими и публичные лекции, всякого рода состязания в искусстве риторики, а также выступления знаменитых адвокатов и проповедников. В свободное от умственных занятий время они ходили в залы фехтовать, а также получали первые уроки природоведения. Рабле пишет об этом так: «Со всем тем Понократ, чтобы дать Гаргантюа отдохнуть от сильного умственного напряжения, раз в месяц выбирал ясный и погожий день, и они с утра отправлялись за город: в Шантильи, в Булонь, в Монруж, в Пон-Шаратон, в Ванв или же в Сен-Клу. Там они проводили целый день, веселясь напропалую: шутили, дурачились, в питье друг от дружки не отставали, играли, пели, танцевали, валялись на зеленой травке, разоряли птичьи гнезда, ловили лягушек, раков, перепелов. И хотя этот день пролходил без чтения книг, но и он проходил не без пользы, ибо на зеленом лугу они читали на память какие-нибудь занятные стихи из Георгик Вергилия, из Гесиода, из Рустика Полициано, писали на латинском языке шутливые эпиграммы, а затем переводили их на французский язык в форме рондо или же баллады».
Но даже во время забав и пирушек, они старались, как говорится, и к ним «приложить голову». С этой целью они «изобретали маленькие автоматические приспособления», что двигались сами собой. Неудивительно, что Гаргантюа, когда он вырос и получил власть, строит Телемскую обитель, которая по форме напоминает монастырь с вольными нравами, а по сути, является Дворцом наук и искусств, где превосходные и обширные книгохранилища с книгами на греческом, латыни, еврейском, французском, испанском и тосканском языках. Его прекраснейшие и просторные галереи расписаны фресками, а на главных вратах Телемской обители начертано обращение, которое, на наш взгляд, очень подходит к некоторым сегодняшним властителям из числа «мздоимцев хватких»:
Идите мимо, скряга-ростовщик,
Пред кем должник трепещет разоренный,
Скупец иссохший, кто стяжать привык,
Кто весь приник к страницам счетных книг,
В кого проник бесовский дух мамоны,
Кто иступленно копит миллионы.
Пусть в раскаленный ад вас ввергнет черт!
Здесь места нет для скотских ваших морд.[359]
В те давние времена культура нации зачинались в лоне языка… Такую же картину впоследствии мы с вами увидим и в России. Эту же мысль, только несколько иначе (на личностном уровне), выразил Л. Витгенштейн: «Границы моего языка суть границы моего мира». Признанными властителями умов общества, учителями и кумирами Франции становятся поэты. В этом нет ничего странного, ибо великие поэты, как и великие мыслители, во все века служили поводырями народов. «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей» (А. Пушкин. «Пророк»). Поэтому столь заметна роль Франсуа Вийона (1431-…), поэтов «Плеяды» – Пьера де Ронсара (1524–1584) и Жоашена Дю Белле (1522–1560). Их усилиями создан восхитительный французский язык, знаменитый «бель летр» (красивое слово), нашедший яркое выражение в ронсаровских «Одах» (1550–1552) и «Гимнах» (1555–1556), в «Сонетах к Елене» (1578), а также в цикле сонетов Дю Белле «Сожаление». Эти работы считаются вершинами Позднего Возрождения. Как заметил А.Фуллье в «Психологии французского народа»: «Поэзия часто открывает нам душу народа, по крайней мере, его глубочайшие устремления. Однако она не всегда дает возможность угадать его характер, его поведение и его судьбу».[360]
Гюстав Доре. Учеба Гаргантюа.
Вероятно, было бы логичным и справедливым открыть дверь в мир поэтической Франции образом Франсуа Вийона. Во-первых, он тот, с кого, собственно, и повела отсчет народная лирика, а, во-вторых, в те времена слова Франсуа и француз писались и произносились практически одинаково. На границах Парижа, близ Понтуаза, явился на свет мальчик, чья судьба была горько-веселой. Этого мальчика звали Франсуа де Мон-корбье. В тот год казнили и Жанну д'Арк. Мы ничего не знаем о его родителях, как и о первых годах жизни. Сам поэт скажет о себе так: «Я бедняком был от рожденья и вскормлен бедною семьей».
Бани. Если верить Вийону и многочисленным хроникерам, в середине XV в. Париж изобиловал злачными местами. Миниатюра XV в. Лейпциг. Национальная библиотека.
Его воспитал священник церкви магистр Гийом де Вийон. Мальчик сначала был слугой, певчим в хоре, секретарем, а затем был направлен учиться в университет. Париж тогда только-только стал приходить в себя от бесчисленных войн и междоусобиц, восстаний и распрей. Над городом проносилась черными тучами эпидемии оспы, холеры, чумы. В 1438 г. от оспы умерло примерно 50 тысяч жителей столицы. Чума, поразившая город в 1445 г., унесла еще большежизней. Пускай это звучит жутко, но все эти беды обновляли парижскую кровь за счет провинциалов. Франсуа окончил Парижский университет, Факультет словесных наук. В 1452 г. он получил степень магистра свободных искусств. Жизнь в городе ста колоколен была трудной, как и положение церкви, которая, как пишет Ж. Фавье, «на протяжении какого-нибудь полувека раз десять подвергалась перетряске». К примеру, доход от церкви в одном лье от Парижа, который получал настоятель Гийом де Вийон, составлял… один мешок зерна. Как бы там ни было, а роль его в судьбе будущего поэта весома и значима (Вийон скажет о нем, что он был «родимой матери добрее»). Париж, как и любой город, состоял в основном из людей малого достатка, хотя там были ростовщики, богачи, спекулянты, обирающие народ. О них поэт скажет: «Но пусть их лупят каждый день, чтоб тверже помнили уроки». И когда ростовщика Жана Марсо король посадил в тюрьму, получил с него выкуп, а затем вновь его упрятал в Бастилию, все бедняки и даже среднее сословие радовались. Издевательство над богачами, проявлявшими ловкость и сноровку лишь в ухватывании жирных кусков, стало излюбленным занятием французов. Вот и Вийон пишет «посвящение» хозяину бань Жаму:
А скареднику Жаку Жаму, Кто даже спать привык с мошной, В невесты дам любую даму! Но все равно ему женой Она не станет; так на кой Же черт он копит деньги с детства? Умрет, как жил, свинья свиньей, И к свиньям перейдет наследство.Дальнейшая жизнь поэта проходила вне круга наук и церковных служб. Все дальнейшие свои литургии он служил в тавернах (а их в Париже было 400) и на поэтических подмостках. Он, правда, говорил, что «от кабака близка тюрьма», но так как тогда можно было пить в кредит, удержаться от соблазна трудно, да и парижские вина в то время, как писал гуманист Гийом Бюде, не имели себе равных. Тем не менее поэт не заблуждался относительно влияния этого вредного порока:
Пьянчужки, знайте: кто пропьет При жизни все свои пожитки, В аду и рюмки не хлебнет Там слишком дороги напитки.[361]Вскоре он прекрасно узнал мир «пропащих ребят» (разбойников, фальшивомонетчиков и воров). Вийон и сам в драке как-то невольно отправил на тот свет задиру-студента. В его стихах, словно на ярмарке, широко представлены все типы и образы. Пришлось ему узнать буйные компании и продажную любовь: «Любовь рассеялась как дым, и та, что быть с одним робела, теперь ложится спать с любым». Как всегда в этом случае, осуждению подлежали дамы:
Но что влечет их в этот срам? Скажу без тени порицанья: Всему виной натура дам, Привычка расточать лобзанья.Конечно, в перерывах между приключениями он наверняка уделял время и книгам. Число их было невелико (не сравнить с библиотекой секретаря парламента, у которого их было целых двести штук). Эти книги пополняли его круг несистематических познаний. Да и что мог позволить себе неимущий клирик?! Известно, что он почитывал Экклезиаста, знал кое-что из истории, но вряд ли поднимался до всякого рода научных трудов типа трактата Боэция, «Утешения» святого Бернара или «Сокрушения сердца» Иоанна Златоуста. Следов серьезного изучения Сенеки, Цицерона, Ювенала, Овидия, Лукреция, Вергилия, Августина Блаженного, не говоря уже об Аристотеле и Платоне, Геродоте и Гомере, в его стихах не найдешь. Правда, он кое-где цитировал Катона и Вергилия, но это были лишь цитаты, которые указывали на его знакомство со школьными учебниками и компилятивными сочинениями, и не более. Хотя попытки проникнуть в толщу наук им предпринимались, о чем говорит фраза: «О том, коль память мне не врет, у Аристотеля прочел я». Но, погрузившись в схоластическую мысль, он почувствовал себя явно не в своей тарелке. Можно сказать, что ему мысли сковало, как будто «от излишнего питья». Одним словом, было ясно и понятно, что жизнь наполняла его «ларь интеллектуальный» более богатым опытом и примером. Из исторических событий он вспомнил лишь одно имя – Жанну д'Арк, ее путь и костер в Руане.
И. Кусков. Франсуа Винъон в тюрьме.
Его влекли другие жанны, которых у него было пруд-пруди. В каждом квартале при тавернах или отдельно располагались бордели, иногда заполнявшие собой целые улицы. Особенно много их было на острове Сите, рядом с Собором Парижской Богоматери, вокруг рынка. Почти ту же роль выполняли бани, куда обычно ходили, совмещая мытье и любовные забавы. Места, где обитали распутницы, пользовались печальной славой, хотя женщины вели себя так не от хорошей жизни. Надо было чем-то зарабатывать на жизнь. Вийон, когда он вернулся в Париж после пяти лет бродяжничества и нескольких месяцев тюрьмы (1461), видимо, познал эти вертепы: «А после молвлю тем, кто пощедрей: «Довольны девкой? Так не обходите притон, который мы содержим с ней»». Тюрьма стала для него привычным местом обитания. Однако гораздо хуже этого старость, хуже даже, чем виселица. Хотя зрелище казни привлекало внимание охочих до зрелищ парижан. Особенно много их собралось (как на праздник), когда вешали главу администрации короля Жана де Монтэгю, опустошавшего казну (1409). Если мужчин тогда обезглавливали или вешали, то женщин «закапывали» в землю живыми (воровок и проч.). Отрезание уха или наказание плетьми – это было легким развлечением. Вийону пришлось испытать все: угрозу виселицы, нищету, несчастную любовь. За драку, в которой он принял косвенное участие, его чуть не повесили. К счастью, дело кончилось изгнанием: «Хвала Суду! Нас, правда зря терзали, но все-таки в петлю мы не попали!» 8 января 1463 г. Франсуа Вийон покидает Париж – и навсегда исчезает из истории, оставив нам, как последнее напоминание об этом «добром сумасброде», такие вот слова:
Да, всем придется умереть И адские познать мученья: Телам – истлеть, душе – гореть, Всем, без различья положенья! Конечно, будут исключенья: Ну, скажем, патриарх, пророк… Огонь геенны, без сомненья, От задниц праведных далек![362]Одним из глашатаев новой эпохи стал и Дю Белле… Дю Белле – видный теоретик «Плеяды», автор трактата «Защита и прославление французского языка». Франция обрела в его лице глашатая знаний, поэзии, культуры и просвещения. Как складывался его жизненный путь? Известно, что одно время он жил в Риме вместе с дядей-кардиналом. Итогом пребывания там стала попытка привить «античный саженец» к древу просвещения. Французы справедливо считали Рим центром Ренессанса. В античных монументах и произведениях поэт видел нетленное наследие веков минувших, которым Ренессанс как бы вручил учительскую миссию (С. Розенстрейх). Поэт уверен, что только знание и искусство способны приносить людям счастье (в отличие от известной максимы из Экклезиаста о знании, что умножает в жизни человека печали и скорби). Хотя в одном из своих сонетов Дю Белле все-таки признавал довольно ограниченное влияние знаний и талантов на море глупцов и неучей:
Невежде проку нет в искусствах Апполона, Таким сокровищем скупец не дорожит, Проныра от него подалее бежит, Им Честолюбие украситься не склонно; Над ним смеется тот, кто вьется возле трона, Солдат из рифм и строф щита не смастерит, И знает Дю Белле: не будешь ими сыт, Поэты не в цене у власти и закона…[363]Перевод В. Левика.
Путь поэта, деятеля просвещения всюду был непрост. Один из величайших поэтов Франции, Пьер де Ронсар, внес заметную лепту в формирование языковой культуры. Его отец был приближенным короля Франциска I и слыл человеком просвещенным и начитанным. В это время Франция становилась как бы «вторым отечеством европейского Ренессанса». Не знаем, можно ли называть Ронсара «архитектором позднего Ренессанса», но он вполне заслужил титул одного из его «каменщиков», титул «знаменосца». Он придал французскому языку «те новые формы, то обаяние звучности и красоты, которые сделали поэзию Плеяды истоком и началом всей французской поэзии последних четырех столетий» (В. Левик). Об этом говорят строки его стихотворения «Едва Камена мне источник свой открыла…» (1552):
….Тогда для Франция, для языка родного, Трудиться начал я отважно и сурово, Я множил, воскрешал, изобретал слова, И сотворенное прославила молва. Я, древних изучив, открыл свою дорогу, Порядок фразам дал, разнообразье слогу, Я строй поэзии нашел – и волей муз, Как Римлянин и Грек, великим стал Француз.[364]Перевод В. Левика.
Величие нации немыслимо без усиления роли знаний и образования. Еще недавно знание находилось в исключительном ведении религии и церкви, и даже Рабле считал разум жалким инструментом, слабо влияющим на реальную жизнь. Но вот эти взгляды начинают уступать новым воззрениям. Во времена Франциска I, основавшего в 1515 году королевский коллеж (College des Lecteurs Royaux), и Генриха III, создавшего в 1754 году Дворцовую Академию (Academie du Palais), заложены культурные основы новой Франции, а также системы высшего образования. На смену Панургу идут протогерои грядущего «века Просвещения», века энциклопедистов, бурь и революций. Название «Век просвещения» условно. Английский историк Р. Коллингвуд дал ему такую характеристику: «Юм со своими историческими работами и его несколько более старший современник Вольтер возглавили новую школу исторической мысли. Их труды, труды их последователей и составляют то, что может быть определено как историография Просвещения. Под «Просвещением»… понимается попытка, столь характерная для начала восемнадцатого столетия, секуляризовать все области человеческой мысли и жизни».[365] Коллингвуд выделял пять наиболее важных форм человеческого опыта (это – искусство, религия, наука, история, философия). «Просветительство» не является, разумеется, исключительной прерогативой какого-то века или эпохи. Муки и радости Просвещения знакомы многим народам мира. Известный немецкий философ И. Кант рассматривал Просвещение как попытку выхода человека «из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной воле». И считал, что основным девизом эпохи Просвещения является – «Sapere aude – имей мужество пользоваться собственным умом!»
Основу движения Просвещения во Франции вначале составляли аристократы. Образованный класс обосновал и утвердил программу renovatio studii (лат. «переподготовки») французской нации. Генрих III подавал пример, посвящая делам созданной им Академии по два вечера в неделю. Для королевского окружения, больше всего на свете любившего охоту и пиры, это занятие казалось скучнейшим излишеством. К тому же, несмотря на поддержку королем дела знаний, прогресс науки и образования оставался делом небезопасным. Все помнили, как лионский типограф-гуманист Этьенн Доле (1509–1546) был обвинен в издании запрещенных книг и сожжен на костре, а другой издатель, Роберт Эстьен, вынужден был бежать в Женеву (1550). Но и преследования не смогли воспрепятствовать возникновению в стране довольно широкого круга образованных лиц, поклонявшихся книгам и культуре. В XVI–XVII вв. появились «энциклопедии», представлявшие собой систематические обзоры ряда отраслей наук, а также энциклопедические словари. В Париже Шарль Этьенн издает несколько лексикографических и энциклопедических словарей (Словарь личных имен – 1544 г., Греко-латинско-французский словарь по вопросам гончарного ремесла и судоходства – 1553 г., Словарь истории, географии и поэтики – 1553 г.). Спустя век появился и первый французский журнал («Журналь де саван», 1665 г.).[366]
Франсуа Клуэ. Купающаяся женщина. Ок. 1571 г.
И все же было бы неверно ограничивать истоки Просвещения только учеными, драматургами, поэтами, издателями. Важный пласт культуры той эпохи составляли архитектура и живопись. Своего рода символом зодчества XVI века стал замок Фонтенбло, расположенный в прекрасном парке, в окружении леса, примерно в 60 километрах от Парижа. Архитектор Жюль Лебретон в 1528 г. осуществил решительную перестройку всего здания замка, ставшего любимой резиденцией Франциска I. Сюда была перенесена его богатейшая библиотека, которую начали собирать еще со времен Карла V. Здесь же широко представлены итальянские антики, включая шедевры Рафаэля, Леонардо и других прославленных художников, а для оформления залов и галерей приглашались иностранные мастера. Тут же находился роскошный бальный зал, который стал традиционным местом празднеств и увеселений французских королей. С 1530 г. здесь работал уроженец Флоренции Джованни Баттиста ди Якопо, последователь Андреа дель Сарто и Микеланджело. Его главная работа в Фонтенбло – галерея Франциска I. В помощь ему был приглашен из Болоньи Франческо Приматиччо. Так что оформление итальянцами замка в Фонтенбло стало как бы сотворением Италии в миниатюре. Видимо, в условиях самого тесного контакта с итальянцами протекала деятельность и крупнейшего французского портретиста XVI Франсуа Клуэ (1616/20-1572), который жил и творил в эту же эпоху. Пожалуй, это первый живописец Франции, которого можно поставить в один ряд с великими итальянцами и испанцами. Не случайно Ронсар называл его «честью нашей Франции» и посвящал ему стихи, сравнивая с древними греками и Микеланджело. Он унаследовал пост своего отца Жана Клуэ при дворе (тот также был превосходным художником), а к середине XVI века был уже знаменит. Работы Франсуа отличают тонкий психологизм и высочайшее мастерство. Среди шедевров художника называют портрет Елизаветы Австрийской (1571). Лицо этой коронованной Евы печально – и золотая ткань и драгоценности лишь оттеняют грусть. Бешеный восторг у современников вызывал и портрет «Купающаяся женщина» (1571), породивший целую вереницу подражаний. С нею в живопись Франции пришел культ обнаженного тела. Ощущение близости античной богини не покидает нас при взгляде на ее бесстрастие. Она ожидает появления своего Зевса или, на худой конец, Силена.[367] Толика воображения – и лениво-размеренная поступь прозы невольно пускается в поэтический галоп:
Взирая на тебя, чье сердце ни забется, Ни застучит в висках шальная кровь, Ни вспыхнет ярким пламенем любовь И с жадных губ признанье ни сорвется… Пусть голос твой скупым дождем прольется, Пусть даже хмурится насмешливая бровь, Но дай вкусить и насладиться вновь Тем, что в веках любовию зовется. Узрев тебя, мудрец честолюбивый Забудет все, чем он доселе жил, На что труды и годы положил… Был совращен твоей нечистой силой Служитель муз и книжный старожил: Огонь его пожрал сластолюбивый…[368]Культура постепенно пролагает дорогу в дома знати. Для этих целей выделялись специальные комнаты, где протекала размеренная и возвышенная беседа о прекрасном, или же велась милая светская болтовня. В отеле Рамбулье (ныне это известная государственная резиденция) открылся салон, который социолог Г. Тард назвал «первой школой искусства поболтать» (1600). Здесь французские женщины, равно как и мужчины, получали первые уроки галантного обхождения и навыки непринужденных бесед. Вскоре жеманницы (precieuses) по всей стране стали распространять «всеобщую горячку разговора». Франция становилась в данной области «всемирным образцом». Мода отсюда распространилась и на заграницу. В этих «академиях по интересам» модифицировались обороты речи, происходило улучшение чистоты стиля французского языка. Качество речи и изящество стиля становились своеобразным признаком цивилизации. Г. Тард пишет в своей работе «Мнение и толпа»: «В обществе действительно цивилизованном, недостаточно, чтобы мебель и самые незаметные предметы первой необходимости были произведениями искусства, нужно еще, чтобы малейшие слова, малейшие жесты придавали без малейшей аффектации их характеру полезности характер изящества и чистой красоты. Нужно, чтобы были «стильные» жесты, как и «стильная» мебель. В этом смысле выделяется наш аристократический свет XVII и XVIII веков».[369] На этом фоне, в этой среде веками создавался нерукотворный памятник Французскому Гению. Монтень, Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль, Декарт, Монтескье, Вольтер, Руссо, Робеспьер подготовили почву для идей XVIII–XIX веков. Если в Лютере и Меланхтоне воплотилась пуританская Германия, то в Рабле и Монтене, Вольтере и Руссо, Кондорсе и Робеспьере – антиклерикальная, свободная Франция.
В Европе появляются фигуры гуманистов, предваряющие собой эпоху Просвещения. Таков Монтень (1533–1592) – Человек всех времен и народов (великий, неповторимый, упоительный). Вольтер сказал в его адрес: «Будет любим всегда!» В этом светлом и ясном уме нам видится облик человека грядущих времен. «Опыты» стали настольной книгой многих мыслителей, писателей, поэтов и ученых. Эта книга вобрала целый компендиум нравственных, философских, психологических, медицинских знаний, наконец, и общечеловеческой мудрости. «Опыты» восклицают: Vive la raison! («Да здравствует разум!»). Для французов Монтень – имя святое. На Западе краткая библиография трудов об этом выдающемся мыслителе давно уже перевалила за три тысячи названий. В чем причина нашего внимания к автору книги («Опыты»), о которой сам он говорил так: «Я пишу свою книгу для немногих и на немногие годы»?! Монтень просто удивительно современен. Столетия спустя Л. Н. Толстой скажет: «Montaigne первый ясно выразил мысль о свободе воспитания». Чем культурнее и просвещеннее общество, тем скорее усвоит оно истину, погрузившись в эту «искреннюю книгу».[370]
Родом Мишель Монтень из богатой купеческой семьи Эйкемов (с юго-запада Франции). Отец его, Пьер Монтень, сочетал таланты купца, литератора, воина, принимая в молодости участие в итальянских войнах. В Италии он пробыл несколько лет, увлекшись гуманистической культурой, сочиняя стихи и прозу на латыни. Любовь к Италии и способствовала тому, что он решил дать сыну гуманистическое воспитание. Характерно и то, как купец решил учить своего отпрыска уму-разуму. Вместо того, чтобы отправлять его в аристократический или какой-либо иностранный пансион, он поручил воспитание ребёнка бедной крестьянской семье! Пять веков тому назад лучшие представители европейской буржуазии считали для себя и своих чад важным и нужным получение воспитание в народном духе! Видимо, они понимали, что близость к народу целебна и спасительна. Старый Эйкем желал приучить сына «к самому простому и бедному образу жизни». Однако он преследовал и более важную цель: желал воспитать в наследнике не отпетого мерзавца и негодяя, презирающего «быдло», но человека достойного и любящего, стремящегося поближе узнать свой народ, познакомиться «с участью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке». Мудрость, достойная подражания. В некоторых же странах, величающих себя «демократическими», элита спешит отгородить себя и своих детей глухой стеной от народа, словно перед ними какие-то прокаженные.
Отец постарался привить сыну любовь к наукам. Монтень изучил латынь (с помощью учителя-немца), затем его стали обучать греческому языку. В 6 лет его отдали учиться в коллеж в Бордо (училище считалось одним из лучших во Франции). Знания Монтеня были выше, чем у сверстников. По его собственным словам, он не вынес оттуда ничего, что представляло бы для него какую-либо цену. Таков удел способных юношей, сталкивающихся с проблемой невысокого уровня обучения. В дальнейшем он основательно изучал право, став к 25 годам советником бордосского парламента. Судьи из Монтеня не получилось, что и не мудрено. Штампы, догмы, юридическая казуистика в состоянии превратить любое нормальное существо в ископаемое. В юриспруденции царили произвол, кастовость, продажность. Одним словом это было царство крючкотворов, превосходно описанное у Рабле. Да и сам Монтень с возмущением говорил о тогдашних порядках, при которых «даже человеческий разум – и тот является предметом торговли, а законы – рыночным товаром». Пребывание в парламенте вызывало в нем чувство брезгливости и отвращения. Вскоре он покинул его стены. Единственным итогом «сидения» там стало знакомство в его стенах с публицистом Этьеном Ла Боэси (1558). Между ними возникли очень теплые и дружеские отношения.
Муленский мастер. Св. Маврикий с донатором. Ок. 1500 г.
Покинув службу, Монтень поселился в унаследованном от отца замке. Вот как он сам объяснил этот поступок: «В год от Р. Х. 1571, на 38-ом году жизни, в день своего рождения, Мишель Монтень, давно утомлённый рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями и находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятия муз, покровительниц мудрости; здесь, в спокойствии и безопасности, он решил провести остаток жизни, большая часть которой уже прошла – и если судьбе будет угодно, он достроит это обиталище, это любезное сердце убежище предков, которое он посвятил свободе, покою и досугу». Плодами раздумий станут «Опыты». Тем не менее ему все же не удалось уйти от треволнений жизни. Он стал мэром города Бордо, был избран вторично на почётный пост.[371] Долг превыше всего.
В «Опытах» проявилась удивительная любовь французов к тонкой беседе и рассуждениям, а также к самообразованию (чем всю жизнь и занимался Монтень). Поэтому он столько внимания в дальнейшем уделял вопросам воспитания и культуры. Требования, предъявляемые им к образованию – свобода, любознательность, польза. В ту эпоху в детях старались развивать совсем иные качества. Не мудрено, что многие, даже обретая «ученость», не становились от этого умнее. Он требовал от наставников придерживаться принципов свободного волеизъявления, давая возможность ученикам просеивать знания самим (через сито разума), не вдалбливая их в голову. Величайшее заблуждение, когда молодежь приучают к помочам. В итоге такой человек утрачивает свободу, а с ней и творческую силу. Поэтому да здравствует liberum arbitrium indifferentiae! (лат. «полная свобода выбора»). Монтень любил мудрость веселую и любезную и ненавидел умы «всегда и всем недовольные и угрюмые».
В то же время он признавал необходимость сомнений. Нет знания без сомнения. К тому же и авторитеты бывают ложными. Тот, кто слепо доверился догмам в годы юности, быстро созревает для рабства. Авторитарный принцип обучения неприемлем и отвратителен. «Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал также своего питомца», – писал Монтень. Лишь демократическая педагогика мудра и эффективна, ибо в состоянии учесть не только пожелания и влечения, но и способности ребёнка. Учеба должна включать в себя элементы творчества и общения, деятельности и путешествия. В противном случае коллеж становится местом, где дети безнадежно тупеют. «Я не хочу оставлять его (ребенка. – авт.) в жертву мрачному настроению какого-нибудь жестокого учителя. Я не хочу уродовать его душу, устраивая ему сущий ад и принуждая, как это в обычае у иных, трудиться каждый день по четырнадцати или пятнадцати часов, словно он какой-нибудь грузчик». Говорить о Монтене как о педагоге трудно, так как он не укладывается в традиционный облик просветителя. По мнению Ж. Вормсера, он не «не входил в число сторонников» идеи всеобщего школьного образования. Монтень считал, что школы и институты должны свято следовать указаниям природы, развивая заложенные в нас способности. Не стоит обучать тому, что мы не в состоянии как следует усвоить. Обретая свободу поступков и решений, принимая ответственность за них, человек тем самым обретает и силу. Прежде же нас приучали к помочам так, что «мы уже не в состоянии обходиться без них».[372]
Монтень – ревностный сторонник исторического образования. Это, пожалуй, одна из главных и принципиальнейших его посылок. История – наука наук. Монтень ставил историков на самый верх иерархической лестницы знаний (рядом с поэтами). И он прав, если только иметь в виду честных и великих историков. Такой историк сможет преподать юноше «не столько знания исторических фактов, сколько уменье судить о них». Монтень ставил на первое место среди гуманитариев Плутарха и Сенеку. Они привлекали его прежде всего легкостью изложения, ясностью слога. Читая мелкие произведения Плутарха или «Письма» Сенеки, не нужно было прилагать особых усилий. Оба этих ученых (историк и философ) жили почти в одно время, оба были наставниками римских императоров, хотя являлись выходцами из других стран. Им сопутствовало богатство и знатность. «Их учение – это сливки философии, преподнесенной в простой и доступной форме». Плутарх стоял на позициях, близких Платону, Сенека же – сторонник стоическо-эпикурейских воззрений. Вот как дальше сам Монтень оценивал то, что составляло привлекательную сторону их трудов: «Писания Сенеки пленяют живостью и остроумием, писания Плутарха – содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует, Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведет нас за собой, Сенека нас толкает. Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно (а ведь когда стыд преодолен, то больше себя не сдерживаешь), его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие писания в таком же роде… Когда я, потратив час на чтение его, – что для меня много, – начинаю перебирать, что я извлек из него путного, то в большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счетом ничего, ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу».[373] В этом пункте Монтень напоминает иных современников, у которых нынче не находится времени для чтения.
Годы, проведенные в крестьянской хижине, сыграли свою благотворную роль. (Будь моя воля, я бы детей всех властителей и богачей мира в обязательном порядке поселял бы на несколько лет в жилищах бедняков.) Мыслитель считал народ, а не «интеллигенцию» носителем истинного гения. Хотя, конечно же, тут ощущается некая нарочитость (с элементами идеализма). «Простые крестьяне, – утверждал он, – честные люди; честные люди также – философы или в наше время натуры сильные и просвещённые, обогащённые широкими познаниями в области полезных наук… Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вилланели и песни народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности». Мы разделяем его настороженность не к наукам (наука как таковая необходима, благородна и целебна), но к иным «жрецам от науки», чьи познания, взятые ими из дюжины-другой книг, ничего не дают стране и народу. «Ученость» этих господ полезна только для их собственного кармана. Такую «ученость» мы, как и Монтень, ненавидим «даже несколько больше, чем полное невежество». Поэтому он довольно критично воспринимал и тогдашнюю школу, в которой человек не всегда становился тем, кем хотел быть. Зачастую ниже всякой критики были и те, у кого он учился, в ком видел пример для подражания, у кого заимствовал слова, мысли и поступки. «Мы берем на хранение чужие мысли и знания, только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными». Но тут уж каждый становился сам себе учителем. Одни хотят стать великими учеными, музыкантами, поэтами, инженерами, художниками, врачами. Другие, не будучи в состоянии обуздать дурные инстинкты и привычки, ищут легких путей в жизни и становятся на преступный путь. Избегайте их, как если бы это ваши злейшие враги.
«Монтень в воротничке». Портрет работы неизвестного автора второй половины XVI в.
Особый счет у Монтеня к тем, кто нами управляет. Лидеры на всех уровнях власти должны быть на уровне своих постов. Необходим особо строгий кодекс поведения, отбор членов властной элиты, как отбирают в животноводстве племенных особей для продолжения рода. Однажды Монтень (в шутку, разумеется) рекомендовал воспитателю поскорее придушить нерадивого ученика. Такое же средство мы полагали бы разумным и необходимым применить к целому ряду политиков. От скольких бед было бы тогда спасено человечество! Руководитель страны – не недоросль. Его ничему не научишь, если он раньше не получил всего необходимого. Поэтому мыслитель абсолютно прав, говоря в отношении их: «если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них ожидают большего, они и должны делать больше». Если не могут – убрать!.[374]
Монтенем восхищались все – от Ф. Бэкона, Вольтера и Руссо до Пушкина, Герцена и Л. Толстого. Руссо включил его слова о неравенстве в свою книгу «Рассуждения о происхождении и основании неравенства между людьми». Вольтер написал о нём: «Провинциальный дворянин времён Генриха III, который является ученым среди невежд своего века, философом среди фанатиков и который под видом себя изображает наши слабости и прихоти, это человек, который будет любим всегда». Дидро заметил, что «Опыты» будут читать до тех пор, пока существуют люди, любящие истину, силу и простоту. А наш Герцен говорил: «Воззрение Монтеня… имело огромное влияние; впоследствии оно развилось в Вольтера и энциклопедистов; Монтень был в некотором отношении предшественник Бэкона, а Бэкон – гений этого воззрения» (авт. – «практически-философское воззрение»).[375] О Монтене скажем:
Свободе, музе и досугу Себя ты мудро посвятил… Плутарх твой труд благословил, Рабле твою направил руку![376]А ведь эпоха, в которую приходилось жить и работать Монтеню, идеальной не назовешь (впрочем, идеальных эпох не бывает). В 1572 г. разразилась катастрофа Варфоломеевской ночи. Это была массовая резня гугенотов католиками, устроенная в Париже Марией Медичи и Гизами. Проспер Мериме в «Хронике царствования Карла IX» пишет: «Варфоломеевская ночь была даже для того времени огромным преступлением, но, повторяю, резня в XVI веке – совсем не такое страшное преступление, как резня в XIX. – совсем не такое страшное преступление, как резня в XIX. Считаем нужным прибавить, что участие в ней, прямое или косвенное, приняла большая часть нации; она ополчилась на гугенотов, потому что смотрела на них как на чужестранцев, как на врагов. Варфоломеевская ночь представляла собой своего рода национальное движение, напоминающее восстание испанцев 1809 года, и парижане, истребляя еретиков, были твердо уверены, что они действуют по воле неба».[377] Культурнейшая страна Европы, средоточие ее философии, колыбель свободы и демократии сочла необходимым очистить свою страну от иностранцев-гугенотов.
Бросим взор на короля Генриха III и его окружение. С воцарением Генриха III (1574 г.) в высших эшелонах власти даже среди мужчин утвердились женские причуды и моды. Извращенные привычки были тогда настолько сильны, что заразили собой едва ли не всю знать (кроме стойких протестантов и некоторых разумных граждан). Король любил одеваться в женской манере, нахлобучивая на голову дамский пучок, украшенный перьями, жемчугами и бриллиантами. Его подкрашенные волосы были завиты, как у женщины, в ушах сверкали дорогие серьги. Женоподобный альфонс с нарумяненными щеками, небольшими усиками, жемчужными нитками на груди, камзолом в обтяжку и узкими остроносыми башмаками. Кроме того, Генрих, подобно женщинам, пользовался духами. Однажды герцог Сюлли, войдя к нему в кабинет, увидел его «при шпаге, в коротком плаще и в токе, на шее висела на широкой ленте небольшая корзинка, наполненная щенятами. Он был совершенно неподвижным и во время разговора с герцогом не шевельнул ни рукой, ни ногой, ни головой» (1586). Фавориты, обосновавшиеся в коридорах власти, не уступали ему в щегольстве и извращенности. По сути дела, почти вся верховная власть в тогдашней Франции состояла из «голубых». Г. Вейс в «Истории цивилизации» отмечает, что одевались они преимущественно в яркие цвета. Белый, светло-голубой, розовый атласный костюм, отделанный разноцветными лентами и шнурками, был самым любимым. В сатирическом памфлете «Описание острова гермафродитов» франтовство фаворитов, как мы бы сказали, определенной сексуальной ориентации осмеивалось в таких выражениях: «Каждый обитатель острова гермафродитов может одеваться как ему угодно, лишь бы одеваться роскошно и не соответственно ни со своим положением, ни со своими средствами. Как бы ни была дорога материя сама по себе, платье, сшитое из нее, должно быть отделано золотыми и серебряными вышивками, жемчугом и камнями, в противном случае мы объявляем его непристойным. Чем более костюм будет похожим на женский покроем и отделкой, тем лучше он и соответствует нашим обычаям. Однако, какой бы ни был костюм, его не следует носить дольше месяца. Кто носит дольше, тот заслуживает презрения как скряга и человек без вкуса… Поэтому мы рекомендуем нашим друзьям обзавестись искусными и изобретательными портными, с которым они бы могли постоянно придумывать новые костюмы». Только с приходом Генриха IV (1589) при дворе и обществе распространилась относительная простота.[378] Такого рода правителей совершенно не интересовала судьба Франции или жизнь ее народа. В свою очередь ясно, что подобное царство сановных педерастов вызывало глухую ненависть во французском народе.
Тем же было наплевать на простой люд. Давняя и, прямо скажем, гнусная черта феодалов, аристократов, королей, склонных взирать на крестьян и бедняков (эти понятия тогда были синонимами), как на грубых и бессловесных животных тварей. Вот ряд высказываний этих господ о крестьянах. Церковный писатель Готье де Куэнси (XIII в.) говорил, что тяжелый труд и бедность крестьян являются наказанием за их равнодушие к богу и церкви, за нежелание платить десятину и ненависть к духовенству. Еще хуже относились к этим несчастным аристократы-рыцари и королевский двор. Французский поэт, рыцарь Робер де Блуа в поэме «Наставление государям» призывает «более всего воздерживаться от доверия к сервам», ибо «против природы возвышать тех, кого она желает принизить». Задача сервов – служение их господину. Они существа абсолютно никчемные и ничтожные, готовые при первом же удобном случае сменить сеньора. Всей Франции были известны злобные нападки против крестьян знаменитого трубадура Бертрана де Борна (конец XII в.): «Мужики, что злы и грубы, на дворянство точат зубы, только нищими мне любы. Любо видеть мне народ голодающим, раздетым, страждущим, необогретым». Феодалы часто в отношении простого люда употребляли такие выражения, как: «спина Жака-простака все вынесет», «мужик – это тот же бык, только без рогов», а также прозвища «пентюх», «войлок», «гужеед», «земляной крот».[379]
Читая произведение Этьена де ла Боэси (род. в 1530 г.), друга Монтеня (такая дружба встречается едва ли раз в три века), мы видим в нём предшественника Монтескье, Вольтера, Руссо, энциклопедистов и даже революционеров. Его работа стала грозным предвидением Великой Французской революции. Это – предтеча Робеспьера в эпоху французского Возрождения. В нем впервые вызрел творческий протест народа против режима рабства и тирании. В работе «Рассуждение о добровольном рабстве» Боэси говорит, что люди, носящие цепи, во многом сами виноваты в этом позоре. Народ отдает себя в рабство – и тем самым перерезает себе горло. Имея выбор между рабством и свободой, он расстается со свободой и надевает себе на шею ярмо. Чтобы покончить с этим, надо восстановить естественное право человека. Только так мы сможем стать Людьми! Но как этого добиться? Мыслитель предлагает для борьбы с безжалостной тиранией, как он считает, верное средство – неповиновение тиранам… Вы надрываетесь в труде, чтобы господа могли на вас наживаться, а они в это же время нежатся в удовольствиях, утопая в грязных и низменных наслаждениях. Чем больше они вас грабят, «тем больше требуют, разоряют и разрушают», чем больше вы им даете, тем они становятся наглее, «ненасытнее и более готовыми всё уничтожить». Нужно ничего не давать им, надо лишить их плодов вашего тяжелого труда. Боэси пишет: «Решитесь не служить ему более – и вот вы уже свободны. Я не требую от вас, чтобы вы бились с ним, нападали на него, перестаньте только поддерживать его, и вы увидите, как он, подобно колоссу, из-под которого вынули основание, рухнет под собственной тяжестью и разобьется вдребезги». Народ, если он, конечно, хотя бы немного себя уважает, просто обязан лишить опоры всех тех, кто его грабит и насилует.[380] Этот принцип ныне может быть использован повсюду.
Мушкетеры короля.
Если интеллектуалам имя «Монтень» говорит о многом, то «российский гаврош» (человек улицы или «толпы») знакомится с Францией не через философов и поэтов, а с помощью отважных мушкетеров (героев романа Александра Дюма). Великолепная четвёрка как бы приоткрывает перед нами «дверь» во Францию эпохи Ришелье и Мазарини. Что же касается д`Артаньяна, то он – личность вполне историческая. Легенда гласит, что герой явился на свет в кухне замка Кастельмор, что в Гасконии близ Пиренейских гор (1620). В дальнейшем д`Артаньян стал офицером гвардии короля и специальным курьером кардинала Мазарини. После периода отставки кардинала Людовик XIV вскоре вернул его во власть. Вместе с ним вернулся и храбрый мушкетер, обретя славу не только воина, но и дипломата и политика. Никто не мог столь искусно, как д`Артаньян, выполнять опаснейшие поручения, проникая в осажденные крепости под теми или иными личинами. В дальнейшем женитьба на знатной и богатой даме принесла ему приличный капитал. Однако воинственная натура мушкетера не позволяла ему долго оставаться в объятьях. Он покинул жену и детей «ради ратных подвигов». К тому времени он уже стал командиром роты мушкетеров. Увы, голландская кампания 1673 года стала последней для нашего героя. Он пал при осаде Маастрихта на Мозеле. О смерти «храбрейшего из храбрых» писали тогда и газеты. Как очень верно и точно заметип о нем один из французских историков, «д`Артаньян и слава покоятся в одном гробу».[381]
Ришелье в романах Дюма выглядит злобным гением или пылким возлюбленным («дьявол в пурпурной мантии», «пурпурный жеребец»). В действительности, всё обстояло несколько иначе. Арман Жан дю Плесси, кардинал и герцог Ришелье (1585–1642 гг.) – не только правитель, но и просветительский гений Франции позднего Возрождения. О. Шпенглер скажет о нем: он принадлежал к числу людей, «сотворивших Францию»… Принадлежа к старинной дворянской фамилии, Ришелье получил по тем временам хорошее образование, изучая риторику и философию в Лизье. Затем он поступил в военное училище. Епископский пост считался наследственным в семье дю Плесси. Арман отправился в Рим для посвящения в епископский сан. Юноша казался явно моложе требуемого возраста. Папа Павел V выразил сомнение. Ришелье, не моргнув глазом, соврал и тут же попросил у святейшества отпущения греха (minima de malis – из двух зол меньшее). Изумленный первосвященник, который давно уже, казалось, перестал чему-либо удивляться, дал ему индульгенцию, пообещав блистательную карьеру: «Из этого молодого человека выйдет недюжинный плут. Он далеко пойдет!» В Париже Ришелье продолжил научные занятия. Сдав экзамен в Сорбонну, он получил учёную степень доктора богословия (1607). Вступив в управление епархией, кардинал сумел проявить немалые административные способности. А затем уж наступил черёд Парижа, который, как давно известно, «стоит обедни». Наконец, когда Ришелье в 1624 г. уже стал премьер-министром, он подчинил своему влиянию послушно-безвольного Людовика XIII. Это был первый серьезный шаг, сделанный в сторону укрепления абсолютизма. Именно Ришелье заметно увеличил территорию и укрепил армию. Разумеется, власть при этом выжимала из народа все соки. Вспомним, что Ришелье сравнивал народ с мулом, который привык нести тяжести. Поэтому закономерным следствием его правления стало возникновение и мощной оппозиции, получившей название «парламентской Фронды» (1648–1649 гг.).
Сегодня надо бы вспомнить о заслугах этого выдающегося сына Франции. Хотя это уже не раз сделано французскими авторами (исчерпывающе и превосходно). Наша цель – показать, чего он сумел достичь за годы его правления. В семитомной «Истории кардинала де Ришелье» Г. Аното прямо призывал читателя «стремиться к пониманию того, что он сделал, чем к пустой забаве рассуждений о том, что он должен был сделать». Так чего же он все-таки добился? Его заслугой должно в первую очередь считаться создание основ абсолютизма во Франции. Он заложил и укрепил фундамент будущего величия страны. Говоря его же словами, Ришелье сокрушил партию гугенотов, сбил с вельмож их спесь, привел подданных короны к четкому выполнению их обязанностей. Правя, «как сам король», он сумел подняться до осознания значимости своей исторической миссии. Внутри страны он добился жесткого единовластия. В «Мемуарах мессира д`Артаньяна» отмечается: «Месье Кардинал де Ришелье был наверняка одним из самых великих людей, когда-либо существовавших не только во Франции, но и во всей Европе… Принцы Крови… терпеть его не могли, потому что он испытывал к ним не больше почтения, чем ко всем остальным… Высшая знать, чьим врагом он всегда себя объявлял, питала те же самые чувства к Его Высокопреосвященству. Наконец, парламенты равным образом были им раздражены, потому что он преуменьшил их власть введением комиссаров, кого он назначал на любой процесс, и возвышением Совета (Королевского) им в ущерб».[382] Не меньшими, если не большими были заслуги Ришелье на внешнеполитической арене. Хотя, как известно, если нет успехов внутри страны, любая внешняя политика будет жалкой и бесплодной, как старая высохшая девственница. Сняв угрозу испано-австрийской гегемонии, он тем самым помешал Габсбургам воцариться в Европе. В. Ранцов писал в очерке, посвященном деятельности могущественного кардинала: «Нельзя, однако, отрицать, что государственная деятельность Ришелье, независимо от руководивших им личных мотивов, принесла громадную пользу не только Франции, но и всей Европе. Благодаря Ришелье рушилась гегемония Испании и Австрии, угрожавшая распространить власть инквизиции на всю Западную Европу. История должна поэтому признать, что кардинал Ришелье фактически оказал цивилизации значительную услугу». Можно сказать, что успех его дипломатии, подготовившей последующую гегемонию Франции на континенте, «окружил ореолом его фигуру» (А. Д. Люблинская). Итоги его правления более чем очевидны: Франция предстала могущественным централизованным государством с сильной армией и флотом, с крепкой казной и преуспевающей системой образования. Кстати, Ришелье прилагал огромные усилия для просвещения французского юношества. В 1636 г. он основал Королевскую академию (с двухлетним курсом), которая готовила молодежь к военной и дипломатической службе. При его участии были основаны еще одна академия и так называемая Королевская коллегия для французского и иностранного дворянства (1640).
Филипп де Шампень. Портрет кардинала Ришелье. 1636 г.
Немалый интерес представляют его педагогические воззрения. Он сторонник узкоклассового обучения. По мнению Ришелье, к изучению гуманитарных наук надлежало допускать лишь сравнительно немногих избранных интеллектуалов. Знакомство же с общественными науками он полагал безусловно вредным для людей, которым предстояло заниматься земледелием, ремеслами, торговлей и т. п. Поэтому кардинал высказывался в пользу сокращения числа классических коллегий и замены их двух– и трехклассными реальными училищами, где получали бы всю необходимую подготовку молодые люди, желавшие заняться торговлей, ремесленным трудом, военной службой в унтер-офицерских чинах и т. п. Лучших учеников из их числа он предлагал переводить из реальных школ в высшие учебные заведения. Смерть помешала ему осуществить в полном объеме программу преобразования французских учебных заведений. Ришелье фактически учредил и Французскую академию. Еще с 1629 г. в Париже организовался кружок лиц, принадлежавших к числу наиболее образованных людей того времени. По вечерам они собирались в определенном месте, читали новейшие литературные произведения, свободно их обсуждали. Прослышав об этих умственных сборищах, Ришелье сумел оценить их интеллектуальную и государственную значимость и, будучи человеком дела, предложил участникам заседаний преобразоваться из частного заведения в общественное. В итоге, по ходатайству кардинала Ришелье, Людовик XIII утвердил особой грамотой устав Французской академии (1635).[383] Так вот зарождалась наука Франции.
Впечатляет список и других его культурных побед. Истинный правитель всегда в дружбе с лучшими умами века. Какое счастье для Франции, что во главе ее встал муж высочайших дарований. Будучи сам велик, стремясь к «учреждению сего великого государства» (как скажет он в «Политическом завещании»), он неизбежно окружал себя теми писателями, политиками, деятелями искусств, что любили страну (а не ненавидели её, как это имело и имеет место в истории России последних двух десятилетий, где на «Тайной вечере» собирают предателей и отступников отечества). Ришелье, думается, хорошо понимал высокую значимость литературы как фактора формирования духа нации. Историки литературы отмечают: «Он придавал очень важное значение литературе и, имея претензию сам быть писателем, окружил себя поэтами и критиками, назначил им пенсии и стремился поставить литературу и театр на службу своей политике. С этой целью он основал Французскую академию и соответственно направлял ее деятельность. Он содействовал формированию классицизма как официального, общегосударственного литературного стиля. Он поддерживал также зарождавшуюся в это время периодическую печать и использовал для пропаганды своей политики основанную в 1631 г. Теофрастом Ренодо «Французскую газету» (Gazette le France).[384] К счастью для них, а также для всех французов, его политика способствовала подъему страны!
После государственных дел кардинал любил развлечься и отдохнуть от трудов праведных в компании той или иной дамы. Какой француз не любит красивых женщин! Среди его паствы были: принцесса Мария де Гонзаг, мадам де Бриссак, племянница Мари-Мадлен, Марион Делорм. Историки утверждали, что не счесть красавиц, «не только распутных, но, наоборот, из самых добродетельных, жаловавшихся на посягательства и насилие, которые пытался учинить над их честью Ришелье…» Он не пропускал ни одной юбки, так что даже получил прозвище Великий Пан (как его порой за глаза называли). Одной из наиболее известных его связей была связь со знаменитой куртизанкой того времени Марион Делорм. Людовик XIII, любивший мужчин, однажды узнал, что его фаворит Сен-Мар пал жертвой Марион. Настроение короля было столь ужасным, что он чуть было не свернул всю государственную деятельность (шла серьезная битва с испанцами). Перед Ришелье встала задача – Франция или куртизанка. Кто-то должен был положить себя на алтарь служения родине. Он пригласил к себе Марион и ради блага государства стал ее любовником. За два визита он заплатил ей сто пистолей и кольцо женщины, с которой раньше находился в любовной связи. «Кардинал Ришелье платил женщинам не больше, чем художникам». Связь с Сен-Маром была прекращена и Франция спасена (завоевание Артуа продолжалось). О связи Марион Делорм и Ришелье заговорил весь свет, а ее товарки возмущенно вопрошали: «Как вы можете спать с прелатом?» Куртизанка спокойно отвечала, что такая любовная связь, без сомнения, ей обеспечит полное отпущение грехов. Нынче куртизанки более любят юристов и прокуроров. Даже за два года до смерти кардинал ухитрялся охаживать трех любовниц. Некий Ги Патен возмущался в одном из писем его похождениями (конечно, после смерти Ришелье): «А все-таки эти господа в красных шапочках – приличные скоты» («Vere cardinale isit sunt carnales»).
Случалось, что кардинал терпел и поражения. Не удалось ему уговорить известнейшую «жрицу Венеры» – Нинон де Лан-кло, хотя он и предложил ей огромную сумму в пятьдесят тысяч экю (через Марион Делорм). Возмущенная Марион (помня о «жалких ста пистолях», которые заплатили ей) тут же ушла к своему первому любовнику, поэту де Барро. Вне себя от счастья поэт разразился «Стансами», у которых был подзаголовок «О том, насколько автору сладостнее в объятиях своей любовницы, чем г-ну кардиналу де Ришелье, который был его соперником». Этот факт принес ему куда большую известность, чем вся его поэзия, ибо он оказался неудачником вдвойне.
Самая большая любовь кардинала – его племянница Мари-Мадлен де Виньеро, герцогиня д'Эгийон, мадам де Комбале. Прелестная вдова (37 лет) любила расхаживать «с обнаженной грудью». В браке своем она не была счастлива. Бедняжка, выйдя замуж, все никак не могла расстаться со своей девственностью. Муж-дворянин, не вынеся позора, умер. «Девственница своего мужа» решила уйти в монастырь, испросив на то соизволение у своего дяди. Тот, увидев, что она красива, вероятно, изрек: «Дитя мое, я – ваш монастырь!» Она поселилась в Малом Люксембургском дворце, став то ли его любовницей, то ли супругой. Ришелье прожил с ней до конца своих дней. Связь длилась целых семнадцать лет. Мари была матерью «многих маленьких Ришелье» (маршал де Брез говорил о четырех ее сыновьях от кардинала). Среди других его увлечений следовало бы назвать и Анну Австрийскую. Ришелье был безумно в нее влюблен. Однажды он даже пошел на то, чтобы позабавить ее собственной пляской (в шутовском наряде полишинеля). Увы, в данном случае все уловки не привели ни к чему. «Австриячка» проигнорировала француза.
Когда же великий кардинал почил, это вызвало радость почти у всех, включая и некоторых его любовниц. Особенно был рад Людовик XIII, ибо, по словам мадам де Мотвиль, Ришелье «сделал из своего господина раба, а затем из знаменитого раба самого великого монарха в мире». Такого влияния слабый король не мог ему простить. То, что он не решался сказать живому, высказал мертвому кардиналу, положив на музыку написанные поэтом Мироном стихи (на кончину Ришелье). В стихах было уйма гнусностей, оскорблений, грязи, упреков.[385] Великим правителем мстят с особым удовольствием.
Вспоминаются слова Горация: «Если заочно злословит кто друга или, злоречье слыша другого, о нем не промолвит ни слова в защиту… вот кто опасен, кто черен! Его берегися!»
И все же роль Ришелье в истории Франции была противоречивой. Это частично объясняет, скажем, и то, почему потомственный аристократ Альфред де Виньи в своем романе «Сен-Мар» (1826) изобразил Ришелье как расчетливого и жестокого злодея. Есть там сцена молитвы, в которой всесильный первый министр настоятельно просит Бога отделить на последнем небесном суде Армана де Ришелье от министра. Он считал, что министр во имя блага отечества и прогресса порой вынужден был идти на непопулярные меры и даже совершать злодеяния, о которых он лично (как человек по имени Арман де Ришелье) глубоко сожалел. Поэтому народ (у А. де Виньи) и выражает свое неприятие Ришелье… В одной из сцен («Сен-Мар»), в момент триумфа над политическими противниками, склонившимися ниц, Ришелье обратил взор к толпе на площади. Он ожидал от нее подтверждения правоты и обоснованности его побед. Но народ, увы, безмолвствует![386] Почему же писатель изобразил французский народ так, а не иначе? Но, ведь, это же сделал и Пушкин в известной сцене трагедии «Бориса Годунова» (1825). Хотя в последнем случае, если помните, русский народ там не только «безмолвствует», но и действует, повинуясь гневному призыву мужика с амвона:
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты! Ступай! вязать Борисова щенка! Народ (несется толпою) Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова![387]Политика правительства и во Франции встречала жесткое сопротивление. Одной из причин народных недовольств было усиливающееся бремя налоговой политики. По сути дела, во Франции имел место открытый налоговый произвол («налоговый терроризм»). Недовольство произволом проявляли, в равной мере, как дворяне, так и простые граждане. В период власти Ришелье произошло три крупных восстания во Франции: в Керси (1629), на юго-западе (1633–1637), в Нормандии (1639). Среди наиболее значительных выступлений – восстание кроканов (1636) и «босоногих» (1639). Они охватили территорию большую, чем та, что некогда была объята пламенем Жакерии (в XIV в.). Крупнейшим выступлением было восстание «босоногих» («армию страдальцев» возглавил некий «генерал» – Жан Босоногий). Власть пыталась маневрировать. Были снижены налоги. Чиновникам приказали вводить народ в заблуждение (попросту говоря, надувать его), говоря: король, де, ни при чем, его обманули министры, но он обязательно накажет спекулянтов, обогатившихся за счет подданных. Конечно, в действительности главным грабителем страны был глава и его окружение.[388]
Энергичная, порой агрессивная внешняя политика Франции (борьба против Австрии) требовала и больших расходов. Раньше королевская власть была менее разоряющей, нежели средневековая феодальная налоговая система. Но в течение 5 лет, что предшествовали объявлению войны Испании (1635 г.), налог во Франции утроился! Талья возросла почти в четыре раза. Ришелье пришлось ввести в провинциях и крайне непопулярные налоги. Как подчеркивали историки, это «самое большое налоговое наступление в истории Франции». Налоги ложились тяжким бременем на крестьянство, пытавшееся освободиться от тяжкой ноши (1624, 1635, 1637, 1639). Последний бунт получил наименование «восстание босоногих». Бедняки предавали огню и мечу замки феодалов и поместья богачей. Крестьянские волнения следуют один за другим. Историк писал: «Плоды этой политики, победа в результате жестокой и трудной борьбы Франции против Габсбургов, создание в королевстве учреждений, которые будут способствовать централизации и которым предназначена большая будущность, были оплачены ценой огромных жертв, принесенных одним или двумя поколениями крестьянского населения». Однако и события Фронды, которые называют «великой смутой 1648 года», имели свои последствия. Смута произошла в столице Франции, где жизнь более комфортна. Во главе восставших встали буржуа («строителями баррикад будут буржуа»), хотя активное участие приняли и верхи дворянства, князья церкви, верхи судейского сословия. Париж жил лучше других городов, но именно это обстоятельство и делало его центром смуты. Уже тогда во Франции важную роль играл парламент. Со времен Людовика XI известна формулировка «Без парламента нет монархии». Ф. Блюш пишет: «Парламент – это судебная палата, самый старый и самый знаменитый трибунал в мире, размещенный во дворце Сите, в старинной королевской резиденции. Его ведомство охватывает почти треть королевства. Примечательно еще и то, что он является также и судом пэров… Этот суд может задерживать дворянские продвижения… Однако основная власть парламента (и других высших судов) состоит в том, что он имеет право регистрации королевских актов вообще…Этот механизм сделал мало-помалу из парламента… нечто похожее на конституционный суд».[389]
События во Франции могли бы заинтересовать и российского читателя. Почему, когда нации тяжело, когда бедные слои страдают, когда честные правители стараются наполнить государственную казну, менее всего готовы расстаться со своими немалыми богатствами «жирные коты»? Почему должны страдать и без того обездоленные люди? Ришелье с Мазарини не решились заставить парижских буржуа платить ввозную городскую пошлину, не осмелились замахнуться на привилегии высших должностных лиц. Причина проста. Правители Франции видели в «котах» своих верных сторонников. Одна и другая сторона, несмотря на лозунги и кличи (типа «За народное благо»), радели за интересы собственной властной корпорации. Однако деньги на содержание государства все равно нужно собирать. Никуда не денешься. Стоит подумать над тем, кого нужно прижать в первую очередь. Вся столичная верхушка, разбогатевшая за долгие годы своего правления, на деле и является главным возмутителем общественного спокойствия (герцог д`Эльбеф, герцог де Буйон, герцог де Бофор, принц Конти). Они натравливают на Мазарини «демократическую печать». Будущий декан Парижского факультета доктор Ги Патен отмечал: «Все время продолжается печатание новых пасквилей на Мазарини и на всех, кто примыкает к его несчастной партии…» Желтая пресса во Франции не останавливалась перед всевозможными сальностями и даже грязью, обвиняя кардинала Мазарини в тесных любовных связях с королевой Анной Австрийской.
Еще раз подчеркнем значение преемственности власти. Без этого любая страна может стать жертвой смуты. Франция подошла к смуте в 1648–1652 гг. Лидеры Франции тогда смогли овладеть ситуацией. Иначе стране бы не поздоровилось. Вспомним, что из 18 лет власти Ришелье (1624–1642) войны гремели 12 лет, а из 18 лет правления Мазарини (1643–1661) не менее 16 лет ушло на сражения. К их чести, оба не кланялись пулям и ядрам. Вот как оценивал их вклад автор «Нового краткого хронологического курса истории Франции»: «Кардинал Ришелье был более значительным, разносторонним, менее осторожным; кардинал Мазарини был более ловким, умеренным и последовательным; первого ненавидели, над вторым смеялись, но оба были хозяевами государства» (XVIII в.).[390] Тем не менее именно под кардинальской мантией окрепла и возмужала Франция. Подводя итог жизни и деятельности Ришелье, согласимся с Лабрюйером. В речи во Французской академии (1698) тот назвал кардинала Ришелье гением, который исследовал все тайны правления. Служа общественным интересам, он часто забывал о своих собственных нуждах. Посетил гробницу Ришелье и Петр I. Подойдя к его памятнику, он воскликнул: «Великий человек, будь ты сегодня жив, я сразу бы отдал тебе половину моей империи, при условии, что ты научишь меня, как управлять другой ее половиной».[391] Жаль, что у нас в России нынче всё иначе. Иные вожди рады отдать врагу половину державы, дабы завладеть другой… Велика, ох, как велика роль примера в истории. Почему один государь стремится упрочить славу и величие державы, поднять уровень жизни народа, а другой все разрушает, ломает, карежит, оставляя после себя разбитую, поверженную страну?! Ответ на этот сакраментальный вопрос можно найти во французской истории и философии. Наиболее точно и доходчиво причину этих различий объяснил К. Гельвеций в книге «Об уме». Умный делает умную и добрую работу, глупый и подлый – соответственно, глупую и подлую (только и всего). Гельвеций пишет: «Какой-нибудь выдающийся государь получает державу; как только он всходит на престол, все места оказываются занятыми талантливыми людьми; государь не создал их; казалось, он выбирал их случайно; но так как он невольно уважает и возвышает лишь людей, ум которых сходен с его умом, он, таким образом, вынужден всегда выбирать удачно. Если, напротив, государь не умен, то, вынужденный этой самой причиной приближать к себе людей, похожих на него самого, он почти всегда, по необходимости, выбирает неудачно. Благодаря ряду таких государей самые ответственные должности переходили от дурака к дураку в течение нескольких веков. Поэтому народ, который не может лично знать своих государей, судит о них по способностям людей, которых они к себе приближают, и по тому уважению, которое они оказывают выдающимся людям: «При глупом монархе, – говорила королева Христина, – весь его двор или глуп, или становится глупым».[392] Возможно, главной задачей великого государя (правителя) всегда была и будет проблема передачи власти. Хотя во времена, о которых идет речь, народ своих правителей не выбирал. Франция входила в эпоху Людовика XIV (1638–1715). Есть короли, и короли… Одни проходят, как тени, как второразрядные актеры драмы, имя которой «Человеческая история». Но есть и те, кто по многим, порой неизъяснимым, но гораздо чаще все же по вполне объективным и понятным народу причинам запоминаются.
Когда в стране воцаряется сильная личность, всё и вся испытывает на себе её влияние. Могучий правитель, даже уходя, незримо присутствует в умах и сердцах людей. Тень его, как тень Командора, вызывая страх, в то же время заставляет сохранять дисциплину и порядок на всех уровнях. Ничтожество же во власти разлагает страну и народ. Герцог Франсуа де Ларошфуко, прибывший в Париж сразу после смерти Ришелье (1642), застал двор «в кипучем волнении». Герцог отметил, что хотя король и ненавидел Кардинала, он «не осмелился отступить от его предначертаний». К счастью для Франции, после ухода Ришелье главные должности были переданы в руки тех, кто смог достойно и умело управлять страной. Что же касается исторической роли Ришелье, то Ларошфуко, один из ученейших людей Франции, воздал ему должное (несмотря на то, что и сам при его власти не избежал заточения в Бастилии). Он писал: «Как бы ни радовались враги Кардинала, увидев, что пришел конец их гонениям, дальнейшее с несомненностью показало, что эта потеря нанесла существеннейший ущерб государству; и так как Кардинал дерзнул столь во многом изменить его форму, только он и мог успешно ее поддерживать, если бы его правление и его жизнь оказались более продолжительными. Никто лучше его не постиг до того времени всей мощи королевства и никто не сумел объединить его полностью в руках самодержца». В конечном счете, польза от его службы стране и государству неизбежно должна была «взять верх над злопамятством частных лиц и превознести его память хвалою, которую она по справедливости заслужила».[393]
К последним можно отнести и Людовика XIV. Его назовут «Королем-Солнце». Появление на свет ребенка было долгожданным. Флешье скажет: «Его чудесное рождение обещало всей земле жизнь, полную чудес». Зачатию дофина сопутствовала бурно-грозовая ночь, возможно, и оказавшая тонизирующее воздействие на Людовика XIII. К тому времени он находился уже 22 года в браке с Анной Австрийской, но детей у них не было (все прежние попытки завершились четырьмя выкидышами). Оттого появление наследника походило на чудо Божье. От радости гуляли три дня и три ночи. «Никогда ни один народ, – писал Г. Гроций, – ни при каком событии не выказал большей радости». Что принесло стране его длительно рекордное царствование (72 года)? Обратимся к книге видного историка Франции (Ф. Блюша). Людовик XIV родился в день Солнца. Звезды предсказывали, что его правлению будут сопутствовать слава, подвиги, справедливость. В жилах короля текла кровь многих наций: латинская (75 %), германская (11 %), славянская (7 %), английская (7 %). Впрочем, тогда это никого не волновало. Главное, Людовик «был французом по сути своей» и страстно любил свое отечество. Мать обожала своего первенца и стремилась сделать из него достойного и умного правителя Франции. Крестным отцом ребенка стал наследник Ришелье, кардинал Мазарини. Проявилась воля и мудрость Ришелье, который в последний час думал о судьбах державы, а не о своих мелочных интересах. Мазарини был умным и тонким политиком, хотя и «тенью Ришелье». Вместе с тем он, в отличие от своего знаменитого предшественника, при решении всех вопросов не забывал о своем собственном кармане. Писатель А. Дюма так характеризовал его политику: «Увы, это была действительно только тень великого человека! Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшиеся с силами буйное дворянство и неприятель, преступивший границу, свидетельствовали о том, что Ришелье здесь больше нет… Мазарини, вечно подстрекаемый своей гнусной жадностью, давил народ налогами, и народ, у которого, как говорил прокурор Талон, оставалась одна душа в теле, и то потому, что ее не продашь с публичных торгов, – этот народ, которому громом военных побед хотели заткнуть глотку и который убедился, что лаврами он сыт не будет, – давно уже роптал».[394] Однако без серьезных военных побед нет приличного торга.
Царствование Людовика XIV началось в 1643 г., с уходом из жизни его отца. «Король умер, да здравствует король!» Принцу было около 5 лет. В его честь выбили медаль – «Великая надежда французов». Надежды сразу же стали сбываться. Французская армия одерживает победу над испанцами в битве при Рокруа. Пришло время обучать короля. Сколько правителей, взойдя на трон, обнаруживают пробелы воспитания и знаний, которые потом уже не в силах восполнить никакая наука. Франции повезло. У руля ее в трудные годы стояли такие выдающиеся личности как Ришелье и Мазарини. Их влиянию король обязан правильному видению своей роли. Как-то в шестилетнем возрасте Людовик, увидев кардинала Мазарини, воскликнул: «А вот и султан!» Хотя герои Дюма называли того «мужланом», но порой как раз «мужланы» делают великую историю. У короля были учителя, внушавшие ему любовь к истории, латыни, к родному языку. Благодаря умелому наставничеству Мазарини тот рано приобщился и к государственным делам, присутствуя на заседании Высшего королевского совета. Тот же Мазарини приучил его и к тонкому восприятию музыки и красоты искусств.
Обучение в пансионах и школах мира шло тогда при помощи розог и плетей. Секли постоянно и вдохновенно. Даже игры детей включали элементы порки (признак мазохизма или сексуального извращения). История знает немало примеров, когда учителя больше внимания уделяли заднице учеников, нежели их голове. Хотя надо признать, что при этом частенько секли и царственных особ. Как вы помните, в псалме 73 и Давид поет: «И я мучился ежедневно и каждое утро получал наказание». Наказывали розгами и апостолов (апостола Павла). Из королевских принцев Франции более всего доставалось Людовику XIV… Драли английских, французских, немецких, испанских и прочих царственных особ, а также почти всех энциклопедистов и просветителей (об этом свидетельствует Э. Роттердамский). Нередко в школах и училищах наказывали не за какую-нибудь вину, а просто потому, что считалось полезным выпороть ребенка. В Лондоне XIX века, вплоть до 1830 г., даже в женских пансионах беспощадно охаживали розгами и плетками. «Розги и палки, – писал один из ученых педагогов, – являются теми мечами школы, которые Господь Бог после грехопадения дал в руки учителям, чтобы ими наказывать безбожников. Они являются также скипетрами школы, перед которыми юношество должно склонить свою голову». Сторонниками палочно-кнутовой дисциплины сказано немало одобрительных и даже лестных слов в адрес этой системы наказаний, словно речь идет о грубых снопах на току, а не о нежных ягодицах учеников и учениц. Мы считаем нелепой английскую пословицу, доказывающую, что следует to kiss the rod that governs (англ. «целовать палку, которой учат»). Патологическая извращенность и порочность подобной философии известна миру. Ныне англосаксы хотят применить ее уже в военно-политическом контексте. Привилегированные классы (и нации) обычно избавлены от подобных наказаний. Хотя в приказах Генриха IV и Людовика XIV встречались имена и знатных особ, приговоренных королями к публичному и телесному наказанию.[395]
Людовик XIV. Портрет работы Клода Лефевра по редкой гравюре Пито. 1670 г.
Первый министр Франции, кардинал Дж. Мазарини (1602–1661) умер. Людовику XIV было 22 года, когда он вступил в управление страною. О своей миссии в «Мемуарах» он писал: «Я стал смотреть на все провинции государства не равнодушными глазами, а глазами хозяина… Беспорядок царил повсюду». Хозяина, а не временщика! Уходя в иной мир, Мазарини оставил крестнику трех способных министров (финансиста Фуке, реорганизатора армии Летелье, дипломата де Лионна). В это же время повсюду в Европе наблюдалось усиление королевской власти: в 1660 г. в Берлине начал реформы Великий Курфюрст, в Англии к власти пришел Карл II, а в Копенгагене двор, духовенство и буржуазия провозгласили датскую корону наследственной. На небосклоне политики в это же время взошло немало ярких звезд.
Что же сделал Людовик XIV для улучшения положения дел? Особое значение приобретала реформа государственного аппарата Франции. Во-первых, Людовик создал простую и понятную конструкцию: 6 главных ведомств (юстиции, финансов, 4 других управления во главе с государственными секретарями). По сути дела это был небольшой, компактный, хорошо управляемый орган («совет министров»). Звание «государственный министр» было редким и давалось самим королем. Король старался избегать тех, кто слишком амбициозен, считая, что лучше обходиться при управлении «в вящих интересах государства и для лучшего соблюдения секретности наименьшим количеством членов совета». Это были «ближние бояре», «узкое Политбюро», «тройка»… Французы звали их триадой (Летелье, Фуке, Лионн). Порой знать вставала на дыбы, в их числе и заслуженные вельможи (канцлер Сегье, Бриенн, военачальник Тюренн и даже королева-мать). Во-вторых, интендантом финансов назначен был Жан-Батист Кольбер, призванный следить не только за казной, но и за суперинтендантом финансов. Исключительно важный, я бы даже сказал, гениальный ход. За всеми, кто имеет дело с финансами, нужен глаз да глаз. Когда через чьи-то руки проходят огромные суммы, нередко выходило так, что часть их каким-то образом оседала в карманах господ финансистов. За ловкой белкой (герб Фуке – белка) должен следить уж (уж – герб Кольбера).
Когда речь заходит о главах правительства таких стран как Франция, надо иметь в виду, что бедных среди них не было и нет. Мазарини, вернувшийся из изгнания совершенно разоренным, к концу жизни имел уже порядка 35 миллионов ливров. Поэтому король был прав, посчитав, что для гармонизации власти и общества нужно заставить финансистов платить. Ведь то, что они грабители, ни у кого не вызывало сомнений. Людовик так и сделал в 1661 г., воспользовавшись услугами ловкого министра Кольбера. После проведенной им инвентаризации состояния дел прошлого правительства обнаружился неприличный контраст между сказочными богатствами кардинала и пустотой государственных касс. Что тут поделаешь?! Как признать, что бывший глава правительства фактически обворовал Францию? Дело кончилось тем, что министра финансов арестовали по приказу короля (д`Артаньян).
Суперинтендантом Людовик XVI назначил самого себя… Это означало не диктатуру короля, но лишь то, что отныне государственные финансы находились под его жестким контролем. Разумеется, работа аппарата не могла ограничиться шестеркой министров (их назовут «бандой шести»). У короля были помощники, которых называли «министерскими соколами». Однако король не выпускал из рук управление всеми финансовыми потоками (а, понимаешь ли, не «разводил руками»). Канцлер Поншартрен вспоминал, что тот «пишет больше, чем наемный писатель». Людовик взвалил на себя и «всю огромную бумажную волокиту». Пружиной же всего механизма был Кольбер. Успешная деятельность правительства стала возможной благодаря плеяде великих помощников. Среди них – талантливый фортификатор Вобан, специалист по тылу де Шамле и другие. Не стоит думать, что Людовик управлял Францией только по своему разумению. Это не так. Он назначал порядка 150 высших должностных лиц, но им противостояли держатели покупных административных должностей (таковых во Франции было 45 тысяч человек в 1664 г.). Все они находились вне досягательств его власти. Эта независимая и несменяемая свора и погубила монархию![396] Знаменательный урок всем мудрым правителям!
Людовику XIV удалось увеличить поступление доходов в казну государства… «Жрец и фанатик финансов» Кольбер сумел вдохнуть энергию в развитие экономики. Королевский двор поглощал 2/3 средств государства, но Версаль, надо это признать, стал средоточием многих талантов. Кольбер провёл реорганизацию Королевской Академии живописи и скульптуры, превратив ее в государственное учреждение (1664). Основана была Королевская Академия архитектуры (1671). Маршал и инженер Себастьян Вобан реконструировал 300 старых городов и построил более 30 новых. Архитекторы Бюлле и Блондель составили план расширения Парижа (1676). Новые здания поражали своим великолепием: коллеж Катр-Насьон, Королевская мануфактура гобеленов, Обсерватория. Париж превращался в открытый город.[397] Король с помощью Летелье и Лувуа создал постоянную армию, считавшуюся самой мощной и дисциплинированной в Европе. Во главе ее стояли талантливые военачальники и фортификаторы (Конде, Тюренн, Вобан). Франция вела войны (аннексия Монбельяра, Страсбурга, Кольмара, части Саара и т. д.), а за рост французского влияния приходилось платить народу. Успехи в государственном строительстве, развитии почтово-пассажирского транспорта, в передаче информации подтолкнули рост культуры и образования. Расширилась сфера действия французского языка (до Людовика XIV масса населения говорила на местных наречиях и диалектах). В школах родной язык стал теснить ученую латынь. Французская академия выступила в защиту родного языка, поощряя тех, кто им владеет. Среднее образование достигло заметных успехов. В конце XVII века в Руане свидетельство о браке могли собственноручно подписать 100 процентов именитых граждан, 85 процентов лавочников, 75 процентов ремесленников и 38 процентов рабочих. Разумеется, были различия в уровне грамотности регионов (он выше на севере, чем на юге; лучше в городе, чем в деревне). В престижных коллежах стали преподавать гуманитарные дисциплины, математику, искусство фортификаций и т. д. В 1715 г. уже двести французских городов имели свои коллежи. Повсюду росла конкуренция и соперничество. В королевстве появились новые просветительские конгрегации (отец Барре, каноник Демья, каноник Ролан, де Ласаль и др.). Отметим вклад церкви в дело просвещения бедного люда. Выделяются такие заведения как «Учительницы христианских и благотворительных школ» Н. Барре, «Ассамблея для дам милосердия» аббата Демья, народные школы для девочек Реймской области и т. п. Приняты меры по развитию технического образования. Ремесленниками создана школа обучения подмастерьев. Королевские акты (1695 г. и 1698 г.) требовали учредить как минимум одну начальную школу при каждом церковном приходе. Как отмечает историк, это произошло за 180 лет до ввода Ж. Ферри обязательной, бесплатной и светской школы. Так что теоретически обязательное школьное образование было введено Людовиком XIV, а не Жюлем Ферри.
Назовем еще ряд имен, чьими трудами создавалась слава Франции… Героем деловой, буржуазной Франции стал Жан-Батист Кольбер (1619–1683), сторонник меркантелизма. Вот некоторые из его деяний: Академия танцев (1661), королевская мануфактура «Гобелены» (1662), Академия художеств, заложены основы Академии надписей и словесности (1663), учреждена академия Франции в Риме, так называемая «Вилла Медичи» (1666). Король одобрил новый устав Академии художеств и ваяния. Первый художник Лебрен стал ее бессменным канцлером. Среди девяти десятков членов Королевской академии художеств и ваяния Кольбер выбирает четверо эрудитов – и делает их интеллектуальным ядром суперинтендантства строительства! Иначе говоря, не строителя во главу всего ставит, а просвещенного, грамотного и талантливого эрудита! Правительство оказало мощную поддержку науке и культуре. Стала выходить «Газета ученых» (1665). Только через год Лондонское королевское общество стало публиковать «Философские протоколы». Появился и официоз – политическая «Газетт де Франс». Король и Кольбер предоставляют пенсии молодым художникам для обучения в Риме (6 художников, 4 скульптора, 2 архитектора). Три года на деньги государства те могли совершенствовать мастерство в Риме. В 1666 г. создана Академия наук Франции, куда вошло 20 выдающихся членов, математиков и физиков. Ученым выделялись солидные пенсии и вознаграждения. В страну привлекли голландский ученый Гюйгенс. Академия наук стала выполнять и крайне важную роль научно-исследовательского центра.[398]
Книгопечатня в Париже.
Отдавая дань усилиям великих людей Франции, не будем забывать, что Ришелье и Людовик стремились все же к сохранению и упрочению своей власти. Они, конечно, заботились о государстве, но лозунгом их окружения нередко становилось знаменитое «После нас хоть потоп!» («Apres nous le deluge!»). Эту фразу цитировали ещё Цицерон с Сенекою, говоря: «После моей смерти пусть мир в огне погибнет» (неизвестный греческий поэт). Образование, знание, наука, литература выглядели пусть важными, но довольно редкими гостями за королевской трапезой. В «Политическом завещании» Ришелье писал: «Науки служат одним из величайших украшений государства, и обойтись без них нельзя; но не следует преподавать их всем без различия, ибо государство будет тогда похоже на безобразное тело, которое во всех своих частях будет иметь глаза». Далее следует еще более важное и знаменательное признание: «Черни же больше приличествует грубое невежество, чем утонченное знание».[399]
В XVIII в. во Франции возникли серьезные предпосылки для массового недовольства низов и средних классов своим положением. Простому люду Франции при всех королях (даже великих) жилось неважно. Короли, возвышая Францию одной рукой, другой ее губили. В их числе, увы, и «король-солнце» Людовик XIV. При ближайшем рассмотрении на поверхности сиятельного «короля-солнца» нетрудно заметить ряд темных пятен… П. Лафарг в статье «Движение поземельной собственности во Франции» (1883) отмечал, что глава государства погряз в спекуляциях: «Барыши, получаемые от торговли хлебом, были так велики, что Людовик XIV, – король-солнце, – принужденный, однако, для совершения займа унижаться перед евреем Бернаром, не постыдился сделаться хлебным торговцем, вопреки указу 1587 г., воспрещавшему дворянам и правительственным чиновникам заниматься хлебной торговлей. Он основал королевское хлебное управление, которое нарушило все постановления прежних лет о торговле хлебом и, скупая хлеб массами на казенные деньги, искусственно вызывало голод. Эти позорные спекуляции, заклейменные названием голодных спекуляций, приводили в ужас и негодование все парижское население и подготовляли его к революционному движению».[400] Если быть честным, то семена революционного гнева были посеяны самой королевской властью. Мы еще вспомним фразу Мирабо: «Молчание народа – урок королю».
История народов представляет собой книгу, в которой есть страницы разные по их содержательности, напряженности, драматичности. В одних случаях жизнь течет спокойно и безболезненно. Однако это скорее исключение из правил. Страны и народы, оставившие в наследство человечеству великие творения мысли, гения, таланта, не жалели сил и средств на достижение величия. Нет ни одного народа, которому бы «вот этак» (чинно, мирно, лениво, благодушно) вручили венец исторического признания. Тот, кто так думает и говорит, лжец или неуч. Греция, Рим, Испания, Франция, Англия, Австрия, Германия (говорю только о Западной Европе) оросили кровью народов поля своих и чужих стран. За великую судьбу, за достижения высшей культуры и цивилизации платят немалую цену! Можно не платить, закрыв навсегда книгу жизни и славы. В то же время нельзя не сказать и о том, что на совести европейских наций, лидеров и элит – море крови, океаны людских страданий. И очень часто причины этого не в отстаивании святого дела свободы, но в самой что ни на есть корысти.
Жан Батист Мольер.
Алчность и скупость – врожденные свойства буржуазии. Их и высмеял гениальный Жан Батист Поклен, автор «Тартюфа», «Мещанина во дворянстве», «Мизантропа», «Скупого», «Дон Жуана», «Брака поневоле», «Ученых женщин», известный всем как Мольер (1622–1673). Мольер был родом из семьи Покленов, занимавших во Франции XVII в. видные должности (среди них: председатель парижского коммерческого суда, доктор богословия и декан парижского факультета, директор индийской торговой компании). Порой трудно удержаться от мысли, что дорогих родственничков он и сделал героями своих бессмертных творений. Отец – обойщик и декоратор, мать – из рода Мазюэлей, отличавшегося склонностью к музыке. В таком почтенном семействе и появился на свет божий будущий писатель. Мольер с детства был в гуще народа. В Париже он наблюдал за выступлениями музыкантов и актеров. Жил он в доме с занятным названием «Павильон обезьян». В 14 лет его отдали учиться в Клермонскую коллегию, где набирались уму-разуму сыновья знати. Оттуда он вынес знание латыни и любовь к чтению. У него появились высокородные знакомцы (Шапель, Бернье, Гено, принц Конти). Все они прославятся: кто – на литературной стезе (Сирано де Бержерак), кто – на государственной (Конти), кто – как путешественник (Бернье). Одно время юноша брал уроки у философа Гассенди, пытался изучать право и даже получил звание лиценциата. Бальзак уверяет, что Гассенди рано распознал гений своего ученика и помог ему достигнуть быстрых успехов в знаниях. Он также внушал юноше «понятия чистой и мягкой морали, от которой тот редко уклонялся в течение всей своей жизни».[401] Но путь Мольера лежал в «царство театра». Театр становился популярен, вступая в пору расцвета. Пьер Корнель «вывел его из невежества и унижения». Напрасно отец умолял сына не идти в эту «обитель порока». Ничего не помогало, даже горячая агитация подосланных отцом наставников. Легенда гласит, что Мольер, напротив, так увлек своим поприщем наставников (учителя и монаха), что те вскоре забросили учительство и рясу и сделались актерами.
Пропустим первые годы его деятельности в труппе «Блистательного театра». Успехи театра не велики. Публика оставалась равнодушной к игре актеров (не помог и титул актеров герцога Орлеанского). Мольер покинул столицу и уехал в провинцию (12 лет продлится его странствие по городам и весям). Если «Париж стоит обедни», то для Мольера первая «обедня во славу его гения» состоялась в провинции. В Лионе он ставит первое свое крупное произведение – комедию «Шалый» (1653). Успех превзошел все ожидания. На представление пьесы люд валил валом. Две другие гастролирующие труппы вынуждены были прекратить спектакли. Вскоре весть об успехе пьес Мольера распространилась по Франции. Его пригласили в Париж, где он поставил «Жеманниц» (1659). Народу нравилась критика салонов знати. Хотя надо признать, что, скажем, в салоне маркизы Рамбуйе собирался весьма достойный круг писателей, ученых и аббатов. Мольер выступает как живописец общественных нравов, говоря: «Надо писать с натуры!» Он и описывал то, что видел своими глазами. Баснописец Лафонтен, признаваясь в симпатиях к его творчеству, говорил: «Я в восторге от него, это человек в моем вкусе». Мольер – гений сарказма. При всяком «царском дворе» следовало бы иметь «своего Мольера». Искусство художника порой действеннее всякого рода опозиций и критик. Когда появился «Дон Жуан», возмутились все фарисеи, говоря, что хорошо бы автора комедии поразило молнией, как и его героя, дон Жуана. В дальнейшем Мольер рассорился с корпорацией врачей, в адрес которых допускал резкие выпады. Был также запрещен «Тартюф», высмеивавший святош и их ханжество (иные церковники требовали сжечь пьесу вместе с Мольером). В «Пурсоньяке» основательно досталось крючкотворам-юристам. Завистливые писатели обвиняли его во всех смертных грехах. Не знаю, что уж там говорили обманутые мужья, просмотрев «Мнимого рогоносца», «Школу жен» и «Школу мужей». Самые умные из них предпочитали смеяться вместе со всеми. Тем более что абсолютно точно было известно, что на этой же «ниве» неоднократно страдал и сам Мольер.[402]
Общество всегда отличается хронической слепотой. Обуревавшие мысли и чувства Мольер вложил в уста Клеанта («Тартюф, или обманщик»), бросающего в лицо публики слова:
Все вам подобные – а их, к несчастью, много Поют на этот лад. Вы слепы, и у вас Одно желание: чтоб все лишились глаз. И потому вам страх внушает каждый зрячий, Который думает и чувствует иначе, Он вольнодумец, враг! Кто дал отпор ханже, Тот виноват у вас в кощунстве, в мятеже. Но я вас не боюсь, кривить душой не стану, Я предан истине и не слуга обману…[403]Надо сказать, что отношение короля к писателю было благожелательным. Молодой монарх сыграл в судьбе Мольера позитивную роль. Он с восторгом воспринял его пьесы («Школу мужей» и «Школу жён»). «Школа жён» – первая высокая комедия Мольера. Вскоре он стал любимым комедиографом короля. Просмотрев «Мнимого больного», Людовик, вероятно, вспомнил, как четверть века тому назад ему ставили клистир и пускали кровь не очень сведущие врачи. «Тартюф» не увидел бы сцены без помощи короля, защитившего писателя от «ядовитой злобы». Война вокруг «Тартюфа» длилась целых пять лет. Против писателя выступили королева-мать, первый президент, доктора Сорбонны, архиепископ Парижа. Ф. Блюш писал: «Без поддержки короля он потерял бы свой авторитет, свою труппу, все средства к существованию. Но Людовик XIV, как и в случае с Люлли – гением-конкурентом и его собратом, – пренебрегает общественным мнением. В Мольере он видит не позорно отлученного от Церкви проповедниками и не фигляра, а глубокого, остроумного, тонкого, очень плодовитого, с богатым воображением автора, разделяющего с ним трапезу, умеющего исправлять нравы, не морализируя, всегда готового выполнить неожиданные приказы короля… его творчество является союзником или помощником королевской политики».[404] Как говорят в подобных случаях, долг платежом красен. Великий комедиограф принёс и ему славу. Так считали многие. Когда Людовик XIV спросил у Расина: «Кто первый среди великих людей, прославивших мое царствование?», тот ответил, даже не задумываясь: «Мольер».
Людовик, а в особенности Ришелье были дальновидными политиками. Они видели в столь яркой фигуре мощного идейного союзника. Мольер владел смехом, а во Франции обладатель этого сокровища дорогого стоит. Тот, кто подвергался насмешкам, терял уважение света. Эту особенность творчества Мольера подметил Стендаль. Он даже обвинил его в «безнравственности», говоря: «Мольер внушает именно этот страх быть непохожим на других: вот в чем его безнравственность». Он умело направлял общественное мнение, чтобы «быть таким, как все». Стендаль продолжал: «Вероятно, эта тенденция Мольера была политической причиной милостей великого короля. Людовик XIV никогда не забывал, что в молодости он должен был бежать из Парижа от Фронды. Со времен Цезаря правительство ненавидит оригиналов, которые, подобно Кассию, избегают общепринятых удовольствий и создают их себе на собственный лад… Всякое выдающееся достоинство, не санкционированное правительством, ненавистно для него. Стерн был вполне прав: мы похожи на стертые монеты, но не время сделало нас такими, а боязнь насмешки. Вот настоящее имя того, что моралисты называют крайностями цивилизации, испорченностью и т. д. Вот в чем вина Мольера; вот что убивает гражданское мужество народа, столь храброго со шпагой в руке. Мы испытываем ужас перед опасностью показаться смешными. Самый отважный человек не помеет отдаться своему порыву, если он не уверен, что идет по одобренному пути».[405]
Мольер и его труппа в «Блистательных любовниках»: Мадлена Бежар, Арманда, Мольер, Дюкруази, Лагранж, Юбер. По старинной гравюре.
Отношение властей к Мольеру было сложным. «Мещанин» принёс Пале Роялю 24 тыс. ливров в сезон. В кабачке собиралась теплая компания, состоящая из одноклассников Мольера, а также известных Лафонтена, Буало и Расина… Жизнь для них не была трудной. Хуже обстояло дело со смертью. Церковь отказалась хоронить его на освященной земле. Вдова Мольера возмущенно воскликнула: «Как! Отказать в погребении тому, кто в Греции удостоился бы алтаря!» Пошли к королю. «На сколько вглубь простирается освященная земля?» – спросил король архиепископа Парижа. «На четыре фута!» «Похороните ниже», – приказал Людовик.[406] Великим нигде не хватает земли! Потрясающе, но его не принял ни свет, ни церковь, ни чернь. Чернь даже выкрикивала в адрес мертвеца угрозы. Так ушел из жизни этот великий и простой человек, давший путевку в жизнь Расину (он ему всячески помогал), тот, который остался верен театру, отказавшись быть академиком. К чести Академии она поставит ему бюст: «Слава его не знает изъяна; для полноты нашей славы не хватает его».
Талантом иного рода обладал Жан Расин (1639–1699). Классические трагедии «Британик», «Федра», «Ифигения» считались в свое время верхом совершенства. Современники сравнивали мастера с Еврипидом. Расин стал учителем той Франции, что выйдет на арену истории в XVIII веке. Герцен скажет: на пьесах Расина «были воспитаны все эти сильные люди XVIII века»… Выросший в кругу янсенистов, среди которых немало славных и знаменитых имен, писатель унаследовал строгие нравственные критерии, которым остался верен. Коллеж в Бове, где он получил образование, способствовал росту его таланта (тут обучали латыни, греческому, риторике, литературе, философии, логике, грамматике). Особое внимание уделялось воспитанию в студентах нравственности и уважения к религии. Школьные тетради юноши заполнены нравственными гимнами. На закате жизни Расин вновь обратился к религии в «Духовных песнопениях», где есть и такие мудрые и проникновенные строки:
Гонясь за праздными благами, Что ныне отняты у нас, Какими горькими путями, Увы, ходили мы подчас!.. От беззаконий наших ныне Какой нам остается плод? Где наша власть, оплот гордыни И суесловия оплот? Увы, без друга, без защиты, Очам всевидящим открыты, Мы притекли на Божий суд. Как будто жертвы на закланье, И следом наши злодеянья К престолу Вышнему идут…[407]Янсенисты осуждали театр в писаниях. Это оттолкнуло от них драматурга. Его трагедии, выполненные в «античном стиле» (с сюжетами, заимствованными у Еврипида), взывали к сердцу и уму французов. Расин так объяснял смысл своего творчества и театра в целом (в предисловии к «Федре»): «Могу только утверждать, что ни в одной из моих трагедий добродетель не была выведена столь отчетливо, как в этой. Здесь малейшие ошибки караются со всей строгостью; один лишь преступный помысел ужасает столь же, сколь само преступление; слабость любящей души приравнивается к слабодушию; страсти изображаются с единственной целью показать, какие они порождают смятение, а порок рисуется красками, которые позволяют тотчас распознать и возненавидеть его уродство. Собственно, это и есть та цель, которую должен ставить перед собой каждый, кто творит для театра; цель, которую прежде всего имели в виду первые авторы поэтических трагедий. Их театр был школой, и добродетель преподавалась в нем с неменьшим успехом, чем в школах философов».[408] И все это не удивительно, ибо как сказал П. Корнель: «Пример действует сильнее угрозы». Культура способствовала освобождению наук, бывших «служанками богословия» (выражение итальянского историка церкви Ц. Барония). Что мы видим? Как скажет поэт Н. Буало (1636–1711) в «Поэтическом искусстве», написанном им как подражание Горацию (его «Науке поэзии»): «Но если замысел у Вас в уме готов, все нужные слова придут на первый зов».
Обратимся к судьбам тех, кто составил научную славу Франции. Начнем с философов, ибо сегодня многим народам, включая Россию, не хватает русского «философа на троне». Рене Декарт (1596–1650) – одна из интереснейших фигур в истории философии. Он родился в дворянской семье в Турени, принадлежавшей, как говорят французы, к noblesse de robe (дворянство мантии). Семья владела обширными поместьями в Турени, Бретани и Пуату. В 8 лет отец, называвший его «маленьким философом», направил свое дитя в привилегированное учебное заведение – коллегию Ла Флеш, основанную иезуитами (с санкции короля Генриха IV). Сюда же перенесут сердце Генриха IV, убитого Равальяком (1610). Декарт провел здесь более 9 лет и многому научился, хотя некоторые претензии к характеру здешнего преподавания у него были. Школа иезуитов, тем не менее, была одной из лучших в мире. Ф. Бэкон считал уровень подготовки в их школах образцом педагогии того времени. Кстати говоря, они сделали среднее образование бесплатным и общедоступным (задолго до социалистов).
Автор очерка о философе Г. А. Паперн пишет: «Бесплатность обучения предписана была знаменитым школьным уставом (Ratio studiorum), составленным в 1599 году, и предписание это соблюдалось так строго, что, когда некоторые правительства, руководимые узкими классовыми интересами, пытались заставить иезуитов ввести плату за обучение, они закрывали свои коллегии. Иезуиты не делали также исключения для детей лакеев и кухарок; будущий комедиант Мольер сидел у них на одной парте с принцем крови Конти и пользовался одинаковым с ним вниманием со стороны учителей». Уже много лет спустя по выходе из школы Декарт в письме к другу, просившему у него совета относительно воспитания сына, с большим уважением отзывался о своих учителях и указывал на «равенство, которое они устанавливают, одинаково обращаясь со знатными и простыми». Такое соединение детей различных общественных групп в школе имело и педагогический смысл: «получается такая смесь характеров, что через сношения и разговоры между собою дети научаются почти столько же, сколько научились бы, если бы путешествовали» (Декарт). Иезуиты не делали каких-либо ограничений и в отношении иноверцев. К тому же, образование тут было светским. Тем самым был сделан важный и серьезный шаг на пути реформирования французских школ.[409]
Были и просчеты. В частности, родной язык пребывал в небрежении. В основе всего лежала латынь (международный язык тех лет). Затем Декарт поступил в университет города Пуатье, где после двухлетнего изучения юриспруденции и медицины получил степень бакалавра права. Его жажда познаний не знала предела. Впоследствии он сдержанно оценил полученные тут знания, хотя учился в одной из славнейших школ в Европе. Видимо, его яркий талант превосходил средний уровень даже столь достойного учебного заведения. На какое-то время он полностью забросил книги, занялся верховой ездой и фехтованием. Забавы молодости вскоре ему надоели (карты, вино, женщины), и Декарт весь отдался математике.
Люди той эпохи стремились все узнать, все изведать на собственном опыте. Декарт пошел в армию, приняв участие в тридцатилетней войне в Германии. Затем надел мундир волонтера в нидерландском войске (1617). Позже он объяснял поступление на военную службу «горячностью печени». Битвы и кровь не доставляли ему радости. Чаще он отсиживался на зимних квартирах, предпочитая «быть более зрителем, чем актером, в разыгравшихся пред ними комедиях». Оставив военную службу, он полностью посвятил себя занятиям математикой, работая над методологией познания. Он говорил: «Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он выносил прочные и истинные суждения о всех встречающихся предметах». Необходимо изучение языков и истории. Чтение хороших книг равносильно беседе с великими мужами прошлого. Поэзия полна изящества, она способствует развитию вкуса. Математика порождает искуснейшие изобретения, облегчает ремесла, сберегает труд людей. Богословие учит, как достичь небес. Нравственность помогает не споткнуться на земле. Обретя прочный запас знаний, он обратился к «великой книге мира» – путешествиям и встречам с людьми. Позже к знакомству с окружающим миром прибавилось знакомство с самим собой («я принял в один день решение изучить самого себя»). Главным его жизненным постулатом стало знаменитое: «De omnibus dubitandum!» (лат. «Подвергать все сомнению!»). Дороги свободы вели в Голландию, куда и переехал Декарт. Там он записался как студент-философ в университет во Франекере (1629), а затем, уже как студент-математик, в Лейденский университет (1630). В Голландии Декарт оставался на протяжении 21 года. Несмотря на вольности преподавания, здесь было немало схоластов. Тут он завершил работу над книгой «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» (или «Проект всеобщей науки»), изданной в Лейдене (1637).
Значение этого философа в истории науки выходит далеко за пределы Франции. Гегель говорил, что с Декарта началась новая наука и развилось чистое умозрение, а Б. Рассел называл его «отцом современной философии». Декарт оказал огромное влияние на интеллектуальное развитие Европы, соединив метафизику и метод. Метафизика показывала, из чего состоит мир и как он устроен. Метод же помогал достигать цели, являясь своего рода лоцманом, отмечающим на карте маршрут в неизведанную страну. Кстати, за отсутствие метода, позволявшего проникнуть в глубины философии и науки, Декарт критиковал Галилея. Всю философию он сравнивал с деревом, корни которого – метафизика, а ствол – физика. Остальные науки он сводил к трем основным (медицина, механика, этика). Декарт помог и раскрытию науки феноменологии. В его лице наука «должна почитать своего подлинного прародителя» (Э. Гуссерль).[410] Разум людей по своей природе почти одинаков. Главная проблема: надо уметь правильно и эффективно его применять. Для индивида важен выбор пути. В случае верного выбора человек продвинется дальше, нежели тот, кто избрал ошибочный путь. Разум – это единственное, что отличает нас от животных. Описывя изобретенный им «метод», Декарт пришел к тому же выводу, что и Эсхил: «Мудр – кто знает нужное, а не многое». Что же касается его научной роли, то он «поднял знамя протестантизма в науке».
Предложенный им логический метод содержал четыре правила. Первое: не принимай за истину все то, что видишь, особенно мимолетное и случайное (подвергай все сомнению, выбирай только ясное и отчетливое). Второе: столкнувшись со сложной проблемой, подели ее на части и методично решай каждую составляющую (если это возможно). Третье: располагай мысли и дела в строгом порядке, начиная с простейших и поднимаясь к более сложным вещам. Четвертое: умей систематизировать и обобщить всю сумму явлений, событий и фактов, для чего нужны полные обзоры и перечни (это повысит степень надежности решений, снизив до минимума риск роковой ошибки). Следуй этим четырем правилам – и ты преуспеешь в любой области. И, наконец, пятое: в эпоху разочарований и сомнений не превращай скепсис в демиурга. Скептики и циники, как правило, не способны на великие дела.[411]
Декарт повлиял на крупнейших философов своего времени (Гоббса, Локка, Спинозу и др.). Он оставался для многих загадкой. Не случайно один из историков даже написал работу, названную им «Декарт – философ в маске» (М. Леруа). Интересны и социально-политические взгляды Декарта, хотя высказывания его не всегда вполне откровенны (выпускник иезуитской школы). После осуждения церковью Галилея он предпочитал выступать с нейтрально научными работами вроде «Диоптрики», «О метеорах», «Геометрии» (1637). М. Шаль назвал «Геометрию» Декарта «дитятей, рожденным на свет без матери», да и о других его работах можно сказать, что они явились на белый свет скорее как незаконнорожденные дети. Написанные им в Голландии «Правила, коими надлежит руководствоваться мышлению» опубликованы только в 1701 г., а «Трактат о мире» (1633) увидел свет лишь после смерти Декарта.
Философ относил себя к буржуазному кругу и симпатии его принадлежали «третьему сословию». Вышеупомянутый М. Леруа сказал в отношении него, что он говорил «не языком дворянина». Декарт любил повторять, что если бы условия жизни заставили его быть ремесленником, если бы смолоду его обучили какому-то ремеслу, он непременно достиг бы в своем деле успеха и совершенства. В жизни он, однако, устроился неплохо. Средства к существованию у него были. Это давало ему независимость. В науке Декарт видел могучее средство, с помощью которого можно было удовлетворить новые потребности жизни и решить важнейшие практические задачи XVII века.[412] Французский Конвент 2 октября 1793 г. принял решение перенести прах Декарта в Пантеон. Декрет был издан от имени революционного Комитета Народного Просвещения по настоянию Мари-Жозефа Шенье. В своей пламенной речи Шенье восхвалял Декарта за то, что тот «раздвинул границы человеческого разума».
Рене Декарт.
Крупнейшей фигурой среди европейских философов в XVII в. считают и Пьера Гассенди (1592–1655). П. Бейль называл его «лучшим философом среди гуманистов и ученейшим гуманистом среди философов». Выходец из крестьянской семьи Прованса, Пьер рано обнаружил недюжинные способности, попав в коллеж г. Дина благодаря дядюшке-священнику. Там он успешно изучал греческий, латынь, математику, а затем был принят в университет г. Экса. Успехи Гассенди были таковы, что преподаватель философии и теологии патер Фезе, признавая исключительные познания юноши в области философии, как-то заметил: «Я уж не знаю, кто из нас ученик, а кто учитель». Нередко он даже поручал Пьеру читать вместо себя лекции. После окончания университета Гассенди руководил духовным училищем в Дине (1612–1616), получил в Авиньонском университете ученую степень доктора теологии и, будучи рукоположен в священники, занял кафедру философии в Эксском университете. Знакомство с взглядами Коперника, Кеплера, Галилея, Тихо Браге, Рамуса, Дж. Бруно, Монтеня перевернуло мир философа. В душе возникли смятение и раздвоенность. Случалось, утром он читал лекции студентам в духе официальной схоластики, а вечером – в духе антисхоластики. Такое случалось позднее и в наших странах, где «поутру» иные считали себя «правоверными коммунистами», а «к вечеру» резво перебегали в стан «антикоммунистов».
Гассенди работал в области механики, астрономии, математики. В 1646 г., по предложению кардинала Ришелье, главы правительства Франции, он назначается профессором математики Королевского коллежа в Париже. Несмотря на болезнь (туберкулез), Гассенди уделял время и философии, упорно трудясь над главным произведением – «Системой философии». Его перу принадлежат работы и по истории науки («Жизнь Коперника», «Жизнь Тихо Браге», «Жизнь Эпикура, афинского философа» и др.). Его учениками (точнее, слушателями частного курса для кружка молодежи) были такие личности, как Мольер и Сирано де Бержерак (1619–1655). Представим себе такую сцену… В доме откупщика Люилье собрались будущие светила – Франсуа Бернье, впоследствии знаменитый путешественник по странам Востока и хронист, Жан Батист Поклен – известный как Мольер, драматург Гено, и писатель-дуэлянт Сирано де Бержерак, чье словцо разило острее шпаги. Поселившийся в доме откупщика вчерашний провансальский крестьянин, а ныне известный профессор Гассенди доносит до юношей массу интересных познаний. Из его лекций они узнают о «Письме к Геродоту» Эпикура, прослушают «О природе вещей» Лукреция Кара, проникнутся мудростью древних. Мольер перевел отдельные части поэмы Лукреция Кара на французский язык, а Сирано – отрывки из работ Гассенди (с латыни). Интерес к философии, возникший тогда у Сирано, воплотился впоследствии в его научно-фантастическом произведении «Комическая история государств и империй Луны» («Иной Свет, или Государства и империи Луны»).
Дар популяризатора позволял Сирано писать живо и увлекательно. Он был прирожденным просветителем. Помогли и уроки великого Монтеня, учившего маскировать «крамольные» мысли. Сирано де Бержерак представил лунный мир. На Луне с голода умирают только безнадежные тупицы и дураки, тогда как умные и одаренные тут хорошо питаются, процветают и благоденствуют. Богатство имеет своим единственным источником исключительно способности «лунариев» к труду. Валютой же тут выступает не пошлое злато, а поэзия (расплачиваются шестистишиями, как полновесными флоринами или золотыми рублями). Люди особенно увлекаются изобретательством. Один из обитателей рая, расположенного на Луне, попадает туда с помощью хитроумного устройства, напоминающего портативный реактивный двигатель (два сосуда под мышками Эноха). Это даже дало право Т. Готье утверждать, что Сирано де Бержерак, а не братья Монгольфье, является изобретателем воздушного шара.
В произведениях Сирано (не благодаря ли урокам Гассенди?), писал журнал «Сьянс э ви», находим поразительно точное описание аппаратов и предметов, появившихся лишь в ХХ в. Это подтверждает описание полета «космонавтов» на Луну. В космос их выносит многоступенчатая ракета: «ракеты были расположены в шесть рядов по шести ракет в каждом ряду… пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий… Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк». Показателен и другой роман Бержерака – «Космическая история государств и империй Солнца».
Наибольший интерес в философии Гассенди, пожалуй, представляет учение о нравах (этика). О звездах и бесконечных мирах мы уже наслышаны, а вот душевные аффекты и страсти человеческие по-прежнему сотрясают мир. Он считал учение о нравах «главной частью философии». Стремясь к счастью, человек в большинстве случаев так его и не достигает его. Причин тому несколько. Либо то, к чему он стремится, не является подлинным счастьем, либо достижение оного отнимает у человека слишком много сил, либо добывается далеко не лучшими способами. Взгляните на правителей. У них есть все – богатство, почести, слава. Однако они встревожены, полны забот, мучительного беспокойства, жалуются. Их терзает страх. Что ждет их завтра!? Одним словом, они «ведут плачевную жизнь». Сердца их «похожи на сосуд, который деформировался и продырявлен и поэтому никак не может наполниться, отчасти же содержит отвратительную жидкость, которая грязнит и портит все, что в него попадает».[413] С помощью философии Гассенди предлагает очистить «зловонные сердца», возможно, даже исцелить их. Жизнь показала, что правители редко излечиваются от своих «дурных болезней». Другое дело – мудрец… Он старается следовать дорогой истины и справедливости, являясь вечным укором тиранам и глупцам. И даже если его постигнет судьба пленника Фаларида (тиран Сицилии Фаларид, живший в VII в. до н. э., прославился своей жестокостью, сжигая пленников в раскаленном медном быке), он честно и гордо сможет воскликнуть: «Я сгораю, но я не побежден». Нам кажется уязвимой, несправедливой позиция Гассенди. Мудрецам должны доставаться розы, а ворам и тиранам – бык Фаларида!
Особое место среди французских философов принадлежит Блезу Паскалю (1623–1662). Он сумел каким-то фантастическим образом соединить в себе достоинства целой армии ученых и мыслителей. Математик, физик, конструктор, писатель, философ. Воспитывался он в кругу семьи. Гений юноши проявился рано. В 10-летнем возрасте он сочинил «Трактат о звуках», в 12 лет самостоятельно дошел до 32-го предложения Евклида о сумме углов треугольника. Иначе говоря, он как бы «вторично изобрел геометрию древних, созданную целыми поколениями египетских и греческих ученых». Факт беспримерный. Отец скажет: «Не я его – он меня учит». В 13 лет он стал активным участником математического кружка М. Мерсенна (известный в ученых кругах как «Парижская академия»), куда входили многие видные ученые. В 16 лет юноша опубликовал исследование, снискавшее ему признание маститых ученых («Опыт о конических сечениях»). Воздадим должное и отцу юноши. Этьен Паскаль – человек не без способностей (ему принадлежит открытие алгебрагической кривой, известной как «улитка Паскаля»). Превосходный учитель, он помог сыну увлечься математикой (Эвклидом, Архимедом, Апполонием). Отец получил пост интенданта (благодаря всесильному Ришелье). Жизнь семейства оказалась более или менее обеспечена. Хотя больших богатств на этом посту отец так и не накопил, ибо был человек честный, а у честных нет денег.
Жизнь юного Паскаля складывалась вполне обычно для молодого человека из обеспеченного круга. Жил и не тужил, ухаживая за прелестной и умненькой особой, прозванной местными остряками Сафо. Затем последовал его роман с Шарлоттой Роанез (сестрой герцога Роанез). Тот в свою очередь был восхищен талантами Паскаля. О том, что ему были не чужды страсти земные, свидетельствует написанная им «Речь о любовной страсти» (1652). В «Мыслях» он откровенно скажет: «Можно сколько угодно скрываться: всякий человек любит». Был ли он «пессимистом», как характеризовал его Вольтер. В начале жизни – нет. Хотя в обычном житейском плане его не назовешь «счастливцем». Под его влиянием возлюбленная (Роанез) ушла в монастырь, где стала послушницей и дала обет девства. Только после смерти Паскаля она решилась выйти замуж, но не была счастлива и в браке (умерла от рака груди). Паскаль, предчувствуя печальную судьбу, говорил по поводу жизненных надежд: «По самой своей натуре мы несчастны всегда и при всех обстоятельствах, ибо, когда желания рисуют нам идеал счастья, они сочетают наши нынешние обстоятельства с удовольствиями, нам сейчас недоступными. Но вот мы обрели эти удовольствия, а счастья не прибавилось, потому что изменились обстоятельства, а с ними – и наши желания». Паскаль пытается научить, как лучше и вернее раскрыть заложенные в нас таланты и способности. Дело в том, что человеку отведено в жизни не так уж много времени, а пути познания не назовешь простыми. К тому же, ведь нас может обмануть даже здравый смысл, не говоря уже о учителях и наставниках. Ограничены мы и во времени, ибо «слишком юный и слишком преклонный возраст держат ум в оковах». Поэтому Паскаль советует особенно тщательно расставлять жизненные приоритеты. «Люди воображают, что обретут покой, если добьются такой-то должности, забывая, как ненасытна их алчность, и чистосердечно верят, что только к этому покою и стремятся, хотя в действительности ищут одних лишь треволнений». Как скажет впоследствии Блок: «Покой нам только снится». Паскаль очень хотел бы видеть в обществе торжество «человека думающего»: «Человек, несомненно, сотворен для того, чтобы думать: в этом и главное его достоинство, и главное дело жизни…» Интересно было бы узнать, отмечает Паскаль, и то, «чего стоит наша Земля со всеми ее державами и городами и, наконец, чего стоит он сам». Что же это означает – «человек в бесконечности»?
Паскаль считал человека средоточием общества и государства! Философ пишет: «Я потратил много времени на изучение отвлеченных наук, но потерял к ним вкус – так мало они дают знаний. Потом я стал изучать человека и понял, что отвлеченные науки вообще чужды его натуре и что, занимаясь ими, я еще хуже понимаю, каково мое место в мире, чем те, кому они неведомы. И я простил этим людям их незнание. Но я полагал, что не я один, а многие заняты изучением человека и что иначе и быть не может. Я ошибался: даже математикой – и той занимаются охотнее. Впрочем, к последней, да и к другим наукам обращаются только потому, что не знают, как приступиться к первой. Но вот о чем стоит задуматься: а нужна ли человеку и эта наука и не будет ли он счастливее, если ничего не узнает о себе?»[414]
В его лице мы видим защитника доброты и порядочности! Всю жизнь Паскаль искал «истину со вздохом», боролся против себялюбия и эгоизма. Это нашло отражение в его воззрениях: «Людей учат чему угодно, только не порядочности, между тем всего более они стараются блеснуть порядочностью, а не ученостью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали». Он не думал, что чем дальше будет идти человечество по пути цивилизации, тем реже оно будет прислушиваться к голосу совести и доброты. Ему говорили, что о бедных должны в первую очередь заботиться общество и государство. Он не возражал, но старался обратить каждого к его совести. «Мы призваны не к общему, а к частному. Самое лучшее средство облегчить нищету, это помогать бедным бедно, то есть каждому по его силам, вместо того чтобы задаваться широкими планами». Он говорил: «Я люблю бедность, потому что ее любил Христос. Я люблю богатства, потому что они дают возможность помогать несчастным. Я верен всем. Я не воздаю злом за зло… Я стараюсь быть справедливым, искренним». Совесть и сострадание к ближнему он считал главными стержнями общества, его «душой».[415] Мерилом отношения Паскаля к людям, его жизненной философией стала доброта. Он любил повторять: «Тайные добрые дела дороже всего». И помогал беднякам везде и всюду. Узнав о разразившемся где-то голоде, он тотчас спешил выслать деньги несчастным (хотя их порой нехватало и самому). Для столичной бедноты он наладил дешевое омнибусное движение («кареты по 5 су»). Это стало началом общественного транспорта в Париже Вольтер, завистник и скупердяй, утверждал, что Паскаль изображал человека «в самом ненавистном свете». Назвать Паскаля «человеконенавистником» значило ничего не понять ни в нем самом, ни в образе его мыслей (встал в ряд с иезуитами, люто ненавидевшими Паскаля). Вольтера не искупает даже оговорка, где Паскаль характеризуется им как «возвышенный Гераклит».
О Паскале, удивительном «короле в королевстве умов», можно говорить долго и страстно. Инженер захочет узнать о его счетной машине, открывшей эпоху автоматизации счета (образец ее хранится в Парижском музее искусств и ремесел). Искатель философских истин пожелает вникнуть в суть его спора с Декартом, философию которого он называл «романом о природе» в духе Дон-Кихота. Теолога заинтересует, в чем суть аргумента-пари, при котором «Бог разыгрывается на рулетке». Мистики, астрологи, маги, чародеи стараются проникнуть в тайну роковой ночи, когда в душе великого Паскаля произошел внутренний перелом и он обратился к Богу. В ночь на 23 ноября 1654 года он набросал таинственные письмена, получившие наименование «Амулета Паскаля» или «Мемориала» («амулетом» их иронически называл Кондорсе). В письменах говорилось о «забвении мира и всего, кроме Бога». Кто-то выражал сожаление по поводу того, что Паскаль, как утверждал Б. Рассел, «принес в жертву своему Богу великолепный математический ум». Такая оценка не вполне корректна. Правильнее было бы признать одно из двух: либо Богу, либо Паскалю хорошо известны причины такого решения. Обращение Паскаля к богу не исключало того, что и религия, в его понимании, может нести семена лжи, обмана и ненависти. Но тогда как понять фразу, встречаемую в его «Размышлениях о первой философии»: «Бог – обладатель всех тех совершенств, коих я не способен постичь, но которых я могу некоторым образом коснуться мыслью. Бог, не имеющий никаких недостатков. Из этого уже вполне ясно, что он не может быть обманщиком: ведь, естественный свет внушает нам, что всякая ложь и обман связаны с каким-то изъяном». Он взял на себя роль «адвоката небес», чтобы постичь высший смысл.
Нравственно-историческая литература как своего рода «зеркало общественных нравов» существовала во Франции и ранее. Мыслитель XIII в. Р. Бэкон даже считал этику руководительницей и царицей всех остальных научных занятий. Но образовательно-воспитательные ее задачи были сужены набором христианских и рыцарских добродетелей. Несмотря на прогресс науки, мировоззрение людей в ту пору было по преимуществу теологическим. Вольтер говорил: все суеверные эпохи одновременно являлись и эпохами самых ужасных преступлений. Церковь, появляющаяся в митре миротворца и благодетеля рода людского, «основана на крови, кровью скреплена и кровью расширилась» (Эразм Роттердамский). Гете охарактеризовал историю церкви как «смесь заблуждения и насилия». Лишь светская власть (умело использующая религию в своих целях) могла сравниться по числу преступлений с властью иерархов. Глядя на бессердечие, алчность, жестокость, непотребства иных наместников Христа, Аллаха, Яхве, Будды, люди задаются вопросом: «Не несут ли иерархи отпечатка черт и качеств других владык? Если мы говорим, что цезарь таков, каково его окружение, то не вправе ли мы сказать то же о «слугах небес»? Может быть, и Бог таков, каковы его слуги!» Поэтому нам понятен вывод Паскаля – «Neс deus intersit» («Пусть бог не вмешивается»). В обнаруженном после его смерти тексте он отделял истинного Властелина (Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова) от ограниченного и двуличного бога церковников и политиков.
Разве не понятна в этой связи фраза философа: «…какое несчастье быть человеком без бога». Нужно стремиться к постижению Всевышнего. Понять это непросто. Паскаль и сам говорил: «Я не знаю, кто меня послал в мир, я не знаю, что такое мир, что такое я. Я в ужаснейшем и полнейшем неведении…» И это Паскаль, «философ от Бога»! Что же говорить о миллионах тех, кто бредёт по миру, словно слепец, кто нем перед всесильной властью и глух к ощущению красоты и мудрости. Для чего же они явились на свет Божий? Однако это еще не дает основание утверждать, что его нет вовсе. Бог Паскаля – это Бог любящего и мудрого сердца! Не зря же он писал в «Мыслях», что «Бог постигается сердцем, а не разумом». Несколько в отдалении от Него стоят слуги Христовы. У Паскаля встречается довольно двусмысленная фраза: «Когда слово Божье, которое всегда истинно, оказывается ложным в буквальном смысле, то это значит, что оно истинно в духовном смысле». Поэтому интерпретаторы часто искажают его мысли и слова. Бога нужно слышать сердцем и видеть внутренним, духовным оком. Возможно, тут скрыт ключ и к его объяснению некоторых смутных мест религиозного процесса: «Познайте истину религии даже в самой неясности религии».[416]
Взгляды Паскаля близки взглядам янсенистов. Основателем движения был голландский епископ Карл Янсен (Янсений), живший в начале XVII века. Янсенисты боролись против неправедной церкви и, в особенности, против иезуитов, утверждавших, что самые тяжкие грехи могут быть покрыты и очищены покаянием. Очень удобный лозунг для тех, кто всю жизнь делал подлости, грабил, убивал, а затем решил, вдруг, «спасти душу». Как вы знаете, первым оказался в раю разбойник, что был распят вместе с Христом. Янсений резко выступал против подобной «христианской морали», ратуя за суровую добродетель (в кальвинистском духе). Янсенизм быстро распространился по Франции, привлекая в свои ряды ученых и даже знатных особ. Появились янсенистские учебные заведения. Борьба разгоралась не на шутку. Прибежищем сторонников нового течения стал Пор-Рояль. В защиту идей движения Паскаль пишет «Письма к провинциалу» (1656–1657). В них он высмеивал не только иезуитов, но и неправедную власть. В итоге конфликта Государственный совет, опираясь на мнение комиссии из 4 епископов и 9 докторов Сорбонны, принял решение – письма сжечь![417]
Кто же он, Паскаль? Великий отпрыск Ренессанса? «Расин в прозе»? Французский Данте? Дитя Возрождения, овладевшее обширным научным багажом античности? Куда отнести его? К философам не пристало. Он, вроде, говорил, что «философия не стоит и часа труда». К писателям? Две его «писательские работы» («Мысли» и «Письма к провинциалу») не укладываются в прокрустово ложе традиционной литературы. Современники назовут его в будущем «французским Архимедом». Его универсальный гений влечет исследователей. Они слетались на Паскалево пламя, как мотыльки. До революции им восторгался Л. Толстой. О нем писали ученые М. Филиппов и А. Гуляев, Г. Стрельцова и Б. Тарасов. Поэтому мы и убеждены: пока существует мысль, «мудрец из Пор-Рояля» будет волновать умы и сердца. Хотя Паскаль и называл красноречие «живописанием мыслью», боюсь, наше красноречие слишком безыскусно, чтобы нарисовать его портрет. Когда-нибудь иные поколения воздадут должное этому философу, что видел далеко вперед – «чрез головы других людей и веков». В тайну антиномии Паскаля попытался проникнуть и известный русский ученый «серебряного века» Лев Шестов, этот странник, говоривший, что его «первым учителем философии был Шекспир». Он ощущал внутреннюю сопричастность с мыслителем, пытаясь ее выразить. Л. Шестов писал: «Вдохновляемый библейским откровением, Паскаль создает совершенно своеобразную «теорию познания», идущую вразрез с нашими представлением о существе истины. Первое основное предположение, или аксиома познания: истину, если ее показать, может увидеть всякий нормальный человек. Думаю, что во всей истории философии никто не дерзал провозглашать «принцип» более оскорбительный для нашего разума, и даже сам Паскаль не доходил до большего дерзновения – разве что когда он говорил о summum bonum философов и о лошадях, осуществивших идеал стоической добродетели. Основное условие возможности человеческого познания, повторю еще раз, ведь в том, что истина может быть воспринята всяким нормальным человеком».[418] Этот апостол сомнения вполне отдает себе отчет в двойственности любых истин и явлений. «Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно», – говорил он. Паскаль тем самым (задолго до А. Эйнштейна) дал формулу «теории относительности» в применении к миру человеческих страстей и эмоций.
Пор-Рояль.
Важную роль играла полемика Блеза Паскаля с иезуитами. Разбираться, вокруг чего тогда возник сыр-бор, вряд ли интересно. Если член Французской академии Шарль Перро только пожал плечами и, видимо, удивился глупости всей ученой братии, то нам и вовсе не стоит копаться в деталях. Однако громкие отклики, которые получили «Письма к провинциалу» Паскаля, имели смысл в контексте общей борьбы религий и идеологий. Как известно, не раз иезуиты пытались проникнуть в Россию, вмешивались в дела православной церкви и страны в целом. Несмотря на покровительство некоторых важных особ и даже императоров, они с 1606 по 1820 гг. пять раз изгонялись из России. Отношение русских к католицизму издавна было настороженным. Некий иностранец после высылки иезуитов из Москвы в XVII в. писал о царивших настроениях: «Трудно поверить, какое дурное мнение имеют здесь об этом обществе. Говорят, что иезуиты производят только смуты и беспорядки. Русские не желают иметь у себя таких Аргусов, которые притом еще вмешиваются во все дела». Бесспорно, последний момент имел самое существенное значение. В те времена и дурак понимал, что существует правило: «Чья церковь, того и власть». Так что и грубоватый ответ официальных властей в 1629 г. Людовику XIII, просившему разрешить соотечественникам на Руси иметь свое духовенство, следует воспринимать все-таки с некоторым пониманием: «Ксенжам, иезувитам и службе римской не быть, о том отказать накрепко». Память о Варфоломеевской ночи и роли в ней католиков и иезуитов была еще достаточно свежа в памяти европейцев. И даже А. В. Луначарский одобрил письма против иезуитов Паскаля («Lettres Provinciales»): «Это был до такой степени разрушительный поход на иезуитов, что в смысле логичности обвинительного акта это сочинение считается одной из самых блестящих книг в мировой литературе, хотя это и не беллетристическая книга». Паскаль – подлинное перо Пор-Рояля.
В творчестве ученого и писателя такого ранга, как Паскаль, важен зачастую даже не предмет исследования, а то, что этому исследованию сопутствует. Ведь народ не имеет ни времени, ни нужды читать все наши высоконаучные опусы. Писать для пары сотен, а то и нескольких десятков мудрецов, возможно, и очень почетное, но донельзя скучное занятие. Поэтому, когда его спросили, почему он писал свои «Письма провинциала» стилем развлекательным, ироничным и приятным, он вполне резонно заметил, что это сделано намеренно, чтобы их «читали женщины и светские люди». Это позволит им понять опасность тех максим и идей, которые распространились ныне повсюду. Во всяком случае влияние «Писем» на науку и литературу Франции было огромным. Паскаль научил французов владеть легким и изящным стилем, восхищавшим всех. Его язык ощущается в пьесах Мольера (в «Тартюфе»), в речах и проповедях последующих лет, хотя «Письма» были внесены в каталог запрещенных книг.[419]
Философ пытался давать советы и правящему королю Людовику XIV, известному своим девизом «Государство – это я» (но, конечно, в завуалированной форме). Паскаль считал, что государство – зло, но зло, просто неизбежное. В нем нет ни справедливости, ни разумного основания. Он очень точно понял суть западной модели цивилизации: «Люди, будучи не в силах подчиняться справедливости, нашли справедливым подчиняться силе». Человек слаб и ничтожен, но он мыслит, он – «мыслящий тростник». Поэтому, влияя на мысль народа и правителя, можно поправить дело. Он даже хотел посвятить себя воспитанию принца. Но дни его были уже сочтены, ибо у него «возник разлад с мозгом и печенью». Когда-то он пророчески заметил, что результаты политической деятельности Кромвеля погибли оттого, что в его мочевой пузырь попала песчинка и это повлекло за собой каменную болезнь[420]
Блез Паскаль.
Паскаль – певец познания и мысли. Вслед за древними он говорил: «Нужно познать самого себя: если это не поможет найти истину, это поможет, по крайней мере, хорошо направить жизнь, в этом и заключается справедливость». Нужно отладить аппарат мысли, доведя его до совершенства. Задолго до появления героя Ж. Верна капитана Немо, он формулирует девиз смелых, дерзких и отважных «Мысль и движение!» Цивилизацию будущего он воспринимал как царство воплощенной мысли. Наша судьба заключена в мысли, а не в пространстве и не во времени, которые мы не можем заполнить. «Будем же учиться хорошо мыслить: вот основной принцип морали». Второй важнейший принцип цивилизации – движение. Только идущий осилит трудный путь и находящийся в движении придёт к намеченной цели, только подвижный живёт настоящей и красивой жизнью. «Наша природа – движение, полный покой – это смерть» (Паскаль).[421] Кто же мы в действительности: не совсем безнадежные чада Божьи, колеблемый ветром страстей «roseau pensant» («мыслящий тростник») или дикие, хаотичные, бесчувственные отростки «мальтузианских зарослей»?! Как скажет Тютчев:
Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник?[422]Судьба его произведений довольно печальна… «Письма к провинциалу» осуждены римско-католической церковью, внесены инквизицией в «Индекс запрещенных книг» и по приговору государственного совета Франции публично сожжены. Главный труд Паскаля «Мысли о религии и о некоторых других предметах» (Вольтер называл его просто «Мысли») остался незавершенным ввиду ранней смерти автора. Бедные «Мысли» Паскаля нещадно кромсались издателями и редакторами и позже. Так что и во Франции нет пророка в своем отечестве.
Во второй половине XVII в. явился на свет Пьер Бейль (1647–1706). Франция уже кое-как пришла в себя после ужасающих преступлений «Варфоломеевской ночи» (24 августа 1572 г.), когда за одну ночь было уничтожено сто тысяч человек. Французы-католики вырезали ненавистных им французов-протестантов целыми семьями. Досужие «умники» в России очень любят петь сладкоречивые песни о «прелестях» западной демократии и свободах «европейского дома». Напоминайте им о Варфоломеевской ночи. Постепенно пробуждался дух к новой жизни. Этому способствовали поэтические и ученые вольнодумцы (либертены). Сюда относят представителей «Тетрады» (Гассенди, Левайе, Ноде, Диодати), а также поэтов и драматургов. Среди поэтов был известный острослов Клод де Бло (1605–1655), писавший:
Католик ты, иль гугенот, Иль почитаешь Магомета, Иль в той же секте, что твой кот, Ты состоишь – не важно это. Влюбляйся в женщин, пей вино, Не обижай людей напрасно, И кто б ты ни был, все равно Твоя религия прекрасна.[423]Учеба Бейля проходила в протестантском университете (или «академии») в Пюи-Лоране. Получив благословение отца-пастора, он приступает к учебе в университете Тулузы, читая запоем все, что попадалось под руку (преимущественно Плутарха и Монтеня). В 19 лет он даже перенес болезнь, вызванную чрезмерным увлечением книгами. Бейль избрал книги в качестве учителя, ибо был не удовлетворен скудостью школьно-университетских познаний. Он писал: «Когда я вспоминаю, как меня учили, слезы тотчас навертываются мне на глаза. Ведь именно в ту пору, когда тебе нет еще двадцати лет, ты и способен проявить весь свой пыл: вот тогда-то и следует набираться знаний». Никакая школа не заменит вам книжного мира (тысячи «университетов»). Пафос восклицания Бейля понятен: «Неизвестно почему, но ни один самый ветреный любовник не менял своих любовниц так часто, как я – книги».[424]
Занятия Бейля протекали на фоне битв религий. Он также «побывал в двух палестинах» (был протестантом, перешел в католичество, а затем тайно вернулся в лоно протестантской церкви). Бейль покидает католическую Францию и бежит в Женеву, где добывает средства на жизнь преподаванием. На формирование его взглядов повлияли антирелигиозные труды Спинозы, Левайе, Ноде, Монтеня, Гассенди («самых образованных ученых века»). Под их влиянием Бейль, работая профессором философии в кальвинистской Академии в Седане во Франции (1675), стал скептиком. Однако репрессии против иноверцев усиливались. Король Франции специальным эдиктом упразднил Академию (1681). Бейль вновь меняет место работы, переезжает в Роттердам, где и преподает в Академии. В Голландии он останется до конца своих дней. Смысл своей жизни он видел в просвещении тех, кто внемлет голосу разума. Философ понимал: есть лишь один способ пробиться к разуму большинства – с помощью книг. Преподавание в университете ограничивало сферу влияния. Хотя Бейль и был прекрасным педагогом, чтение лекций было для него в тягость. «Исторический и критический словарь» Бейля, над которым он работал 15 лет, вошел в сокровищницу мировой культуры (1697). «Словарь» Бейля на протяжении целого столетия являлся главным источником «для всех стремившихся к знанию западноевропейских культурных читателей» (В. Болин).[425]
«Книжная лавка». Французская гравюра XVIII века.
История показывает, что вера и злодеяния «вещи вполне совместимые»… Поэтому не стоит и христианам выдавать себя за невинных божьих овечек. За ними в истории тянется шлейф страшных преступлений… С другой стороны, можно быть атеистом и одновременно глубоко порядочным человеком. А можно стоять у алтаря, истово бормотать молитвы, преклонять колены в храмах – и быть кровавым палачом и редчайшим мерзавцем (все с тем же именем Бога на устах). Атеистом был канцлер Франции Лопиталь, чья «добродетельная жизнь была известна повсюду». За атеизм приговорили к казни и сожгли князя Ванини, одного из самых высоконравственных и порядочных людей. Публично отстаивал атеистическое учение М. Кнутцен, создатель секты «совестливых». Нет иного Бога и иной религии, кроме Совести. Он приводит в качестве примера жизнь Спинозы. Бейль называл его величайшим из когда-либо существовавших атеистов. Если же говорить о главном в его учении, то Пьер Бейль считал важнейшим требованием жизни следование истине и совести (чего бы это ни стоило). Человек должен быть верен некой «естественной теории справедливости». К такой теории приходят люди в результате интенсивной работы ума. Бейль был твердо убежден, что справедливое общество вполне может существовать и без религии. Мыслители всего XVIII века учились у П. Бейля рассуждать и мыслить свободно. В частности, известный философ Ж. Ламетри позаимствует у него образцы «республики ученых» и «республики атеистов».[426]
Крах системы Ло. Карикатура.
Между эпохами надо уметь наводить мосты. Тот, кто этого не умеет, и даже не понимает необходимости этого, не имеет права числить себя в ряду серьезных политиков. Попав в исторический провал, народные массы теряют ориентацию и сами по себе выхода найти не могут. Нужны сильные умы, опытные лоцманы, прокладывающие кораблю верный курс. Горе стране, в которой тот, кто призван быть «капитаном», не имеет необходимых знаний. Во Франции нашлись достойные «капитаны». Им оказалась по плечу ответственная миссия.
В XVII–XVIII вв. во Франции явилась целая плеяда выдающихся мыслителей, заложивших фундамент научной, а затем и политической революции. Начало революции в математике А. Клеро связывал с ньютоновскими «Началами», а Б. Фонтенель называл «революцией» исчисление бесконечно малых. Пробивали себе дорогу новые взгляды и на общественное устройство. В середине XVIII в. во Франции заговорили о революции. Она стала знаменем для одних и пугалом для других сословий. По воспоминаниям министра иностранных дел при Людовике XV Р. Аржансона, «все чувствовали необходимость изменения политического порядка во Франции; с начала 1751 г. это был самый обычный предмет разговора между всеми мыслящими людьми, это изменение выражалось одним словом – Революция».[427]
В науке появлялось все больше таких людей. Бернар Ле Фонтенель (1657–1757) прожил долгую столетнюю жизнь, отданную наукам и знаниям. О нем говорят: «Восходя к Монтеню и Шаррону, Джордано Бруно и Кампанелле, к ученым – вольнодумцам начала XVII в., Фонтенель перебрасывает мост также и к Монтескье (которого он пережил физически), к Вольтеру и Гольбаху и является живой иллюстрацией развития мысли от Ренессанса до революции». Родился в аристократической семье. Обучение прошел в школе иезуитов (вот и опять школа иезуитов). В 1683 г. увидели свет его «Диалоги мертвых древних и новейших книг». Фонтенель отстаивал точку зрения, что современность (при всех ее недостатках и просчетах) все же выше предшествующей культуры. Его девиз – «De mortuis – veritas!» (лат. «О мертвых – правду!»). Одновременно он выступал против утверждений, что якобы «древние изобрели решительно все». Можно поклоняться древности, но при этом нельзя быть ее рабом. В «Диалогах» Фонтенеля представлен взгляд на теорию прогресса. Отмечая то новое и ценное, что появилось в обществе, он особо выделил создание Академий наук во Франции и Англии. В предисловии к «Истории Академии наук» он отмечал: «После долгого периода варварства науки и искусства начали возрождаться в Европе – красноречие, поэзия, живопись, архитектура первыми вышли из мрака, в прошедший век они развивались подобно взрыву. Но науки, требующие более глубокого размышления, такие, как математика и физика, ожили в мире более поздно и с иным видом совершенства». Фонтенель прямо увязывал прогресс человеческого разума с прогрессом наук и образования. Ученый солидарен с Лейбницем в мысли о необходимости создания истории наук для образования учащихся: «История мыслей человечества, конечно, любопытная с точки зрения своего бесконечного многообразия, иногда также имеет образовательное значение. Она может дать определенные идеи, отклоняющиеся от обычного пути, согласно которому великие умы из самого себя создают нечто; история науки поставляет материал для размышления; она позволяет познать подводные камни человеческого разума; намечает пути более верные и, что наиболее важно, она учится у великих гениев…»[428] Чтобы создавать великие произведения, надо иметь вкус к общению с гениями. Помните, что великие умы (даже из небытия) не станут общаться с духовными ничтожествами! Живите строго, умно, активно (в духовно-содержательном смысле). Читайте, смотрите, слушайте прекрасные вещи. Имейте достойных друзей – и будете иметь достойную жизнь. Латинское изречение верно гласит: «Noscitur a sociis!» («Познай среду!»)
Воздадим должное ещё двум «мушкетерам» философской Франции… Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751) учился в коллежах Кутанса, Кана, дю Плесси и в лучшем среднем учебном заведении того времени – парижском коллеже д`Аркур, поступил на медицинский факультет Парижского университета и, получив звания бакалавра и доктора, отправился для пополнения знаний в голландский Лейден (тут жил Бургаве, медицинское светило Европы). Большинство врачей Франции все еще игнорировали новейшие достижения естествознания (анатомии, физиологии и т. п.). В частности, медики избегали анатомирования трупов. Шарлатанов было превеликое множество. Ламетри переводит на французский язык шесть работ Бургаве. Он выступает в печати с серией разоблачительных памфлетов о врачах-шарлатанах. В 1745 г. выходит и его первый философский труд «Естественная история души» («Трактат о душе»). Королевский генеральный адвокат тут же обвинил автора в ереси. Книгу Ламетри (в компании с книгами других «еретиков») сжигают на Гревской площади.
Чтобы понять атмосферу, в которой жили и трудились мыслители той поры, вспомним: из французских писателей 1715–1785 годов «сомнительно, чтобы и один человек из пятидесяти остался безнаказанным». Тем не менее, Ламетри не желал смиряться, продолжая выступать против дельцов от медицины и слабой подготовки студентов (пишет комедию «Отомщенный факультет»). Его книги наполнены понятной горечью. Однако он помнил завет Бокля: «Единственное лекарство против суеверия – это знание. Ничто другое не может вывести этого чумного пятна из человеческого ума». Славу ему принесла изданная в Лейдене книга «Человек-машина». Голландия – страна, известная своей свободой печати. Но даже тут блюстители религии не смогли вынести столь дерзкой книги, оштрафовав издателя на 400 дукатов. Ламетри скрывал авторство, но все упорнее распространялись слухи о том, что не сносить ему головы. Под покровом ночи он бежит из Лейдена, скрываясь в хижинах крестьян.
В первой половине XVIII в. не было, пожалуй, другой столь известной книги. Во Франции, где она запрещена, ее читали в копиях, в Германии – в оригинале, в Англии тотчас же перевели. Иные пытались уязвить автора, говоря, что это «бред сумасшедшего». К счастью для ученого, Фридрих II ему покровительствовал, что и спасло беднягу от тюрьмы. Ламетри переезжает в Пруссию (1748). Фридрих предоставил ему должность врача и место личного чтеца короля. Об этом кружке вольнодумцев Вольтер скажет: «Никогда и нигде на свете не говорилось так свободно о всех человеческих предрассудках, никогда не изливалось на них столько шуток и столько презрения». Швейцарский историк культуры Я. Буркхардт назвал Фридриха II «первым современным человеком на троне» (в Европе Нового времени).
Моровая язва в Марселе.
Чем так досадил философ святошам? Обозвал человека самозаводящейся машиной? Или тем, что человек сравнивался им с братьями меньшими (животными)? Ламетри писал: «Истинные философы согласятся со мной, что переход от животных к человеку не очень резок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков? Животным особого вида, у которого было меньше природного инстинкта, чем у других животных, царем которых он себя тогда не считал; он отличался от обезьяны и других животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, т. е. физиономией, свидетельствующей о большей понятливости… Человека дрессировали, как дрессируют животных; писателем становятся также, как носильщиком. Геометр научился выполнять самые трудные чертежи и вычисления, подобно тому как обезьяна научается снимать и одевать шапку или садиться верхом на послушную ей собаку».[429] Возмущению читателей, которых сравнивали с обезьянами, не было предела. Когда ученый скончался (в 42 года), злопыхательство в его адрес не утихало. Одни прямо у могилы открыто выражали свою радость. Вторые сожалели, что Ламетри «умер в своей постели». Третьи ёрничали: взгляните же, а он еще доказывал, что человек – машина.
Одним из провозвестников надвигающейся революционной бури стал Клод Адриан Гельвеций (1715–1771), философ-материалист. Как и многие из его великих сверстников, он прошел школу иезуитов (учился в коллеже Людовика Великого, подчиненного ордену иезуитов). Его учителем станет Книга. Юноша читал Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Лафонтена, Монтеня, Лабрюйера, Ларошфуко, Локка («Опыт о человеческом разуме»). Первый биограф Гельвеция Сен-Ламбер писал: «Эта книга произвела революцию в его (Гельвеция) мыслях. Он стал ревностным учеником Локка, но учеником таким, каким был Аристотель для Платона, учеником, способным прибавить к открытиям учителя свои собственные открытия». Ученик должен идти дальше учителей. Закончив коллеж, Гельвеций стал финансистом. Связи при дворе обеспечили ему должность генерального откупщика с годовой рентой в 300 тыс. ливров. «Все золото мира» лежало у его ног. Так что же, да здравствует богатство и – pas de reveries!? (франц. никаких мечтаний?). Увольте нас от пошлого скудоумия крезов. Кому суждено быть философом, тому нечего делать в политиках и финансистах. В кущах философского сада куда больше богатств.
К тому же, находясь в Бордо, он узнал о новом налоге, грозившем окончательно разорить провинцию и город. Генеральный откупщик не мог равнодушно смотреть на вопиющую несправедливость администрации. Напрасно он пытался убедить власти отказаться от него. У власти своя «логика». Горе и бедствия заметны повсюду. В результате дороговизны хлеба вспыхивают восстания в Кане, Руане, Ренне (1725). В Париже бедняки громят склады и магазины. Следует жестокая расправа. Предместье Сент-Антуан украшено виселицами с трупами зачинщиков голодного бунта. Ученый лишен права на равнодушие. Все изыскания мира не стоят нищеты и страдания народов (хотя без науки нет прогресса). Как не хватает иным нынешним политикам чувства сопричастности, свойственного людям той эпохи. Видя преступления, Гельвеций обратился к народу с призывом: «До тех пор, пока вы ограничитесь жалобами, никто не удовлетворит ваши просьбы. Вы можете собраться в количестве свыше десяти тысяч человек. Нападите на наших чиновников, их не более двухсот. Я встану по главе их, и мы будем защищаться, но в конце концов вы нас одолеете, и вам будет воздана справедливость». Так должны говорить революционные философы и политики, а не блеять трусливо под алчным взором волчьей стаи псевдореформаторов, разворовавших страну.
Гельвеций встречался с Фонтенелем, Вольтером, Бюффоном (автором «Естественной истории»). Первым его произведением стало «Послание о любви к знанию» (1738). Следующий литературный опыт – «Послание об удовольствии», вызвавшее раздражение властителей и крупных собственников. Еще бы, ведь он прямо заявил: «Нет собственности, которая не была бы результатом кровавого насилия». Однако главными работами стали выдающиеся труды «Об уме» (1758) и «О человеке» (1769). Книги писались в условиях нараставшего кризиса во французском обществе. Феодальные повинности и поборы вели к деградации деревни. Народ нищал. Крестьяне вынуждены были бежать в города, где их ожидала не менее тяжкая участь. По свидетельству маркиза д`Аржансона, с 20 января по 20 февраля 1753 года в Сент-Антуанском предместье насчитали 800 несчастных, умерших от голода. Чудовищное расслоение общества и рост массовой нищеты неотвратимо влекли Францию к революции.
Клод Гельвеций.
Гельвеция надо читать вдумчиво, следуя пожеланиям автора («выслушать меня, раньше чем осуждать; проследить всю цепь моих идей»). Он писал: «У немногих людей есть достаточно свободного времени для получения образования. Бедняк, например, не имеет возможности ни размышлять, ни исследовать, и истины и заблуждения он получает готовыми; поглощенный ежедневным трудом, он не может подняться в сферу известных идей, поэтому он предпочитает «Голубую библиотеку» произведениям… Ларошфуко». Массовая бедность делает невозможным серьезное образование народа. До книг ли, когда от голода подводит желудок?! Ум постепенно деградирует: «При невежестве ум чахнет за недостатком пищи». Глубоко верным представляется и утверждение Гельвеция: все, что окружает нас в этой жизни, так или иначе, но принимает участие в воспитании. «Никто не получает одинакового воспитания, ибо наставниками каждого являются… и формы правления, при котором он живет, и его друзья, и его лечебницы, и окружающие его люди, и прочитанные им книги, и, наконец, случай, т. е. бесконечное множество событий, причину и сцепления которых мы не можем указать вследствие незнания их». Наше воспитание находится в руках общества.[430]
В программной работе «Об уме» Гельвеций говорит, что человечество обязано открытиями в области искусств и наук отнюдь не вельможам. Не их рука начертала планы земли и неба, строила корабли, воздвигала дворцы, ковала лемех плуга. Не ими написаны первые законы. Общество выведено из дикого состояния людьми просвещенными и учеными. Впрочем, сама по себе принадлежность к ученой братии еще не является «страховкой от глупости». Наука это лишь отложение в памяти фактов и чужих идей… «Ум» – это нечто совсем другое. В отличие от «науки» под «умом» предполагается «совокупность каких-либо новых идей». Поэтому Гельвеций утверждал: «На земле нет ничего, более достойного уважения, чем ум». Особое значение придавал он роли талантов: «Честный человек может стать полезным и ценным для своего народа только благодаря своим талантам. Какое дело обществу до честности частного лица! Эта честность не приносит ему почти никакой пользы. Поэтому о живых оно судит так, как потомство судит о мертвых: оно не спрашивает о том, был ли Ювенал зол, Овидий распутен, Ганнибал жесток, Лукреций нечестив, Гораций развратен, Август лицемерен, а Цезарь – женой всех мужей; оно выносит суждение только об их талантах».[431]
И вновь подтвердилась истина, гласящая: «Тираны и мерзавцы, помимо «критики оружием», больше всего на свете боятся честных и великих книг!». Продажные журналисты, ученые, клирики тотчас же, подобно стае злых бешеных собак, накинулись на труд Юпитера. Ладно бы нападали консерваторы-церковники (книга предана анафеме парижским архиепископом де Бомоном, римским папой Климентом XIII). Но и академики внесли свой вклад в травлю мыслителя. В 1758 году его осудила почтенная Сорбонна, выдвинув против автора свыше ста обвинений. Парижский парламент приговорил книгу Гельвеция к сожжению (с книгой Вольтера «Естественная религия»). Впрочем, появились и ее анонимные защитники в печати. Дидро отнес труд Гельвеция к великим творениям века. Отметил значение работы и президент Петербургской академии художеств небезызвестный граф И. И. Шувалов.
Французская культура вырастала и расцветала, питаясь соками античности. Жан де Лабрюйер (1645–1696) – блестящий мастер афоризмов, переводчик с греческого «Характеров» Теофаста. Он считал: «Чтобы достичь совершенства в словесности и – хотя это очень трудно – превзойти древних, нужно начинать с подражания им». Его оценки людей науки в «Характерах, или нравах нынешнего века» таковы: «Иные, будучи не способны ограничить свою жажду знаний какой-нибудь определенной областью, изучают все науки подряд и ни в одной не разбираются: им важнее знать много, чем знать хорошо, интереснее нахватать побольше знаний, чем глубоко проникнуть в один-единственный предмет. Любой случайный знакомец кажется им мудрецом, от которого они ждут откровений. Жертвы суетной любознательности, они в конце концов разве что выбиваются из полного невежества: таковы плоды их долгих и тяжких усилий. Другие владеют ключом от всех наук, но никогда в них не проникают… Память их до отказа наполнена, она уже больше ничего не вмещает, но головы все равно пусты».[432] Лабрюйер старался подражать и в жизни древним мудрецам. «Мне изображали его, – писал его современник д`Оливье, – как философа, который не думает ни о чем, кроме спокойной жизни в кругу друзей и книг, отбирая лучших из тех и других; который не жаждет и не ищет никаких наслаждений; предпочитает скромные радости и умеет их извлекать; вежлив в манерах и умен в рассуждениях; лишен всякого честолюбия, желания показать свой ум». Живя при дворе принца Конде, куда он был приглашен воспитателем юного герцога Бурбонского по рекомендации де Боссюэ, ему, безусловно, было очень нелегко чувствовать себя комфортно среди светских вертопрахов и аристократических ничтожеств, известных своей жестокостью и разгульными нравами. Но его философия стоила обедни.[433]
Важнейшей фигурой среди энциклопедистов стал просветитель и правовед Шарль Луи Монтескье (1689–1755). Книга «О духе законов» это своего рода системное обобщение социофилософских, историко-экономических, юридических взглядов прогрессивной части французской буржуазии, к которой принадлежал и Монтескье. Он получил наследственный пост президента парламента в Бордо (должность, связанная с судейскими функциями). Для него характерны либерально-гуманистические взгляды. Экономическая платформа буржуазии нашла точное и адекватное выражение в девизе одного из героев «Персидских писем» Монтескье. Девиз стал популярен у современников. Он и сегодня звучит достаточно веско и убедительно: «Выгода – величайший монарх на земле!» Житейские установки философа были понятны многим из тех, кто был во власти. Это безусловно помогло автору стяжать столь громкую славу, а заодно и получить всегда желанное кресло во французской Академии.[434]
Шарль Монтескье.
Как шло становление его взглядов? Три года Монтескье путешествовал по Западной Европе. Знакомился с социально-политическим устройством Италии, Голландии, Англии, Германии. Туманный Альбион произвел на ученого неизгладимое впечатление. Будучи юристом-правоведом, он оценил те преимущества, которые, как ему казалось, имеет английская политическая система. Монтескье получил возможность встречаться и беседовать с лучшими умами Англии того времени – Болингброком, Свифтом, Попом, Честерфилдом. Если «Персидские письма» – романтическая сказка, интригующая европейца, то «Дух законов» представляет собой внушительный философско-политический трактат, значительная часть которого посвящена критике деспотических правлений, где каждый дом – мрачная крепость. В сердца там стремятся вселить страх. Умы пичкают наипростейшими и примитивнейшими образами и идеями. Знание в таких государствах – опасно, а соревнование – бессмысленно. Главная цель доктрин – получить хорошего раба. Задачи воспитания тем самым упрощаются донельзя. Правилом поведения людей становится слепое повиновение. Итог его трагичен – массовое невежество и духовное рабство. Деспотия поделила общество на тиранов и рабов. Ее цели убоги и жалки. Деспотия боится «воспитать хорошего гражданина, чуткого к общественным бедствиям». Такой романтизм может толкнуть правителя к соблазну ослабить бразды правления. В итоге недолго и до ниспровержения. С другой стороны, ни одно правление «не нуждается в такой степени в помощи воспитания, как республиканское правление». Однако чтобы оно было успешным, нужны свободы, самостоятельность, предприимчивость, порядок. Свои симпатии к демократии Монтескье оговаривал «любовью к умеренности». Все (за исключением воров и бездельников) должны пользоваться в обществе «одинаковым благополучием и выгодами».[435] Монтескье считал, что «законы воспитания – это первые законы, которые встречает человек в своей жизни». Каково воспитание – таково и общество. В монархиях главным «воспитателем» выступает не школа, а «высший свет». Среди преимуществ системы – обретение человеком чувства чести, учтивости, вкуса и т. п. Автора отличает безграничная вера в силу законов и век разума. Эта часть книги с ее правовой «наивностью» и лукавыми упованиями на монархию выглядит неубедительно. Критики и не разделяли его оптимистических надежд на всесилие разума. Гельвеций говорил: «Всякий изучающий историю народных бедствий может убедиться, что большую часть несчастий на земле приносит невежество». Лабрюйер утверждал: толпы невежд исчисляются тысячами. Но Монтескье настаивал: «Каждый народ достоин своей участи». Чего же он достоин?
О том, что собой представляла жизнь простого народа Франции в XVII–XVIII вв., можно узнать скорее, глядя на полотна художника Луи Ленена (1593–1648). Он, как и его братья-художники, был выразителем крестьянского жанра в живописи («Трапеза крестьян», «Семейство молочницы», «Повозка» и т. д.). Этот художник испытал на себе влияние караваджистской традиции. Его искусство отличают ясность жанра и высокий гуманизм. Ленен первым непосредственно обратился к жизни крестьянина. Герои его естественны, скромны, полны достоинства. Право слово, в его крестьянах и рабочих больше благородства, чем во всех герцогах и королях.[436] Жизнь простого люда была невыносима. В Лотарингии в 1634–1636 гг. постоянно рыщут соперничающие армии, скорее похожие на бандитов. Когда армия принца Конде вошла в провинцию, о ней так писали в Париж: «Господа дворяне от первого до последнего пожирают все запасы и всюду вызывают голод, они стали помешищем для врагов, которые безнаказанно грабят даже у ворот Нанси». Ничуть не лучше вели себя и войска Карла IV. Это был тот период Тридцателетней войны, когда по землям Лотарингии, словно бушующие валы, катились воинства многих стран. По подсчетам ученых, в Лотарингии находилось тогда более 150 тысяч солдат (а вместе с обозом – около полумиллиона пришельцев). Столкновения, битвы, мятежи, грабежи, эпидемии – обычные картины того времени. Богатый торговый город Сен-Никола буквально был опустошен, так как туда только за один месяц вторглись немцы, французы, шведы. Город, насчитывавший 10 тысяч жителей, был дочиста разграблен и сожжен. Жителей убивали в домах и на улицах (в живых осталось несколько сотен), монахинь привязывали голыми к хвостам лошадей. Схожие картины можно видеть всюду. В 1636 г. в Лотарингию вторглось войско Карла IV, на знаменах которого девиз: «Сильно бьет, все берет, ничего не отдает». Жестокость вошла в плоть и кровь европейских вояк.
Ришелье писал: «Лотарингские владения обращены в ничто, большинство лотарингцев погибло, деревни сожжены, города пустынны, так что нет возможности восстановить Лотарингию даже за столетие». К тому же в 1636 свирепствовала особенно страшная эпидемия чумы (год чумы). Три четверти сельского населения погибли или покинули страну. Голод был вопиющим. Карл Лотарингский говорил, что его солдаты в разоренных областях вынуждены были есть людей, называя количество съеденных, – «более десяти тысяч». Люди разрывали могилы и ели трупы. Матери отдавали друг другу своих детей на съедение. «Видели даже многих матерей, доведенных до тяжкой необходимости есть своих собственных детей, чтобы не умереть с голода, и они говорили одна другой: сегодня я поем твоего, а завтра ты получишь кусок моего». Это не ужасные сказки, а быль. В этом корни будущих революций, а не в масонах!
Некоторые историки-мемуаристы признавались, что пишут, зная: в будущем им никто не поверит. Правители той поры – жестокие и гнусные твари. Одного из них, канцлера Сегье, звали «собака в большом ошейнике». Чтобы ликвидировать эти порядки, порой, увы, нужны гильотины, на которые и должны быть отправлены «собаки». Фарисеи извели потоки чернил, пролили океаны крокодиловых слез над трупами двух-трех монархов и их семей. Однако они напрочь забыли о невыносимых, жутких страданиях миллионов несчастных тружеников. Но память народа не убить! Мы не забудем вашего гнусного двуличия, господа. Современник описал состояние некогда цветущего края Франции (Лотарингии): «Бедняки подбирали падаль и погибший скот, словно это было лучшее мясо. Бедствия усугублял чрезмерный голод, от которого погибало множество людей. Часть несчастных крестьян скрывалась в лесах, другие оставались в совершенно разрушенных хижинах и, лишенные дров, погибали, так что деревни, когда-то выглядевшие небольшими городками, становились совсем пустынны, и немногие еще живущие в них люди были столь болезненны и истощены, что их принимали за скелеты». В последующие десятилетия ситуация не выглядела лучше. Многие источники сообщали о полном разорении и бедствиях народа в провинции[437]
Иероним Босх. Страшный суд. Фрагмент.
Впрочем, иные представители знати старались дать достаточно объективную картину состояния страны. Герцог Сен-Симон в «Мемуарах» (1750) рассматривал историю Франции как историю нравов, говоря, что он намерен «раскрыть интересы, пороки, добродетели, страсти, ненависть, дружбу, и все другие причины, – как главные, так и побочные, – интриг, заговоров, и общественных и частных, действия, имевшие отношения к описываемым событиям…» К сожалению, его внимание привлечено к придворным, чиновникам, священникам, военным, а не к положению широких народных масс. Его больше занимают и волнуют «принцы и принцессы крови» (les princes et les princesses du sang), а не кровь и страдания тружеников… Хотя в отдельных местах своего повествования он не скрывает возмущения положением униженной и разоренной Франции, изнемогающей под бременем чудовищных поборов знати, страны, терзаемой чиновничеством и буржуазией… «Между тем, – констатирует Сен-Симон, – все постепенно гибло, можно сказать гибло у всех на глазах: государство было совершенно истощено, войска не получали жалованья и негодовали на дурное командование, следовательно, чувствовали себя несчастными; финансы зашли в тупик; у военачальников и министров – полное отсутствие способностей, выбор их определялся только личным пристрастием и интригами; ничто не наказывалось, не изучалось, не взвешивалось; бессилие вести войну равнялось бессилию достичь мира; все безмолвствовало, все страдало; кто осмелился бы поднять руку на это строение, шатающееся и готовое упасть».[438]
Требования Сен-Симона надо было бы предъявить и нынешним историкам. Хотя сегодня для написания правдивой истории общественных нравов недостаточно просто «иметь глаза» и быть «соглядатаем своего века» (как сказал о Сен-Симоне Сент-Бев). Сегодня историку, философу, социологу, писателю необходимо иметь еще и такие качества, как смелость, совесть, честность и воображение, выступающие в союзе с глубочайшими знаниями. Наш народ должен понять: нельзя верить столичным «интеллектуалам», воспевающим «золотой век» монархий и западных «демократий». Эти сытые демагоги всегда лгали народу и обманывали его (как лгут и по сей день в России). Ранее показаны условия жизни народа Франции. Но вот что писал эстет П. Валери в XX в. почти о тех же временах: «Если бы Парки предоставили кому-либо возможность выбрать из всех известных эпох эпоху себе по вкусу и прожить в ней всю свою жизнь, я не сомневаюсь, что этот счастливец назвал бы век Монтескье. И я не без слабостей; я поступил бы так же. Европа была тогда лучшим из возможных миров; власть и терпимость в ней уживались; истина сохраняла известную меру; вещество и энергия не правили всем безраздельно; они еще не воцарились. Наука была уже достаточно внушительной, искусства – весьма изящными Даже улица была сценой хороших манер. Казна взимала с учтивостью. Народы жили правильно в мире».[439] Как удобна для их спокойствия эта «близорукость», скрывающая обычную трусость.
Конечно, в годы царствования Людовика XIV (1638–1715), получившего прозвище «король-Солнце», создан Версаль. Архитектор Лево приступил к возведению великолепных ансамблей (1660), завершенных уже Монсаром. Все эти немыслимые красоты (дворцы, скульптуры, ансамбли, фонтаны) обошлись в 150 миллионов ливров. Создание столь грандиозных сооружений требовало технических знаний и культуры труда. Поэтому доля истины есть и в словах историка Н. Карамзина, писавшего: «Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества, жизнь общественная украшалась цветами приятностей…»[440]
Жюль Ардуэн-Мансар. Колоннада в парке Версаля. 1685 г.
Перемены обусловлены ходом времени. В программу народного образования входит изучение светских авторов. В школах стали преподаваться физические и математические науки. Что же изменилось? Анри Сен-Симон писал: «Различие в этом отношении между старым порядком вещей и новым, между порядком, существовавшим пятьдесят, сорок и даже тридцать лет тому назад, и нынешним очень велико: эти довольно еще близкие к нам времена, когда хотели знать, получил ли человек отличное образование, спрашивали: хорошо ли он овладел греческими и латинскими авторами? А теперь спрашивают: силен ли он в математике, знаком ли он с новейшими открытиями в физике, химии, естественной истории, одним словом, сведущ ли он в положительных науках, в опытных науках?»[441] Во Францию направил Пётр Великий в 1719 г. механика Нартова (найти «мастера, который делает краны»). В Версале он осмотрел фонтаны и технические сооружения, каковыми уже тогда славилась Франция. Нартов изучил работу крупнейшего инженерного сооружения – гидросиловой установки плотины на реке Сене. В письме он сообщал: «А мы видим в Париже многия машины и надеемся мы оных секретов достать ради пользы государственной, которые махины потребляются на работах государственных». Внимание его привлекли токарные станки («токарные махины»). «Отец русской механики» привез из Парижа аттестат Парижской Академии, выданный ему за труды в области математики и механики. Президент Парижской Академии г-н Биньон отметил «великие успехи, которые он учинил в механике», подчеркнув способность Нартова накапливать «знания, которые ему потребны» (во Франции он учился у математика, геометра и механика Вариньона, у астронома Лафая, у художника Пижона и других).[442]
Правительство Людовика XV (которому принадлежит фраза, брошенная маркизой Помпадур королю в 1757 г.: «После нас хоть потоп!») после смерти Сен-Симона, опасаясь разоблачений в свой адрес, конфисковало рукопись, которая увидела свет лишь через 75 лет (была опубликована в 1829–1830 гг.). Любопытно и то, что потомок рода Сен-Симонов в дни Великой Французской революции, поднявшись на трибуну народного собрания, торжественно сложит с себя титул знатного дворянина, заявив: «Отныне во Франции нет больше синьоров, граждане!» Что ни говорите, а бунтарская кровь предков живет в детях и внуках. «Цвет французского общества» продолжал наслаждаться жизнью, предаваясь куртуазным забавам в духе рококо, не желая хотя бы во имя приличия прикрыться «фиговым листком добродетели» (как это делали скульпторы при ваянии нагого тела с XVI века). Снобы и дамы отдавались во власть «духа мелочей прелестных и воздушных». Словно вокруг не было горя и нищеты. В книгах и картинах проявилась чувственно-эротическая сторона эпохи. Обычным сюжетом становились сцены насилия: «Силой овладел телом» («Vim corpus tili»). Иные понимали: их время подходит к концу – и предавались упоительно-безумному веселью и любовным оргиям. Фаворитки превращали королевские покои в собственную прихожую. Литература той эпохи может порассказать о многом – «Персидские письма» Монтескье, «Манон Леско» Прево, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Простодушный» Вольтера, «Нескромные сокровища» Дидро и другие. Романы были школой и университетом. Пьянящий дионисийский хмель бродил даже монашеских душах. Воспитание понималось как свод неких правил. В романе Кребийона-сына «Заблуждения сердца и ума» (1736–1738) дается наставление повесе: «…Я буду счастлив научить вас кое-чему. Есть вещи, непонимание которых ставит вас в неловкое положение, а с течением времени становится даже постыдным, ибо их должен знать каждый светский человек. Без знания их самые великие преимущества, полученные нами при рождении, не только не возвышают нас, но, напротив, могут погубить. Я понимаю, что наука эта является сводом мелочных правил и что многие из них оскорбляют и разум и честь; мы можем презирать эту светскую мудрость, но ее надо изучать и следовать ее правилам неукоснительнее, чем законам, более возвышенным, ибо, к стыду нашего общества, нам скорее простят преступление против чести и разума, чем нарушение светских приличий». Тем самым, наставник дает ему понять, что честь и разум – это обуза.[443]
В том же духе размышляло немало светских бездельников и шалопаев. В эпоху позднего абсолютизма столицы купались в шампанском, упивались развратом. Попойки, ночные оргии, карнавалы, словно во времена незабвенной Лукреции Борджиа, сотрясали дряблое тело Европы. В то время как лучшие умы в тиши кабинетов, повинуясь долгу, разрабатывали контуры будущего общества, другие воровали и грабили, прожигая жизнь. «Золотая молодежь» в этом даже видела некое геройство. O imitatores, servum pecus! (лат. «О подражатели, скот раболепный!»). Пушкин иронично писал о том времени: «…образованность и потребность веселиться сблизила все состояния». Разумеется, речь в этом случае шла о верхних слоях общества. Нижние же слои жили все хуже и хуже, беспросветнее и беспросветнее.
А как просвещали представительниц слабого пола? Где обучались молодые девушки? Почитайте мольеровских «Учёных женщин» (1672). Попрежнему в монастырях, где они за чтением Библии мечтали о мужчинах с их коварным предложением Savoir faire aimer! (франц. «Научить любить»). Монастырская система обучения вступила в разлад с веком. Запертые в кельи, как в тюрьмы, ученицы были плохо подготовлены к жизни. Дидро, прошедший школу иезуитского коллежа д`Аркур, отказавшийся от духовной карьеры, описал в романе «Монахиня» (1760) судьбу такой девушки (незаконнорожденной дочери адвоката, упрятанной в монастырь). Дидро устами своей героини описывает устав монастыря: «В Лоншане, как и в большинстве других монастырей, настоятельницы меняются через каждые три года. Когда меня привезли сюда, эту должность только что заняла некая г-жа де Мони. Я не могу передать вам, как она была добра, сударь, но именно ее доброта и погубила меня. Это была умная женщина, хорошо знавшая человеческое сердце. Она была снисходительна, хотя в том не было ни малейшей надобности: все мы были ее детьми. Она замечала лишь те проступки, которых ей никак нельзя было не заметить, или настолько серьезные, что закрыть на них глаза было невозможно… У г-жи де Мони был, пожалуй, лишь один недостаток, который я могла бы поставить ей в упрек: дело в том, что любовь к добродетели, благочестию, искренности, к кротости, к дарованиям и к честности она проявляла совершенно открыто, хотя и знала, что те, кто не мог претендовать на эти качества, тем самым были унижены еще сильнее. Она обладала также способностью, которая, пожалуй, чаще встречается в монастырях, нежели в миру, – быстро узнавать человеческую душу».[444] Однако тут были и свои соблазны.
Франсуа Жирардон. Купающиеся нимфы. 1675 г.
Лишь особы из дворянских семей могли получить образование в институтах для благородных девиц, наподобие учрежденного в конце XVII в. заведения мадам де Ментенон (тайной супруги Людовика XIV). Ее считали некоронованной королевой Версаля. Эта женщина, словно волшебница, в свои 66 лет выглядела так, как будто ей 30, а в 45 лет она считалась самой красивой женщиной королевства. Ментенон была дамой просвещенной. С ней можно было обсуждать комедии Мольера и трагедии Расина. Король любил эти беседы. Говорили, что она якобы управляет Францией. Это не так. Мадам помнила фразу, которую повторял Людовик: «Надо остерегаться женщин, которые занимаются делами наравне с мужчинами». Ею было создано учебное заведение (дом Святого Людовика в Сен-Сире). Она там царствует даже больше, чем в Версале. Для этого дома, предназначенного для воспитания молодых благородных девиц, не имеющих состояния, она составила устав. Она следила за его соблюдением, приходила инспектировать во время уроков и перемен, присоединялась к молитвам своих подопечных, даже обедала в их «столовой, предпочитая эти обеды королевскому банкету». Она хотела воспитать настоящих дам, не жеманниц или ветрениц. «Нелепая и нескромная манера таких девиц одеваться, употребление табака, вина, их чревоугодие, грубость и лень» – все это противоречит вкусу маркизы. Она говорила: «Я люблю женщин скромных, воздержанных, веселых, способных быть и серьезными, и любящими пошутить, вежливых и насмешливых, но чтобы в насмешке не было злобы, сердца которых были бы добры, а беседы отличались бы живостью, были бы достаточно простодушными, чтобы признаваться мне в том, что они себя узнают в этом портрете, который я нарисовала без особого замысла, но который я считаю очень верным».[445]
Если светская публика получала их в урезанно-извращенном виде, то до крестьянок и тружениц не доходили даже эти крупицы знаний. Иные дамы, подобно маркизе де Мертей, заняты были охотой на опытных кавалеров или в некоторых случаях совращали слащавых школьников. Вместо бесед о науках, рассуждений о всякого рода серьезных «материях», дамы обсуждали туалеты, опасные связи, затаив дыхание, вопрошали в кругу товарок и жуиров: «Ах, виконт, вы бросили президентшу?»[446] Против такого образования и воспитания и были направлены стрелы просветителей. Пример Манон Леско – «самовластной, в себе не властной, сладострастной своей Манон», как писала Цветаева, – показателен. Во Франции (да только ли там!?) немало таких «манон», ветреных и соблазнительных, царивших в гостиных и будуарах. Образованию женщины следовало уделять больше внимания. Дж. Тейлор прав, говоря: что «история, не принимающая во внимание проблемы пола, является, по сути дела, выхолощенной и невразумительной». О морали французского общества с иронией писал Монтескье в «Персидских письмах» (говоря о Франции): «Мужья здесь легко примиряются со своей участью и относятся к неверности жен как к неизбежным ударам судьбы. Мужа, который один захотел бы обладать своей женой, почли бы здесь нарушителем общественного веселья и безумцем, который желает один наслаждаться солнечным светом, наложив на него запрет для всех остальных. Здесь муж, любящий жену, – это человек, у которого не хватает достоинств, чтобы увлечь другую…»[447] Увлекающий многих ко всем равнодушен.
Антуан Ватто. Туалет.
Чрезвычайно неоднозначным было отношение к прекраснейшей половине человечества. Гонкуры представляют дело так, будто то был золотой век женщины («Женщина в XVIII в.»). Дадим слово авторам: «В эпоху между 1700 и 1789 гг. женщина не только единственная в своем роде пружина, которая все приводит в движение. Она кажется силой высшего порядка, королевой в области мысли. Она – идея, поставленная на вершине общества, к которой обращены все взоры и устремлены все сердца. Она – идол, перед которым люди склоняют колена, икона, на которую молятся. На женщину обращены все иллюзии и молитвы, все мечты и экстазы религии. Женщина производит то, что обыкновенно производит религия: она заполняет умы и сердца. В эпоху, когда царили Людовик XV и Вольтер, в век безверия, она заменяет собою небо. Все спешат выразить ей свое умиление, вознести ее до небес. Творимое в честь ее идолопоклонство поднимает ее высоко над землей. Нет ни одного писателя, которого она не поработила бы, ни одного пера, которое не снабжало бы ее крыльями. Даже в провинции есть поэты, посвящающие себя ее воспеванию, всецело отдающиеся ей. И из фимиама, который ей расточают Дора и Жентиль Бернар, образуется то облако, которое служит троном и алтарем для ее апофеоза, облако, прорезанное полетом голубей и усеянное дождем из цветков. Проза и стихи, кисть, резец и лира создают из нее, ей же на радость, божество, и женщина становится в конце концов для XVIII в. не только богиней счастья, наслаждения и любви, но и истинно поэтическим, истинно священным существом, целью всех душевных порывов, идеалом человечества, воплощенным в человеческой форме». Женщина-мать и возлюбленная была священным существом. Если взглянуть на тему «дамского счастья» шире, становилось ясно, что женщине мужской половиной человечеств отведена роль сладострастного животного. Клеймо кокотки, словно лилия позора, выжжено на её трепетном и прекрасном теле. Об амурных похождениях откровенно говорил в мемуарах граф Тилли: «Во Франции необходимо пустить в ход немало прилежания, ловкости, внешней искренности, игры и искусства, чтобы победить женщину, которую стоит победить. Приходится соблюдать формальности, из которых каждая одинаково важна и одинаково обязательна. Зато почти всегда есть возможность насладиться победой, если только нападающий не болван, а женщина, подвергшаяся нападению, не олицетворение добродетели».[448]
Многое объяснялось не только нравами, но и несовершенством системы воспитания и образования. Дидро в романе «Жак-фаталист и его Хозяин», написанном им во время пребывания в России и Голландии (1773–1774), дал исчерпывающую характеристику школьному обучению тех лет: «Гусс и Премонваль вместе содержали школу. Среди учеников, толпами посещавших их заведение, была молодая девушка, мадмуазель Пижон, дочь искусного мастера… Каждое утро мадмуазель Пижон отправлялась в школу с папкой под мышкой и готовальней в муфте. Один из профессоров, Премонваль, влюбился в свою ученицу, и в промежутках между теоремами о телах, вписанных в сферу, поспел ребенок». Впрочем, в такой манере «обучения наукам» не было ничего необычного.[449] Первый роман Дидро назван «Нескромные сокровища» (1748). Под словом «роман» тогда понимали «вереницу фантастических и легкомысленных событий, читать о которых опасно для вкуса и нравов» (Дидро). Позже энциклопедист отрицал свое авторство. На склоне лет он назвал сей труд «грехом молодости». Писались «Нескромные сокровища», когда Дидро перешагнул за возраст Христа. За плечами – женитьба на простой девушке Антуанетте, далекой от интересов мужа. Настроения той поры нашли отражения в книге, написанной на пари за две недели. В ее героях он видел отражение частицы и самого себя. Таков Мангогул, который преуспел в содействии расцвету наук и искусств, в утверждении и исправлении законов, в учреждении академий и университетов, а также в «битвах» в серале. Роман – гротеск, сатира на дам света. Так что и Дидро (как и многие в Европе) начинал писательскую карьеру с «Cherches la femme».[450]
Писатель Мариво в романе «Удачливый крестьянин» (1734) воссоздал картину тогдашнего общества, где все зыбко и непрочно. Рушатся привычные ценности. Трещат социальные перегородки в обществе. Откуда-то появились безродные выскочки с волчьей хваткой. Они скупают собственность бывших властителей, а бывшие «хозяева» идут к разбогатевшим откупщикам и спекулянтам на службу. В «новых французах» все – сплошное лицемерие, фальшь и обман. Они стремятся нагреть руки на самых грязных махинациях. Некий господин ля Валле, лежа в постели любовницы, делится с ней планами: «Лично мне очень нравится быть сборщиком налогов: это прибыльное дело и источник пропитания для тех, у кого ничего нет… Почему бы нам не выйти в финансисты, приискав занятие доходное и не требующее больших вложений – а ведь в этом и состоит хитрость денежных людей. Наш барин, который купался в золоте до самой своей смерти, достиг богатства именно денежными операциями. Почему бы и нам не пойти по его стопам?».[451] Таковы некоторые черты той эпохи.
Антуан Ватто. Актеры итальянской комедии. Ленинград. Эрмитаж.
Вероятно, в том времени была и своя элегическая прелесть. Вспомним милые сказки Ш. Перро, появившиеся в 1697 г. («Красная Шапочка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах»), картины прославленного А. Ватто (1684–1721), который сумел воссоздать мир настроений. Картины его – гимн любви. (Злые языки утверждали, что он не моет кисти). Кто мог остаться равнодушным при взгляде на картину «Хотите покорять красавиц?» Кто из дам не оказывался в трудном положении, отбивая наскоки мужчин (картина «Затруднительное предложение»). Колорит его картин согревал сердце. Вместе с тем при взгляде на общество отчетливее понимаешь неизбежность «смены декораций». Схожее впечатление возникает и при рассмотрении луврского шедевра Ватто – «Дамы и кавалеры покидают Киферу на золотой ладье», картин О. Фрагонара (1732–1806), кумира артистических уборных («Качели», «Поцелуй»). Похоже, век изящных дам и кавалеров в самом деле готовился отплыть в небытие.[452] Ватто многое позаимствовал у Рубенса, картина которого «Сад любви» стала мотивом и для галантных празднеств Ватто. На его творчество будут опираться Шарден, Буше и другие.[453]
Искусство рококо – это любовь, возведенная в ранг эстетического закона. Один из критиков так охарактеризовал этот стиль: «В литературе рококо нет места героизму и долгу; царят галантная игривость, фривольная беззаботность. Гедонизм становится высшей мудростью рококо. Поэты воспевают праздность, сладострастие, дары Вакха и Цереры, сельское уединение, отдаляющее человека от треволнений общественной жизни. Распространенным мотивом становится путешествие на остров Цитеру (остров Любви). Всем богам поэты рококо предпочитают улыбающуюся Афродиту. Мир рококо дышит негой и беззаботностью. Но есть в нем нечто эфемерное, хрупкое, словно он сделан из фарфора. Рококо тяготеет к камерности, миниатюрности. Это мир малых форм и неглубоких чувств». Не всегда это так. В работах Морис-Кантен Латура (1704–1788) ощущаешь, сколь изменилась эпоха. Латур ведет себя с королями и их фаворитками, как с равными: диктует им правила поведения, условия сеансов, выставляет внушительные суммы за картины, не разрешает царственным особам путаться под ногами во время его работы и т. д. Стоило дочери Людовика XV пропустить сеанс, он оставил её портрет неоконченным. Однажды когда он писал портрет маркизы Помпадур, к нему без приглашения заявился король. Латур бросил мольберт и покинул мастерскую. Он готов читать нравоучения самому королю, давая советы, как лучше управлять. Он создал «целую живописную энциклопедию французского общества». В нём на удивление точно отразился насмешливый и саркастичный «вольтерьянский тип» («Автопортрет»).[454]
Страница английского букваря.
Конечно, общий уровень культуры и образования дворян и буржуазии с годами вырос. Серая необразованность уходила в прошлое. Коллежи (в том числе и церкви) успели воспитать толковых людей. Отныне «тонкость ума присуща не только писателям, но и людям шпаги, и аристократам, не отличавшимся большой образованностью при последних королях». Плоды «культурной революции» все заметнее. Один из современников писал (1671): «У нас есть еще герцоги, графы и маркизы, отличающиеся тонкостью ума и весьма эрудированные, которые одинаково хорошо владеют пером и шпагой, способны создать балет и написать исторический трактат, разбить лагерь и построить армию в боевом порядке для сражения». Образованность более не считается исключением. Это уже кое-что да значит в то время.[455] Знаменательно и то, как изменились ориентиры во французском обществе. Человек церкви Прево (аббат) решительным образом выступает в поддержку светской культуры и образования, хотя и в религиозном облачении. Он приводил французам в пример ту же Англию, говоря: «Каждый здравомыслящий человек предпочтет их мудрые религиозные учреждения – больницы, приюты, школы – нашим монастырям, где пестуют безделье и праздность».[456]
О значении уходящей цивилизации блистательно сказал Жан де Лабрюйер (1645–1696) в своих «Характерах»: «Меньше века тому назад французская книга состояла из страниц, написанных по-латыни, в которых были вкраплены французские тексты и слова. Одна за другой шли выдержки, примечания, цитаты. В вопросах брака и завещания судьями выступали Овидий и Катулл; вместе с пандектами Юстиниана они приходили на помощь вдовам и сиротам. Духовное было столь прочными узами связано со светским, что они не разлучались даже на церковной кафедре: с нее поочередно звучали слова то святого Кирилла, то Горация, то святого Киприана, то Лукреция. Положение святого Августина и отцов церкви подкреплялись цитатами из поэтов. С паствой беседовали по-латыни, к женщинам и церковным старостам долгое время обращались по-гречески. Чтобы так плохо проповедовать, нужно было очень много знать. Иные времена, иные песни: текст берется по-прежнему латинский, но проповедь произносится на французском языке – и притом отличном! Евангелие даже не цитируется. Сегодня, чтобы хорошо проповедовать, можно почти ничего не знать». Это довольно точная характеристика переломного времени, когда старая культура уже ушла или постепенно уходит, а новая, плодящая невежд толпами, оставляет желать лучшего.[457] Моруа писал, что в Лабрюйере комментаторы увидели философа в духе XVIII века и революционера за сто лет до революции. Он – предшественник Монтескье, Флобера, Гонкура, Пруста – умел оттенять мельчайшие грани, «высекая из огня» ослепительную мозаику.[458] Появляется книга Вовенарга «Введение в познание человеческого разума, сопровожденное Размышлениями и максимами на разные темы» (1746). После ее выхода в свет Вольтер напишет автору восхищенное письмо, где скажет, что исчеркал карандашом «одну их лучших книг, написанных на нашем языке». Жизнь Люка де Вовенарга (1715–1747) была недолгой. Книга его не была забыта. Вовенарг писал: «Я отлично знаю, что никакое образование не заменит таланта. Знаю и то, что дары Природы ценнее, нежели все обретенное с помощью воспитания. Тем не менее, чтобы талант расцвел, его надобно воспитывать. Если оставить природные способности в небрежении, зрелых плодов они не принесут. Назовем ли мы благом бесплодный талант?» Он писал: «Нет школы лучше и полезней, нежели общение с людьми».[459]
Во Франции все больше людей, ум которых занят как проблемами мироздания, так и развития человеческой личности. В естествознании возникла фигура Жоржа де Бюффона (1707–1788), прославившегося работами в области теории вероятностей. Этот ученик иезуитов был избран в Парижскую академию естественных наук и полвека пробыл на посту интенданта королевского сада. Его перу принадлежит 36-томная «Естественная история». Бюффон попытался установить возраст Земли (планка ее возраста поднята им до 75 тыс., а затем до 3 млн. лет). Выпускник иезуитского коллежа Жан-Батист-Рене Робинэ (1735–1820), последователь Локка и Лейбница. В частности, от Лейбница он заимствовал закон равенства добра и зла. Гегель увидел в том намек на то, что всякая деятельность «осуществляется только через противоречия». Противоречия присущи как обществу, так и ребенку. Робинэ эмигрировал в Амстердам и издал там главную свою работу – «О природе» (1761). В книге Ж. Робинэ говорится о «равновесии добра и зла во всех субстанциях и во всех их модальностях». В политике, экономике, культуре, образовании также существуют подобные равновесия. Наиболее интересна мысль о наличии у людей нравственного инстинкта, или, как мы бы сказали, совестливости и порядочности. Власть, правительство, общество, институт, школа действуют двояко: по законам правды и совести, или по законам подлости и безнравственности. «Неужели нужно быть глубоким мыслителем, – вопрошал Робинэ, – чтобы суметь стать добродетельным? Неужели мы приходим к пониманию добра и зла только в результате длинной цепи аргументов? Правило наших поступков должно быть внутри нас, должно объясняться из самого себя, без всякого переводчика. Оно должно быть универсальным и неизменным. Где найти эти признаки, как не в единообразном инстинкте, общем все людям, одинаковом для всех? Его голос достаточно громок; его прорицания недвусмысленны. Кто его слушает, тот его слышит и понимает. Он говорит со всеми сердцами на одном и том же языке и предписывает во все времена один и тот же закон. Он является живой мерой справедливости. Все хорошо лишь через него».[460] Он был королевским цензором, а затем и секретарем министра Амело (при Людовике XVI). Что поделаешь! Ведь, Робинэ не удалось получить королевской пенсии, не владел он предприятиями, как Вольтер, не был помещиком, как Гольбах, или откупщиком, как Гельвеций. Не изведал он, подобно Дидро, и щедрот великой Екатерины II.
В XVI в. богатство означало накопление мешков с зерном. «Королевские песнопения о зачатии». Париж. Национальная библиотека.
Эпоха требовала появления людей наивысшего ума, доблести и чести. Людей с сердцем Прометея. Как известно, les grandes pensees viennent du coeur («великие мысли исходят из сердца»). Этой высокой цели служат энциклопедисты и революционеры – орудия небес, посланные на Землю для сокрушения лжи и тирании одних и рабской покорности других. Пылающий меч Немезиды! Итак, на авансцену истории выступают новые действующие лица, французские энциклопедисты. Они – «родители» Великой Французской революции. Русский князь-анархист П. Кропоткин подчеркивал: требования философов, связанные в одно целое благодаря духу системы и методичности, свойственному французскому мышлению, «подготовили в умах падение старого строя». Умственное движение предшествует бунту народа. В любом обществе первыми идут философы, потом говорят пушки, если молчит ум.[461]
Яркой личностью был Мари Франсуа Аруэ (1694–1778), выходец из круга ремесленников и купцов, известный всем как Вольтер. С 12 лет он сочиняет собственные стихи. Учился в коллеже Людовика Великого, где привлек всеобщее внимание познаниями, страстью к спорам и насмешкам. Его характеризовали так: «puer ingeniosus, sed insignis nebulo» («мальчик одаренный, но большой шалопай»). Этот «шалопай» станет духовным наставником Франции, просветителем Европы. Имя его будет на устах у всего мира. Перо – его скипетр, ум – корона. Само слово «вольтерьянец» стало нарицательным. Вспомним графиню в грибоедовском «Горе от ума»: «Ах! Окаянный вольтерьянец!» Пушкин в пору лицейства посвятит сыну Мома и Минервы (злоречивый бес и богиня мудрости у греков) такие строки:
Всех больше перечитан, Всех менее томит; Соперник Эврипида, Эраты нежный друг, Арьоста, Тасса внук Скажу ль?.. отец Кандида Он все; везде велик, Единственный старик!Вольтер – разрушитель абсолютистского государства. Будучи отпрыском купцов, Вольтер отстаивал интересы богачей: «В Англии, во Франции по сотням каналов течет богатство. Вкус к роскоши проник во все слои общества: бедняк живет за счет тщеславия богачей, и труд, оплаченный праздностью, открывает постепенно дорогу к изобилию». Подобное безапелляционное утверждение спорно. Безмерные богатства одних способствуют расцвету лишь малой части нации. Большая часть общества при этом чаще всего бедствует.[462] Что же касается его отношения к королевским особам, то оно было довольно прохладным еще с молодых лет. Однажды его заподозрили в сочинении язвительных стихов против короля и регента – и упрятали в Бастилию на год (где он написал «Генриаду»). После выхода из тюрьмы его пытались приручить, а регент пообещал ему приличный стол и угол. Вольтер отвечал: «Мне будет очень приятно, если ваше высочество даст мне пропитание; но что касается казенной квартиры, то если она по-прежнему будет в Бастилии, то увольте». Порой из-под колпака патриарха видны «уши» не просвещенца, а фарисея. «Ниспровергатель тронов» пишет Екатерине II в духе низкопоклонства «Нужно мне сказать вам (хотя вы это видите и без меня), что вы вскружили все головы от берегов Балтийского моря до альпийских гор… Нижайший и покорнейший фернейский отшельник, энтузиаст е.и.в. Екатерины Второй, первой среди всех женщин и посрамляющей столь многих мужчин».[463] Хотя такая лесть воспринималась как эпистолярный прием, признак хорошего тона. К тому же, лесть женщине зачастую дает мужчине то, чего он не может добиться, прибегая к иным ухищрениям.
Ж.-А. Гудон. Статуя Вольтера. 1781 г.
Гюго утверждал, что в его лице мы видим эпоху: «Он был больше, чем человек. Он был веком». Однако и «век» нуждается в критике. Сводя Вольтера с монументального постамента, мы видим: перед нами – существо алчное и мелочное. Достаточно было юному Лессингу познакомиться поближе с фернейским патриархом, как он навсегда разочаруется в нем. Признавая, что тот управлял и руководил «громадной машиной европейского мнения», Т. Карлейль говорил, что в нем «нет и следа высокого благородства». Вольтеру так и не удалось подняться над уровнем «почтенного буржуа». В его жизни нет и капли героизма, и «все его тридцать шесть томов, по нашему мнению, не заключают в себе ни одной великой идеи».[464] Что сказать в ответ? У каждой эпохи свои герои. У каждого времени года свое очарованье.
Вольтер считал воспитание ключом к судьбе человека… Воспитание плюс способности и природные задатки. В раннем произведении «Рассуждения о человеке» он сформулировал теорию развивающейся наследственности. В трагедии «Заира» (а его до смерти будут называть автором трагедий «Заира» и «Меропа», но не философских трудов) есть и такие строки:
Мы с детства, следуя заботе и примеру, Слагаем строй души и укрепляем веру; На Ганге идолы внимали б мой обет, В Париже – Иисус, в Солиме – Магомет. Все – воспитание. Рука отцов чеканит В сердцах детей узор, что после духом станет, Что будет углублен в движении годин, Что в силах вытравить, быть может, Бог один.Хотя Вольтер не был сторонником религиозного образования, требуя высвободить школы из-под диктата католической церкви. Им выдвинуты и новые требования к изучению наук. Молодежь нуждается не в теологии, а в глубоком и тщательном усвоении основ наук. Вольтеру принадлежит и следующее изречение: «Чем больше у человека ума, тем больше он усматривает оригинальных людей. Заурядный человек не видит различия между людьми».[465]
Вольтер любил повторять: «Однажды все станет лучше – вот наша надежда». Во Франции конца XVIII в. до этого далеко. Уровень начального и среднего образования низок. Примерно 53 процента мужчин и 73 процента женщин считались неграмотными (1790). Лишь немногие умели подписывать свое имя. Говорят о реформе системы образования. С предложением ее модернизации выходят Де Морво и Ла Шалоттэ. Вольтер поддержал идею. Считая необходимым открыть народу доступ к знаниям, он вместе с тем придерживался классового подхода. В просвещении, говорил он, следует «навсегда отделить глупый народ от порядочных людей». Реформы не должны были никоим образом затрагивать «черни». Широко известна фраза Вольтера: «Никто не предполагал просвещать сапожников и служанок». В ней, как в зеркале, отражается глубочайшее презрение богача и буржуа к простому люду.[466]
«Народ находится между людьми и животными», – писал французский просветитель. Чернь, по его мнению, «хищный зверь, которого должно держать на цепи страхом виселицы и ада». Он один из первых узрел всю опасность действия разнузданной черни. При этом он прямо заявлял: «Если чернь принимается рассуждать, – все погибло». «Чернь» Вольтера не интересовала. Она просто не существует в его работах. Автор очерка о философе пишет: «Невольно вспоминаются при этом знаменитые описания бедственного положения земледельческих рабочих Франции XVIII века. Но Вольтер и не думает всматриваться в это положение… По большей части он их вовсе не касается. Он изменит, как мы увидим впоследствии, свое мнение о мире и перестанет находить его удовлетворительным, но низшие классы и тогда останутся вне поля его зрения. В нем нет вражды к этим классам, свойственной европейскому буржуа XIX века. Не сознательный эгоизм, не жестокость заставляют его игнорировать положение трудящихся масс. Сделавшись впоследствии землевладельцем, Вольтер явится самым заботливым, самым щедрым благодетелем всех окружающих бедняков. Он всегда был очень добр с прислугой, со всеми слабыми, зависящими от него существами, – был очень добр даже с животными. Но в то же время низшие, необразованные люди занимали в его миросозерцании немного больше места, чем животные. Ко всем классам, причастным к цивилизации, двигающим ее вперед или тормозящим, подобно духовенству, он становится в те или другие определенные отношения: дружит с ними или воюет. К остальному человечеству, непричастному к цивилизации, он равнодушен. Это для него инертная, бесформенная масса, не могущая ни помешать, ни помочь прогрессу, а лишь пассивно подчиняющаяся его результатам. Поэтому-то он и не думает о ней. Люди низших классов для него как бы не совсем люди, а – так, как выразился граф Толстой, говоря о своем миросозерцании до момента перехода в новую веру» (И. Каренин).[467] Такие «вольтеры» нам не нужны. Своих хватает.
Вольтер не воспринимал не только «чернь». Он не ставил ни во грош даже великого Шекспира (хотя охотно заимствовал у него сюжеты «Заиры» и «Смерти Цезаря», и многие сцены из собственных трагедий). «Предпочитать чудовище Шекспира – Расину! Я скорее согласился бы променять Аполлона Бельведерского на Христофа (грубая статуя, отличавшаяся колоссальными размерами)», – говорил Вольтер Дидро. На это тот возражал: «А что бы вы сказали, если бы этот громадный Христоф, совсем живой, расхаживал по улицам?» Как человек и философ Вольтер у многих вызывал неприязнь. Однако если речь идет о творчестве, надо быть объективным. Рассуждения его оригинальны. Язык образен и афористичен. Он умел завоевывать умы и сердца. Вот образец его легкого и ажурного стиля повести «Задиг, или судьба»: «Из первой книги Зороастра он узнал, что самолюбие – это надутый воздухом шар и что, если его проколоть, из него вырываются бури. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек. Постигнув науку древних халдеев, он обладал познаниями в области физических законов природы в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало».[468]
Прекрасно зная историю, в трудах («Век Людовика XIV», «Век Людовика XV», «Опыт о нравах и духе народов») он бросает ретроспективный взгляд на развитие цивилизации. Вольтер хотел написать всеобщую историю народов («…нужно изучать дух, нравы, обычаи народов». В ее «анналы» должны были войти: культура, открытия и изобретения науки, искусства, история экономического развития народов, торговли и финансов, военного дела и мореплавания, то, что позже назовут социальной историей. Вольтер говорил: «Все это имеет в тысячу раз большую цену, чем вся масса летописей дворов и все рассказы о военных кампаниях». В последнем случае он был прав. Его интересовала культурная миссия других народов. В «Опыте» отмечен вклад арабов в историю европейской и мировой культуры, подчеркнуто всемирно-историческое значение России. Каталог его библиотеки впечатляет. Говоря, что «театр облагораживает нравы», он пишет пьесы. Вспоминается К. Гоцци, считавший театр «всенародной школой». Жилище он именовал то «садом Аристиппа», то «садом Эпикура». Тут и родилась знаменитая формула его жизни – «Строю, сажаю, выращиваю».
Театр «Комеди франсез».
И все же Вольтер в ряде случаев выступал решительным защитником свободы и прогресса. Это особенно касается его позиции в отношении известной «Энциклопедии» Дидро и ее статей. Когда Омер Жоли де Флери, генерал-адвокат парижского парламента, обрушился на «Энциклопедию» и ее авторов, называя их безбожниками, крамольниками, совратителями юношества, Вольтер встал на защиту энциклопедистов. Он назвал Омера «удивительным дураком», добавив, что «довольно одного дурака, чтобы обесславить целый народ». Однако и тут Вольтер предпочитает, как наши «демократы», покусывать исподтишка тех, кого он терпеть не мог и презирал. В его «Мемуарах» читаем такие откровения: «Легко после этого согласиться с тем, что при таких обстоятельствах философу не следовало жить в Париже и что весьма благоразумно поступил Аристотель, когда из Афин, где господствовал в то время фанатизм, удалился в Халкиду. А кроме того, в Париже звание писателя ниже рангом, чем звание уличного фигляра; а звание действительного камер-юнкера его величества, сохраненное за мной королем, тоже не очень-то значительно. Люди глупы, и лучше, на мой взгляд, построить себе красивый замок, – что я и сделал, – ставить там на домашней сцене комедии и вкусно есть, чем, подобно Гельвецию, быть затравленным хозяевами парламентского двора и сорбоннской конюшни. Так как я не в силах был, конечно, сделать людей более благоразумными, парламент менее самонадеянным, а богословов менее смешными, то я продолжал благоденствовать вдали от них. Я не стыжусь своего благоденствия, наблюдая за всеми бурями из гавани. Я вижу залитую кровью Германию; разоренную сверху донизу Францию, нашу побежденную армию и разбитый флот, наших министров, которых смещают одного за другим, отчего наши дела ничуть не поправляются». Видя бедствия отечества и народа, Вольтер предпочитал отсидеться за границей, в тиши и покое своего замка, за прекрасно сервированным и сытным столом. Очень удобная позиция мещанина от литературы и философии. У нее, конечно, будет немало искренних и преданных сторонников среди нынешних равнодушных, трусливых элит (в бедной России).
Однако, будучи литературным трусом (в конце концов, не всем же быть героями), он порой не упускал случая донести крупицу правды, если эта правда сказана другим и не принесет ему неприятностей. В частности, писал о том, что получил от прусского короля Фридриха оду против Франции и ее короля (1759 год). Там стояла подпись «Фридрих» (сомнений нет). А далее Вольтер буквально «оледенел от страха, прочитав в этой оде следующие строфы», направленные в адрес знати Франции:
Ваша нация – презренна! Я поклонялся прежде сам Люксембурга и Тюренна Торжествующим бойцам. Неразлучные со славой, Шли они на пир кровавый, Веря в родину свою. Нынче вижу сброд гонимый, В грабежах неутомимый И трусливейший в бою. Как! бездельник ваш державный, Он, игрушка Помпадур, Он, кого в игре бесславной Метит клеймами Амур, Он, кто нацию бесславит, Кто вожжами вяло правит, А куда – не знает сам, — Этот раб вещает с трона! Слышу я от Селадона Повеленья королям!..[469]Горячим поклонником Вольтера был Кондорсе… В написанной им «Жизни Вольтера» (1789) он высоко оценил его поэму о Генрихе IV («О лиге»). Ни одна поэма, писал он, не заключает в себе такой «глубокой философии», «чистой морали», ни одна не отличается такой «свободой от предрассудков». Из всех эпических поэм лишь эта, по его мнению, «дышит ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству». Как мы убедились, любовь к человечеству у Вольтера прекрасно соседствует с ненавистью к черни. В. Гюго, выделяя три главные фигуры, писал: «Рабле, Мольер и Вольтер, эта троица разума, да простят нам подобное сравнение, Рабле – Отец, Мольер – Сын, Вольтер – Дух Святой».[470]
Однако сей «дух святой» вызывал общественную неприязнь. Известен случай, когда его крепко поколотили по приказу Рогана (лакеи дубасили Вольтера, а кавалер сидел в карете и отдавал приказания). Сановные «друзья» (герцог Сюлли и др.) не пожелали выступить в его защиту. Принц Конти, в стихах воспевавший Вольтера, не без ехидства заметил: «Удары были плохо даны, но хорошо приняты». Вольтер поссорился даже с Фридрихом, пригласившим его в Пруссию (перед тем он писал Вольтеру: «Мы оба философы»), давшим ему чин камергера и 20 тыс. франков годового содержания. Тут он смог закончить исторический труд «Историю века Людовика XIV» (1751). Хотя, видимо, он так и не простил тому его слов: «Вы – подобны белому слону, из-за обладания которым ведут войны персидский шах и Великий Могол… Когда вы приедете сюда, вы увидите в начале моих титулов следующее: «Фридрих, Божьей милостью король Прусский, курфюрст Бранденбургский, владелец Вольтера». По совместительству Вольтер был еще и спекулянтом (жадным, настырным, удачливым), наживающимся на поставках и ростовщичестве. Вот неполный список его отнюдь не театральных или философских «побед». Своими должниками он сделал всех и вся (контракт с г. Парижем – 14023 ливра, с герцогом де Ришелье – 4000, с герцогом Бульонским – 3250, пенсия герцога Орлеанского – 1200, контракт с герцогом де Вилларом – 2000, с принцем де Гизом – 25000, с Компанией обеих Индий – 605, поставки армии во Фландрию – 17000). С собой в Берлин он привез 300 тыс. ливров. Тут академик, знаменитость стал сутяжничать с евреем из-за каких-то жалких бриллиантов. Суд решил дело в его пользу, но «в обществе осталось подозрение, что знаменитый писатель перехитрил хитрейшего из берлинских жидов». Вольтер свихнулся, обуреваемый жадностью (экономил буквально на всем, продавая, в частности, причитавшиеся ему ежемесячно двенадцать фунтов свечей). И тем не менее, pour le beau titre (из уважения к заслугам), ему продолжали оказывать гостеприимство в Европе.
Триумф Вольтера 11 июля 1791 г. Гравюра Берто с картины Приёра.
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
В политическом плане Вольтер относил себя к «умеренным». Английскую революцию вспоминал с содроганием, называя ее «великим мятежом» и разгулом «кровожадности». Однако никто иной как он сам подготовил (в ряду с другими) Французскую революцию. Людовик XVI, оказавшись в Бастилии, перебирая книги Вольтера и Руссо, скажет перед казнью: «Вот кто погубил монархию!» Позже Гюго устами своих героев будет утверждать, что если бы Вольтера и Руссо повесили, не было бы никакой революции. Вольтер «распял» и священников на кресте христианства, заявив, что попы ограбили всю Европу, довели народы до нищеты, собрав в храме Лоретской богоматери больше сокровищ, чем потребовалось бы, «чтобы накормить 20 голодающих стран». Еще он говорил, что не желает «ни быть наказанным за грехи Адама, ни получать прощение за заслуги Христа». Словно желая загладить вину перед Богом, он воздвиг ему в конце жизни храм (Богу от Вольтера). Этот величайший мастер конспирации (пользовался 137 псевдонимами) не сумел добиться одного – скрыться от неумолимой смерти.[471] В стихотворении «Прощание с жизнью» Вольтер скажет:
Итак, прощайте! Скоро, скоро Переселюсь я, наконец, В страну такую, из которой Не возвратился мой отец! Не жду от вас ни сожаленья, Не жду ни слез, мои друзья! Враги мои! уверен я, Вы также с чувством сожаленья Во гроб уложите меня! Удел весьма обыкновенный!.. Когда же в очередь свою И вам придется непременно Сойти в Харонову ладью, Чтоб отыскать в реке забвенья Свои несчастные творенья, — То, верьте, милые, и вас Проводят с смехом, в добрый час! Когда сыграл на сцене мира Пустую роль свою актер, Тогда с народного кумира Долой мишурная порфира, И свист – безумцу приговор!..[472]И все же он велик (со всеми его странностями и мелочностью). Что же до изъянов, то еще Ларошфуко говаривал: «В характере человека больше изъянов, чем в его уме». К тому же, упрекая титанов мысли в непоследовательности, всегда следует отделять их заслуги перед человечеством и умственные качества от обычных и естественных человеческих слабостей. От них никто не застрахован. Посему не будем тревожить память великого старца. «Дайте мне умереть спокойно», – писал он перед смертью. Ведь, спокойная смерть – единственная награда мудрецу. Тем более он знал, сколь незавидными могут быть посмертные судьбы. В «Женитьбе Фигаро» Бомарше герои поют куплет, где есть слова, посвященные Вольтеру:
Повелитель сверхмогучий Обращается во прах, А Вольтер живет в веках…[473]Кстати говоря, именно Бомарше сделал немало для того, чтобы издать полное собрание сочинений Вольтера. Он купил в Англии лучшие шрифты, в Бельгии – две бумажные фабрики. Учитывая, что некоторые произведения Вольтера находились во Франции под запретом, он решил печатать их за границей, в Германии у маркграфа Баденского. В 1783 г. вышли первые тома. Несмотря на все трудности, он довел до конца весь проект, издав 92 тома.
Суть социальной философии энциклопедистов – замена кредо «короля-солнца» Людовика XIV «Государство – это я» лозунгом третьего сословия (tiers etat), утверждающего себя – «Государство – это мы!» В их числе и ученые, заявляющие о себе как о лидерах культурного и общественного прогресса. Недавно еще они вели аръергардные бои. Следствиями битв нередко являлось их отступление (а то и бегство) перед превосходящими силами противника. Но времена меняются. Слышнее глас разума. Заметнее lux veritatis (лат. «свет истины»). Сен-Симон воскликнет: «Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!»
Жан-Жак Руссо.
Выдающейся личностью своего времени был Жан-Жак Руссо (1712–1778), архимед революции. Не только XVIII?., но, вероятно, и XIX в. прошли под заметным влиянием его гения. Руссо принадлежал к тем редчайшим натурам, о которых говорят: «Учитель человечества». Известно, что Л. Толстой боготворил философа, нося на груди медальон с его портретом (как священный образок). В письме к Б. Бувье, председателю «Общества Руссо» в Женеве, Лев Толстой скажет: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие – два самых сильных и благотворных влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости».[474] Бессчисленна литература о Руссо. И по сей день поток ее не ослабевает. Российский читатель знаком с этой удивительной личностью по работам самого Руссо, по труду Н. Бахтина, по беллетризованным биографиям Л. Фейхтвангера и А. З. Манфреда, очеркам Ю. М. Лотмана и другим. Его жизнь и творчество – яркий пример того, как «разум выращивает шедевр».
Жизнь Руссо полна взлетов и падений, надежд и разочарований. Быть может, самый знаменитый писатель не только Франции, но и всей Европы, он в конце жизни стал жертвой отчуждения и одиночества. Внешне жизнь его не представляла особого интереса. Судьба к нему не очень благоволила. Ранняя смерть родителей лишила его материнских забот. Его отдали на воспитание к тетушке. Школа также разочаровала Руссо. Он покинул ее в 12 лет. Надо было искать средства к существованию. В 16 лет он убегает из дому. В 1745 г. он знакомится с Терезой ле Вассер, прислугой. Руссо, как любой человек, нуждался в ласке и любви. Но когда с высот мечтаний и грез он спустился на грешную землю, его ждало глубокое разочарование. Любовь к белошвейке не вызывала ничего, кроме горечи и раздражения. Вера Руссо в народ (в его «естественном состоянии») столкнулась с первым серьезным испытанием. Белошвейка была тупа и ограничена: «Ее ум оставался таким же, каким его создала природа; образование, культура не приставали к ее уму». Плодом их совместной жизни стало пятеро несчастных детей, которых определили в приют. Недруги не упускали случая бросать ехидные реплики в его адрес: «Кому же еще становиться воспитателем, как не тому, кто с хладным и спокойным сердцем поручает воспитание своих чад приюту!» Что ж, давно всем известно, что быть хорошим родителем гораздо труднее, чем быть просто философом.
И все же Тереза, как бы там ни было, дала некое подобие семейного счастья, а это, право, стоило симпатий целой дюжины университетских друзей или даже профессоров Сорбонны. К тому же, в интеллектуальном отношении его согревала дружба с Дидро. В минуты сомнений и печали к нему на выручку являлась поэзия. В одном из стихотворений Руссо скажет:
Ведь мудрому немного надо: И скудным благам сердце радо, Они желанья утолят…Руссо-педагог известен трактатом «Эмиль, или О воспитании» (1762), романом «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), знаменитой «Исповедью», «Письмами о морали» (1758). Судьба призвала его быть учителем и наставником народов. Он пишет: «Воспитатель! – какая возвышенная нужна тут душа. Поистине, чтобы создавать человека, нужно самому быть… больше, чем человеком». В Лионе Руссо поступил учителем в одну из состоятельных семей. Свои взгляды на обучение он изложил в «Проекте воспитания де Сент-Мари», где творчески осмыслил и переработал педагогические взгляды современников (Ш. Роллена, К. Флери, Ф. Фенелона). Первоочередной педагогический задачей Руссо считал нравственное воспитание, формирующее «сердце, суждение и ум». Задача воспитателя: каким-то образом соединить, гармонизировать, уравновесить действие природы, общества и людей. Обучающая программа Руссо общеизвестна: акцент на полезную деятельность, единство умственного, физического, нравственного и трудового воспитания. По сути, ничего extra ordinem («из ряда вон»). В письме Сен-Пре («Новая Элоиза») сказано: любой возраст имеет свои особенности. В детстве должно окрепнуть тело, потом развиваться разум. Сидячая жизнь никому не идет на пользу: ни ум, ни тело детей не выносят покоя. Если держать их взаперти, они потеряют бодрость, станут слабыми, хрупкими, болезненными, скорее отупевшими, чем рассудительными. Руссо стремится к идеалу – формированию разумного и честного человека. А для этого надо создать «желательный нам духовный склад через подобающее ему воспитание».[475]
Средневековая Европа зачитывалась «Письмами Элоизы и Абеляра». Та любовная история закончилась печально. Ученый-теолог Абеляр должен был хранить в тайне брак с ученицей (Элоизой). Безбрачие было обязательным для посвятивших себя Богу. Из мести негодяи подослали к нему наемных палачей, которые его оскопили. Элоиза ушла в монастырь, откуда и посылала супругу письма. Руссо использовал этот сюжет. В «механизме» воспитания сын часовщика из Женевы сумел разобраться мастерски. Понял он и то, что по сей день не разумеют иные ученые мужи. Единственное и наиглавнейшее ремесло, которому следует учить человека – это искусству жить! С первых шагов своей жизни человек должен постигать эту науку: «нужно научить, чтобы он умел сохранять себя, когда станет взрослым, выносить удары рока, презирать избыток и нищету, жить, если придется, во льдах Исландии или на раскаленном утесе Мальты». Педагог, желающий быть услышанным и понятым молодыми, должен внимательно прислушиваться к совету Жан-Жака: «Не пускайтесь никогда в сухие рассуждения с молодежью. Облекайте рассудок в тело, если хотите сделать его доводы чувственными для нее. Чтобы язык ума сделался понятен (молодежи), заставьте его проходить через сердце».[476] О том, сколь часто идеи Руссо находили путь к сердцам современников и как влияли на них, можно судить, в какой-то степени, и по словам Бабефа. Бабеф скажет их позже, спустя десятки лет после выхода в свет «Эмиля» и других трактатов Руссо, в разгар Великой Французской революции (1793): «О Жан-Жак! Как ты был прав, рекомендуя включить в воспитание каждого человека обучение какому-нибудь ремеслу! Почему не владею я каким-нибудь ремеслом!»[477] К сожалению, и по сей день «первое из всех благ – искусство образовывать людей» в иных странах все еще находится в полнейшем забвении и запустении.
Следует ознакомиться и с трактатом Руссо «Воспитание». Исследуя положение в Польше (тогдашней России), Руссо обнаружил, глядя на государственных мужей, «множество составителей законов и ни одного законодателя». Что движет некоторыми из них? Эгоизм, низменные инстинкты, корысть. Перед образованием должны быть равны все – бедные и богатые. «Мне вовсе не по духу те различия в гимназиях, которые приводят к тому, что бедных и богатых… воспитывают по-разному и порознь. Все, будучи равны в силу основного закона государства, должны воспитываться вместе и одинаково; и если нельзя установить воспитания общественного, совершенно бесплатного, нужно, по крайней мере, установить за него такую плату, чтобы ее могли вносить бедные». Разве нельзя в каждой гимназии некое число мест сделать бесплатными, оплачиваемыми государством, и ввести то, что во Франции называют стипендиями?! Говорит Руссо и о том, что образование лишь тогда жизнеспособно и конструктивно, когда оно облачено в национальную форму. Школы и пансионы, коллежи и университеты просто обязаны выпускать патриотов «по склонности, по страсти, по необходимости». Если, конечно, чувства эти не будут ограничиваться тем, что французы несколько иронично и произвольно называют partiotisme du clocher («патриотизм своей колокольни»). Но Руссо убежден: как раз национальное воспитание отличает подлинно свободных людей! Пока этого нет, человек по-прежнему будет выходить из школ «подготовленным к распущенности, т. е. к рабству». Почему?! Да потому, что он не знает своей страны, ее порядков, законов, истории, культуры. Человек вне нации уподобляется рабу в пустыне: он томим жаждой, лишен крова и окружен дикими зверьми. Это столь же верно, как и то, что «ничего могучего, ничего великого не может выйти из-под продажного пера» такого человека (космополита по своей сути, лишившего себя родины, мечтающего о бегстве из нее). Говоря о европейцах и отмечая наличие у них общей культуры, Дидро как бы нивелирует и сам их облик: «Есть только европейцы, у них одинаковые вкусы, те же страсти, тот же образ жизни».[478]
Однако напрасно сторонники космополитизма будут акцентировать внимание на этой фразе, намекая, что Руссо, якобы, отрицал значение национального духа. Это не соответствует действительности. Он требовал от граждан: «Я хочу, чтобы, научась читать, он читал о своей стране, чтобы в десять лет он знал все, что она производит, в двенадцать – все ее провинции, все дороги, все города; чтобы в пятнадцать лет он знал всю ее историю, в шестнадцать – все законы; чтобы не было… ни подвига, ни героя, которыми не были бы полны его память и сердце и о которых он не мог бы сразу же рассказать». Знание истории – долг гражданина.
Питер Пауль Рубенс. Бедствия войны.
Мысль Руссо своевременна: «наставниками нации», если говорить о России, должны быть русские патриоты, а не космополиты (в Польше – поляки, в Англии – англичане и т. д.). В противном случае, беда: «занятия, руководимые иностранцами», выхолостят и извратят саму суть воспитания народа. Что этим чужакам до судеб России! «Воспитатели», клянущие отчизну (Россию), неприемлемы. Их место в тюрьмах или в сумасшедшем доме! Еще Корнель говорил: «Отчизну кто клянет – с семьей тот порывает». Молодежи с детства надо прививать глубокую самоотверженную любовь к отечеству, ибо это вернейший путь к добродетели. Руссо писал: «Самые большие подвиги добродетели были совершены из любви к отечеству».
Одно из самых величественных творений общественной мысли XVIII в. – книга Руссо «Об общественном договоре». Книгу эту правителям следовало бы прочесть от корки до корки, с прилежностью первых учеников. Известны проекты теории общественного договора Гоббса и Дж. Вико. Постулаты Руссо тезисно выглядят так. Власть, удерживаемая силой, недолговечна и не является властью законной. «Всякая власть – от Бога … но и всякая болезнь от Него же». Поэтому не стоит возлагать преувеличенных надежд на религии. Исцеляя одной рукой, они калечат и убивают другой. Утвердившись на троне, власть не только подчиняет себе людей, но и обирает их. Она требует безграничного повиновения, а сама не может дать народу минимума благополучия. Войны и конфликты имеют своими источниками «не отношения между людьми, а отношения вещей». Частных войн в природе вообще не бывает. Войны могут быть только «общественными». Народ (племя или отдельный человек), который «грабит, убивает, держит в неволе» или похищает других – разбойник, enfant terrible («ужасный ребенок»). Людям и народам нужно предложить разумный и честный договор, в основе которого лежат интересы большинства народа. В случае несогласия меньшинства, его следует так или иначе принудить к выполнению воли всей нации. Это и есть демократия.
Общественный договор служит тому, чтобы предотвратить действия узурпаторов и разбойников, защищая и ограждая «общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации». В основе такого договора лежат права, равные для всех. Поэтому никто не должен быть заинтересован в создании строя обременительного для народа. Выступающий против Закона справедливости человек должен быть силой подчинен общему благу, нуждам отечества. Руссо считал, что в этом весь «секрет и двигательная сила политической машины». Иначе не будет ни государства, ни общественного договора, ни законов. В такой стране все неизбежно становится фикцией и пустой формальностью (законы, указы, распоряжения).
Народ «может ограничивать, видоизменять и отбирать, когда ему угодно» власть у слуг народа, когда они злоупотребляют ею. Нужен железный кулак, который бы смог разогнать их и отдать лихоимцев под суд. Суверену-народу нужна сила для «сдерживания» правительства. Государство, говорит Руссо, должно быть «всегда готово жертвовать Правительством для народа, а не народом для Правительства» (В. М. – или президентом). Это в том случае, если власть забывает о нуждах народа. Порой совершенно недостаточно заменить министров, надо менять весь прогнивший клан. Под «новой идеологией» часто подается философия жуликов-нуворишей, грабящих народ. Поэтому нечего болтать о «преимуществах демократии»! Этих преимуществ нет в природе. «Если брать этот термин в точном его значении, то никогда не существовала подлинная демократия и никогда таковой не будет». Демократия чаще всего завершается демагогией. Подобная форма правления, даже если бы она и возникла, предполагает массу несовместимых вещей. Во-первых, она подошла бы малому государству, где без труда можно собрать всех людей и прийти хотя бы к подобию единого мнения. Во-вторых, это должна быть единообразная в культурном и религиозном отношении масса. В-третьих, в такой стране должно иметься «превеликое равенство в общественном и имущественном положении, без чего не смогло бы надолго сохраниться равенство в правах и в обладании властью». В-четвертых, эта страна должна быть примером высоконравственного, разумного, совестливого общества, в котором роскоши мало или она полностью отсутствует. Почему Руссо выступил против вопиющей роскоши? Роскошь «либо создается богатствами, либо делает их необходимыми; она развращает одновременно и богача и бедняка, одного – обладанием, другого – вожделением; она предает отечество изнеженности и суетному тщеславию; она отнимает у Государства всех его граждан, дабы превратить одних в рабов других, а всех – в рабов предубеждений».[479] Сторонники такой «демократии», демократии сверхбогачей и плутократов, становятся палачами, тиранами и убийцами, отчуждая от народа простое и житейское счастье. Сегодня, спустя 250 лет, мы видим, как стрелы Руссо поражают новых тиранов и узурпаторов («демократического толка»). Не обошел Руссо вниманием и депутатов парламента, которые уже тогда являли собой образцы двуличия: «Депутаты не могут быть представителями народа, ибо они всего лишь его приказчики. Всякий закон, не утвержденный непосредственно самим народом, не имеет силы; да это вовсе и не закон».
К. Гюэ. Салон с декоративной росписью.
Середина XVIII в.
В наш век, когда восторги по поводу научно-технической, информационной, прочих революций кружат голову, неплохо еще раз проанализировать руссоистскую критику развития наук. В его блистательной «диссертации», получившей премию Дижонской академии (1750), Руссо вовсе не пытался, как утверждают, «отрицать науки». Не думал он отречься от наук и ученых, сжечь библиотеки, закрыть академии, коллегии, университеты. Это привело бы к катастрофе, погружению человечества в варварство. Цели его иные: добиться того, чтобы их росту соответствовало нравственное воспитание. Он пытался осмыслить противоречивые итоги века Просвещения, требовал от наук честности и доброжелательности: «Склонность к наукам, которая возникает из желания отличиться, неизбежно становится причиной зол, гибельность которых намного превосходит пользу, которую могли бы принести науки; беда в том, что в конце концов науки делают тех, кто ими занимается, очень мало разборчивыми в средствах достижения успеха». Научные лары и пенаты порой также пестуют негодяев.[480]
С Руссо берут начало «романтики революции». Из его «Рассуждения о неравенстве» (1754), где он доказывал, якобы, полную развращенность цивилизованных народов (в сравнении с благородными и гуманными дикарями), вырастут произведения литературных романтиков. Вольтер увидел в его воззрениях дьявольский искус. Руссо «искушал» многих на своем веку, выступая защитником чувств не в ущерб разуму. Его многие не понимали и не принимали, считая его взгляды опасными. Жизнь его сопровождалась сплошной переменой мест (Женева, Невшатель, Париж, Пруссия, Англия). Руссо закончит ее в страшной нужде и страданиях.
У Руссо не могло не быть врагов. Екатерина II, заигрывавшая с энциклопедистами, писала (1770): «Особенно не люблю я Эмильевского воспитания: не так думали в наше доброе старое время». В отношении Руссо в истории допущена масса несправедливостей. Иные обвиняли его в том, что он сдал пятерых своих детей в воспитательные дома. Леметр утверждал, что в одном «Эмиле» больше педагогических глупостей, чем во всей остальной литературе. Другие даже позволяли себе называть Руссо «грязным мальчишкой» (В. Розанов), бранили за критику культуры XVIII в., за упрек в адрес «прогресса» и «цивилизации». В свою очередь Руссо в письме к герцогу Вюртембергскому обвинил его в злостной предубежденности (1763): «Вы извращаете все мои идеи». Уверены, что и сегодня найдется немало подобных критиков, сознательно искажающих его мысли. Будь Руссо жив, он, вероятно, ответил бы противникам так: «Помните, что неведение никогда не делало зла, одно только заблуждение пагубно и что заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают».[481]
Отношения с Вольтером у Руссо не сложились. Менее всего тому виной был Жан-Жак. Некогда при дворе Людовика XV шла работа над оперой «Принцесса Наваррская». Ее готовили к торжествам по случаю бракосочетания дофина с испанской инфантой. Это была явно заказная работа, за которую обещали щедро заплатить. Музыку заказали Рамо, а к написанию либретто привлекли Вольтера и Руссо. В то время (1743/44 гг.) Вольтер уже был известен и осыпан милостью королей. С триумфом шли его трагедии. У него была возможность протянуть руку помощи талантливому молодому человеку. Руссо усердно работал над либретто. Наконец, день долгожданной премьеры. Что же видит Руссо? В программе рядом с именем Рамо стоит имя одного Вольтера. Руссо был потрясен. Впоследствии он так скажет об этом случае: «Я потерял не только вознаграждение, которое заслуживали мой труд, потраченное мной время, не были возмещены мои огорчения, моя болезнь, деньги, которых мне это стоило, но и уважение к человеку, на чье покровительство я рассчитывал. Я понес одни издержки. Как это жестоко!»[482] Кондорсе скажет: «Я нашел Вольтера таким живым и деятельным, что готов был бы считать его бессмертным, если бы он не обнаружил такой беспощадной несправедливости к Руссо». Укажем на различие судеб Вольтера и Руссо. Вольтер остался для большинства «глыбой льда» – блестящ, ослепителен, хладен сердцем и полон безразличия. Эту разницу между Вольтером и Руссо почувствовал Лион Фейхтвангер: «До сих пор еще находились люди, видевшие в Вольтере отца революции. Но острая, злая, блистательная логика Вольтера убеждала только немногих избранных, она никого не увлекала за собой. Учение Вольтера – это холодный огонь, в нем только свет, он лишен тепла. А Жан-Жак излучает тепло, жар. Он был искрой, и вот уж весь мир воспламенился. Его безудержное чувство взорвало разум, привело в движение массы, смело старый порядок…»[483] «Руссо так гениально описывает зло цивилизации, – признавал не без ехидцы всегда завидовавший его таланту Вольтер, – что, читая его, чувствуешь желание стать на четвереньки». Это, конечно же, чушь. Возьмем на себя смелость утверждать обратное: скорее Вольтер желал, говоря его словами, «удержать народ на четвереньках», а Руссо старался поднять его с колен.
Перенесение праха Руссо в Пантеон 11 октября 1794 г.
После смерти Руссо прошли века. Народы с волнением читали и продолжают читать его «Общественный договор». Это книга на все времена. Большая часть людей справедливо видит в нем глашатая свободы и справедливости. «Договор» называют «величайшим памятником мятежной души, рвущейся из темницы на волю» (В. Лункевич). Философ Р. Вольф из Массачусетского университета (США) пишет: «Жан-Жак Руссо – величайший политический философ, который когда-либо жил на земле. Его имя сделала бессмертным одна небольшая книга «Об общественном договоре» – работа, занимающая не более ста страниц. В этой краткой, блестящей работе Руссо формулирует фундаментальную проблему философии государства и делает заслуживающую всяческой похвалы, хотя в конечном счете и неудачную попытку решит ее. Откуда же такая слава, спросите вы, если он так и не смог найти решение поставленной проблемы? В философии, как и в других науках, зачастую самым важным является правильная постановка вопроса, и несмотря на то, что философы занимались исследованием природы государства еще за 2000 лет до Руссо, он был первым, кто уловил суть проблемы и понял, насколько трудно будет найти ее решение».[484] Он пытался помочь нам.
Вклад Руссо в обоснование гуманистической философии истории огромен. Н. Бахтин писал: «Руссо – первый педагог, у которого этика и философия культуры ставят воспитанию цель, а психология указывает путь к нему». По мнению Бахтина, Руссо удалось чудным образом соединить в одно целое философию, культуру, психологию, литературу, педагогику. Значение мыслителя не уменьшилось, о чем свидетельствует и книга современного французского исследователя Ги Бесса «Жан Жак Руссо: обучение человечества» (1988). Идеи Руссо, отмечает автор, очень созвучны социальным задачам и перспективам третьего тысячелетия.[485]
В «Общественном договоре» не все видят «библию народов». Б. Рассел прочел его с позиций демократического эгоиста. Он писал: «Передавая свои права обществу в целом, люди как личности теряют свои свободы. Руссо допускает существование некоторых гарантий: человек сохраняет определенные естественные права. Но это ставится в зависимость от сомнительного допущения, будто монарх всегда будет уважать права человека… У Руссо многое является следствием этой концепции общей воли, но, к сожалению, она изложена не очень ясно… Государство, вздумавшее придерживаться руссоистских принципов, вынуждено было бы запретить все частные организации любого рода, а особенно те, которые преследуют политические и экономические цели. Таким образом, у нас есть все элементы тоталитарной системы, и хотя Руссо, кажется, не догадывался об этом, ему не удалось показать, как можно избежать этого следствия. Что касается его ссылок на демократию, следует понимать, что он думает при этом о древнем городе-государстве, а не о представительном правлении. «Общественный договор» был, конечно, не понят сначала теми, кто был против этого учения, а позднее и вождями революции, которые благосклонно относились к нему».[486]
За некоторыми придирками виден едва скрытый страх перед личностью Руссо. Полагаем, критиков приводит в дрожь «робеспьеровская нота» в его философии. Жаль, что о встрече в эрменонвильском парке студента и великого мыслителя (Робеспьера и Руссо) практически ничего не известно, кроме самого факта встречи. Через месяц после нее Руссо не станет. Но факел свободы и справедливости он успел передать в крепкие и достойные руки. Позже Робеспьер скажет о нем: «Жан-Жак Руссо, человек, больше всего способствоваший подготовлению революции, был крамольником, опасным новатором, и если бы только правительство не боялось мужества патриотов, оно отправило бы его на эшафот. Можно сказать, не боясь ошибиться, что если бы деспотизм был достаточно уверен в своих силах и в силе привычки, приковывавшей народ к его ярму, и не боялся бы революции, Ж. – Ж. Руссо заплатил бы своею головою за услуги, которые он оказал истине и человеческому роду, и он пополнил бы список знаменитых жертв, пораженных деспотизмом и тиранией во все времена».[487]
Так пугающе невыносима руссоистская мысль о равенстве людских прав в обществе, что и поныне находятся те, кто готов принизить роль Руссо в формировании программы Просвещения (два с лишним века спустя). Профессор философии Д. Рафаэль (Англия) уверяет, что нельзя выводить американскую и французскую революцию прямо из эры Просвещения. Необходима более точная классификация деятелей эпохи. Одни поставляли интеллектуальные «ядра» для революционных «пушек». Другие же отнюдь не стремились быть идеологами и глашатаями революционных перемен. Признавая за Руссо некоторые права на то, чтобы быть провозвестником революции, профессор почему-то категорически возражал против причисления его к деятелям эпохи Просвещения. Кто же он? Всего лишь романтик и мечтатель. Quot capita, tot sensus! (лат. «Сколько голов, столько умов»).[488] Будь их воля, они бы всех революционеров записали в мечтатели. Революция – удел великих, сильных и отважных.
Под обаянием личности Руссо находились многие (Кант, Толстой, Карамзин, Фребель), предпочитая его Вольтеру. Высоко ценивший гений Руссо мыслитель Я. Козельский, отмечая неровный характер научного прогресса, писал о «проклятии наук», становившихся уже тогда источником зол. Как говорил Чернышевский, тот не отдавал в печать «ничего, кроме дивно-гениального». Многих привлекала великая человечность трудов философа. У Руссо мы учимся ненавидеть несправедливость, ложь, деспотию, плутократию. Где жива память о Руссо, там есть еще надежда. Слава великого французского философа не померкнет в веках.
Впрочем, не только «вихри враждебные» увлекали тогдашние умы… Появилась блестящая плеяда натурфилософов, старавшихся объяснить происходящие в природе процессы с позиций естественных наук. «Наука восстала против церкви», – скажет Ф. Энгельс. Поль Гольбах (1723–1789) пишет «Систему природы» (1770), эту «библию материализма и атеизма». Книгу приговорили к сожжению, но ее печатают за границей и тайно ввозят во Францию. Как утверждал автор, религия представляет собой нагромождение лжи, заблуждений и бреда, «священная зараза». Историки так охарактеризовали впечатление от этой книги: «Все разбросанные критикой того века взрывчатые вещества были соединены здесь в одну громоносную машину бунта и разрушения… Никогда еще никакая книга не производила такого всеобщего потрясения в умах».[489] Гольбах известен как философ-материалист, идеолог революционной буржуазии, почетный член Петербургской Академии наук, сотрудник «Энциклопедии», убежденный атеист. В одном из произведений он говорит о неспособности религии объединить народы: «Когда мы видим, как цивилизованные народы – англичане, французы, немцы и тому подобные – несмотря на всю их просвещенность, простираются ниц перед варварским богом иудеев; когда мы видим, как просвещенные подданнные какой-нибудь страны раскалываются на секты, перегрызают друг другу горло и ненавидят ближних за воззрения на поведение и намерения божества, не менее смехотворные, чем их собственные… мы невольно восклицаем: о, люди, вы до сих пор все еще не перестали быть дикарями!»[490]
Среди других ярких дарований того времени выделялся Жорж-Луи-Леклерк де Бюффон (1707–1788), ставший в 26 лет член-корреспондентом Французской Академии наук. Он изучал право и медицину, обнаружил немалые способности к математике, проявлял большой интерес к ботанике, зачитывался книгами по философии и литературе. Имея средства, он собрал прекрасную библиотеку и занялся созданием коллекций. Вскоре он стал управляющим Королевским садом в Париже, написав удивительный труд «Естественную историю» (Histoire naturelle, generale et particuliere). В создании 44 томов принимали участие также французские натуралисты Добантон и Ласепед. Книги вызвали исключительный интерес у читающей публики. Люди хотели знать, как происходило зарождение и развитие жизни на Земле, каковы судьбы растительного и животного мира, что представляет собой человек и каково его место в природе. Успеху автора в немалой степени способствовал и огромный литературный талант. Книги его были написаны ярким и доступным языком, увлекательно.
Некоторые называли Бюффона «живописцем идей» («peintre d`idees»), а Руссо высказался в его адрес так: «Это – лучшее перо нашего века» («C`est la plus belle plume du siecle»). Как всегда бывает в подобных случаях, нашлось и немало завистников. Они стали упрекать ученого за доходчивость идей, смелость мысли и яркость образов. Приговор официальной науки был суров и безжалостен: «Талантливый дилетант, а не ученый». Конечно, в трудах можно найти ошибки и недочеты, но достоинства работ Бюффона перевешивают их недостатки. Там есть интереснейшие догадки и идеи, некоторые из которых позднее были развиты Дидро, Ламарком, Дарвиным. Ученый насчитал семь периодов в истории Земли. В последний из них и появился человек. Библия говорит о том, что Бог совершил все свои дела к седьмому дню, после чего и почил. Ученый показал ход процесса жизни, развертывание деятельности живых молекул. Это они, отмечает В. В. Лункевич, играют яркими красками в атласных лепестках гиацинта, левкоя и розы; они расписывают жемчужными арабесками раковины «кораблика»; они же искрятся гениальными мыслями и высокохудожественными образами в мозгу ученого, философа, поэта. Им утверждается мысль о том, что количество жизни на Земле, а может, и во всей вселенной – неизменно, хотя сама жизнь изменчива. Не существует непреодолимой пропасти и между представителями растительного и животного мира: «Природа спускается постепенно, неуловимыми нюансами, от животного, которое нам представляется наиболее совершенным, к животному наименее совершенному, а от этого последнего к растениям». Получается, что все имеет общие корни происхождения.[491] Появилась анонимная брошюра, в которой утверждалось, что Бюффон, объясняя устройство мира, почти не заметил творца. Это подлило масло в огонь склоки. Нарушения канонов ему не простили. Сорбонна постановила сжечь богохульное произведение Бюффона руками палача.
В XVIII в. это было еще вполне объяснимо. Даже академия, это «весьма полезное орудие» (Монтень), частенько оказывалась в руках людей недостойных, и даже прихвостней режима. Французская академия выделялась своим раболепством, выступая с крайне ортодоксальных позиций. Ей крепко доставалось за это от Монтескье: «Я слышал о своего рода судилище, именуемом Французской академией. Нет на свете другого учреждения, которое бы так мало уважали: говорят, что едва оно примет какое-нибудь решение, как народ отменяет его, а сам подписывает Академии законы, которые ей приходится соблюдать… У тех, кто составляет это учреждение, нет других обязанностей, кроме беспрерывной болтовни; похвала как-бы сама собой примешивается к их вечной стрекотне, и как только человека посвятят в тайны Академии, так страсть к панегирикам овладевает им, и притом на всю жизнь».[492] В то же время разумные люди понимали: огульно охаивать академию и академиков нельзя. Характеризуя состояние образования в тогдашней Франции, Ж. Кондорсе, геометр и астроном, бывший секретарем Академии наук, писал: «Мы проследим прогресс европейских наций в области образования как начального, так и высшего; прогресс до сих пор слабый, если рассматривать только философскую систему этого образования, которая почти всюду проникнута еще схоластическими предрассудками, но и чрезвычайно быстрый, если принять во внимание объем и природу предметов обучения, которое, обнимая теперь почти только реальные знания, заключает в себе элементы почти всех наук».[493] Становится все больше тому подтверждений. Люди науки стремятся к единению их рядов, к взаимной интеграции сил.
Пленарное заседание Кассационного суда. Будучи самой высокой в судебной иерархии инстанцией, Кассационный суд осуществляет надзор за применением правовых норм и может отменять решения судов.
Век парадоксов и противоречий. Таковы, очевидно, все переходные эпохи. В них есть свои герои и палачи. Образование и воспитание для большинства людей уже признается вещью необходимой. Гельвеций заявлял: «Народ, у которого общественное воспитание давало бы дарование определенному числу граждан, а здравый смысл почти всем, был бы, бесспорно, первым народом в мире». Идеи Локка, Руссо, Дидро находят все более широкий доступ к сердцам и умам просвещенных кругов (во Франции одним из таких центров дискуссий на тему свобод и просвещения стал салон мадам Жоффрен). Вместе с тем среди элиты распространено неверие в саму способность простых людей овладеть знаниями и искусствами. Вспомним и слова Вольтера: «Никто не предполагал просвещать сапожников и служанок».
Но как быстро меняются установки эпохи! Казалось, недавно знать вовсе не интересовалась наукой. О том, как понимали занятия науками в те времена, гласила легенда, имевшая хождение во Франции. В ней рассказывалось, как Декарт обучал геометрии одного принца. От принца никак не удавалось добиться понимания им теоремы о равенстве треугольников. В конце концов, августейший ученик воскликнул: «Мсье Декарт, вы дворянин и я дворянин. Вы даете мне слово дворянина, что эти треугольники равны? Тогда в чем же дело, зачем нам мучиться?» Это очень похоже на правду. Власть и наука часто беседовали на таком уровне.[494] Но постепенно ситуация начинает меняться. В 1766 г. Гельвеций основал совместно с астрономом Лаландом Ложу Наук в Париже. Ложа объединяла эрудитов, самые выдающиеся умы того времени. Цель ее деятельности: совершенствование разума, вспомоществование развитию умов и талантов. Фактически речь шла о создании научно-философского общества, членами которого стали ученые с мировым именем – Б. Франклин, Н. Шамфор, А. Кондорсе, правоведы М. Дюпати и П. Пасторе, живописец Ж. Грез, скульптор Ж. Гудон, другие представители науки и культуры. Это не что иное, как попытка возродить на совершенно новых научно-художественных основах платоновскую и флорентийскую академии.[495]
Требовала консолидации интересов и экономическая жизнь. Во Франции появляются люди, пытающиеся соединить прогресс наук, промышленности и торговли. Таков А. Тюрго (1727–1781), в котором гений финансиста сочетался с талантами смелого и яркого мыслителя. Находясь на посту министра финансов Франции (или Генерального контролера), он сумел провести в 1774–1776 гг. ряд серьезных реформ (свобода торговли, установление жесткого контроля за финансами страны и проч.). Эти радикальные шаги были восприняты болезненно «столпами власти» во Франции и вскоре привели к его отставке. Несколько менее известен его вклад в обоснование концепции прогресса. Будучи совсем молодым человеком, Тюрго произнес речь в Сорбонне в защиту идеи прогресса (1750). В ней даны научные обоснования факторам, способствующим развитию человеческого общества. 25-летний Тюрго, два с половиной столетия тому назад, понял невозможность мирного шествия прогресса. Вот как представлялось ему это поступательное движение народов: «Мы видим, как зарождаются общества, как поочередно господствуют и подчиняются другим. Империи возникают и падают; законы, формы правления следуют друг за другом; искусства и науки изобретаются и совершенствуются. Попеременно то задерживаемые, то ускоряемые в своем поступательном движении, они переходят из одной страны в другую. Интерес, честолюбие, тщеславие обусловливают беспрерывную смену событий на мировой сцене и обильно орошают землю человеческой кровью. Но в процессе вызванных ими опустошительных переворотов нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, торговля и политика соединяют, наконец, все части земного шара. И вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнения, счастливые времена и годины бедствия, всегда шествует, хотя и медленными шагами, ко все большему совершенству».[496]
Гийом Рейналь.
Все слышнее голоса тех, кого называем «оптимистами буржуазного прогресса». Хвалебный гимн теории прогресса воспел историк и социолог Г. Рейналь (1713–1796). В «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (1770) он писал, что мануфактуры способствуют развитию просвещения и наук, факел промышленности озаряет горизонты будущей истории. Торговля выглядит в его трудах мощной культурной силой, а негоциант (с его критериями жизни и бизнеса) выступает прямо-таки в обличье библейского пророка: «Торговля ускорила прогресс искусства посредством роста богатств. Все усилия ума и рук соединены для того, чтобы украсить и усовершенствовать состояние человеческого рода. Промышленность и изобретательность вместе с усладами Нового света проникли вплоть до полярного круга, и прекрасные искусства стараются преодолеть природу в Петербурге». Оптимизм Рейналя нам понятен, ибо писал он в эпоху юности буржуазии. Вся жестокость, алчность, подлость, уродливость ее мира тогда еще не проявились так явно.
Франция стала понемногу приходить в себя от последствий кровопролитной Семилетней войны (1756–1763). Это время получит у историков наименование «темного периода» (попытка убийства короля Людвика XV). Правительство, стремясь овладеть ситуацией, пыталось задушить вольный глас оппозиции. Появляется указ, грозящий смертью каждому, кто осмелится устно или письменно выступить против монархии и церкви (1757). Власть угрожает всем, кто решится «поколебать умы». Чем все это закончилось, известно. Революцией. Власти надо понять: «Чтобы не смущать умы, накормите рты!» Мы вынуждены разочаровать наивных людей, полагающих, что в Европе кардинальные общественные перемены совершались безболезненно. Народам нигде и ничего не достается без кровавых битв за свои права. Ниспровержение тиранов (монархических и буржуазно-демократических) практически нигде и никогда не обходилось без общественных потрясений, преследований, казней. Узурпаторы добровольно не расстаются с награбленными богатствами. Поэтому народ обязан найти смелых лидеров, а не тех, кто готов предать его и покинуть в трудную минуту. Не забывайте, что «у народа ума больше, чем у самого Вольтера». Революции не сваливаются на голову сами по себе. Их нужно сначала подготовить в сознании и в сердцах поколений.
Семейная мастерская ножовщика. «Кодекс» Бальтазара Бема.
Символом времени стала «Энциклопедия». Вдохновителем и организатором проекта стал Дени Дидро (1713–1784), сын ремесленника-ножовщика, получивший образование в иезуитском коллеже в Лангре, а затем в парижском коллеже д`Аркур. В течение 10 с лишним лет (с 1733 г.) он вел жизнь, полную лишений, пробавляясь преподавательско-переводческой работой, изучая видных философов (Гераклит, Бэкон, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Вольтер). «Философские письма» Вольтера подвигли и Дидро к написанию «Философских мыслей» (1746). Сочинение было осуждено цензурой и сожжено. Ранее аналогичным образом сожгли «Философские письма» Вольтера, труды Гольбаха, Ламетри, других вольнодумцев. Вольтер как-то заметил, что во Франции на одного философа приходится добрая сотня фанатиков. Мы бы сказал иначе: в любую эпоху на одного честного и сильного философа приходится сотня жалких резонерствующих циников, подобных племяннику Рамо. Перечитав «Племянника Рамо», Э. Гонкур скажет о Дидро: «это Гомер современной мысли». Дидро писал о страшной «интеллектуальной заразе», которая воплотилась в поколении ничтожеств. Антигерой вызывающе бросает: «Раз большинство довольно такой жизнью – значит, живется им хорошо. Если бы я знал историю, я показал бы вам, что зло появлялось в этом мире всегда из-за какого-нибудь гения, но я истории не знаю, потому что я ничего не знаю. Черт меня побери, если я когда-нибудь чему бы то ни было научился и если мне хоть сколько-нибудь хуже оттого, что я никогда ничему не научался. Однажды я обедал у одного министра Франции, у которого ума хватит на четверых, и вот он доказал нам как дважды два четыре, что нет ничего более полезного для народа, чем ложь, и ничего более вредного, чем правда. Я хорошо не помню его доказательств, но из них с очевидностью вытекало, что гений есть нечто отвратительное и что, если бы чело новорожденного отмечено было печатью этого опасного дара природы, ребенка следовало бы задушить или выбросить вон».[497]
Необходимость усилий для просвещения подобных «слепых» очевидна. К их числу вполне может быть отнесено большинство людей (не исключая иных ученых и политиков, кичащихся своими знаниями, опытом и грамотностью). В «Письме о слепых в назидание зрячим» (1749) Дидро говорил: «В самом деле, что мы знаем? Знаем ли мы, что такое материя? Нет. А что такое дух и мысль? Еще того меньше. А что такое движение, пространство, время? Ровно ничего не знаем… Таким образом, мы не знаем почти ничего. Однако сколько написано сочинений, авторы которых утверждают, что они что-то знают! Я не понимаю, как это людям не наскучит читать, не научаясь при этом ровно ничему». И тем не менее, тот же Дидро считает нужным сказать: «Люди перестают мыслить, когда они перестают читать».[498]
«Энциклопедия» предназначена для «зрячих». Вначале хотели перевести на французский язык составленную англичанином Э. Чэмберсом «Энциклопедию, или Всеобщий словарь ремесел и наук». Однако дело расстроилось. Французы решили подготовить собственное оригинальное издание. Появление первых томов (1751) стало важнейшим событием века Просвещения (подготовлено 7 томов). Создатели энциклопедии включили сюда историю, философию, поэзию. Классификация не была совершенной, но мысль о создании «генеалогического древа всех наук и искусств» была своевременна и актуальна. Появился удобный инструмент для пропаганды естественных наук, новейших открытий и ремесел. Писатель А. Франс так скажет об этой важной стороне образовательного вклада энциклопедистов: «И вот мы видим в XVIII веке прославление ремесел – вещь странная, небывалая, чудесная!» Всем явно не хватало знаний. Многие вынуждены были учиться сходу, обращаясь в процессе обучения к самым различным источникам. Вспомним, как Рубенс и Рембрандт собирали краски всюду, словно лесные фиалки. В трудах Линнея и Бюффона содержатся, наряду с сухими научными рассуждениями, яркие и поэтические картины природы. Дидро и Даламбер в поисках знаний и сведений рыскали днем и ночью по Парижу. Читатель увидел в «Энциклопедии» свод знаний, накопленных человечеством. Она объясняла, поучала, воспитывала ум. Дидро счастлив, ибо в его определении «самый счастливый человек – тот, кто дарит счастье наибольшему количеству людей». Что означало появление энциклопедистов? Прорыв. Речь шла уже не о двух-трех ярких умах, движимых просветительским и научно-познавательным интересом. Нет, перед нами серьезное движение, если хотите, то и целая научная школа!
Чтобы вы представили себе политическую остроту статей «Энциклопедии», реакцию на нее властных сил, приведем содержащиеся в них оценки демократии и деспотизма… Демократия, по словам Жокура, – это простая форма правления, при которой народ как целое обладает верховной властью. Однако будучи, казалось бы, самой удобной и устойчивой формой в принципе, она невыгодна для крупных государств. Хотя в ней есть свои достоинства: «То, в чем заинтересованы члены общества, должно решаться всеми вместе». Демократия вскормила великих людей. Она неплохо воспитывает и умы, открывая путь к почету и славе всем гражданам, а не отдельному клану. Читатель понимает: автор ратует в статье за буржуазную демократию зажиточных граждан. От имени народа дела вершат министры и магистраты. Сам же народ, по мнению Жокура, неспособен «ни управлять, ни вести свои дела». Подчас он разрушает все «с помощью ста тысяч рук», а порой с сотней тысяч ног «ползет, как улитка»… Жокур писал: «Принцип демократии портится, когда начинает вырождаться любовь к законам и родине, когда пренебрегают общественным и частным воспитанием, когда место почтенных стремлений занимают иные цели, когда труд и обязанности считаются помехой. Тогда в подходящие для этого сердца проникает честолюбие, а скупость возникает у всех. Эти истины подтверждены историей». Руссо с иронией скажет: если бы существовало государство богов, то оно управлялось бы демократически. Но, ведь, люди – это еще не боги!
Поэтому, где воцаряется «демократия», наступает правление охлократии (от греч. oxlos – «толпа», «чернь» и krateo – господствую). Демократический строй в сто раз хуже обычной деспотии, ибо вместо одного крупного тирана возникает масса мелких. Народ же в итоге «теряет все», вплоть до тех преимуществ, которые он надеялся все же извлечь из перемены власти. При демократии властолюбие немногих ведет к тому, что «место драгоценной свободы занимает полное рабство». Деспотизм – тираническое, произвольное и абсолютное правление одного человека. В деспотических государствах человек, стоящий у власти, «всем управляет по своей воле». Законы ему не указ, он – сам по себе указ! Природа этой власти такова, что правители нередко передоверяют ее своим слугам и приближенным. При ней визирь «становится деспотом, а каждый отдельный чиновник – визирем». А тем нет дела ни до прав людей, ни до чести. Знание в таких обществах считается опасным, соревнование гибельным. Образования там нет никакого, ибо даже из хорошего раба, как его ни воспитывай, не сделать хорошего подданного. Здесь бесполезны любые законы о торговле. Да и жизнь деспота в таком варварском государстве находится под постоянной угрозой. Нередко она заканчивается трагически. Деспотизм вреден государям и народам. Жокур приводит слова Людовика XIV (из трактата «О правах королей Франции»), где тот признает, что «короли имеют счастливую невозможность совершить что-либо вопреки законам своей страны». Цари, короли, президенты, премьеры имеют свою «обслугу». Их окружение легко попирает законы. Причем, каждый крупный чиновник играет роль деспота-визиря. Наивно полагать, что они готовы уничтожить коррупцию. Дидро и Жокур срывают маски с узурпаторов. Ясно, что у тех были веские основания люто ненавидеть авторов «Энциклопедии».[499]
Дени Дидро.
Дидро и его коллеги обратились к людям практики, ремесленникам. В проспекте к «Энциклопедии» сказано: «Обращались к наиболее искусным мастерам Парижа и королевства. Брали на себя труд ходить в их мастерские, расспрашивать их, делать записи под их диктовку, развивать их мысли, выпытывать термины, свойственные их профессиям… Есть мастера, которые являются в то же время и людьми образованными… но число их весьма невелико… Мы видели ремесленников, которые работали лет по сорок и ничего не понимали в своих машинах. Нам пришлось исполнять при них функцию, которой хвалился Сократ, трудную и тонкую функцию повитух умов… Поэтому нередко нам приходилось доставать себе машины, становиться, так сказать, учениками и изготовлять плохие модели, чтоб научить других делать хорошие».[500] Энциклопедисты не стеснялись учиться у народа, перенимать знания и, если необходимо, то и переучивать его. Создание «Энциклопедии» – подвиг. Дидро отдался работе полностью (для завершения издания). Коллеги проявляли высокую ответственность ученых и интеллектуалов (Жокур работал по 12–14 часов в сутки с 1757-го по 1765 г.). Эпохальный труд, вобравший в себя знания и опыт лучших умов и талантов (Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах, Мармонтель, Кондильяк, Бюффон, Даламбер, Манлюэн, Кенэ). Среди ее авторов насчитывалось свыше полусотни членов французской и зарубежных академий наук. Монтескье счел за честь присоединиться к творцам «Энциклопедии». Вольтер назвал работу «гигантским и бессмертным» делом. Велика роль Даламбера, сделавшего больше всех для издания (кроме Дидро). Он написал «Введение к Энциклопедии». Впечатление от него было велико. Об авторе писали так: «Потомство, читая это введение, проникнется убеждением, что истинно гениальному человеку подвластны все науки; он может быть одновременно замечательным писателем, великим математиком, глубоким философом и со всеми редкими способностями соединять красоту, благородство, силу, изящность слога, которые придают всем его разнообразным трудам какую-то особенную привлекательность». Характерно, что Вольтер с несвойственной ему теплотой писал Дидро и Даламберу: «Прощайте, Атлет и Геркулес: вы оба держите на плечах своих целый мир. Пока во мне не иссякнет последняя капля жизни, я буду всегда к услугам знаменитых авторов Энциклопедии».[501]
Когда возникает нужда в смелом и прогрессивном прорыве мысли, нация как бы воедино собирает себя. Так начинались знаменитые религиозные и духовные движения, так явилось Возрождение, так совершались идейно-политические, затем научно-технические революции. Французская нация сумела подняться выше эгоизма властолюбцев и партий. В обращении «К публике и властям», написанном по завершении труда, Дидро указал на коллективный характер творчества: «Если я заверяю, что вся нация проявляла заинтересованность в совершенствовании этого произведения и что к нам на помощь пришли самые отдаленные районы страны, – это факт известный и доказанный именами внештатных сотрудников и множеством их статей. В определенный момент мы оказались объединенными со всеми людьми, располагающими большими познаниями в естественной истории, физике, математике, теологии, философии, литературе, в свободных и механических искусствах». Авторы «Энциклопедии» уделяли особое внимание вопросам образования (статья Даламбера «Коллеж»). Во Франции оно сводилось к 5 главным предметам – гуманитария, риторика, философия, этика, религия («гуманитарией» называли латынь). Знавшие ее любили цитировать «вкривь и вкось» места из известных римских авторов. Философия ограничивалась сведениями по Библии, а логика скорее напоминала науку, преподаваемую учителем философии в пьесе «Мещанин во дворянстве» Мольера. Историю в школах не очень-то ценили. Чем дурно знать латынь, писал просветитель, лучше как следует освоить родной язык. Немалую пользу принесло бы знание иностранных языков, ибо язык – своеобразный ключ к культуре. Отмечались жалобы учителей на испорченность юношества, хотя школа тут бессильна. Нечего пенять на учителей, коль порочна идейная основа воспитания. Мудрено ли, что годы спустя юноши покидали коллеж с самыми поверхностными знаниями, оказываясь еще вдобавок и более нравственно испорченными, «более глупыми и невежественными».[502] Среди ближайшего окружения энциклопедистов были и художники. Жан Батист Шарден (1699–1779) умел искусно оживлять «мертвую натуру». Конкретность и материальность его портретов («Гувернантка», «Маленькая учительница», «Юный рисовальщик», «Атрибуты искусств», «Молодой человек со скрипкой», «Карточный домик» и др.) соответствовали духу века Просвещения. Знаменательно и то, что хотя его живопись не принадлежала к ученому жанру, Шарден общался со многими просветителями и интеллектуалами той эпохи. И даже с богачами. В частности, он посещал дом богатого откупщика Лапоплиньера, где ему было просто и легко (нет ни чопорности, ни условностей). Известно, что Дидро в «Салонах» цитировал выражения Шардена. Сам художник нередко жаловался на отсутствие должного образования, однако мастерство и талант вполне заменяли ему эрудицию и научный багаж.[503]
Прощание. Гравюра Р. Делоне по рисунку Ж. М. Моро Младшего.
Видимо, нелишним будет и еще одно замечание, свидетельствующее в пользу свободы печати и даже бесспорной и весьма солидной прибыльности таких публикаций. Издание томов «Энциклопедии» принесло ее авторам и издателям ни много, ни мало 2 млн. ливров чистого дохода!.. Как видите, всякая буржуазная революция (в том числе и духовная), если внимательно присмотреться, отсвечивает не только кровью, но и золотом. В этой связи вполне понятен и призыв Дидро к своим современникам: «Soyons riches ou paraissons riches» (франц. «Будем богаты или будем казаться богатыми»)… То обстоятельство, что «Энциклопедия» была сугубо капиталистическим предприятием (Вольтер, как всегда с завистью, писал, что ее издатели получили 500 процентов прибыли: «никакая торговля с обеими Индиями не давала ничего подобного»), никоим образом не умаляет ее духовно-идейной значимости.[504] Однако те слои, чьи идеи, казалось, были выражены в главах «Энциклопедии» более всего, проявили к ней наименьший интерес. Подписчиков из числа торговой и промышленной буржуазии было мало. Тома охотнее раскупались в старых и крупных провинциальных городах, являвшихся важными административными и культурными центрами. Историческое значение труда велико. Исследователи пишут: «Чем дешевле становилась «Энциклопедия», тем глубже проникала она в общество: от столичных салонов и академий – к провинциальному дворянству, а затем к буржуазии старого порядка: рантье, нотариусам, учителям, т. е. тем, кому суждено было сыграть столь активную роль во Французской революции».[505] Заметим, что с 1767 г. переводы ряда статей «Энциклопедии» стали публиковаться и в России.
Следовало хотя бы кратко рассказать и о роли России в судьбе Дидро, как и наоборот. Известно, что, когда Дидро вдруг пожелал продать свою богатую библиотеку, он постарался донести эту новость до Екатерины II, в то время всерьез интересовавшейся французской культурой и просвещением. Ее ответ (через Бецкого и Гримма) был таков: «Сострадательное сердце императрицы не могло без внутреннего волнения отнестись к факту, что философ, столь славный в литературе, поставлен в необходимость принести отеческим своим чувствам в жертву источник наслаждений и товарищей в часы отдыха». После переговоров (а Дидро требовал за библиотеку 15 тысяч франков) русское правительство согласилось при условии, что он сам останется библиотекарем своей же библиотеки. Ему было выплачено его содержание за 50 лет вперед. Тогда главы Русского государства еще читали и покупали книги. К слову сказать, Екатерина обращалась к нему и с другими просьбами. К примеру, Дидро рекомендовал Екатерине скульптора Фальконе, который соорудил памятник Петру Великому (говорили, что и сама идея сооружения памятника принадлежала Дидро). У него установились добрые отношения с князем Голицыным, посланником в Париже, княгиней Дашковой и т. д. Дидро поручили закупить и ряд картин и гравюр для Эрмитажа. В конце концов философ решил выполнить свое обещание и посетить Россию (1773). В ходе визита он имел возможность часто и подолгу беседовать с русской императрицей. Беседы, видимо, были столь горячими и экспансивными, что Дидро, несмотря на то что ему шел седьмой десяток, иногда в пылу спора крепко хлопал императрицу по ляжкам («всякий раз после беседы с ним у меня на лядвие оказываются синяки»). Екатерина относилась к такой манере разговора достаточно терпеливо.
Но западнические демократические идеи она отвергла. Вот что она сказала по поводу его философии: «Я часто и долго беседовала с Дидро; он меня занимал, но пользы я выносила мало. Если бы я руководствовалась его соображениями, то мне пришлось бы поставить все вверх дном в моей стране: законы, администрацию, политику, финансы, – и заменить все неосуществимыми теориями. Я больше слушала, чем говорила, и поэтому свидетель наших бесед мог бы принять его за сурового педагога, меня – за послушную ученицу. Может быть, и он сам был такого мнения, потому что по прошествии некоторого времени, видя, что ни один из его обширных планов не исполняется, он с некоторым разочарованием указал мне на это. Тогда я объяснилась с ним откровенно: «Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что подсказывал вам ваш блестящий ум. Но с вашими великими принципами, которые я очень хорошо себе уясняю, можно составить прекрасные книги, однако не управлять страной. Вы забываете в ваших планах различие нашего положения: вы ведь работаете на бумаге, которая все терпит, которая гибка, гладка и не ставит никаких препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу. Между тем я, бедная императрица, работаю на человеческой коже, а она очень щекотлива и раздражительна». После этого объяснения он, как я убеждена, стал относиться ко мне с некоторым соболезнованием, как к уму ординарному и узкому. С этих пор он говорил со мной только о литературе, а политических вопросов уже никогда не касался».[506] Конечно, разница позиций философа-энциклопедиста, одного из провозвестников революции, и русской императрицы была вполне объяснимой и естественной. Мы не будем касаться сути разногласий. В основе их лежат разные подходы к цивилизации и культуре, к самому типу общественного устройства.
Некоторые самодержцы заигрывали с энциклопедистами. Однако вскоре поняли угрозу их философии. Ведь, требования «Общественного договора» ставили правителей и управляемых в условия партнерства. Цари и суверены должны были отвечать за результаты своего правления, то есть оказывались подотчетны народу. С этим тираны не могли согласиться. Короли и цари считали народы своей собственностью, «уступая» пальму первенства разве что Богу, да и то потому, что тот отличался редким терпением и невзыскательностью к ним.
Монархисты и клерикалы после выхода «Энциклопедии» поняли, откуда им грозит опасность. Они набросились на Дидро и его сподвижников, утверждая, что выпуск подобного рода литературы – прямой путь к атеизму. Преследование авторов «Энциклопедии» возглавил Генеральный прокурор. Парламент Франции обвинил просветителей в заговоре против «обожаемого монарха». Назначается комиссия по расследованию обстоятельств появления на свет этого труда. «Охота на ведьм» вовлекла в орбиту все властные структуры. Даже Государственный совет проявил постыдную готовность «заняться» авторами крамольных сочинений. Что вызвало столь бешеную ярость у всех этих vulgus profanum (лат. «вульгарные людишки»)? Частичный ответ мы найдем в оценке Ф. Энгельсом значения издания «Энциклопедии»: «…Но его революционный характер вскоре выступил наружу. Французские материалисты отнюдь не ограничивались в своей критике областью религии: они критиковали каждую научную традицию, каждое политическое учреждение своего времени. Чтобы доказать всеобщую применимость своей теории, они выбрали кратчайший путь: они смело применяли ее ко всем объектам знания в том гигантском труде, от которого они получили свое имя, в «Энциклопедии». Таким образом, в той или иной форме, – как открытый материализм или как деизм, – материализм стал мировоззрением всей образованной молодежи во Франции. И влияние его было так велико, что во время великой революции это учение, рожденное на свет английскими роялистами, доставило французским республиканцам и сторонникам террора теоретическое знамя и дало текст для «Декларации прав человека».[507] Поэтому обоснован вывод историков: «Но ни один суверен, как бы благосклонно он к этому не относился, никогда бы не принял теорию «общественного договора». Фридрих VI, датский король, сказал: «Все для народа, но ничего посредством народа?» Как это ни парадоксально, но французские правители, кажется, не понимают, что времена изменились. Это непонимание, возможно, исходит от того, что влияние французских философов во Франции меньше, чем в других странах. А те, кто осознает необходимость глубоких реформ в государстве, испытывают к философам чувство глубокой неприязни» («История Европы»).[508] Правители мира готовы считать своих подданных бессловесным и покорным стадом. В этом, пожалуй, и заключена одна из главных причин трагических раздоров, восстаний, революций. Не была исключением и церковь. Клемент XII выступил с обращением к верующим, призвав католиков прилюдно сжечь тома «Энциклопедии» («это исчадье адово»). Ситуация стала небезопасной и для самих авторов. К счастью, энциклопедисты выстояли в жесткой схватке и победили. Бунтарские книги революционного века стали распространяться по всей Европе.
Дух Просвещения забирает и у церкви многих ее сынов… Этьенн Бонно де Кондильяк (1714–1780) принадлежал к «дворянству мантии». Его отец – сборщик податей, секретарь парламента в Гренобле, а один из его братьев – известный писатель и мыслитель (аббат де Мабли). Брат и отвез его в Париж, где Этьенн закончил семинарию и Сорбонну. Став аббатом, он лишь раз отслужил мессу и вскоре отказался от священничества, ибо его влекли философия, история, педагогика. Идет работа над трудом «Опыт о происхождении человеческих знаний». Он сближается с Руссо, а тот знакомит его с Дидро. Руссо писал в «Исповеди»: «Я рассказал Дидро о Кондильяке и его труде; познакомил их. Они были созданы для того, чтобы сойтись; они сошлись. Дидро уговорил книгоиздателя Дюрана взять рукописи аббата, и этот великий метафизик получил за свою первую книгу – и то почти из снисхождения – сто экю». В Кондильяке Франция обрела, скорее, педагога и кабинетного ученого, чем политика и общественного деятеля. Умеренные взгляды даруют ему благосклонность властей. Ему доверяют воспитание внука Людовика XV, инфанта дона Фердинанда. Он отправился в Парму, где за девять лет и создал монументальный 16-томный труд «Курс занятий по обучению принца Пармского». В 1767 году его избирают во Французскую академию, но и тут он остался верен себе. Судя по всему, звание академика для него было столь же тягостно, сколь и сутана священника. Произнеся лишь одну речь, он больше так ни разу и не появлялся ни на одном заседании Академии. Кондильяк терпеть не мог болтовни светских салонов. Он полностью посвятил себя науке. Сторонник идей игрового воспитания ребенка, он писал: «Какая польза может быть от этих наук в возрасте, когда не умеют еще мыслить? Что касается меня, то я жалею детей, которыми восхищаются за то, что они знают эти науки, и предвижу: настанет момент, когда будут удивляться их посредственности или, быть может, их глупости. Первое, что следовало бы иметь в виду, – это, повторяю, дать их уму упражняться во всех его действиях; а для этого не нужно будет отыскивать чуждые им предметы; забавная шутка могла бы служить средством для упражнения».[509] Взрослым было не до забав.
Купец-банкир, ведущий крупные дела в чужих странах. Гравюра 1688 г.
Европейский ум учился и «упражнялся во всех действиях». Яркий пример тому – судьба Пьера-Огюстена Карона, или Бомарше (1732–1799). Автор комедий «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784) родился в Париже в семье часовщика. Это был одареннейший юноша. В 19 лет он изобрел механизм (анкорный спуск), позволявший сделать часы маленькими и удобными. Проявился не только талант умельца, но и твердый характер юноши. Когда хозяин присвоил себе его изобретение, Пьер дерзко пишет письмо в «Курьер де Франс», а затем обращается в Академию наук с просьбой признать за ним право изобретателя. Вот она, свобода нового времени, в действии! Третье сословие училось защищать свои права с помощью имеющихся законов. Его имя стало известным. И вскоре он уже делает часы королю, маркизе де Помпадур, принцессам. Лувру очень понравился этот веселый, красивый, обаятельный и остроумный Карон. Выяснилось, что тот владеет еще целым рядом талантов (сочиняет стихи, комедии, прекрасно играет на арфе, изобретает всяческие поделки). Карьера обеспечена. Он учит играть на арфе принцесс, а вскоре его допускают к особе короля в качестве «контролера королевской трапезы» (режет и подает мясо королю). Купленная должность оказывается к тому же и весьма прибыльной. Он женится на молодой вдовушке де Бомарше, приобретает должность королевского секретаря и судьи по браконьерским делам в королевских угодьях. Теперь он богат, славен, молод и… допущен!
Великая Французская революция не произошла бы, если бы дворянское сословие не разбавлялось выходцами из простого народа. К середине XVIII в., благодаря практике массовых продаж должностей, среди маркизов и графов можно найти отпрысков откупщиков или разбогатевших кабатчиков. В этой пестрой компании можно узреть кого угодно: ювелиры, антиквары, суконщики, часовщики и т. д. В молодом человеке были таланты, необходимые для политической карьеры. Бомарше впоследствии писал: «Если бы родители дали мне широкое образование и возможность свободно выбрать… дорогу, моя неудержимая любознательность, властное стремление к изучению людей и интересов, движущих миром, мое ненасытное желание знать все, что случается нового, и комбинировать новые взаимосвязи непременно бы толкнули меня к политике…» Уже тогда он понял: политика и финансы – это близнецы-братья. Воспользовавшись деньгами крупного финансиста Пари-Дюверне, которому он оказал услугу, Бомарше пустил в ход эти капиталы. Приехав в Испанию, он пытается получить у испанского правительства подряд на торговлю с Луизианой, предлагает взять на откуп все операции по снабжению колоний рабами, добивается патента на всю хлебную торговлю в Испании. Как с равным, с ним беседуют министры и послы. И вот Бомарше уже дает советы правительству: как наладить сельское хозяйство, торговлю хлебом, экономику колоний. Нет, он отнюдь не лукавил, говоря, что политика ему «нравилась до безумия». Глядя на молодого Бомарше, понимаешь, что это племя молодых людей должно было все ж победить в грядущей буржуазной революции, ибо обладало огромным темпераментом, энергией, волей, знаниями, талантами, деловитостью, хваткой. Писатель, имея в виду не столько своего героя Фигаро, сколь все то сословие, что решительно устремилось к власти, скажет:
Чем Фигаро себя так проклинать заставил? За что глупцы бранят его так горячо? Иметь, и брать, и требовать еще Вот формула из трех заветных правил![510]Этому быстро научились не только царедворцы, но и, конечно же, сами буржуа. Они даже из театра делали бизнес. Пьесы Бомарше многие читали или видели, но его жизнь гораздо интереснее его комедий. Помимо драм, где он старался показать характеры и поведение людей из разных слоев общества, Бомарше не забывал и бизнес. Судя по всему, ведение крупных коммерческих операций доставляло ему ничуть не меньшее наслаждение. Сюда он вкладывал немалый талант и энергию. При этом он ухитрялся волочиться за некоторыми актрисами и даже уводил их у знатных вельмож (за что его чуть не убил ревнивый герцог де Шон, подвергший разгрому заодно и его дом). А тут еще противники начали тяжбу, пытаясь его обобрать. Тогда Бомарше пустил в ход оружие литературы, ответив крючкотворам и взяточникам мемуаром («Мемуар для ознакомления с делом Пьера-Огюстена Карона де Бомарше»), где в сатирической форме вывел продажных журналистов, судейских, советников, чиновников, алчных жен и ростовщиков. Париж узнал вполне реальные лица, вроде некой советницы Гезман, с ее фразой: «Мы умеем ощипать курицу так, что она и не пикнет». Мемуары стали подготовительным материалом к написанию им «Женитьбы Фигаро». Однако решение суда было все же не в пользу писателя. Суд вынес решение «Мемуары порвать и сжечь», что и было сделано королевским палачом во Дворце правосудия 5 марта 1774 года.
Пьер Огюстен Карон Бомарше.
Бомарше запретили отправлять общественные должности. Казалось, путь к политике окончательно закрыт. Но гениально владеющий пером – уже политик! Слово сильнее всех партий, и даже злата финансистов. Он стал поверенным короля в интимных делах и тайных операциях. Если принять во внимание, что король тогда не отличался аскетизмом, а также то обстоятельство, что новый король Людовик XVI не имел детей и был не очень-то в ладах с женой-австриячкой, у тайного королевского агента Бомарше работы хватало. Прошло время. И вот создатель «Севильского цирюльника» уже учит короля, говоря, что люди не ангелы и нуждаются в «религии, чтобы их просвещать, законах, чтобы ими управлять, судьях, чтобы их сдерживать, солдатах, чтобы их подавлять… Откуда следует, что хотя принципы, на которые опирается сама политика, и несовершенны, на нее опираться все же необходимо, и короля, пожелавшего остаться справедливым среди злодеев и добрым среди волков, тотчас сожрали бы вместе с его паствой». Бомарше – нарицательный образ той эпохи, символизирующей триумф буржуазии. «Жить – это бороться; бороться – это жить» (Бомарше).[511]
Благодаря многолетней титанической работе просветителей, ученых, писателей всюду наблюдается «выход человека из состояния несовершеннолетия» (И. Кант). Разумеется, философы не могли в мгновение ока излечить людей от невежества и комплекса пороков. И тем не менее, М. Хоркмайер и Т. Адорно в книге «Диалектика Просвещения» справедливо заметили: «…несмотря на то, что и сегодня полностью просвещенная земля живет под знаком торжествующего зла, Просвещение пропагандировало постоянное развитие мышления в самом широком смысле, всегда преследовало цель вырвать людей из состояния страха и превратить их в хозяев своей судьбы… Программой просветителей было избавление мира от чар; они намеревались развеять мифы и с помощью научных знаний полностью изменить человеческое воображение».[512] Заслуги деятелей эпохи Просвещения велики и несомненны.
Это справедливо не только в отношении писателей и ученых, но и в отношении художников, строителей, архитекторов. В предреволюционную эпоху явились такие мастера как Жак-Луи Давид (1748–1825) и Клод-Никола Леду (1736–1806). Один – художник, другой – архитектор. Жак-Луи Давид – апостол, посланный на землю Франции для обращения ее в веру красоты и гармонии! Его полотна потрясают. В 1781 г. он выставил портреты «Велизария, просящего милостыню» и портрет польского графа Станислава Потоцкого. Последний портрет отличался не столько размерами (304 на 218 см.), сколько своим замыслом, открывая в искусстве поиск «нового героя». Полагаем, что будущие романтики не раз останавливали свой взор на этом портрете. По духу нам ближе портрет врача А. Леруа кисти Давида (1783) – образ ученого, погруженного в свои мысли. Давид – связующее звено между эпохами классицизма и революционного романтизма. Для него характерно стремление попытаться найти образ нового героя в интеллигентной, творческой среде (врач Леруа, химик Лавуазье, драматург Седен, аристократ-просветитель Потоцкий, революционер Марат и генерал Бонапарт). Сюда же относем прекрасный портрет Луизы Трюден (1793). В образе этой хрупкой элегантной женщины уже видны черты новой Франции. В ее семье художник встречал героев той эпохи – Кондорсе, Андре Шенье, будущего деятеля революции Сийеса и других.
Тревожное время, надвигающийся вал революции побуждали художника к созданию картин, созвучных духу времени. Давид пишет «Клятву Горациев» (1784). Его героями становятся римские республиканцы, преданные долгу и родине, готовые принести себя в жертву. Революционная Франция ищет и находит опору в республиканских устремлениях древних. Вскоре Робеспьер с трибуны Конвента будет произносить речи, в которых имена Катона и Брута станут неким боевым кличем, поднимающим в атаку когорты якобинцев. Один из вождей якобинцев, яростный Сен-Жюст бросит лозунг: «Пусть революционеры станут римлянами!» Смысл картины, заимствованный художником из пьесы Корнеля «Горации» (тот взял сюжет у Тита Ливия), прост: отец благословляет сыновей на бой с врагами Рима. Какая великая и суровая правда. Сыновья страны в едином порыве берут в руки оружие, чтобы уничтожить смертельного врага Отечества (хотя на заднем плане безвольно-пассивные женщины и оплакивают их). Один из воинов семейства Горациев, победив врагов, убьет даже родную сестру только за то, что она решилась выразить сожаление по поводу ее погибшего жениха (из стана врагов). Отец одобрил поступок сына. Так должны писать художники, чтобы сыновья не разучились держать оружие. Нация гибнет, когда семьи плодят трусов.
Архитектор Клод-Никола Леду – удивительный прорыв даже не в XIX, а в XXI век. Он предвещает опыты конструктивистов ХХ столетия. Его работы напоминают космическую панораму. Сюда можно отнести «Дом садовника» в городе Шо, шар, поставленный прямо на землю, или «Дом директора источников», через который устремляется горный поток. Когда ему поручили спроектировать промышленный город Шо (у соляных рудников), он создал план идеального города, в котором нет места социальным конфликтам и несправедливостям. Здесь должны были сбыться мечты Руссо о естественном и свободном человеке. Первое место отведено не частным особнякам нуворишей и воров, тварей, живущих за счет народа, а общественным зданиям, вроде «Дома братства», «Дома добродетели», «Дома воспитания». Так будут говорить и якобинцы. Эти названия позже появятся в советской республике (и в послеельцинской, республиканской России). Гармония, справедливость и естественность – вот основные заповеди и критерии Леду. Искусство, считал он, должно быть высоко моральным. Неограниченные возможности приписывал он архитектуре: «Все ей подвластно – политика, нравы, законодательство, религия, правительство». Увы, многие его проекты так и остались на бумаге. Проект же под названием «Революция» осуществился.[513]
Ж.-Л. Давид. Портрет врача А. Леруа. 1783 г.
Ущербность и нелепость старой власти становилась все более очевидной многим во Франции. Несмотря на возрастающую роль знаний, на энергичную работу энциклопедистов, народ неграмотен. Среди просветителей нередки люди, которые, подобно Марешалю, все еще скептически, пренебрежительно относились к распространению наук и искусств. Хотя его резкая критика спеси ученых небезосновательна. Он писал: «Отец просвещения! Божественный разум! Бог всех наук! Соблаговоли устыдить гордыню ученых… Они сидят в своих академических креслах, как на судейских скамьях, и кажется, что они судьи Природы».[514] Чудовищная эксплуатация и ограбление народа всесильным правящим меньшинством приближало час возмездия. Le monde est plein de trompeurs et de trompes (франц. «Мир полон обманщиков и обманутых»). Во Франции в XVIII в. появляются люди типа аббата Дюбо, исповедующие античный принцип «меры во всем». Как мы увидим, чувство меры столь же неприемлемо для масс буржуа, воспитанных на безмерности их аппетитов и желаний, как скудная пища монаха-отшельника – для Пантагрюэля. Демокритов и сенек из них не вылепить!
Наивно полагать, что лишь просветителями или художниками движется история. Народу тогда было не до чтения книг и не до вернисажей. Когда огромные массы людей лишены культуры, знаний, важнейших и необходимых условий жизни, грядет революция. Уровень развития французского народа в те времена, в целом, крайне невысок. Крестьянской массе доступны лишь ничтожные крупицы знаний и культуры, печатного слова. Границы их духовной жизни ограничены. Об их культурном уровне частично позволяют судить следующие цифры: во Франции в конце XVII в. 21 процент населения могли поставить свою подпись под актом о заключении брака; а 100 лет спустя – уже 37 процентов. Яркие взлеты в литературе, философии, науке – удел привилегированных единиц. Люди народа, «животные духи», продолжают пребывать в нищете и невежестве. Что из того, если Европа и считала французов просвещенной нацией?! Общий уровень знаний трудового населения низок. В сельской местности Франции почти отсутствовали школы. В областях Овернь и Лимуазен на 20 деревень приходилась всего одна школа. Книга – редкий гость в крестьянских хижинах или рабочих лачугах. Поэтому когда Вольтера обвинили во вредном воздействии на умы простолюдинов, тот возразил: «Народ у нас не читает. Шесть дней он трудится, на седьмой идет в кабак». Увы, как скажет и Руссо в «Эмиле», «искусство образовывать людей», являющееся самым важным из всех, во Франции по-прежнему продолжает оставаться в небрежении.
Возникли сомнения в возможности установления умеренного порядка и достижения «среднего состояния» цивилизации. В ответ на заявления оптимистов, отстаивавших идеи буржуазного прогресса и уверявших, что рост богатств малой части народа приведет к росту благосостояния всех жителей, пессимисты подсчитывали, во сколько жизней обходятся трудящимся жемчуга и фарфор имущих классов. Думается, они точнее и глубже понимали ход современной истории. Лабрюйер писал: «Богатству иных людей не стоит завидовать; они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, – они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого – сделка принесла бы лишь убыток». Эпоха абсолютизма подходила к концу. Д. Писарев писал: «Людовик XIV, Филипп Орлеанский и Людовик XV оказались, таким образом, самыми замечательными популяризаторами отрицательных доктрин, – такими популяризаторами, без содействия которых ни Вольтер, ни Монтескье, ни Дидро, ни Руссо не нашли бы себе читателей и даже не вздумали бы приняться за свою критическую деятельность. Популяризаторская работа Людовика XIV оказалась до такой степени успешной, что народ обезумел от радости, узнавши о его смерти».[515]
Когда рушится уклад жизни, насчитывавший сотни лет, надо иметь в виду, что все властвующие элиты внесли роковой взнос в общее «сальдо веков»… Вот описание праздника, устроенного Людовиком XIV во дворце Версаля, в четырех лье от Парижа (в мае 1664 года). Целую неделю шли сказочные развлечения двора. На фоне декораций игры и лотереи сменялись ужинами, театральные представления сопровождались любовными сценами («в натуре»). Музыка, балеты, фейверки услаждали взор посетителей. Король пригласил на праздник 600 человек, а вместе с комедиантами, лакеями, ремесленниками получилась «целая маленькая армия». Ночью все полыхало тысячами огней и фейерверков. Во время роскошного ужина (пиршество освещали 200 факелов) шли представления. Разыгрывались и особые призы для гостей короля («драгоценные камни, украшения, серебряные изделия»). Все преследовало одну цель – «не быть скучным». На «Волшебном острове» дан, помимо праздника забав, «Большой королевский дивертисмент» (1668). Он продлился целую неделю. Король потратил 150 тысяч ливров. Затем следуют очередные развлечения в Версале (1674). Иллюминации и празднества, которые обошлись казне в 71 тысяч ливров (1676). Одним словом, трудно даже подсчитать, во сколько денег, труда, крови и пота народа обошлись все эти «царские приемы». Разве нет горькой правды в словах, сказанных в адрес правления короля: «Двор постоянно устраивал пиршества, а в это время крестьяне ели одни коренья»?![516]
Жан Батист Тюби. Фонтан Апполона в парке Версаля. Фрагмент. 1668–1671 г.г.
Эту картину стоило бы дополнить хотя бы кратким описанием нравственности той части французов, которая принадлежала к самому высшему кругу. Несмотря на то, что XVIII в. называли «веком женщины» (из-за огромного влияния таких фавориток как мадам де Помпадур, Дюбарри или Марии-Антуанетты), положение женщин было крайне тяжелым. Безусловно, они занимали видное место в жизни королей, о чем свидетельствует книга Э. Кампара «Помпадур и двор Людовика XV». Фаворитки (Ментенон при Людовике XIV, Помпадур при Людовике XV) порой выполняли и культурную миссию. Помпадур основала Севрскую мануфактуру. При ней при дворе появился театр, в спектаклях которого она принимала участие. Она помогала писателям, музыкантам, артистам, художникам (к примеру, Буше). Однако для женского рода (в целом) мало что менялось. Как скажет Руссо, «женщина создана для того, чтобы уступать мужчине и мириться с его несправедливостью». Абсолютное большинство женщин были далеки от уровня культуры и развития двора. Они все более попадали в тенета буржуазного мира, где фальши, лжи и цинизма, было ничуть не меньше. Разумеется, возросшая продолжительность жизни, рост интенсивности труда, изменения возраста замужества и брака, многое другое привело к изменениям во взаимоотношении полов. В Европе возросло число одиноких людей (с 5 процентов в средние века до 15 процентов в XVIII в.). Браки стали заключаться в значительно более позднем возрасте (25 лет – у женщин, а у мужчин – еще старше). «Век просвещения» неожиданно обернулся многими вольностями. Это сразу же отразилось на деторождении. Возросло число незаконных детей (так, в Нанте в начале XVIII в. их было 3 процента, а в конце века уже до 10 процентов). Конечно, прогресс просвещения и науки имел и свои положительные стороны. К примеру, в XVIII в. стали активнее использовать презервативы, изобретенные великим итальянским анатомом Фаллопиусом (середина XVI в.). По выражению небезызвестного Казановы, сей славный и удобный предмет ставил своей целью «уберечь прекрасный пол от любых страхов».
М.-К. Латур. Портрет маркизы Помпадур. 1755 г.
Прекрасный пол, понятное дело, был неоднороден. С одной стороны, малая его часть – в лице всевозможных «помпадурш». Те вели жизнь полную забав и приключений. Желая завлечь Людовика XV в сети, Помпадур (мадам д`Этиоль) подлавливала «королевскую дичь» в лесу и в поле, представ перед королем то в обличье лесной феи, то правя бледно-голубым или розовым фаэтоном в костюме средневековой дамы, в карете из горного хрусталя – в облике античной богини с обнаженными плечами и грудью. Она подражала Клеопатре, Венере или Диане, осыпая его стрелами Амура (на придворных балах). Понадобилось масса ухищрений, прежде чем король, наконец, ее заметил, пригласил во дворец и почтил правом на спальню. А в это время сотни тысяч, миллионы тружениц денно и нощно трудились на полях и мануфактурах, не видя белого света. Их заботы проще, заземленнее: не балы, а блохи.
Такие же контрасты наблюдались и среди мужской половины. Бедняки надрывались на каторжных работах, а в это время состоятельные вертопрахи из числа дворян и крупной буржуазии позволяли себе содержать стада любовниц (а кто был попроще, тот платил «за любовь» служанкам, продавщицам, метрессам). Это крайне негативно сказалось на состоянии общественной морали, порождая «брошенные поколения». В Париже, к примеру, уже около 40 процентов детей, родившихся в 1772 г., были отданы в приюты (7 тысяч 676 детей из общего количества 18 тысяч 713). Ясно, что эти дети, брошенные на произвол судьбы, ненавидели все общество, не говоря уже о «дорогих папашках и мамашках». Бурно росли и ряды беспризорников. Зато буржуа выглядели все более гладкими, сытыми, уверенными в своем превосходстве. Их скотство расшатывало общественные устои, увеличивало социальную нестабильность и, бесспорно, сыграло существенную роль в приближении часа Революции.[517]
Как рыба гниет с головы, так и разврат всегда рождается наверху. Когда короли и министры превращают резиденции в бордели, бардак охватывает все государство. Как говорил философ Сен-Симон в отношении Людовика XIV, «все ему годились, лишь бы были женщины». Уже в пятнадцать лет первые уроки любви ему преподала камеристка, 42-летняя мадам де Бове. Затем он развлекался с фрейлинами двора, находившимися под надзором мадам де Навай. Попытки той сохранить «курочек» от наскоков «петушка» были пресечены. По ночам юный король развлекался в их обществе, сделав своей любовницей даже дочь садовника. Среди его увлечений были племянницы кардинала Мазарини. В перерывах между этими подвигами король уехал на войну, но во время захвата Дюнкерка простудился и чуть не умер. С этого момента начинается его роман с Марией Манчини. Их любовь была взаимной. К чести этой племянницы кардинала она повлияла на него наилучшим образом. Если раньше Людовик относился спустя рукава к образованию и знаниям, то знакомство с Марией, отличавшейся «необыкновенным умом» и знавшей наизусть массу стихов, в корне изменило его отношение к просвещению. Он прочел Петрарку, Вергилия, Гомера, страстно увлекся искусством, стал учить итальянский язык, да и вообще открыл для себя новый мир искусств и познания. Именно ей Мольер и Расин были обязаны тем, что им предоставили финансовую помощь для продолжения работы над их пьесами. Разжигая в короле огонь славы и великих деяний, она способствовала возведению Версаля. Как пишет в этой связи историк, можно сказать, «что Короля-Солнца породила любовь». Мария была умна и поняла неизбежность брака Людовика XIV на испанке Марии-Терезии. Однажды он ради ужина с другой любовницей, Луизой де Лавальер, проскакал 37 лье, что вызвало изумление у всего двора. Мария-Терезия в это время ждала ребенка. В такие дни во всех мужчин словно бес вселяется. Они тоскуют по былой свободе – и бросают «в пламень чувств» все новые жертвы. Не будем осуждать только мужчин, ибо мы знаем, что всегда находятся «целомудренные девы», которые готовы с радостью разделить ложе, украв мужа у законной жены. Они грешат – однако, испытывают при этом «величайшие угрызения совести». Итогом страстной любви явился сын (1665), устройством судьбы которого должен был заниматься министр Кольбер.
Любовный приворот. С картины фламандской школы XVII в.
После смерти матери, регентши Анны Австрийской, Людовика уже никто не мог обуздать. Он заставляет любовниц, Луизу и мадам де Монтеспан, делить с ним ложе одновременно (дав им одинаковые роли и в празднестве в Сен-Жермене «Балете муз»). Лавальер и Монтеспан помещают во дворце в смежных покоях. Дети являлись на свет из двух источников. Увы, хотя об этом знал весь свет, королева была в неведении. Вскоре несчастная Луиза оказалась заброшенной и ушла в монастырь. Монтеспан привораживала короля шпанской мушкой и прочим зельем. Король становился своего рода наркоманом. Итогом этого стала почти поголовная потеря девственности у фрейлин королевского двора. Иные мужья, вроде барона Субиза, уступив королю жену, сколачивали милионные состояния. Король, сам того не ведая, становился игрушкой своей ненасытной плоти. Монтеспан вливала в него ведрами любовные зелья (куда намешивали толченых жаб, змеиные глаза, кабаньи яички, кошачью мочу, лисий кал, артишоки, стручковый перец). Людовик возбуждался и желал, как говорят, «свежатинки». Все чаще среди любовниц были те, кто «красивы, как ангел, и глупы, как пробки». Монтеспан сошла с ума от ревности, решив отравить короля и одну из любовниц. В это время, после 30 лет любовных безумств, в окружении короля появилась набожная мадам де Ментенон, взявшая на себя воспитание детей Монтеспан (та называла своих детей не иначе как «бастардами»). Она постаралась обратить его на праведный путь, помогая ему стать христианнейшим королем, давая дельные советы, но… только не себя. В конце концов Людовик XIV вынужден был заключить тайный брак с Ментенон, ибо не мог без нее обойтись. Морали прибавилось, но Версаль превратился в скучное место, так что «даже кальвинисты завыли бы здесь от тоски». Однако распутство уже крепко въелось в жизнь Франции.[518]
Правители и их семьи (жены, дочери, любовницы, фаворитки) внесли немалый вклад в то, что их властитель и король становился объектом ненависти и презрения народа. Приведу лишь один пример, показывающий, какие все же чудовища составляли «элиту» французского государства в ту эпоху. В 1679 г. состоялся процесс над Катрин Монвуазен, урожденной Дезейе. В ее саду в Сен-Жермене нашли закопанными 2 тысячи 500 неразвившихся детских эмбрионов, а также целый склад крысиного яда. Его «вполне хватило бы, чтобы отправить на тот свет добрую половину мужей, наскучивших своим женам». Казалось, сей факт стоит в ряду обычных, многократно описанных историй с отравительницами и садистами. Как не вспомнить дело полового психопата и садиста барона Жиль де Рэ, маршала Франции (сподвижника Жанны д`Арк). В подвалах лишь одного из его замков в Нанте были обнаружены около 140 трупов детей и молодых людей обоего пола в возрасте от 7 до 20 лет (общее число его жертв приближалось к 400). В 1440 г. его повесили, а затем сожгли на костре. Но дело же не в проблеме неверности супругов. Ведь если строго следовать «закону возмездия рогоносцев», род людской давно прервался бы. Дело приобрело неожиданно важное социально-политическое звучание. Самыми почетными клиентками великосветской отравительницы Монвуазен были особы с громкими именами. Фактически указанная дама обслуживала бордель, имя которому королевский двор. Ее услугами охотно пользовались герцогиня Орлеанская, герцогиня Бульонская, а также всесильная маркиза де Монтеспан, которая, будучи фавориткой Людовика, производила детей с той же легкостью, с какой нынче добротный автомат выбрасывает из чрева пивные банки или пачки сигарет. После своих страстных и необузданных забав светские львицы обычно уничтожали все следы, убивая детей в утробе.
Можно сказать, высший свет наладил целую индустрию по уничтожению последствий своих греховных похождений. В заброшенную церковь Сен-Марсель, к черному магу аббату Гибуру, шли десятки и сотни проституток дворянского звания. Одни просили избавить их от младенцев, другие – сослужить черную мессу, итогом которой должна была бы стать смерть ненавистного супруга или соперницы, третьи – умоляли о бесплодии королевы и т. п. Алтарем для мессы обычно служило обнаженное тело женщины (Монтеспан не раз ложилась на каменное ложе). Вино тут заменяли кровью замученного и сожженного в особой печи младенца. Кровь, что была пролита во время страшных сатанинских церемоний, принадлежала невинным младенцам, купленным у несчастных бедняков, которые не могли их прокормить… Жизнь младенца из народа оценивалась всего в 5–6 ливров! Хотя за подобные церемонии «маг» брал с аристократов по 50-100 тысяч ливров и более. Число обвиняемых на процессе достигло 147 человек (но из них на костер взошли только 35 осужденных). Среди них оказалось немало духовных лиц (служителей Люцифера). Вот вам и «король-солнце», и окружавшие его «светила»! Историк Е. Парнов пишет: «Насквозь прогнивший режим мог еще 112 лет скрывать от глаз народа грязные пятна на своих затканных геральдическими лилиями простынях».[519] Так что грязные пятна любого режима рано или поздно выйдут наружу.
При Людовике XVI окончательно утвердилась у власти система-чудовище, которая безжалостно высасывала кровь у своего народа… Полторы тысячи крупных и мелких синекур, зависящих от короля, находились полностью в руках придворной знати, светской и духовной аристократии, на которую пролился золотой дождь. Губернаторы, генералы, представители короля на местах, интенданты, епископы не столько занимались полезной работой, сколь воровали и набивали себе мошну. К примеру, в мемуарах адвоката Фюрголя (1780 г.) была дана такая оценка институту власти в тогдашней королевской Франции: «Одним словом, куда я ни оглянусь, повсюду вижу кучи второстепенных бездельников и паразитов, кишащих под сенью главных паразитов и усердно сосущих жизненные соки из общественного кошелька, служащего общею кормилицею для всех. Весь этот мир паразитов рядится, ест и пьет до отвалу и парадирует на всех торжественных церемониях: вот их главнейшее назначение и занятие, и они стараются исполнять его самым добросовестным образом».[520]
Посвящение в колдовские таинства. Старинная аллегория.
Слабость, некомпетентность порождали постоянную кадровую чехарду. Людовик XVI самовластно менял министров, но это нисколько не улучшало общего состояния дел. Разница в доходах между высшей знатью и большинством населения была чудовищной. Только на содержание придворного штата короля (15 тысяч бездельников) уходило до сорока миллионов ливров в год (десятая часть всех государственных расходов). В то время как высшие чиновники получали огромные оклады и пенсии, трудовой народ жил буквально на гроши. А вскоре король потребовал еще большего увеличения расходов на нужды его «драгоценного семейства» (25 млн. ливров). Известен ответ генерального контролера финансов Калонна королеве Марии-Антуанетте. В ответ на ее приказ изыскать средства на безумные траты двора, он изрек: «Если это возможно, это сделано; если невозможно, это будет сделано». Неккер жаловался что «все управление Францией исходит из глубины чиновничьих канцелярий». Такую грубую централизацию в те времена еще можно было бы как-то понять и даже оправдать, если бы за ней был установлен жесточайший контроль (когда любой чиновник или губернатор платил бы за воровство своей головой). Однако для успешной работы махины не хватило бы даже усилий Фридриха II, встававшего каждый день в 4 утра, или Наполеона, работавшего по 18 часов в сутки. Здесь нужна энергия, военная строгость, воля и жесткость, а не «сопли» главы государства, беспомощно разводящего руками (при упоминании об очередной афере его же помощничков). Читаем в том же источнике: «Людовик XVI предоставляет своей «славной машине» действовать, как она знает, и замыкается в свою апатию. «Они так хотели; они думали, что так будет лучше» (получилось, как всегда! В. М.), вот его манера выражаться, когда какая-либо из затей его министров кончается неудачею». Фраза эта кажется нам удивительно знакомой. Крах абсолютизма становился неизбежным.
Следует надеяться, что скоро эта игра закончится. Гравюра XVIII в. Париж. Национальная библиотека.
Это понимали многие умные представители высших кругов знати. Так, герцог Сен-Симон с горечью отмечал, что «посреди изобилия, царящего в Страсбурге и Шантильи, население Нормандии живет только полевыми травами». Когда король спросил епископа Шартрского о положении людей в его епархии, тот ответил, что голод и смертность так велики, что «люди там едят траву, точно овцы, и мрут как мухи». Герцог Орлеанский сообщал своему монарху, что и в его Туренском округе люди питаются травой уже более года. Епископ из Клермон-Феррана Массильон пишет кардиналу Флери (1740 г.) о том, что жители деревень не имеют ни постелей, ни даже самой простой домашней утвари. Мало того. Они вынуждены вырывать изо рта детей и семьи последний кусок хлеба на уплату налогов. Ничуть не лучше жизнь и в самой столице. Хлеб из старой, испорченной муки и тот дорожает каждый день. Бедняки лишены элементарных средств к существованию. В ответ на рост налогов по стране прокатилась волна крестьянских бунтов. Крайнее недовольство выражали рабочие и ремесленники. Зачастую хлебные бунты перерастали в настоящие сражения с властями (войска расстреливают несчастных, колют штыками, рубят саблями). И все за требование хлеба!
Ухудшилось положение и в армии. Генералы и высшие офицеры имеют все, что пожелают (власть, почести, деньги, дома). Солдаты живут на 6 су в день, спят на узкой жесткой постели, едят мерзкий хлеб, годный лишь для собак. Злоупотребления со стороны начальства вызывают в рядовых слепую ярость. Здесь царят те же настроения, что в народе (у 26 миллионов французов). Это и понятно, ибо государство забирает в армию и милицию только представителей низших, беднейших слоев народа. Это была рабоче-крестьянская армия (как и у нас, в России). Историк пишет: «Таким образом, милиция может вербоваться только из самого бедного люда, и нельзя сказать, чтобы эти бедняки поступали в нее охотно. Напротив того, эта служба так ненавистна им, что они спасаются от нее в леса, где их приходится преследовать вооруженною силою; в ином округе, который тремя годами позже выставит в один день от пятидесяти до ста волонтеров, молодые люди отрубают себе большой палец, чтобы только избавиться от обязанности вынимать жребий. К этим общественным подонкам присоединяют еще и сор, выметаемый из центральных тюрем и смирительных домов».[521]
Что предпринял двор, чтобы справиться с кризисом? Вы думаете, он сократил расходы на приемы, туалеты, содержанок? Вы плохо его знаете! Он лишь отдал бразды власти банкирам. Подобно Неккеру, те наживали миллионные состояния с помощью монополий. Большие мастера лжи и обмана! Толпа, гордо именуемая «свободной нацией», приносила им кровные сбережения и вкладывала их в ценные бумаги. Неккер нажил состояние на индийской торговле (Кондорсе ее окрестил «торговля грабителей»). Однако в своих выступлениях женевский финансист выглядел невинной овечкой. Как Неккер «пел», выступая против поземельных собственников, говоря: напрасно те думают, будто бы «принесли свою землю с какой-либо другой планеты и могут ее туда унести с собою». Он витийствовал: «Землевладельцы и бедняки, это – львы и совершенно беззащитные животные, живущие вместе». Речь так растрогала буржуазию и академиков, что Неккера тут же удостоили премии Парижской академии. Однако в свое управление «филантроп» издал эдикт, позволявший собственникам в Булони уничтожить право пастьбы на их земле, грудью встал на защиту ценных бумаг, попавших в руки банкиров (нет ничего «более достойного уважения, чем собственность, заключающаяся в государственных бумагах»). Против диктатуры банкиров выступил умница Кондорсе. Он возражал Неккеру: «Деньги финансиста так же не свалились ему с неба, как и земли землевладельца. Банкиры всегда становятся тем богаче, чем беднее становится общество и чем в больший упадок приходит государство… Банкиры, которые живут в городах, приобретают любовь к изнеженности, распущенность, лень и равнодушие к общественным делам и находят поэтому очень удобным помещать свои деньги в государственных фондах… При помощи одной банковой операции собственник денег может сделаться англичанином, голландцем, русским».[522] Вердикт Кондорсе во многом и поныне сохраняет свое звучание.
Фронтиспис книги Жака Савари «Совершенный негоциант».
Принят был ряд превентивных мер. Один из них известен как «метод потемкинских деревень». Король и буржуа постарались скрыть нищету, выгнав ее с улиц и набережных, чтобы та уж не слишком смущала взор владельцев дорогих экипажей и приличной публики. Сирых и убогих отправляли в «дома призрения» (в 1768 г. в стране было 80 домов). Что они собой представляли? Мерсье дает их описание: «Эти новоявленные тюрьмы были выдуманы, чтобы побыстрее очистить улицы и дороги от нищих, дабы нельзя было созерцать невыносимого убожества по соседству с невыносимой роскошью. Самым бесчеловечным образом их помещают в мрачные, зловонные жилища и предоставляют самим себе. От безделья, скверной пищи, скученности несчастные вскоре гибнут один за другим».[523] Положение осложнялось демографическим взрывом в Европе. В XVIII в. население старого континента увеличилось на 50 процентов (во Франции – с 18 до 26 млн. человек). Хотя люди продолжали жить в деревнях, они все чаще устремлялись в города, переполняя кварталы ветхих лачуг, где царили чудовищная бедность, нищета, болезни, высокий уровень детской смертности.
Время шло… Близилась эра революций (политических, социальных, промышленных, научно-технических). Во Франции же верхи общества все еще жили воспоминаниями «века Людовика». Как говорил один из деятелей той эпохи А. Р. Тюрго, интендант, морской министр и генеральный контролер (1750): «Время, расправь свои быстрые крылья! Век Людовика, век великих людей, век разума, спешите!.. О Людовик! Какое величие окружает тебя! Какой блеск твоя благодетельная рука распространила на все искусства! Твой счастливый народ стал центром просвещения!»[524] Увы, французский народ не был ни счастлив, ни просвещен.
Каковы итоги правления Людовика XVI? Если говорить об уровне жизни и благосостоянии большинства народа, они губительны и ужасны. Королевская власть утопала в роскоши. Львиная доля богатств Франции принадлежала аристократии и духовенству. О роли этих «пожирателей народа» писал Ф. Ларошфуко: «Сколько фанфаронов наплодила доблесть Александра! Сколько преступлений против отчизны посеяла слава Цезаря! Сколько жестоких добродетелей взращено Римом и Спартой! Сколько несносных философов создал Диоген, краснобаев – Цицерон, стоящих в стороне бездельников – Помпоний Аттик, кровожадных мстителей – Марий и Сулла, чревоугодников – Лукулл, развратников – Алкивиад и Антоний, упрямцев – Катон! Эти великие образы породили бессчетное множество дурных копий. Добродетели граничат с пороками, а примеры – это проводники, которые часто сбивают нас с правильной дороги».[525] За 15 лет свего правления Людовик XVI «не провел ни одной реформы, способствовавшей обновлению, успокоению и процветанию своей родины». В нём выявилась наихудшая черта, какая только может быть у правителя – непоследовательность и страх перед умом. Всех толковых людей он оттолкнул: Тюрго, который развивал промышленность и содействовал развитию предпринимательства и ограничению расходов двора; Колонна, пытавшегося укрепить финансовое положение страны, упорядочить налогообложение, сократить расходы на чиновников и ограничить часть сословных привилегий. При таких «реформах» дела шли все хуже и хуже. Народ нищал, росли гнев и озлобление.
Кафе патриотов. Париж. Музей Карнавале.
Что представлял собой король Франции Людовик XVI (1754–1793)? Его считали образцовым католиком, нежным мужем, добрым отцом. Честно говоря, нас мало интересуют семейные добродетели, когда речь идет о человеке, стоящем во главе государства и облеченном высшими полномочиями. К правителю страны у граждан особый счет. Людовик оказался неподходящей фигурой на поприще управления страной в трудные времена, из породы тех, кто за внешне решительным видом скрывает полное безволие и вялость. Болтливый, пустой фразер. Когда кто-то спросил его, под каким именем он хочет войти в историю, тот ответил: «Людовик Суровый». Безвольная, слабая личность, пытавшаяся выглядеть многозначительной. Окружение крутило главой государства, как ему заблагорассудится. Некоторые знания и способности у него были (переводил римлян, увлекался историей, знал географию, составлял инструкции для экспедиции Лаперуза), но они не очень-то шли на пользу отечеству. В то время как надо было железной рукой выводить страну из кризиса, он растрачивал время на приёмы, трапезы, празднества, охоту. Вместо того, чтобы закрыть границы страны на замок, он мастерил замки (ремесло слесаря). Горе стране, когда в её державном кресле оказывается такой вот «слесарь». Его пустые хлопоты удивительно напомнили нам «труды и дни» российского царя Николая II. Случайно ли, что и их трагический конец оказался схожим?!
Крушение монархии во Франции было неизбежным. Верха полностью скомпрометировали себя и всю систему. Конечно, Писарев прав, говоря, что массы не стали бы слушать пророков, глашатаев бунта и революций, если бы сами французские короли не позаботились сделать народную боль «действительно невыносимой». О, кто-кто, а правители умеют сделать так, что массы встают на путь мести! Сколько умов пыталось в дальнейшем исказить подлинные причины и цели революции! Историк Л. Тихомиров говорил сто лет спустя после Французской революции: «Ни в этих надеждах на будущее, ни в этом отрицании настоящего ни разу не видно достаточных разумных оснований. Накануне 1789 года новые люди кричали, что они задыхаются, что ancien regime невозможен. Без сомнения, субъективно они были правы, как субъективно прав и сумасшедший, воображающий, что его преследуют чудовища. Но существовали ли эти чудовища в действительности? Теперь старый строй, столь неистово разрушенный, давно уже обследован беспристрастной историей. В нем было много глубокой социальной мысли. Были… недостатки, несправедливости, бедствия, но где же их нет?»[526] «Не видно достаточных разумных оснований?!» Какие еще «разумные основания» вам нужны, чтобы убрать бездарей, убийц и воров?! Поразительная неспособность понять ход событий. Вот она, слепота господ интеллектуалов. Нас хотят убедить в необходимости гуманного разрешения спора с бандитами и грабителями, что столетиями нещадно грабят и обирают народ. Напомним читателю: нередко среди святош и эволюционистов он найдет вчерашних отпетых разбойников и революционеров. Сказанное вполне применимо и к Л. А. Тихомирову. Митрополит Иоанн давал ему такую характеристику: «Участник заговора против Александра II, террорист, известный в подполье под кличкой «Тигрыч», приятель Желябова, Лаврова и Плеханова, без пяти минут жених Софьи Перовской, беглец, эмигрировавший из России, спасаясь от полиции, – он неожиданно раскаялся, был прощен Александром III и, вернувшись на родину, превратился в крупнейшего теоретика монархизма, редактора самой монархической газеты России – «Московских ведомостей», советника Столыпина».[527] Превращение разбойника в «послушника», как ни странно, частое явление у нас на Руси.
Так, Л. Тихомиров пишет: «Все, что мы ни возьмем: власть ли политическую, организацию экономическую, условия ли воспитания личности в семье и религиозных учреждениях – все это получает возможность благотворно действовать только тогда, когда складывается в стройную систему, пропитывающую общество от мелких его ячеек до центра… На все это требуются десятилетия и столетия». В основе его аргументации лежит мысль о том, что «здоровое складывание и рост общества представляет процесс медленный». Никто с этим и не спорит. Медленно, очень медленно идут иные процессы. Но именно этот «аргумент» и опрокидывает все рассуждения консерватора-монархиста. У прошлой системы были не десятилетия, а целые столетия в запасе. Почему сложившийся порядок продолжал оставаться для миллионов людей такой чудовищной, многовековой каторгой? Не означает ли это, что вся система – порочна и антигуманна. А значит, ее надо в корне менять: не только эволюционным, а возможно, и революционным путем в случае необходимости. Но не лучше ли «запастись терпением» и ждать? Ждать чего? Новых обманов, грабежей, насилий, издевательств?! Французы не желали более быть «простаками». Характерно, что накануне революции парижане в театре Варьете встречали шквалом аплодисментов фразу из пьесы «Торговля в Саду равенства»: «Нас долго усыпляют этим терпением». Их терпению пришел конец.
Каждое поколение ведет счет «своего времени» на десятилетия, а не на столетия. Оно хочет реализовать себя здесь, в земной жизни, а не в загробном раю. Народ не хочет и не должен ждать, пока короли, президенты, банкиры, спекулянты, депутаты, чиновники, епископы «поумнеют», продолжая грабить, насиловать, убивать, роскошествовать, паразитировать в рамках неправедной системы. Стадом народ быть не должен! Смерть тиранов и грабителей хотя и не доставляет народу радости, но бесспорно является «актом высшей справедливости» для тех, кто веками был унижен, проклят и отвержен. Однако этого еще недостаточно для запуска страшного, но одновременно спасительного маховика революции. Нужно было суметь довести народ до последней черты, крайней точки, за которой смерть в битве против лютого врага будет выглядеть как награда. И напрасно толпы сытых, самовлюбленных фарисеев будут доказывать народу гибельность революций! Считаю, что внушение мысли о бесполезности и ненужности революций – «Люди могут делать сколько им угодно революций, могут рубить миллионы голов, но они так же бессильны выйти из социальной неизбежности, как из-под действия законов тяжести» – акт позорный, гнусный и реакционный.[528]
Буря грянула в столице Франции. Париж стал тем центральным местом, где были сосредоточены нервные узлы эпохи. Здесь жила основная масса ремесленников и буржуа, сходились политические и финансовые перекрестки континентальной части европейского Запада. Тут же была резиденция и старой аристократии. Здесь же началась и Великая Французская революция… Во многом благодаря ей, ее величественному порыву французам предстояло выдвинуться на ведущие роли в политической и культурной жизни Европы, да и всего мира. Все началось с активности народа на местах, народа, доведенного до отчаяния подлостью и алчностью строя. Революция началась на местах. Народ взял власть в свои руки. Кропоткин пишет: «Вот каким образом французский народ задолго до Собрания совершал революцию на местах, создавая революционным путем новое городское управление, установляя новый суд…» Не законодатели, а французский народ стал инициатором великой революции.
Глава 6 Великая Французская революция – и ее последствия
Особое место в пантеоне истории занимает Великая Французская революция… Услышав знаменитое «Liberte, egalite, fraternite ou la mort» (франц. «Свобода, равенство, братство или смерть»), мир словно стряхнул с себя оцепенение веков. Народ обрёл невиданные силы. Франция явила миру племя гигантов. В словаре буржуазии тогда только и появилось слово «капиталист». Известное словосочетание «промышленная революция» родилось во Франции под звуки «Марсельезы». Революция была предсказана философом Руссо, писателем Голдсмитом. О ней мечтали многие умы. Французское общество неумолимо шло к Великой революции 1789–1793 гг. Рост нищеты в деревне, разорение крестьян, чудовищные налоги, паразитизм королевского двора, народные восстания в областях, массовый голод подорвали монархическую власть. «Nous dansons sur un volcan» (Мы танцуем на вулкане). Революция во Франции явилась вначале в образе ученых, энциклопедистов, просветителей, бунтарей. Бунтарский дух третьего сословия, нужды науки приблизили ее начало. Эпоха Просвещения открыла дорогу народным колоннам, которые пойдут на штурм Бастилии! Вполне подтвердилась и следующая дерзкая мысль Декарта: «Каждый народ тем более гражданственен и образован, чем лучше в нем философствуют». Политические задачи третьего сословия (буржуа, крестьян, богатых ремесленников) формулирует аббат Сийес, «мыслитель революции»: «Что такое третье сословие? Всё. Чем оно было до сих пор при существующем порядке? Ничем. Что оно требует? Стать чем-нибудь». Происходит то, о чем писал С. Цвейг, оценивая волю к власти третьего сословия: «Третье сословие еще никуда не допускается в плохо управляемом, развращенном королевстве, не удивительно, что четверть века спустя оно станет кулаками добиваться того, в чем слишком долго отказывали его смиренно протянутой руке».[529]
Оноре Мирабо. Гравюра Хонвуда по рисунку Раффе. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва.
Во Франции, как и в других странах, движущей силой революции выступили не разбойники, а наиболее грамотные и профессионально подготовленные слои общества! Круг тех, кто реально определял события во Франции 1791 г. «был ограничен людьми просвещенными». Они-то и «контролировали все силы и всю власть в государстве», будучи главной силой в обществе в силу умственных способностей, экономической независимости и образованности (Минье). На первом этапе Французской революции важную роль сыграл граф Оноре Габриель Мирабо (1749–1791), дворянин, перешедший на сторону революции, автор многотомной «Истории прусской монархии под управлением Фридриха Великого», «Опыта о деспотизме», «О государственных тюрьмах». Вначале он приобрел известность в общественных кругах не столько сочинениями, с которыми был знаком узкий круг читателей, а скандалами (он дерзко украл чужую жену) и последующим тюремным заключением. Обыватель туп, он редко читает умные книги, но охотно поглощает скандально-любовное чтиво. Вскоре Мирабо стал одним из лидеров оппозиции… Во Франции к концу XVIII в. сложилось положение, когда верховная власть уже не пользовалась доверием большинства народа. Против короля выступили не только третье сословие, но и парламент, и даже брат короля, Филипп-Эгалите. Старый парламент не склонен был жертвовать во имя народа привилегированным положением. Мирабо во?звал к мобилизации сил народа. Попытки напуганного короля как-то обмануть или умилостивить депутатов оказались тщетны. Стали поговаривать о готовящемся военном перевороте. Режим задумал силой штыков сломить патриотов. Мирабо в гневной речи клеймит иностранных сателлитов, купающихся «в вине и золоте», а также реакцию короля и его окружения, которое спит и видит, как бы половчее разогнать в собрании «левых».
Любая революционная эпоха, сопровождающаяся переходом от одной формации к другой, требует от деятелей своего времени самопожертвования, героизма, ума и воли. Эти качества были наглядно продемонстрированы французской буржуазией. Как скажет один из известных героев Великой Французской революции Сен-Жюст: «Le grand secret de la revolution c`est d`aser!» (франц. «Великий секрет революции – это дерзать!»). 4 мая 1789 г. созываются Генеральные штаты. Событие революционное, так как Генеральные штаты не собирались давно. В 1614 г. дворянство Франции презрительно указало депутатам их место (сравнив их со слугами), а через полгода и вовсе распустило штаты, заявив тем, что они «устали» и им надо «отдохнуть». Народ, однако же, ничего не забывает. Полтора века спустя дворянам и королю также предложат «отдохнуть» – иным на гильотине, а затем спустя еще более чем столетие некий матрос в России скажет Учредительному собранию: «Караул устал!» Депутаты представляли 93 процента населения Франции (духовенство, дворянство, буржуа, крестьяне). Они назвали себя Национальным собранием и приступили к радикальным реформам.
Необходимо ясно понять, более четко и ясно, что же представляли собой тогдашние Генеральные штаты. Господствующей формой правления времени этого были сословные собрания. Даже такие наиболее передовые в политическом отношении страны как Англия и США считали представительное собрание по французской модели чрезвычайно опасным для сохранения власти привилегированных слоев. Хотя об участии в его работе трудящихся речи не было. Рабочих там отсутствовали вовсе. Во время торжественного шествия для принятия присяги Генеральными штатами заметили только одного крестьянина в национальном костюме. И все же то, как средний класс Франции постарался «слить выборных в одну палату», заслуживает самых высоких похвал. Тем самым законодательная власть создала некую основу общенародного единства. Франция обрела то, чего так не хватает другим странам. Акт этот заложил «краеугольный камень, на котором воздвигнуто здание революции».[530] Свой резон был и в том, что палата представителей среднего класса провозгласила себя Национальным собранием. Народ требовал реальных реформ и компетентного управления страной, а этого можно добиться только при концентрации власти в руках представительного и единого национального собрания! В противном случае сословные палаты (дворянство, духовенство, буржуазия) не позволили бы работать на благо всего народа и государства. Именно поэтому король, высшее дворянство, часть духовенства Франция все время интриговали против Национального собрания, яростно сопротивляясь его созданию. Король настоятельно требовал от депутатов «разделиться и заседать отдельно». Как не вспомнить библейское изречение о государстве, разделившемся в основе своей, которое ждет неминуемая гибель.
Мирабо в ответ на приказ короля «Разойтись и заседать отдельно!» скажет, что депутаты собрания выражают волю всего народа. Он дерзко воскликнет: «Находясь здесь по воле народа, мы разойдемся, только уступая силе штыков». Историк А. Манфред пишет: «С этого дня, с этой исторической фразы, на которой почти двести лет воспитывалось поколение французских школьников, Мирабо вошел в мировую историю». Он стал «героем в глазах всего цивилизованного мира» (В. Васильев). В решающий для страны час в том парламенте Франции нашлись мужественные и решительные люди, выступившие против монарха и его злоупотреблений. Даже в России (в книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву») чувствуется «тон Мирабо и других бешеных Франции». Знаменательно и то, что на полях пятой главы черновика «Евгения Онегина» портрет Мирабо рисует А. С. Пушкин.[531]
14 июля 1789 года – дата знаменательная для всего мира… Парижане взяли штурмом Бастилию. Абсолютистская власть пала. В Труа народ казнил мэра, ворвался в ратушу, заставил чиновников продавать продовольствие. Схожие события происходят в Страсбурге, Амьене, Руане, других городах. Аристократов и высоких господ охватил животный страх. Когда-то Мирабо бросил крылатую фразу «Молчание народа – урок королю». И вот народ заговорил… Взята Бастилия – оплот тирании. Народ сразу же после хлеба требовал одного – «Оружия!» Перед властью, дворянами, богачами забрезжила угроза «Варфоломеевской ночи»! Что произошло, если взглянуть на события несколько шире? Идет тотальное вытеснение старой преступной камарильи. Историки назвали те события (июля 1789 г.) «муниципальной революцией»… Мы скажем иначе: «Это – восстание Народа!» Фактически вооруженные отряды патриотов выгнали администрацию короля! Режим всем настолько опостылил, что роялистские силы и внутренние войска ничего уже не могли поделать. В этом главный урок восстания, принявшего общенародный характер. У тех лидеров хватило воли и смелости предстать людьми дела, а не пустых слов и обещаний. Третье сословие шло к победе – и победило!
Взятие Бастилии 14 июля 1789 года. Гравюра Берто с картины Приёра.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва.
Жители восставшего Парижа приветствовали своих вождей бурными возгласами типа: «Да здравствует Мирабо – отец народа!» Французы говорят: «Le style c`est I`home» («Стиль – это человек»). Мирабо называли «путеводной звездой Европы», «гигант, язычник и титан». Его трудолюбие поражало всех. «Один день для этого человека был больше, чем неделя или месяц для других; количество дел, которые он вел одновременно, баснословно; от принятия решения до приведения в исполнение не пропадало ни одной минуты» (Дюмон). Говорят, он одним из первых дал определение понятию «цивилизация». Его популярность в первое время была просто невообразимой, а его смерть, якобы, исторгла у некоторых французов слезы отчаяния (едва ли не впервые со времен кончины Людовика XII).[532] Мирабо запечатлелся в сознании народа Франции как лидер первых и триумфальных дней восстания. Он был создан для любви и политики. Для того и другого одновременно. Есть такие натуры, что в кровати и парламенте ведут себя одинаково (с равным пылом). Надолго их, как правило, не хватает. Мирабо готов был из революции сделать роман, в котором ему, разумеется, уготована роль первого любовника. Шатобриан дал ему характеристику: «Уродство Мирабо, наложившееся на свойственную его роду красоту, уподобило его могучему герою «Страшного суда» Микеланджело… Глубокие оспины на лице оратора напоминали следы ожогов. Казалось, природа вылепила его голову для трона или для виселицы, выточила его руки, чтобы душить народы или похищать женщин. Когда он встряхивал гривой, глядя на толпу, он останавливал ее; когда он поднимал лапу и показывал когти, чернь бежала в ярости». Это был вихрь, «клубящийся хаос Мильтона».[533] Однако суть власти – это организация хаоса.
Мы не можем подробно рассказывать о событиях тех лет. Стоит вспомнить дни, когда массовое недовольство масс стало перерастать в вооруженные выступления. Всегда есть грань, за которой Народ окончательно порывает с правящей элитой – и тогда раздается клич: «На фонари!» Главным лицом в любой Революции всегда был и будет народ. Такая «точка кипения» наступила после падения Бастилии и формального утверждения «Декларации прав человека и гражданина». В начале после ее принятия народ ничего не понял. Как же так? Феодализма, вроде бы, уже нет, все живут «в условиях демократии», с тиранией старой партии покончено, а бедняки по-прежнему стоят в очередях. Да и денег у них как не было, так и нет. Положение могли бы спасти займы, но финансисты, увы, не имеют родины. Патрули Лафайета запрещают выражать недовольство. Власти схватили Марата, Друга Народа, лишили свободы издателей патриотических журналов и газет. В то время как страна голодала, в Версале, как встарь, устраивались попойки. Шампанское текло рекой, их Величества утомленно отдыхали после охоты, Мария Антуанетта в роскошном платье милостиво принимала знаки внимания. Фиестов пир, на котором, по греческой мифологии, царю подано мясо собственных детей, пир сыновей Иова (завершился полным крахом «их дома»). Английский историк Карлейль (у которого мы берем описание последующих сцен) далее рассказывал, что эти приемы и пиры возмутили измученных и голодных тружеников, месяцами не видевших хлеба. И тогда своё слово сказали славные французские женщины, подлинные героини Великой Французской революции. 5–6 октября они двинулись на Версаль, это прибежище королей и знати, каким в России исторически являлся и является Кремль (или раньше – Царское Село).
Парижские женщины в походе на Версаль 5 октября 1789 г. Гравюра Берто с картины Приёра. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
«Вставайте, женщины; мужчины-лентяи не хотят действовать, они говорят, что мы должны действовать сами! И вот, подобно лавине с гор, потому что каждая лестница – это подтаявший ручей, толпа грозно растет и с шумом и дикими воплями направляется к Отель-де-Виль. С шумом, с барабанным боем или без него; вот и Сент-Антуанское предместье подоткнуло подолы и, вооружившись палками, кочергами и даже проржавевшими пистолетами (без патронов), вливается в общий поток. Грандиозное зрелище… представляло множество Юдифей, всего от восьми до десяти тысяч, бросившихся на поиски корня зла!.. Национальные гвардейцы выстраиваются на наружной лестнице, опустив штыки, но десять тысяч Юдифей неудержимо рвутся вверх – с мольбами, с простертыми руками, только бы поговорить с мэром… И вот двери разлетаются под ударами топоров: Юдифи взломали арсенал, захватили ружья и пушки, три мешка с деньгами и кипы бумаг. Захваченные пушки привязаны к… повозкам; в качестве канонира восседает мадемуазель Теруань с пикой в руке и в шлеме на голове «с гордым взглядом и ясной прекрасной наружностью»; некоторые считают, что ее можно сравнить с Орлеанской девой, другим она напомнила «образ Афины Паллады». Затем они идут на Версаль с грозными и драматическими криками: «Хлеба! Хлеба!»[534]
Мы уважаем и глубоко чтим во французах их давнюю революционную страсть. Слава тебе, нация мыслителей, поэтов, революционеров! Почему одни восстают, а другие рабски и скотски терпят угнетение!? Шлоссер, работая над историей XVIII в., однажды спросил аббата Грегуара: «Скажите же мне, наконец, каким образом Робеспьер мог так ворочать всей Францией?» Грегуар преспокойно ответил: «Да в каждой деревне был свой Робеспьер!» Он мог бы добавить: «Робеспьер – воплощение того, что творилось в то время в каждой деревне». А разве в России в каждой деревне и городе нет своего Стеньки Разина или Емельки Пугачева (а если исходить из нынешних нравов, то и своего «Соловья-разбойника»)?! Важно тщательно разобраться в том, при каких обстоятельствах у общества возникает потребность в роковых фигурах? Что же, в конце концов, выводит на авансцену Робеспьера, Жанну Д`Арк?
Чем интересен опыт первого революционного этапа? Ясностью, прозрачностью политических, имущественных, экономических интересов. Тому, кто пожелает знать, куда идет страна накануне той или иной «бури», нет нужды копаться в бумагах, пускаться в досужие теоретические рассуждения. Взгляните на состав правительств, мэрий, дум, муниципалитетов. Обратите внимание на тех, кому досталась большая часть земли и имущества. Обещаю: получите ответы на все главные и наиболее интересные вопросы. Менее всего придавайте значение речам демагогов. Все грандиозные политические события, в ряду которых, конечно же, и Великая Французская революция, заключают в себе экономический ящик Пандоры. Богатства всюду ограничены. За них ведется отчаянная схватка (не на жизнь, а на смерть).
Немецкий исследователь Г. Кунов в книге о французской революции («Die revolutionare Zeitungsliteratur wahrend der Jahre 1789-94») писал о наличии внутри движущих сил во Франции острых противоречий. Уже в конце 1789 г., спустя восемь месяцев после созыва Генеральных штатов, не только представительство третьего сословия в Национальном собрании распалось на разные энергично боровшиеся друг с другом партии, но и среди парижского населения бушевала партийная борьба; и почти каждое из этих разнообразных течений уже имело свою газету, которая писала для него, отстаивая его права. Имели свои органы и низшие социальные слои. Радикальная буржуазия, большинство полупролетарской интеллигенции читали «Парижскую революцию» Лустало. Студенты, литераторы, представители необеспеченных слоев, безвестные художники, адвокаты читали «Революции Франции и Брабанта» Камиля Демулена, а интеллигентные рабочие, мелкие мастера, отчасти и интеллигентный пролетариат – газету Марата «Друг народа». Противоречивый характер материальных интересов явственно выразился внутри буржуазного лагеря. Обнаружилась невозможность создания единой политической платформы. Газета Марата выступила как представитель интересов рабочих и мелких ремесленников, проповедуя борьбу против финансистов-спекулянтов, купцов, рантье, надменных академиков, тогда как «Французский патриот» Бриссо был голосом состоятельной буржуазии (выступив против трудящихся масс). Классовые противоречия обострялись тем больше, чем дальше развивалась революция. В Бордо треть муниципалитета была составлена из юристов, а две трети из негоциантов (крупная и средняя буржуазия). Мирабо громит эти муниципальные органы: «алчные муниципалитеты, нисколько не радеющие о счастье народа и веками занятые только тем, что множат его оковы и расточают плоды его труда». В Марселе ситуация иная. Там против спекулянтов, воров, монополистов выступил единый фронт народа, включая национально мыслящую среднюю буржуазию. В городе тружеников Лионе сложилась радикальная ситуация (введен низкий избирательный ценз, ворье сажают, патриоты берут в руки прессу). Там ворье в полном составе пойдет на гильотины. Расклад интересов примерно таков и в любой другой стране.
Наиболее бурные события происходят в сфере собственности… Повсюду идет откровенный передел церковного и государственного имущества (по сути дела, это грабеж). Захват столь лакомых кусков новой буржуазией дал ей возможность сразу же окунуться в болото спекуляций. Вот уж величайший шанс загрести невероятный куш – d`une seule haleine (франц. «одним махом»). Подобно факиру, деньги добывали прямо из воздуха. Но так как ничто из ничего не возникает, всем было ясно, что «приватизаторы» тянули из кармана государства. Буржуазия понимала, что обманула народ, ибо «ничего не могла ему дать». Надо было хоть что-то подсунуть массе (помимо «демократических сказочек»). И тогда эти господа во всю мощь своей продажной прессы затрубили о «правах человека» (объявив сей чахлый плод величайшим достижением). Разумеется, было бы верхом наивности полагать, что простому народу передадут вот так во владение национальное имущество на миллиард франков. Демократия буржуазии охотнее обратит к народу «лик горгоны Медузы»! Жан Жорес писал: «Но во что превратилось это право на жизнь в обществе, где столько человеческих существ гибнут под тяжестью чрезмерных лишений? Во что превратилось право на труд в обществе, где безработица обрекает на нужду стольких людей, жаждущих трудиться?» Надо отдать должное французским патриотам. Это был мужественный и грамотный народ. Патриоты призывали отказаться от наивной веры в банки и займы. В условиях нестабильности те всегда крадут (по-крупному) и вывозят звонкую монету (или припрятывают ее), что парализует экономику страны. Что делать? Ясно – ограничить их власть! Главный сборщик налогов, депутат третьего сословия от Парижа г-н Ансон говорил в Национальном собрании (1790): «Предоставим администрации старого порядка совершать ошибки, прибегая к промежуточным кредитам: покажем наконец всей Европе, что мы сознаем всю огромность наших ресурсов, и очень скоро мы уверено вступим на широкую дорогу нашего освобождения, вместо того, чтобы плутать по узким, извилистым тропинкам раздробленных займов и кабальных договоров». К словам патриота надо бы прислушаться в России, если бы наша компрадорская буржуазия не следовала девизу «Virtus post nummos!» (Добродетель после денег).[535]
У всякой революции, народного движения непременно есть Гора и Жиронда, «авангард» и «болото». Среди представителей последнего масса тех, кто быстрее и полнее воспользовались результатами перемен (прежде всего бюрократы, спекулянты, часть интеллектуалов из числа придворной челяди, представители официальной оппозиции, получившие наделы и ордена). Все эти вчерашние «честные люди» тут же принялись отхватывать самые жирные куски. Народу же бросили «кость» в виде неизвестно что из себя представлявшей «свободы». Однако наиболее дальновидные деятели Горы тотчас раскусили трюк «демократов». Они говорили: «Вы хотите свободы без равенства, а мы хотим равенства, хотим, потому что без равенства мы не можем представить себе свободы. Вы – «государственные люди», вы хотите организовать республику для богатых, а мы люди не государственные… мы ищем законов, которые извлекли бы бедных из нищеты и сделали бы из всех людей при всеобщем благосостоянии счастливых граждан и ярых защитников нашей обожаемой республики».
Противоречия заложены в самой основе буржуазной революции. Бриссо возмущался: как же можно уравнять «талант и невежество, добродетели и пороки, места, жалования, заслуги»? Как можно ставить на одну доску парламентария и землекопа? Другая сторона стремилась к «всеобщему благосостоянию», к передаче власти «в руки общин и народных обществ». Конечно, столь диаметрально противоположные интересы трудно, пожалуй, даже невозможно воплотить в жизнь. Власть должна идти на уступки народу. Такое решение требует большого ума, воли, совести, не говоря уже о серьезных талантах и способностях..[536]
Выдающийся деятель французской буржуазной революции Жан-Поль Марат (1743–1793), павший впоследстви? от кинжала Шарлотты Корде (эту сцену монументально изобразит художник Жак Луи Давид), по понятиям тогдашнего времени принадлежал к буржуазии. Его отец, чертежник, рисовальщик, преподаватель иностранных языков, хотел видеть сына ученым. Марат получил хорошее воспитание. Юноша любил читать, усердно занимался в библиотеке города Невшателя, увлекался историей, географией, мечтал о путешествиях. В школе он изучал языки: немецкий, английский, итальянский, испанский и голландский. Читал по-латыни и по-гречески. О жизненных планах юноши можно было судить по следующему признанию самого Марата: «В пять лет я хотел стать школьным учителем, в пятнадцать лет – профессором, писателем – в восемнадцать, творческим гением – в двадцать». Марат – подлинный сын народа. Поэтому его, как и Робеспьера, крупная буржуазия не любит и боится. Для них Мирабо и Дантон ближе и роднее подобно тому, как родные сыновья дороже подкидыша. Карлейль даже называл Марата проклятым человеком, фанатическим анахоретом, Симеоном Столпником, пещерным жителем. Мы думаем иначе… Это – Человек с большой буквы. Среди множества талантов и сильных личностей Франции той поры никто, пожалуй, не был столь близок к нуждам и заботам простого народа. Мирабо заполучил славу «оратора», маркиз Лафайет – славу «героя Нового Света», Дантон – «спасителя Отечества», Робеспьер – титул «Неподкупного», и лишь Марат – скромное имя «Друга Народа»… Можно с полным правом утверждать: «Его гений приблизил революцию!» Найдется ли сегодня хотя бы один, кто с такой же одержимостью и яростью отстаивал бы заботы и нужды Народа?! Кстати, ведь и он вел свое происхождение не от плебеев, а от «буржуа». Наше отношение к нему выразим лишь фразой: «Summa cum pietate» (лат. «С величайшей почтительностью»).
Когда летом 1790 г. Национальное Собрание издало декрет, по которому три четверти совершеннолетних граждан Франции были напрочь лишены прав участвовать в избирательных собраниях (это право предоставлялось лишь состоятельным), Марат назвал этот закон позорищем первого года свободы. Он призвал беднейшую часть населения к протесту, а в случае необходимости даже к восстанию. Трибун призывал не уповать на речи членов Собрания и не думать, что можно ими накормить народ. Нужны конкретные и жесткие меры (в сфере регулирования цен, налогов, подвоза зерна, муки и т. д.). Именно Марат предупреждал народ об опасности измены представителей знати и высшей буржуазии. Он высмеивает «идолов» буржуазии – Мирабо и Лафайета. Мирабо в течение нескольких месяцев истратил на покупку имений около 3 млн. ливров, тогда как еще пару лет тому назад он вынужден был, как образно выразился историк, «заложить у ростовщика свои штаны за шесть ливров». Откуда у господина «революционера» и «реформатора» такие бешеные деньги на покупку дорогостоящих особняков и содержание наложниц?! Из каких бездонных источников эта сволочь нашла средства на покупки замков и вилл? Генерал Лафайет характеризуется Маратом как жалкий болтун и политический комедиант, который готов ради власти вступить в союз с самим чертом (кстати, и Наполеон Бонапарт назвал Лафайета не иначе как «простофилей»).
Жан-Поль Марат.
На мой взгляд, особый интерес представляет оценка им тех кругов, что и пришли к власти в итоге революционных событий во Франции. Марат писал: «А вокруг этих честолюбивых интриганов, – презренной придворной челяди, – скоро сплотились, в качестве опоры и телохранителей, дворянство, духовенство, офицерство, судьи, правительственнные и судейские чиновники, банкиры, спекулянты, пиявки общества, краснобаи, крючкотворы и паразиты двора, – словом, все те, у кого положение, состояние и надежды основываются на злоупотреблении правительственной властью, все, кто извлекает выгоды из ее пороков, начинаний и расточительности, все заинтересованные в сохранении злоупотреблений, ибо от этих злоупотреблений они богатеют. А вокруг них постепенно собрался более широкий круг: дельцы, ростовщики, ремесленники, производящие предметы роскоши, литераторы, ученые, артисты, которым расточительность богачей дает случай к обогащению, крупные торговцы, капиталисты и те жаждущие покоя граждане, для которых свобода есть дишь устранение препятствий, мешающих их промыслам, лишь укрепление их собственности и ничем ненарушимое наслаждение жизнью. А к ним примыкают те робкие, которые рабства страшатся меньше, чем волнений политической жизни, и те отцы семейств, которые боятся, как бы перемена в условиях не лишила их положения, занимаемого ими в современном обществе».[537]
Зато вот простые люди Франции любили Марата всем сердцем. Хотя в 1795 г. «золотая молодежь», это скопище экзальтированных невежд, которых полно в любой стране, выбросит священный прах из Пантеона, разобьет его скульптурное изображение. Однако разве не это же видим мы в Англии, когда тела героев славной революции – Кромвеля, Брэдшоу, Айртона – вытащили из усыпальниц в Вестминстере и повесили вверх ногами, когда в 1790 г. молодые ничтожества, после пьянки, вскрыли могилу великого Милтона в церкви святого Джайлса, растащив и распродав его бренные кости?! Разве не такую же вакханалию толп видели мы в революционной, а потом и в «демократической» России, где осквернялись церкви, а затем и многие памятники культуры?! (Ныне все те же «сокрушители основ» из невежественных толп подрывают столпы государства!) Везде один и тот же принцип разрушения и мести, которым обычно руководствуются самые ничтожные, тупые подонки («шпана»).
Марат всей своей жизнью и трудом революционного журналиста доказал, что честная народная газета («Публицист Французской республики»), громящая воров, предателей и негодяев, для тиранов куда опаснее пушек и армий. Клика не простит ему его позиции: «Недостаточно помешать увеличению нищеты, нужно начинать с ее уничтожения».[538] Никого так люто не ненавидели предатели и мошенники, как его и Робеспьера. За что? Марат сам ответил на вопрос: «Я хорошо знаю, что мои произведения не созданы для успокоения врагов отечества: мошенники и изменники ничего так не боятся, как разоблачения. Поэтому число злодеев, поклявшихся погубить меня, огромно». Стоит ли жалеть, что в нем ученый и врач уступил место публицисту и революционеру? Ведь, без титанических усилий этих героев человечество не сделало бы шагов в нужном направлении. Марат отдал всего себя делу служения революции. Он обладал каким-то особым нюхом на предателей отечества (выявил связи Мирабо с королевским двором, измену Лафайета и Дюмурье и т. д.). Он же одним из первых заговорил и на языке террора. Толпа жаждет мести. Он писал в 1790 г.: «Шесть месяцев назад пятьсот-шестьсот голов было достаточно. Теперь, возможно, потребуется отрубить 5–6 тысяч голов». Затем он заговорит уже о 20 тысячах и даже 200 тысячах голов. Да, за все надо платить… Тогда-то и явилась из Кана «мстительница» Шарлотта де Корде (праправнучка великого поэта и драматурга Корнеля). Убийство Марата открыло путь жирондистам. Во имя чего пошла она на жертву? Те, кто пришли на смену Марату, не стоили и его мизинца. Ничтожества, обеспокоенные только собственной наживой. Корде напрасно «умерла за Родину» (как ей тогда казалось). Смерть Марата вызвала вопль радости у ничтожеств. Его подвиг сумел по достоинству оценить великий художник Давид, посвятивший ему картину «Смерть Марата». А в далекой России критик Белинский так сказал о его учении: «Я понял… кровавую любовь Марата к свободе… я начинаю любить человечество по-маратовски».
Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793 г.
Наиболее яркой фигурой, бесспорно, являлся Максимилиан Робеспьер (1758–1794), мрачный гений и герой Великой Французской революции. Робеспьер не был счастлив в юные годы, оставшись сиротой (отец, потомственный адвокат, рано умер). Благодаря поддержке опекуна юноша сумел попасть в коллеж Луи-ле-Гран, представлявший собой школу-интернат. Вместе с ним там учился и Камил Демулен, ставший его другом. Все Робеспьеры из поколения в поколение были судейскими. Учился он хорошо, полностью отдаваясь чтению и грезам о будущем. Его героями и духовными учителями стали Брут, Гракхи, Спартак. Он буквально был напоен римской историей. Видимо, потому его и прозвали Римлянином. Однако время нуждалось в новых идеях. Новая идеология во многом формировалась просветителями, среди которых первое место занимал Жан-Жак Руссо. Во времена молодости Робеспьера жизнь Руссо уже клонилась к закату. Великий философ не сумел скопить хоть малой толики денег и в последние годы проживал в бедности, ища приюта и поддержки. Однажды в имении маркиза Жирардена и произошла знаменательная встреча мыслителя и революционера. Они гуляли по аллеям сада в Эрменонвиле, и там великий Руссо развернул перед студентом панораму мыслей. Содержание беседы так и осталось для всех тайной.
С 1781 г. Робеспьер работает в коллегии адвокатов при Совете Артуа. Хотя первое свое дело он проиграл, удача не покинула его. Она пришла к нему вместе с изобретением Бенджамина Франклина. Тот изобрел громоотвод, и один из жителей решил установить его на крыше своего дома. Однако соседи решили, что он хочет спалить их дома. Робеспьер, который вел это дело в суде, с блеском защитил авторитет науки и свой собственный. Вел он неоднократно и тяжьбы крестьян, так что был прекрасно осведомлен о тяжелом положении народа. Он выступил как публичный политический деятель, обратившись к народу провинции с предложением преобразовать провинциальные штаты (1788). «Нашим штатам, – писал Робеспьер, – нет дела до нужды и нищеты задавленного поборами народа; у них не находится денег, чтобы дать народу хлеб и просвещение, но они необычайно щедры, когда требуется отпустить огромную сумму денег губернатору, которому понадобилось выдать замуж дочь… Наши деревни полны обездоленных, поливающих в отчаянии слезами ту самую землю, которую понапрасну возделывают в поте лица».[539] Уже с первых своих речей в Национальном собрании (его избрали депутатом третьего сословия от Арраса), в мае-июне 1789 г., он ввязался в острейшую политическую борьбу. Вначале его не замечали. Пресса даже путала имя Робеспьера. Однако твердость и суровость его речей начали оказывать свое магическое действие. В 1789 г. газеты отметили лишь 69 выступлений в Учредительном собрании; в 1790 г. – 125; в 1791 г. – уже 328 выступлений (за девять месяцев его деятельности). Даже прославленный Мирабо так оценил его: «Он пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит». Народное восстание 14 июля 1789 г. (ныне это главный национальный праздник французов) пробудило в нем бешеную энергию. Он выступает против той части буржуа, что хотела подавить народное движение. Этим ничтожествам он бросает в лицо фразу: «Не забывайте, господа, что только благодаря этому мятежу нация обрела свою свободу». Грустно, когда у наследников другой великой революции нет ни ума, ни сердца, ни чести, чтобы сохранить в истории великую дату. В первые дни восстания стало ясно, что в его лице Франция обрела радикального, отважного революционера. Он одобрил и поддержал поход народа на Версаль, крестьянские выступления в деревнях, сожжение усадеб ненавистных дворян-помещиков. Это – настоящий вождь «партии равенства» (как назвал его Буонарроти). Хотя он осуждал крайности, выступив против тезиса Жака Ру: «Необходимо, чтобы серп равенства прошелся по головам богатых!», он был против вопиющего неравенства, стремясь к выравниванию состояний (этим путем шли скандинавы и русские революционеры в XX веке).
Подлые и ничтожные умы пытаются сделать из Робеспьера страшилище, деспота, тирана. Однако у истории, в отличие от иных людей, крепкая память. В одной из речей, в речи «О свободе печати», произнесенной 22 августа 1791 года, Робеспьер сказал: «Это, господа, приводит нас к заключению, что нет дела более щекотливого, и, пожалуй, более невозможного, чем издание закона, налагающего наказания за мнения, опубликованные людьми по любым вопросам, являющимся естественными предметами человеческих знаний и рассуждений. Что касается меня, я заключаю, что нельзя издать такого закона… Другой, не менее важный вопрос относится к государственным личностям. Надо заметить, что в любом государстве единственным эффективным тормозом против злоупотребления власти является общественное мнение и, как необходимое следствие, свобода выражать свое индивидуальное мнение о поведении государственных должностных лиц, о хорошем или плохом применении ими той власти, которую им доверили граждане. Но, господа, если это право можно будет осуществлять лишь рискуя подвергнуться всевозможным преследованиям, всевозможным юридическим жалобам государственных должностных лиц, не станет ли этот тормоз бессильным и почти недействительным для того, кто, стремясь выполнить свой долг по отношению к родине, будет разоблачать совершенные государственными должностными лицами злоупотребления власти. Для кого не ясно, каким огромным преимуществом обладает в этой борьбе человек, вооруженный большой властью, располагающий всеми ресурсами громадного кредита и огромного влияния на судьбы индивидов и даже на судьбу государства? Для кого не ясно, что лишь очень немногие люди были бы достаточно мужественны, чтобы предупредить общество об угрожающих ему опасностях? Позволить государственным должностным лицам преследовать как клеветников всех, кто осмелится обвинить их за совершенные ими действия, это значит отречься от принципов, принятых всеми свободными народами».[540]
Максимилиан Робеспьер (1758–1793)
В то же время отвагой и мужеством Робеспьера восхищались многие истинные сыны своих отечеств… Так, Герцен с присущим ему жаром революционера восклицал: «Максимилиан – один истинно великий человек революции, все прочие – необходимые блестящие явления ее и только». Впрочем, он же, прежде восхищавшийся Европою, увидев спустя годы казнь тысяч мятежников (после революции 1848 г. в Париже), скажет в отношении нее уже совсем другие слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж. Пора окончить эту тупую Европу».
Дух времени, пробужденный усилиями Монтескье, Гельвеция, Вольтера, Дидро, Руссо, Марата, Робеспьера и стал своего рода джинном, выпущенным из бутылки. Ранее нами уже не раз отмечалось, что идеология Просвещения несла в себе известную долю преклонения перед науками, знаниями, искусством, культурой. Корифеи прошлых лет – Гельвеций (с его тезисом «Воспитание всемогуще»), Локк («Мысли о воспитании»), Руссо – внесли огромный вклад в воспитание революционеров. В школах и институтах нации вырастают будущие мараты и эберы! Карлейль скажет: «Не только евангелист Жан-Жак – нет ни одного сельского учителя, который не внес бы свою лепту»…[541] В особенности, когда к словам учителя прибавляется грозный вид гвардейцев, баррикад, гром пушек! К тому же, для полного развенчания идеологии деспотизма революции понадобились радикальные инструменты перемен.
Представляют интерес взгляды революционеров-якобинцев на воспитание и образование. Дантон однажды сказал: «После хлеба самое важное для народа – школа». Умная национальная буржуазия нуждается в науках и просвещении! После денег это наиболее мощный инструмент влияния. Подлинный переворот совершается в умах, а не в конституциях и правительствах. Шамфор с сарказмом говорил: «Национальное собрание 1789 года дало французскому народу конституцию, до которой он еще не дорос. Оно должно немедля поднять его до этой конституции, учредив разумную систему народного просвещения».[542] Мысль верная, хотя и не бесспорная. Кое-где считают, что достаточно одарить народ конституцией и лишить его при этом достойной системы просвещения. В странах, где у власти недоучки и невежды, школы и вузы брошены на произвол судьбы, а их обитатели прозябают в нищете.
Воззрения Робеспьера в данном вопросе близки к взглядам другого якобинца – Лепелетье де Сен-Фаржо (1760–1793), автора «Плана национального воспитания» (убит роялистом Пери накануне казни короля, поскольку подал голос в поддержку этого акта). Он представил Конвенту план от имени Комиссии народного образования. Очевидно, «Неподкупный» полностью разделял взгляды Сен-Фаржо на проблему образования. Суть документа такова. Дети воспитываются за счет республики. Воспитание должно быть национально ориентированным и равным для всех. Все будут получать одно и тоже питание, одну и ту же одежду, иметь равные условия в приобретении знаний. Воспитание граждан – долг республики. Родители не должны уклоняться от обязательств дать своим детям приличное воспитание. Цель национально ориентированного воспитания – укрепление тела и духа детей, подчинение их благотворной дисциплине, предоставление им полезных знаний в различных профессиях. По окончании обучения воспитанники должны заняться производительным трудом (в ремеслах и земледелии). Жажда знаний и склонность к искусствам и творчеству, по мысли реформаторов, будут всячески поощряться республикой. Обучаться дети должны бесплатно. Их учебу и оплату труда учителей берет на себя государство. Курс обучения разделен на три ступени: общественные школы, институты, лицеи. Туда будут приниматься после получения молодежью национального воспитания, обязательного для всех. Для изучения литературы, наук и изящных искусств выбираются одаренные дети – из расчета один из пятидесяти. Избранники народа содержатся на средства республики. Затем и из них должны быть отобраны самые талантливые, которых и направят учиться дальше. Половина воспитанников республики, с отличием окончивших курс образования в институтах, будет избрана в лицеи, где они пройдут курс обучения в течение четырех лет, находясь на содержании республики.[543] Быть может, в том и заключается природная мудрость французской буржуазии, что она даже после завершения революции не пыталась искоренить ее великих, здравых, прогрессивных начал. Это особенно справедливо в отношении сферы образования и культуры. Вот что можно прочесть в некоторых поздних мемуарах на сей счет: «Во времена террора, в 1793 году, был опубликован декрет Робеспьера, учреждавший бесплатные школы и обязывавший всех молодых французов обучаться чтению, письму, счету и основам сольфеджио. Дети освобождались от посещения публичных школ, если родители могли доказать, что ребенок обучается всему этому частным образом или любыми иными средствами. Декрет не был отменен: короли сохранили наследие своего врага».[544] Французская буржуазия была умнее.
Напомним хронологию перемен в сфере высшего образования. После создания первого университета в Сорбонне (1215) география высшего образования расширяется. Научные исследования в те времена велись не в университетах, а в специальных институтах, таких, например, как Колеж де Франс, основанный в 1530 г., Жардан де Плант (Ботанический сад) – 1626 г., Обсервер де Пари (Парижская обсерватория) – 1672 г., Эколь дес Понс э Шассис (Школа мостов и шоссе) – 1747 г., Эколь дес Минс (Горнорудная школа) – 1783 г. Судьба учреждений науки и образования складывалась своеобразно. В 1793 г. университеты во Франции были упразднены, заменены высшими школами под общим названием «Гран Эколь». Возрождение собственно университетского образования состоится уже в конце XIX века.[545]
С другой стороны, нельзя не признать, что крылатый конь Пегас (символ поэзии), видимо, не случайно явился на свет, во-первых, из капель крови горгоны Медузы и, во-вторых, после того, как Персей отрубил ей голову. Так вот и науки с искусствами становятся доступны массам лишь в итоге завоеваний революции, хотя это не всегда гарантирует их высокий уровень. Гельвеций, Руссо, Дидро указали на то, что неравенство состояний ведет к урезанию прав народа на просвещение. Глашатаи социального прогресса (Тюрго, Сиейес, Кондорсе) говорят, что само по себе равенство в политических правах ничего не даст, если нет равенства на деле (egalite de fait). Желанное равенство, по мысли Кондорсе, представляет собой главную цель социального искусства. Неравенство состояний и образования – главные причины всех зол. Этот акцент все громче слышен в многочисленных наказах избирателей.
Поэтому важно видение проблем образования и воспитания деятелей радикального крыла Французской революции (так называемыми «бешеными»). В их взглядах нашли отражение позиции беднейших слоев населения (Жак Ру, Варле, Леклер и другие). Их идеология исходила из простой посылки: «Революция – дитя Просвещения». К ним были близки и некоторые другие мелкобуржуазные идеологи. Жак Ру говорил, например: «Так как свобода рождается только при свете просвещения, так как забвение обязанностей вытекает из незнания прав, будем распространять просвещение, помогающее человеку познать его достоинство, его могущество, добродетели и чудеса свободы». В другом месте читаем: «Образование для членов великой семьи человечества является тем же, чем оказалось солнце для земли». В том же духе говорят Варле и Леклер. Революция ускорила и прогресс человеческих знаний.[546]
Французы, пожалуй, и явились одной из первых наций на континенте, конституировавших свои просветительские нужды и потребности столь определенно и ясно. Никто не сумел проявить столько воли и настойчивости в усилиях впрячь государство в воз образования. В составленной Варле «Торжественной декларации прав человека в общественном состоянии» говорилось, что воспитание и образование, наряду с проповедью общественной морали, являются священным долгом государства в отношении всех граждан. Только с их помощью становятся реальными обретенные политические права. Свобода не стоит и су, если в результате революции не наступит расцвет школьного образования. Высшее счастье они видели в служении неимущим в качестве добровольных учителей. «Почтенные неимущие, – писал Варле в предисловии к «Плану новой организации центрального клуба Друзей конституции», – при режиме несправедливостей, когда вы не имели понятий о своих правах, политика попов, королей, знати, финансистов и судейских заключалась в том, чтобы держать вас в цепях невежества… Неимущие, несшие до сих пор на себе всю тяжесть общественных бедствий, изучайте законы вашей родины, и вы сможете пользоваться всеми благами конституции; вы сможете возвышать голос в собраниях, и тогда все увидят, что приобретенные знания стирают все грани. Бедные, но образованные, вы превзойдете богатых неучей».[547]
В итоге бурных событий тех лет республике удалось наметить реформу просвещения. По предложению Робеспьера организована специальная Комиссия по народному образованию. Из имеющихся проектов отдано предпочтение плану Кондорсе, которому принадлежала и идея создания Политехнической школы для подготовки гражданских и военных инженеров. Вскоре Конвент учредит Нормальную школу для подготовки преподавателей высших наук. Те, кто учился тут, наряду с обретением теоретических знаний, должны были получить и политическое воспитание (в республиканском духе)… Организован Институт, некое подобие Академии наук с ее отделениями, который отныне должен был состоять из трех секций (физико-математической, морально-политической, литературно-художественной). Он заменил существовавшую аристократическую Академию. Институт был посредником для ученых, благородным сообществом, где бы находились в постоянных контактах представители наук и искусств. Бывало, разумеется, и так: декреты и указы реформаторов так и оставались на бумаге. Как мы знаем, нет ничего более ненадежного, чем указ. Камил Демулен в «Истории бриссотинцев» писал о некоторых серьезных просчетах тогдашних революционеров в деле образовательной политики: «Одно из преступлений Конвента состоит в том, что все еще не учреждены начальные школы. Если бы в деревнях в кресле священника сидел присланный нацией учитель и разъяснял бы права человека… то уже давно исчезли бы среди жителей Нижней Бретани наросты суеверий, это странное явление – погруженные в тьму невежества Вандея, Кемпер, Корантен и Ланжюине, где крестьяне обращаются к вашим комиссарам со словами: «Скорее гильотинируйте меня, чтобы я мог воскреснуть через три дня»[548] Во времена Великой французской революции появились и другие проекты образовательных реформ, предложенные столь разными по своим взглядам людьми как Талейран и Кондорсе.
Представляют интерес взгляды математика Ж. Кондорсе (1743–1794). Хотя имя Жана Кондорсе не так широко известно, как имена Марата, Дантона, Робеспьера, оно заслуживает внимания (родоначальник теории прогресса). Кондорсе принадлежал к древнему аристократическому роду. Его предки одними из первых приняли протестантскую религию (среди них были епископы и военные). Уже в школе проявилась его горячая любовь к гуманитарным наукам. Как почти все великие умы Франции, он воспитывался иезуитами. В Наваррской коллегии он получил математическое образование, в котором преуспел. Талант его отмечен Д'Аламбером, Клеро и Фонтенем. И все же его сердце и ум отданы были мыслям о судьбах человечества. Он верил в то, что род человеческий способен к беспредельному совершенствованию. Все тверже решение посвятить себя наукам. В 1769 г. он поступил в академию, а уже через шесть лет стал ее секретарем. Ему патронировал Д'Аламбер (на 26 лет старше его), который ради принятия его в члены академии выдержал не одну битву. Когда же это случилось, он сказал: «Я меньше был бы рад открытию квадратуры круга, чем этой победе». Кондорсе также отвечал математику глубокой привязанностью.
Оставим анализ его трудов по интегральному исчислению, определению пути комет и т. п. ученым-естественникам. Посмотрим, каков путь его собственной жизненной кометы, увы, трагично закатившейся. Для нас ценно в нем то, что он не позволял даже науке становиться между ним и народом. Жизнь страны и народа была на первом месте. Во имя справедливости и истины порой приходилось поступаться даже религией. Еще в 1775 г. он написал своему другу Тюрго: «Необходимо подчинять все личные интересы чувству долга и беречь как драгоценный дар свою природную чувствительность и сострадание к ближним…». Сострадание – основа его философии.
Кондорсе был добрейшим человеком. Он не упускал случая помочь друзьям не словом, а делом. Дверь его дома была открыта «для всех и каждого». Тем не менее ради занятий наукой он совершенно отказался от радостей светской жизни (театр и проч.), работая по десять часов в день. Несмотря на его спокойный характер и мирный нрав, в нем бушевал огонь. Недаром Д'Аламбер как-то сказал: «Это – вулкан, покрытый снегом». В чреве этого вулкана бурлила лава, которая то и дело выплескивалась в виде ярких и восхитительных эссе, посвященных таким личностям, как Вольтер и Тюрго. К нему прислушивался Вольтер, говоря: «Никогда не стыдно ходить в школу, даже в лета Мафусаила» (когда Кондорсе все же отговорил его от нападок в печати на «Дух законов» Монтескье). Глубокая личная привязанность существовала между Кондор-се и министром Тюрго. Он посвятил ему очерк, сказав: «Среди министров, которые короткое время держат в руках своих власть, немногие заслуживают внимания. Нечего и упоминать о людях, разделявших убеждения и предрассудки своего века. Их история сливается со всеобщей историей. Но люди, одаренные высшими умственными способностями, со взглядами, опередившими свой век, должны возбуждать интерес всех веков и народов. К числу таких людей принадлежал и Тюрго. Любовь ко всему человечеству, воодушевлявшая его, побудила и меня написать его биографию». Когда в Европу приехал Павел I, Кондорсе его приветствовал («Пределы Европы раздвинулись в царствование этого государя; науки проникли в новую империю»). В его доме в Париже собирались Лафайет, Мирабо, Кабанис, Джефферсон. Кабанис называл дом центром всей просвещенной Европы. В годы революции он выступал за мирную республику и издавал первую во Франции республиканскую газету. Эпоха безжалостно втянула его в самую гущу битвы. Он рвет отношения с Лафайетом, поддерживает Дантона, осуждает Марата, говоря: «Катон и Брут покраснели бы при мысли оказаться в сообществе Марата». Тогда надо было выбирать, с кем ты: с «красными» или «белыми». Для него это было трудно (г-жа Ролан даже назвала его «ватой»). Ему предлагали стать морским министром, он отказался, заняв пост комиссара казначейства, затем президента Законодательного собрания, посвятив себя делу организации публичного образования. О его роли в Национальном собрании пишет автор очерка Е. Литвинова: «Кондорсе представлял собой и ум, и совесть Конвента».[549]
Скрываясь от террора якобинцев в доме вдовы скульптора Вернэ, Кондорсе пишет свое главное произведение – «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». В этой интереснейшей книге он дает такую оценку эпохе Просвещения: «Просвещение стало предметом деятельной и повсеместной торговли. Отыскивать рукописи стало такой же необходимостью, как для нас теперь искание редких произведений. То, что ранее читалось только немногими, могло, таким образом, быть прочитано целым народом и повлиять почти одновременно на всех людей, владеющих одним и тем же языком. Стал известен способ говорить с рассеян?ыми нациями. Мы присутствуем при сооружении трибуны нового вида». Трибуной должна была стать и система образования. В этом мыслителе можно увидеть провозвестника будущей планетарной цивилизации. В основу её должны быть положены обширнейшие знания, высокая культура, широкий кругозор. Ж. Кондорсе формулирует и общее направление поиска: «Вопрос, занимавший этих философов, разрешается в настоящем труде. Здесь мы увидим, почему прогресс разума не всегда вел общества к счастью и добродетели, каким образом предрассудки и заблуждения могли оказывать свое вредное влияние на блага, которые должны были явиться плодами просвещения, но которые зависят в большей мере от чистоты знаний, чем от их обширности. Тогда ясно станет, что этот бурный и мучительный переход первичного грубого общества к цивилизации просвещенных и свободных народов является отнюдь не вырождением человеческого рода, но неизбежным переломом в его постепенном движении к полному совершенству. Мы увидим, что пороки просвещенных народов обусловлены были не ростом, а упадком знаний и что последние не только никогда не развращали людей, но всегда смягчали нравы, если уже не могли их исправить или изменить».[550] В докладе «Об общей организации народного образования» (1792) оно преподносилось как всеобщее и включало пять ступеней: 1) начальные школы (из расчета отдельная школа на каждые 400 жителей); 2) школы второй ступени; 3) учебные заведения широкого профиля, как бы завершающие общее воспитание человека; 4) лицеи, или академии, выпускающие ученых, для которых работа исследовательского ума «составляет закон всей жизни»; 5) национальное общество наук и искусств, исследующее факты окружающего мира. Однажды он сказал: «Злоупотребление научным языком превращает в науку слов то, что должно бы быть наукой фактов». В проекте Кондорсе уделено место и просвещению взрослых. Увы, жизнь мыслителя оказалась в разительном контрасте с теми радужными перспективами, которые сам же он рисовал перед обществом. Ведь, «спираль его прогресса» завершилась в тюремной камере. Кондорсе задержали и направили в тюрьму Бург-ля-Рень, где он, желая избегнуть публичной казни, принял яд, как некогда философ Сократ.[551]
Другой проект подан виднейшим ученым-химиком Антуаном Лораном Лавуазье (1743–1794). Немногие знают, что в 1793 г. он стал одним из организаторов и вдохновителей Нового лицея. Тяга к знаниям становилась повсеместной в годы революции. Агент доносил властям: «Со всех сторон идут требования о создании начальных школ; молодежь всемерно стремится приобрести основы республиканизма». В самые тяжелые для республики годы Лавуазье одним из первых протянул руку помощи образованию! «В тот самый момент, – писал он, – когда прозябает торговля, когда изящные искусства заброшены, когда большая часть богатых людей покинула свои насиженные жилища, когда старый Лицей на улице Валуа уже еле держится, когда зажиточные люди сами добровольно подвергают себя лишениям, боясь привлечь на себя бремя налогов, – в этот момент в лоне Парижа создана новая большая организация. Эта организация… устроила роскошные торговые помещения, залы для собраний и спектаклей; она создала план бесплатного народного обучения по всем почти областям человеческого знания; она собрала превосходных профессоров; она распределяет премии и призы…» Средства, на которые существовал институт, складывались из: 1) доходов от спектаклей; 2) сумм, получаемых от сдачи торговых помещений; 3) продаж платных образовательных услуг. В лицее существовал курс системных знаний, включавший в себя политическую экономию, баланс торговли, статистические знания, взгляды на государственное устройство, методы подъема и стимулирования промышленности, оживления коммерции и земледелия. Как видите, весьма актуальные проблемы и для нашего времени.
Портрет супругов Лавуазье.
В этой связи нельзя не сказать и о его удивительном «Размышлении о народном образовании» (1793). Мы говорили о разных проектах на эту тему (Лепелетье, Талейран, Кондорсе, Робеспьер). Проект Лавуазье занял особое место в силу той значимости, которую он придавал развитию промышленности. Он четко понял, что ни о каких серьезных реформах в образовании не может идти речь, пока образование оторвано от основ человеческой деятельности (промышленность, земледелие, наука). В начале доклада он говорил: «…из всех представленных вам планов устройства национального публичного воспитания, промышленность, повидимому, была совершенно забыта». Лавуазье считал, что в главных центрах Франции, должны быть созданы специальные, профессиональные школы трех типов: механических, химических, смешанных ремесел. Одновременно необходимо учредить школы обществоведения, политической экономии, коммерческих наук. «Существует ряд профессий, которые связаны с результатами всех человеческих знаний, в которых нельзя иметь успеха без углубленного изучения почти всех наук, – таковы мореплавание, кораблестроение, для которых необходимо знание геометрии, астрономии, географии и физики; таковы инженерные науки; таковы медицина и ветеринарное искусство, хирургия, фармация, требующие обширных познаний в области всех физических наук… Успехи, которых может достигнуть земледелие при помощи просвещения, просто неисчислимы: ведь земледелие дает более, чем вся промышленность в целом, или, вернее, только земледелие продуктивно, потому что все другие искусства только изменяют форму, но ничего не прибавляют к существующим ценностям». Проект был поддержан рабочим классом. 15 сентября 1793 г. в Якобинский клуб явилась мощная депутация от народных обществ, секций коммун Парижа. Депутация обратилась к якобинцам с прямым и жестким требованием: «Мы не хотим, чтобы образование было исключительным достоянием слишком долго пользовавшейся привилегиями касты богатых, мы хотим его сделать достоянием всех сограждан».[552] Великие и верные слова.
Главным завоеванием Великой Французской революции стали не формальные признаки свободы, и уж тем более не словесные штампы и лозунги, а реальная возможность народных масс (третьего сословия) принять активное участие в экономической и социокультурной деятельности. Революционеров волновало и положение мелкого собственника («человека в сорок экю»). Многие из них твердо верили, что общество, в конечном счете, сумеет-таки достичь некоего гуманистического и справедливого идеала. В нем установятся порядки, когда каждому воздастся за его труды, а также исчезнут различия меж бедными и богатыми.
Однако если буря сотрясает общество, тут уж не до манер. На войне – как на войне! Мирабо заявлял, что «безразличие к несправедливости есть предательство и подлость». И тут же вдруг с легкостью допускает возможность применения в борьбе «всех средств без исключения». Франция, поощрявшая науки и образование, вдруг, заявит устами Фулье-Тенвиля: «Республике не нужны ученые!» Геометрическая фигура – треугольник Декарта – воплотился в дьявольскую машину доктора Гильотена. В тюрьмы, на гильотины пойдут Кондорсе, Лавуазье, Демулен, многие другие. Науку лишают средств для достойного существования. Главные места в правящей верхушке и науке заняли те, кто рады-радешеньки выполнить любой социальный заказ новой власти. Их роль известна – роль подзаборных шлюх идеологии. Руссо, Робеспьер, Марат, Кондорсе мечтали о разумной человеколюбивой системе. Отчего же случилось так, что идущие за ними больше преуспели в палачестве и воровстве, нежели в обновлении общественных устоев?! С тревогой писал о «бессмысленной черни» Руссо, говоря, что заурядные учителя и ученые могут лишь ограничить кругозор знаний и преобразований «узкими рамками своих собственных возможностей». Тревогу по поводу сосредоточения власти в руках тех, кто «перешибает крылья гению», заглушая в уме всякое истинное знание, высказывал Гельвеций («О человеке»): «Изувер желает, чтобы люди дошли до нелепостей; он боится просвещения. Кому же поручает он задачу довести их до скотского состояния? Схоластам. Из всех сыновей Адама эти самые тупые и горделивые… Схоласт, богатый словами, слаб в рассуждениях. Поэтому он и воспитывает людей тупых в своей учености и горделиво-глупых… существует два вида глупости: одна – природная, другая – благоприобретенная; одна – результат невежества, другая – результат воспитания».[553] Школы и университеты не только не избавляют нас от дураков, но делают их намного изощреннее и опаснее для народа. Знаете, кто всего опаснее для простого люда? Ученые схоласты, воспитанные в догматическом духе, волею судеб нежданно ставшие «реформаторами в законе». Вынесенные на вершину власти, они становятся подлинным национальным бедствием. Эти мерзавцы готовы без ножа зарезать всю нацию. В особенности это справедливо по отношению к «экономистам базарного профиля»… Это – современные бандиты-инквизиторы. Их экономика совершенно не учитывает интересов народа. Шамфор (1740–1794) сказал о них: «Ученый экономист – это хирург, который отлично вскрывает труп острым скальпелем, но жестоко терзает выщербленным ножом живой организм».[554] Народ для них – живой труп.
Революции благотворны и необходимы. Без них нет прогресса, но им вторит гром пушек и стук гильотины. Увы, нередко случалось так, что плод, зародившийся в недрах общественных движений как «дитя разума и света», словно по мановению злой феи вдруг трансформировался в существо далеко не идеальное. Многое из блистательных идей и благородных помыслов, воплощаясь в жизнь, приобретало неузнаваемый облик, когда за их осуществление брались невежественные массы, ремесленники и даже полуграмотные буржуа. Показательна история стекольных дел мастера Менетра. Современник и участник Великой Французской революции, в мемуарах он описывал события, свидетелем которых стал. Обыденные факты сведены им в ясную картину. Но вот попытка глубже разобраться в характере политической борьбы оканчивается плачевно. Даже он, активист Парижской секции, не очень-то понимал, что происходило в Париже.[555] Что можно требовать от пролетария, когда и у нас в России, почитай что два века спустя иные академики («архитекторы перестройки») проявляют редкую тупость, а еще больше подлость, быстро забыв о смысле и заслугах нашей Революции.
Когда же за реформы берутся бездари и недоучки (даже со степенями и званиями), страны и народы подвергаются страшной опасности геноцида, а то и полного уничтожения. Среди реформаторов противоречия обострялись. Жизнь становилась все более тяжкой. Массы начинали роптать. Они видели, как часть революционеров спекулирует на победе демократии. Собственность аристократов, крупных богачей, церковников как-то незаметно стала переходить в руки иных мэров и вождей «новой демократии». Мэры, губернаторы, чиновники столицы и крупных городов Франции сказочно обогатились. Далеко не все патриоты и революционеры сумели удержаться от соблазна быстрой и неправедной наживы… Наиболее известен Жорж Дантон – лев, переродившийся в гиену. Еще в 1791 г. он был банкротом и должником, но в результате революции стал крупным собственником и землевладельцем, ловко скупив с помощью подставных лиц национальное имущество. Состояние его было оценено в кругленькую сумму (203 тысячи ливров). Тогда и во Франции (1793 г.) как никогда остро встал вопрос о продажности части депутатов и политиков. Враги революции не жалели средств на подкуп верхушки новой власти. Глава английского правительства Питт специально выделил колоссальную сумму в пять миллионов фунтов стерлингов на подкуп французских «демократов». Английский банкир Вальтер открыл в Париже контору, где ссужал депутатов Делонея и Шабо отнюдь не безвозмездно (они помогли удрать из Парижа, когда Комитет общественного спасения наложил арест на все его капиталы). Австрийский банкир Проли платил Демулену и Дантону. Прикрываясь якобинским колпаком, иные «революционеры» обворовывали французов (вместе с банкирами, спекулянтами, поставщиками армии). Так, близкий друг Дантона, республиканец Робер, сделал состояние на спекуляции ромом. У барона де-Баца в Париже устраивались шикарные обеды, в ходе которых политиканы и торгаши обделывали свои делишки. Они подделывали документы, проворачивали миллионные аферы, обсуждали планы по спасению Марии-Антуанетты, арестованных вождей Жиронды.
Жорж Дантон.
А народ в это время голодал. Уголь стал большой редкостью. Простые люди порой не имели даже куска хлеба. Цены на продукты выросли в десятки, а то и в сотни раз. В сентябре 1793 г. радикал Фуше выдвинул лозунг: «Стыдно быть теперь богатым». Однако так не считали Дантон и его друзья-спекулянты. Они жаждали прибылей и наслаждений. Не было предела их безнравственности. Робеспьер заметил: «Из всего хода нашей революции видно, что все безнравственное является и политически непригодным, все, клонящееся к разврату, носит контрреволюционный характер». Для Дантона и либералов, выступивших против патриотов и истинных революционеров, страшна позиция Робеспьера. Я думаю, всем понятно – почему. Воплями о «демократии», «свободе», «правах человека» они старались прикрыть страх. Они боялись, что придется отвечать за аферы. Именно крупные воры и их глашатаи выступали против смертной казни (как и в нынешней России). Сен-Жюст сказал: «Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них». В широком смысле те и другие отражали настроения разных слоёв общества. В их основе – противоречия Горы и Жиронды, Народа и Спекулянта. Франция – не исключение. И даже Дантон на поверку оказался нуворишем и спекулянтом в духе Гобсека. Он словно аккумулировал в себе достоинства и пороки победившей буржуазии. К Дантону будет привлечено внимание и после его гибели. Даже Р. Роллан посвятил ему одноименную драму. Красноречив и такой факт: из всех монтаньяров французская буржуазия возвигла памятник одному – Дантону!
Подобный расклад не нравился бедным слоям. Те восстали против тотального воровства, всех этих больших и малых «гобсеков», которых О. Бальзак очень точно охарактеризовал – «живоглоты». Глашатаями восстания стали эбертисты (Эбер, Каррье, Шометт). Назрел заговор. Каррье был комиссаром Конвента, и его имя «наводило ужас на буржуазное население Юга». Силы их были сосредоточены главным образом в Клубе Кордильеров. Клуб Кордильеров постановил покрыть черным крепом доску Декларации Прав Человека и Гражданина, ибо народ был лишен элементарных прав. Обращаясь к трудящимся массам, Эбер заявил: «Пора народу показать всем этим жуликам и грабителям, что их царство недолговечно. Люди, ютившиеся раньше по чердакам, а теперь живущие в роскошных помещениях, разъезжающие в пышных каретах и упивающиеся народной кровью, эти люди скоро станут добычей гильотины». К сожалению, сил беднейших слоев в Париже оказалось недостаточно для победы этой политической линии, которую можно было бы условно назвать «Партией фактического равенства». В итоге, заговор 14 марта не удался и 24 марта 1794 г. главные вожди эбертистов были казнены.[556] С их поражением дело равенства и справедливости не погибло.
Среди жертв террора были те, кто никоим образом не мог быть причислен к «радикалам». Умница Шамфор, директор Национальной библиотеки, бросивший в мир лозунг «Мир хижинам, война дворцам», в числе первых ворвавшийся в Бастилию, один из организаторов якобинского клуба, падет жертвой доноса и кровавого террора. Однажды он с глубокой грустью пророчески заметил: «Людей безрассудных больше, чем мудрецов, и даже в мудреце больше безрассудств, чем мудрости». Его арестовывают и сажают в тюрьму Ле Мадлонет. Через несколько дней выпускают вместе со знакомыми, но приставляют к ним жандармов, которых они обязаны содержать за свой счет. Однако Шамфор не пожелал внять предостережениям друзей и продолжал острить. Его не насторожили слова «Анакреона гильотины» Барера: «Нет, пусть враги погибнут! Только мертвые не возвращаются». О силе и язвительности его строк говорит одна из фраз: «Хочу дожить до того дня, когда последнего короля удавят кишками последнего попа». Впрочем, в годы революции казнили не только священников, но порой «рубили головы» даже фигурам каменных святых в некоторых монастырях.
Предъявляется новый ордер на арест… Шамфор стреляет себе в голову (хотя рана оказалась не смертельной, несколько месяцев спустя она свела его в могилу). Своим преследователям он гневно бросает в лицо: «Я, Себастьян-Рок-Никола Шамфор, заявляю, что предпочитаю умереть человеком, чем рабом отправиться в арестный дом. Я свободный человек. Никогда меня не заставят живым войти в тюрьму». Умирая, он скажет Сийесу: «Мой друг, я ухожу, наконец, из этого мира, где человеческое сердце должно или разорваться, или оледенеть». Слава к нему придет после смерти («post obitum»). Неужели нет иного выхода для разума?!
Трагически завершилась жизнь и великого Лавуазье… Ему не простили деятельности откупщика. Известно, что еще в 1768 г. он вступил в Генеральный откуп, а в 1779 г. стал полноправным пайщиком этой финансовой «пирамиды». Вольтер, характеризуя этих господ, называл их «плебейскими царями», которые арендуют империю. Они кое-что отдают монарху («делятся»), а остальное преспокойно кладут себе в карман. Занятие не достойное великого ученого, но, бесспорно, очень выгодное. Хотя Лавуазье уж никак нельзя ставить на одну доску с нашими «реформаторами». Он и как деловой человек был на уровне своего огромного таланта. На Лавуазье было возложено взимание сборов со всех товаров, что шли в Париж из провинции. Это бешеные деньги (прибыль делилась поровну между казной и откупщиком). В 1773 г. он добился от правительства осуществления давней своей мечты – окружить Париж решетчатой оградой, цель которой борьба с теми, кто уклоняется от уплаты ввозных пошлин (усиление роли таможни). Хорошо если бы в этом акте главным моментом было бы «радение об интересах отчизны». Однако почтенный академик руководствовался личными интересами. Будучи хватким и ловким дельцом, он не упускал случая сорвать куш везде, где можно (продажа пороха, соли и т. д.). Гражданские, научные, просвещенческие заслуги Лавуазье уже были не в счет. Его замысел привел к чудовищному росту цен на рынках, к ухудшению без того тяжелого положения бедных слоев (честно говоря, истинным мотивом действий откупщиков была единственная страсть: безмерно обогатиться за счет народа и государства). В Париже ходила острота: «Стена, стесняющая Париж, заставляет Париж стонать» («Le mur, murant Paris, rend Paris murmurant»). Повсюду тогда звучала песенка:
Чтобы росла статья доходов, Чтоб кругозор нам сократить, Откупщикам было угодно Нас за решетку посадить.В итоге, против этой идеи выступили все. Мнение народа о Лавуазье выразил и Н. Карамзин (1790): «Быв перед Революцией генеральным откупщиком, имеет, конечно, не один миллион». Во времена революции быть откупщиком, финансистом, крупным спекулянтом опасно. Угнетенный и ограбленный люд может спросить (имеет полное право): «А куда это ушли уворованные у нас деньги?» Тогда путь у воров один – в тюрьму или на гильотину. Это и произошло, к сожалению, с умным, и даже гениальным Лавуазье. Никому нет дела до того, что большую часть средств он тратил на производство важных научных опытов, что его труды в лаборатории привели к значительному увеличению взрывной силы пороха, что он автор «Очерков земельных богатств Франции» (1791) и т. д. 8 мая 1794 г. он, как и все 28 бывших генеральных откупщиков Франции, был гильотинирован на площади Революции.
Ее Величество Гильотина, «уравнивающая» всех (анонимная гравюра).
Причем, Лавуазье мог бы её избежать, так как, видимо, предупрежденный, успел спрятаться в Лувре… Однако узнав, что все его товарищи в тюрьме, что арестован и его тесть, он решил разделить с ними их участь и отдался в руки трибунала. Казнь была молниеносной. Многие узнали о ней лишь из газет на следующий день. Ему так и не удалось, как он однажды изволил выразиться, удлинить продолжительность жизни даже на несколько дней.[557] Имя этого учёного, жертвы политических битв, заняло место в пантеоне бессмертных. Химик М. Дюма так определил роль Лавуазье в истории науки: «Это он заставил нас понять сущность воздуха, воды и металлов. Единственно ему мы обязаны открытием тайн и законов горения тел, дыхания животных, брожения органических веществ. Люди не воздвигли ему памятника ни из бронзы, ни из мрамора, но он сам себе воздвиг памятник, несравненно более прочный: этот памятник – вся химия».[558] Для истинного гения и эшафот может стать памятником!
Камиль Демулен.
Люсиль Демулен.
Таковы революции! Богачи должны помнить, что хотя «поднять интеллектуальный уровень последнего из крестьян до гения какого-нибудь Лавуазье невозможно» (Г. Лебон), самому ничтожному из толпы не составит труда опустить топор гильотины или спустить курок! Террор стал необходимостью, как бы подтверждая пророчество Нострадамуса. 250 лет тому назад, описывая будущее Франции, тот предсказал: «И будут бури, огонь и кровавые казни!» Важная и нравоучительная мысль: если власть теряет меру, бросая народ в крайнюю нищету, ограбив его до последней нитки, если она благодушествует в роскоши и богатстве, обрекая на голод массы, возмездие близко – «казненной головой» может стать ваша собственная голова и голова ваших близких. Мораль же проста – умное правительство никогда не доводит народ до столь отчаянного состояния, когда у того нет выбора, кроме восстания! Или все же поэт К. Рылеев прав, сказав: «Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?!»
В экстремальных условиях, когда стране плохо, когда ее экономика трещит по швам, а на границах скапливаются враги, пример Франции следует учесть всем. Вспомним и жесткие требования санкюлотов, выраженные в лозунге К. Демулена: «Пока санкюлоты сражаются, господа должны платить». Свободу торговли пришлось на время ограничить. Ввели известный «закон о максимуме», прижавший спекулянтов и денежных воротил. Наконец, «закон о подозрительных» и «уравнивающая всех гильотина» дружно и эффективно ударили по казнокрадам, убийцам, контрреволюционерам, продажным чиновникам, подлым и лживым журналистам, предателям и перевертышам-депутатам. Помните: тогда экстремальные меры спасли страну! Террор против «внутренней сволочи» открыл путь к величию, славе Народа.[559]
Вперед, санкюлоты, вперед!.. К вам родина громко взывает: Фригийский колпак надевает Бедняк, что на битву идет. Вперед, санкюлоты, вперед… Свободною Франция станет! Измена – в дворцах обитает, Там подлость гнездо свое вьет. Вперед, санкюлоты, вперед… Позорная смерть ожидает Всех тех, кто народ угнетает И счастье людское крадет. Вперед, санкюлоты, вперед… Пусть небо возмездьем пылает, Бастилия пусть исчезает, А Франция – вечно живет![560]Понятно, что однажды запущенный маховик репрессий остановить уже трудно. Репрессиям подвергнутся и другие герои революционных лет. Один из них – капитан инженерных войск Клод Руже де Лиль (1760–1836), любивший сочинять стихи и музыку «по случаю». Когда Франция объявила войну Австрии и Пруссии, срочно потребовалось написать военный марш для войск, уходивших на фронт. Поручили это сделать Руже де Лилю. За одну ночь в апреле 1792 г. сочинил он ноты и слова песни, которая вскоре стала известна как марш марсельских добровольцев «Вперед, сыны отчизны!» Прошло несколько месяцев, и знаменитую отныне «Марсельезу» поет уже вся Франция. Эта песня проникала в самое сердце французов. Так никому неведомый капитан создал национальный гимн. Франция объявила войну Европе (25 апреля 1792 г.). Как напишет об авторе революционного гимна С. Цвейг в своем очерке «Гений одной ночи»: «Победоносное шествие «Марсельезы» неудержимо, оно подобно лавине. Ее поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквах после Te Deum, а вскоре и вместо этого псалма. Каких-нибудь два-три месяца, и Марсельеза становится гимном целого народа, походной песней всей армии». Военный министр республики почувствовал огромную окрыляющую силу этой единственной в своем роде национальной походной песни. Он издал приказ срочно разослать сто тысяч экземпляров «Марсельезы» по музыкантским командам, и два-три дня спустя песня автора получает более широкую известность, чем все проивзедения Расина, Мольера и Вольтера. Ни одно торжество не заканчивается без Марсельезы, ни одна битва не начнется, прежде чем не сыгран этот марш свободы. Судьба автора не была триумфальной. Руже де Лиль не принял власти якобинцев. Его лишили чинов, пенсии, посадили в тюрьму и чуть не казнили. У него отняли мундир, лишили пенсии, обрекли почти на полную нищету. Его осаждали кредиторы. Наполеон, став императором, даже вычеркнул песню из программ всех торжеств. А после Реставрации Бурбоны и вовсе её запретили. Только в 1830 г. ему выделят небольшую пенсию. Во время первой мировой войны его прах перенесут в Дом инвалидов и похоронят рядом с Наполеоном.[561]
Руже де Лиль поет «Марсельезу» у мэра Страсбурга Д. Дитриха. По картине де Пиля. Лувр.
Аресту был подвергнут и великий французский актер Франсуа-Жозеф Тальма (1763–1826). Он называл себя «сыном революции» и принадлежал к «красным» актерам. Во Франции актерская братия в годы революции также разделилась на «красных» и «белых». Среди последних – привилегированная актерско-богемная элита, получившая от прошлого режима все мыслимые и немыслимые блага (ордена, деньги, славу). Обласканные новым режимом подлецы (мы насмотрелись на таких и в России в последние годы), а иначе нельзя назвать всех этих маститых режиссеров, актеров, певцов и певичек («театр дамочек и рабов») – со злобной яростью обрушились на революцию. Тальма вызвал одного из таких холуев (Ноде) на дуэль. Некоторых артистов «Комеди Франсэз» (Театра Нации) сажают в тюрьмы. В Конвенте реакционное крыло театра было обвинено в пособничестве спекулянтам, аристократам и ворам. Против этого было трудно возразить. Хотя, предвидя, что требование ареста встретит возражения (всё же слуги Мельпомены!), Барер подчеркивает воспитующее и обучающее значение театра: «Если эта мера покажется кому-нибудь слишком суровой, я отвечу: «Театры являются первоначальными школами для просвещения людей и пособием в общественном воспитании». Абсолютно верная оценка роли деятеля сцены (кто бы он ни был). Мастера искусств, хотят они того или нет, всегда есть и будут «учителями народа». А учителя должны нести знания, порядочность, нравственность, а не превращать театры, экраны и площадки в «бордели». Правда, корифей театрального искусства К. Станиславский однажды вроде бы заметил: «Не будем говорить, что театр – школа. Нет, театр – развлечение. Нам не выгодно упускать из наших рук этого важного для нас элемента. Пусть люди всегда ходят в театр, чтобы развлекаться. Но вот они пришли, мы закрыли за ними двери, напустили темноту и можем вливать им в душу все, что захотим».[562] Велик Станиславский, а тут вот неправ. В современном обществе и так более чем достаточно тех, кто «напускает темноту в душу».
Впрочем, арест актеров, с которыми успел сродниться (столько дней и вечеров вместе) ошеломил Тальма. Его допрашивали в трибунале с пристрастием, но «не решились сразить театрального короля». В день казни жирондистов он играл Отелло («с чувством передал ярость мавра»). Разумеется, прискорбно, что новая власть изгоняла из театра не только неугодных актеров, но и неугодные репертуары… В ходу трагедии «Брут», «Вильгельм Телль», «Кай Гракх», «Друг народа», воспевающие революцию, борьбу против тирании. Перед спектаклем и в перерывах зрители и актеры пели «Марсельезу». Впрочем, согласитесь, что труженик имеет право на «свой театр». Суровые декреты угрожали карами актерам и режиссерам за постановку пьес, имеющих целью «развратить общественное сознание и пробудить позорнейший предрассудок роялизма». Тогда арестованнных актеров выручил делопроизводитель Комитета общественного спасения, Ш. Лабюсьер, ярый поклонник артистов. Он ухитрился пробраться ночью в бюро – и просто выбросил все обвинения трибунала в Сену.[563]
Колло д`Эрбуа. Гравюра Боссельмана по рисунку Раффе. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва.
Ни о какой свободе слова уж не могло быть и речи. Г. Лихтенберг обвинил буржуазных революционеров в подавлении свободы слова: «Прежде при обращении в новую веру пытались искоренить мнение, не затрагивая головы. Во Франции поступают теперь проще: мнение отсекают вместе с головой».[564] История будет повторяться не раз (и в России). Революции часто поедают своих детей. При этом они же избавляют нацию от шлака и хлама истории. Так что трудно сказать с уверенностью, каков общий итог баланса. Что поделаешь, такова неумолимая логика политической борьбы и народных революций: чтобы «дать простор свету» в головах масс – нужно лишить голов самых яростных противников их просвещения! И самых откровенных воров! Связь между справедливостью и образованием прослеживается и в брошюре Бийо-Варенна (1793). «Мы слышали крик, – писал он, – «Война замкам, мир хижинам!» Прибавим к этому следующее основное правило: не надо граждан, избавленных от необходимости иметь профессию; не надо граждан, поставленных в невозможность научиться ремеслу».[565] Поэтому нельзя не говорить о том, что в любой революции наряду с извергами и палачами действуют законы суровой необходимости. О тех и других можно судить по следующему эпизоду, дающему характеристику одному из главных деятелей термидорского переворота Колло д`Эрбуа. Когда прокурор террора Фукье-Тенвилль (его называли «топор республики») однажды был вызван в Комитет общественного спасения, он был встречен Колло д`Эрбуа, с мрачной усмешкой ему заявившего: «Чувства народа стали притупляться. Надо расшевелить их более внушительными зрелищами. Распорядись так, чтобы теперь падало до пятисот голов в день». Некоторые палачи станут затем ярыми хулителями революции и завзятыми «демократами». Другие же, более совестливые, испытывали почти что физическое содрогание от казней. «Возвращаясь оттуда, – признавался потом Фукье-Тенвилль, – я был до такой степени поражен ужасом, что мне, как Дантону, показалось, что река течет кровью…» Толпа всегда готова приветствовать падение тиранов (будь то тиран республики, монархии или «демократии»). Толпа же приветствовала казнь короля, банкира, епископа, Дантона, Робеспьера. «А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала!»
За ужасами террора нельзя не видеть конструктивных деяний Французской революции. Да и сам факт репрессий никак нельзя вырывать из общего контекста международных событий тех лет. В действительности, надо четко осознавать, что революционная Франция (как и новая Россия спустя 200 лет) оказалась под прессом ненависти реакционной Европы, объединившейся против Франции. Хотя на первых порах та и не очень спешила приступать к военным действиям (Пильницкая декларация августа 1791 г. призывала монархов Европы к интервенции). Война была объявлена лишь 20 апреля 1792 г. Вскоре приходит конец и монархии (10 августа 1792 г.). А 20 сентября 1792 г. в сражени при Вальми революционная армия под командованием Дюмурье и Келлермана («пятьдесят тысяч босяков») придают новую энергию революционному урагану. На следующий же день Конвент официально отменяет монархию, а 23 сентября провозглашает Республику («единую и неделимую»). Даже монархист Гете вынужден был заявить, что это событие открыло «новую эру в мировой истории».[566]
Сегодня, конечно же, довольно легко с высот двух столетий (или 80 лет социализма в СССР), поджав безвольные губы кастратов и извращенцев, «выговаривать революции». Тут и тут-то она неправа, а тут и вовсе вела себя «по-зверски». Честный и знающий человек поинтересовался бы условиями, в которых тогда приходилось действовать. Следует помнить и то, что в народе накопился тысячелетний гнев к своим угнетателям и эксплуататорам. Да, любой из народов не похож на совершенное, гуманное существо («светоносного ангела»). К тому же не забывайте: мы видели «гуманизм» монархий, да и победой демократии сумели в первую очередь воспользоваться самые гнусные и бессовестные личности, ждавшие своего часа, чтобы вылезти из тьмы преисподней на свет Божий, и, обретя власть, начать грабить и унижать тех, кто во сто крат их умнее, трудолюбивее, талантливее. Задолго до революции Д. Дидро в «Племяннике Рамо» вывел образ такого негодяя (вполне современного). Отвечая на вопрос «Но если бы вы разбогатели, что бы вы стали делать», Рамо говорит, не смущаясь: «То, что делают все разбогатевшие нищие: я стал бы самым наглым негодяем, какого только видел свет. Тут-то я и припомнил бы все, что вытерпел от них, и уж вернул бы сторицей. Я люблю приказывать, и я буду приказывать. Я люблю похвалы, и меня будут хвалить. К моим услугам будет вся… свора, и я им скажу, как говорили мне: «Ну, мошенники, забавляйте меня», – и меня будут забавлять; «Раздирайте в клочья порядочных людей», – и их будут раздирать, если только они не вывелись. И потом у нас будут девки, мы перейдем с ними на ты, когда будем пьяны; мы будем напиваться, будем врать, предадимся всяким порокам и распутствам; это будет чудесно. Мы докажем, что Вольтер бездарен, что Бюффон всего-навсего напыщенный актер, никогда не слезающий с ходуль, что Монтескье всего-навсего остроумец; Даламбера мы загоним в математику. Мы зададим жару всем этим маленьким Катонам вроде вас, презирающим нас из зависти, скромным от гордости и трезвым в силу нужды».[567]
Личностью иного масштаба был Робеспьер… Отребье революции его избегало и ненавидело. Предатели страшились. Палачи часто пользовались его именем для прикрытия. Ничтожества, что, как шакалы, приходят на места львов, оболгали Неподкупного. Ламартин писал о нем в «Жирондистах»: «Побежденный людьми, из которых одни были лучше, а другие хуже его, он имел несчастие умереть в день окончания террора, так что на него пала та кровь жертв казней, которые он хотел прекратить, и проклятия казненных, которых он хотел спасти. День его смерти может быть отмечен как дата, но не как причина прекращения террора. Казни прекратились бы с его победой так же, как они прекратились с его казнью».[568] На что уж буржуазен Бонапарт, но и тот говорил о Робеспьере только в уважительных тонах, считая, что он непременно восстановил бы царство закона, придя к позитивным результатам (и без жутких потрясений). Он-то понимал, что власть должна быть суровой и жесткой.
Провозглашение в Париже лозунга: «Отечество в опасности!», 22 июля 1792 г. Гравюра Берто с картины Приёра. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва.
Обратимся вновь к этой выдающейся личности, ибо тема «Робеспьер и Террор» стала впоследствии этакой «черной легендой». Реакционеры всех мастей постарались внедрить ее в сознание широких народных масс. Конечно же, проще всего представить Робеспьера (Ленина или Сталина) чудовищами и монстрами, стоящими по колено в крови. В России продажные писаки и телевидение создают образы исторических злодеев и покорителей мира (на деньги Запада). Эти мать родную зарежут ради пачки банкнот. Меня «удивляет» другое: почему никто из буржуазных историков не видит близость и даже прямую схожесть требований Народа и Робеспьера. Плутократы, демократы, этнократы упорно обходят эту тему за сотни верст. Почему?! Ясно. Если бы они попытались честно ответить на этот вопрос, тут же выяснилось бы, что, во-первых, все самые жестокие меры в тяжкие, переломные эпохи применялись в революциях по воле Народа, и, во-вторых, как правило, были направлены против наиболее скомрометировавших себя в глазах того же Народа правящих элит. Политический мотив всегда играл и играет в Терроре не последнюю роль. Поэтому Робеспьер не только объединял себя неразрывными узами с Народом («я – сам народ»), но и противопоставил Народ наследственной аристократии. Близость его к широким народным массам ничуть не уменьшилась от того факта, что его выступления проходили «в закрытых помещениях и перед избранной публикой» (за исключением обращения к Толпе в праздник «Верховного существа»). Террор в его понимании выглядел как орудие управления и достижения политических целей. Автор очерка о нем Б. Бачко отмечает: «Робеспьер никогда не ставил под сомнение ту власть, идеологом и грозным творцом которой он являлся. Он практически не знал жестоких и грубых реалий Террора; даже руководя Бюро общей полиции, он ни разу не посетил тюрьму, не посмотрел на гильотину. Человек собраний и бюро, он ни разу не ездил ни в миссию, ни в департаменты, ни в армию». Так же вел себя в России и Сталин, русский Робеспьер. Отсюда их полное равнодушие к меркантильно-денежным интересам.[569]
Конституция на игральной карте, символизирующая шулерские проделки власти.
Прежде чем осуждать суровые меры, принятые якобинцами, посмотрим, против чего и кого они направлены. Что такое Жиронда? Крупные буржуа, использовавшие народ для победы над старой структурой. Затем они пожелали загнать его в стойло. Бриссо вопит: «Никаких восстаний! Уважайте конституцию! Возлюбите судей!» Но кого защищают судьи и конституции? Бюрократов и чинуш, обогатившихся на смене режимов. Характеристику этой публике дал П. Кропоткин: «Народ и его революционный порыв, спасший Францию, для них не существовал. Они оставались бюрократами. Вообще говоря, жирондисты были верными представителями буржуазии. По мере того как народ набирался смелости и требовал налога на богатых и уравнения состояния – требовал равенства как необходимого уровня свободы, буржуазия приходила к заключению, что пора отделиться от народа, пора вернуть его к «порядку»… С этого момента жирондисты решили остановить революцию: создать сильное правительство и принудить народ к повиновению, если нужно, то при помощи гильотины и расстрелов».[570] Левое крыло должно ответить на террор и угрозы действием.
Обратим внимание на обстоятельства, которые заставили якобинцев прибегнуть к Террору. Фраза Сен-Жюста о «силе обстоятельств», заставивших якобинцев обратиться к крайним мерам, не столь уж и далека от истины. Аналитики признают наличие критической ситуации к тому времени, когда власть прибегла к насилию (осень-зима 1793 г.). В Тулоне заправляют англичане. На юге, в Вандее, разгорается гражданская война. Революционная республика окружена врагами и вынуждена яростно отбиваться. Внутри страны подняла голову контрреволюция. В Конвенте все чаще слышны голоса сомневающихся и напуганных. В этих условиях террор был крайне неприятным, страшным, но необходимым средством спасения. Честные исследователи говорят: «Нравится это или нет, но Террор составляет единое целое с общим течением демократической и либеральной революции 1789 года» (К. Мазорик). Среди жертв чаще всего называют имена казненных депутатов из Учредительного собрания Франции (102 человека от общего числа в 1315 депутатов и их заместителей). Оценочной цифрой жертв Террора мог бы служить список лиц, канонизированных в 1926 г. папой Пием IX (191 мученик революции). Социальный состав погибших депутатов таков: 12 процентов – дворяне, 8 священники – священники, 5 процентов – депутаты третьего сословия. Среди казненных депутатов – оба стана, как сторонники, так и противники революции (первых даже больше – 55 процентов, противников – 45 процентов).[571] Такова полная картина тех событий.
В истории Великой Французской революции заметная страница – казнь Людовика XVI, «высшего суверена». Первый вопрос, который обязан задать себе Друг народа – «Во сколько обходится французам, русским, англичанам и так далее вся королевская рать?» На содержание придворного штата Людовика XVI, состоявшего из 15 тысяч человек, уходило 40 миллионов ливров (десятая часть всех государственных доходов). Правительство Людовика было откровенно воровским, о чем прозрачно свидетельствует отчет Неккера Учредительному Собранию (1789): 4 млрд. 467 млн. государственного долга, 56 млн. ежегодного дефицита, 262 млн. выбранных наперед налогов. Место президента (парижского парламента) стоило 500 тысяч ливров. Ясно, что сей господин жил «на нетрудовые доходы». Роскошествовал и высший клир церкви, чьи прибыли были просто баснословны, а расходы на общество минимальны (поскольку король освободил их от всех податей и налогов). Этот прожорливый и алчный тысячеглавый Голиаф должен был быть низвергнут и побежден (если у народа хватает мужества). Монархию ненавидело большинство французов, как её некогда отвергло большинство населения России. Людовик был столь же глуп, как и Николай II. Не желая стать конституционным монархом, он во что бы то ни стало старался сохранить корону. Его бегство в Варенн, сношения с иностранными правительствами и эмигрантами, интриги и козни убеждали людей, что в лице своего властителя они имеют самого страшного врага.
Все чаще с улиц раздавался клич: «На гильотину Капета!» Якобинский клуб потребовал суда над низложенным королем. Один из якобинцев заявил: «Вопрос о суде без конца откладывается в Конвенте… Я требую, чтобы мы самым решительным образом выдвигали на очередь этот вопрос, пока не будет казнена вся семья бывшего короля. Когда эти головы слетят с плеч, всякие беспорядки прекратятся!» Суд над Людовиком XVI не был актом каких-то слепых одиночек, «кровожадных безумцев», но стал общенародным лозунгом (К. Беркова).
Если восставший народ найдет когда-либо возможным порыться в сейфах и тайниках низвергнутой власти, он найдет массу убийственных и бесспорных доказательств преступности вчерашних правителей и главы страны… Уже в докладе комиссии 24 (Дюфриш-Валазэ) было продемонстрировано, что король и его окружение («двор») израсходовали 1,5 млн. ливров на подкуп депутатов Законодательного Собрания, на организацию бегства и военные приготовления в лагере Монмеди – более 6 млн. ливров, на контрреволюционную агитацию, на субсидии роялистской прессе и т. д. Тайная переписка Людовика станет впоследствии известна. И вот что говорилось в его секретном послании прусскому королю: «Я обратился к австрийскому императору, русской императрице и королям испанскому и шведскому с предложением составить коалицию первоклассных европейских держав, опирающуюся на вооруженную силу; это будет наилучшим средством, чтобы обуздать здешних бунтовщиков, установить более желательный порядок вещей и помешать снедающему нас злу распространиться на все европейские государства. Надеюсь, что Ваше Величество одобрит мою мысль и сохранит по этому поводу строжайшую тайну». Мы видим: французский король, по сути, открыто призвал к интервенции против собственного народа. Глава страны вероломно нарушил Конституцию, в верности которой он ранее истово клялся. Общественное мнение Франции осудило это. Кто такой Людовик XVI? Первое должностное лицо в государстве. Qualis vita, et mors ita[572]
Ну, а если первое лицо страны само нарушает все законы совести, порядка и свободы? Оно должно непременно понести наказание. Первое лицо, если оно виновно, должно первым и идти под суд! Никаких гарантий государственным преступникам высокого ранга! Нечего болтать об «абсолютной неприкосновенности» первых лиц! Оставим эти аргументы продажной прессе, ворам и парламентариям. Иные из них так замазаны в аферах, подкупах, интригах, что видят лишь в парламентской или в президентской неприкосновенности «якорь спасения». В якобинскойФранции уже не было власти выше закона. Поэтому представитель Горы Грегуар имел все основания заявить: «Допустить абсолютную неприкосновенность – значит объявить в законодательном порядке, что вероломство, зверство, жестокость ограждены неприкосновенностью; вот почему можно сказать, что допуская эту фикцию, защитники ее возводили ужасающую безнравственность в элементарный принцип общественного блага… Неприкосновенность короля, как институт политический, могла быть установлена только в видах общественного блага… Но ведь если эта прерогатива распространится на все поступки личности, именуемой королем, то она станет могилой нации, ибо превратится в одно из средств для освящения рабства и несчастий народов! А вы утверждаете, что для общего блага король должен иметь право безнаказанно совершать всевозможные преступления!» Король (этот номинальный глава страны) фактически предал свой народ, осудив его на немыслимые страдания и гибель. В ответ в Конвент идут многочисленные петиции народа, требуя казни короля. 30 декабря в Конвент явились депутаты из 18 парижских секций. Голос главы депутации тружеников дышал гневом: «Законодатели, вы видите вдов и сирот, изувеченных и израненных патриотов, которые пришли к вам требовать мести. Это жертвы, ускользнувшие от смерти, на которую обрек их тиран Людовик. Разве не слышите грозный голос, гремящий с неба: «Кто проливал кровь своих ближних, в свою очередь, да погибнет!» Слезы этих вдов, вопли этих сирот, стоны этих калек, тени сотен и тысяч павших борцов призывают вас моими устами выполнить это веление природы. Вслушайтесь в их голос! Людовик был изменником, клятвопреступником, убийцей, а вы так долго рассуждаете о том, должен ли он понести кару за свои злодеяния! Все человеческие законы требуют смерти убийцы; Людовик был убийцей многих тысяч французов, а вы еще колеблетесь! Он перебил граждан, которых обязан был защищать; следовательно, он должен умереть. Таков приговор, вынесенный общественной моралью и народным правосудием, приговор, которого не могут уничтожить пустые словопрения друзей и защитников народа». Вывод простого народа Франции был единодушен и однозначен: «Пусть предатель падет под мечом закона!»
Обри Бердслей. Награда танцовщице. Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Соломея». 1894 г.
Иные правители лишены совести, а порой и грана морали. Аббат Грегуар говорил: «Но разве раскаяние создано для королей? История, которая занесет на свои скрижали преступления Людовика XVI, охарактеризует его одной чертой. В Тюильри были перерезаны тысячи людей, гром пушек возвещал ужасную резню, а здесь, в этой зале, он ел!»[573] (Тираны всегда устраивают банкеты после расстрела народа, испив его крови.) Социалистические настроения окрепли после взятия Тюильри и осуждения короля. Ему предъявили обвинение: «Людовик Капет, именуемый Людовиком XVI, виновный в заговоре против свободы нации и покушении на безопасность государства». 1 января 1793 г. Людовик XVI был казнен, воскликнув перед казнью: «Я не виновен!». Конечно, не все одобряли и одобряют казнь французского монарха. У народов и элит абсолютно разные, и даже полярные взгляды на революцию. Позицию элиты выразил и наш поэт Ю. Кузнецов в стихотворении «Уроке французского»:
Кровь голубая на помост хлестала… Ликуй, толпа! Сжимай свое кольцо! Но, говорят, Антуанетта встала И голову швырнула им в лицо. Я был плохим учеником, признаться; В истории так много темных мест. Но из свободы, равенства и братства Я вынес только королевский жест…[574]Их и нынче немало, «плохих учеников Истории», которые не в состоянии усвоить её уроки… Перед народом, желающим избавиться от узурпаторов и несправедливых порядков, неизбежно встает проблема, с которой столкнулись 200 лет тому назад и французские трудящиеся. Где гарантия того, что после замены одной преступной власти ей на смену не придет другая, еще более преступная!? Народ должен всегда быть на страже своих интересов. Бдительность – его оружие. Стоит расслабиться и очередная клика тут же сядет ему на голову!
Великие поэты думали иначе… Вспомните строки стихотворения В. Гюго из его сборника «Все струны лиры» (1888), увидевшего свет уже после смерти писателя:
Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ, И старый мир, над ним свой утверждая гнет, Стоял средневековой башней. Но возмущения поднялся грозный вал, Железный сжав кулак, народ-титан восстал, Удар – и рухнул мир вчерашний! И Революция в крестьянских башмаках, Ступая тяжело, с дубиною в руках, Пришла, раздвинув строй столетий, Сияя торжеством, от ран кровоточа… Народ стряхнул ярмо с могучего плеча, И грянул Девяносто Третий![575]Хотя «дубина народной войны», нельзя этого не признать, порой слепо наносит удары. Но слепая жестокость народа более понятна, чем циничная и обдуманная жестокость правящих элит. Следует все же рассмотреть некоторые варварские деяния революционеров. О чем идет речь? В декабре 1793 г. толпа в ярости разбила надгробие Ришелье, вскрыла гробницу, в клочья растерзав его забальзамированную мумию (случайно от Ришелье сохранились голова, палец и посмертная маска, захороненные Наполеоном III в университетской церкви Сорбонны). Ощутив себя хозяевами положения, массы первым делом решили воздать за грехи прошлым узурпаторам, грабителям, насильникам. Я не считаю, что это были действия «дикого зверя», если только вы не готовы признать еще более диким зверьем самих правителей. Народ пожелал отмстить многовековым обидчикам. Имел право. Но так как многие из них давным-давно мертвы, он поднял и перетряс их кости, символы, памятники, реликвии, гробницы, усыпальницы, наконец, их имена. Эти действия восставшего народа являются излюбленным аргументом для его врагов. Исписаны горы книг на эту животрепещущую тему. Перегибы не отменяют самого факта революции (как действия неизбежного). Нужна смена режима власти и методов социального устройства и хозяйствования! При всей ограниченности простых людей, их доверчивости и долготерпении есть черта, за которой они уже не верят королям и президентам. Века, пусть даже годы издевательств и угнетений привели к тому, что Народ принял решение покончить с ненавистным режимом. Эксцессы – это лишь побочный акт! Поэтому у нас вызывает неприятие негативистская оценка «ученым Гегеля» революции и диктатуры как «абсолютной свободы и ужаса» («Феноменология духа»). Спросим себя (если в сердце есть место для совести и чести): а разве лучше узаконенная правом сильного власть элит, свобода грабежа и беспредела – повседневный, многолетний ужас, на который обрекают народы тысячи и тысячи лет всевозможные правители, короли, президенты, парламентарии, банкиры, торговцы? И не является ли в этом случае бешеный, иногда с кровавой пеной на устах праздник народной свободы достойным и закономерным ответом на их деяния? Поэтому «самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не большее, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды», вовсе не итог «наступления равенства», но как раз наоборот – прямое следствие отсутствия такового.
Этот «акт исторического возмездия», можно представить наглядно, прочитав великолепную книгу О. Кабанеса и Л. Насса «Революционный невроз». После победы революции во Франции декретом Конвента предписано разрушение по всей стране остатков королевских памятников, гробниц и т. п. Первым подстрекателем вандализма (или что ближе к истине, акта народного возмездия) стал С. – Денисский городской муниципалитет. Как заявит в Конвенте Барер, достойным ознаменованием падения королевской власти стало бы уничтожение пышных гробниц королей. Вот как обосновали эти действия: «Во времена монархического режима даже и посмертные жилища предназначались для прославления земных владык. Величие и гордость королей не смирялись и после их смерти. Скипетроносцы, принесшие столько зла родине и человечеству, продолжают кичиться своим улетучившимся величием даже в могилах. Властная десница республики должна немилосердно стереть с лица земли их высокопарные эпитафии и снести мавзолеи, являющиеся хранителями останков печальной памяти монархов». То была политическая воля народа, опьяненного победой.
Далее действия толпы приняли неуправляемый, хаотичный характер. Оказались разрушены: гробница короля Дагобера, ближайшая к алтарю; раздроблен на куски чудесный мавзолей Генриха II (его останки вывозили на десятке подвод); под киркой и лопатой погибали дивные мраморные статуи, колонны, барельефы; вскрыли гробницы короля Пепина и маршала Тюрена, национального героя Франции. В последнем случае, когда останки полководца укладывали в ящик, один из героев революции отделил от трупа палец (на память). Это был никто иной как народный трибун Камиль Демулен! Не тревожь праха усопших! Возможно, он вспомнит об этом, когда телега повлечет и его самого к гильотине! Останки Тюрена показывали стекавшейся в огромном количестве толпе за деньги. В распродажу пошли даже зубы маршала, вырванные сторожем из челюсти. Повсюду разрушались и королевские статуи… 12 августа 1792 г. пала статуя Генриха IV, а ведь Генрих считался любимцем народа. Вскрыли гроб. Но толпа не пощадила и его труп (какая-то женщина ударила мертвое тело по лицу, ребенок утащил два королевских зуба и оторвал у трупа усы, а некий солдат отрезал от его бороды длинный клок волос – на «счастье» себе и на «страх» врагам). В действиях вандалов, хотя это и нельзя созерцать без отвращения, заметен был не только пароксизм классовой ненависти, но порой и некий рациональный смысл. Страна тогда нуждалась в пушках. Большая часть бронзы памятников пошла на завод Крезо на отливку пушек, вскоре послуживших для отражения иноземного нашествия. Приходится горько сожалеть, что на эти цели вынуждены были пустить даже свинцовые плиты с гробницы великого Леонардо да Винчи, завершившего жизненный путь в замке Клу (1519). Его прах – в общей могиле.
Столь же страшные потери понесло прекрасное французское искусство (книги, скульптуры, иконы, предметы быта и обихода). Буквально за бесценок распродали огромное число замечательнейших по редкости, роскошных по исполнению книг. Требник Капетинской часовни, находившийся в Версале, едва не использовали в качестве материала для ружейных патронов (его спасла Национальная библиотека). Пергаменты монастырских архивов, манускрипты, иллюминованные искусной рукой рисовальщиков-миниатюристов средних веков, папские буллы, требники и другие драгоценнейшие книжные редкости «ушли попросту на картузы для пушечных снарядов». Кое-что удалось спасти (увы, немногое). Этого невеждам показалось мало. Вот что сказал епископ Грегуар в докладе Конвенту: «Пока вандейские злодеи разрушали памятники в Партенее, Анжере, Семхоре и Шиноне, Ганрио задумал возобновить подвиги калифа Омара в Александрии. Он предлагал не более и не менее как сжечь Национальную библиотеку, и такое предложение повторилось также и в Марсели». Однако за неимением публичной библиотеки, здесь были вынуждены ограничиться уничтожением дворянских документов, хранившихся в общественных архивах. Акты безжалостного и дикого вандализма потрясают. Их легко списать на толпу, глубоко не анализируя события.
Дерево Свободы (Свобода, Равенство, Братство). Посажено в первую годовщину падения Бастилии. Их сажали повсюду во Франции.
Но обратите внимание вот на что: а кто же зачастую оказывался инициатором погрома (кто был его «закоперщиком»)? К уничтожению дворянских архивов призывал, кто бы вы думали? Не поверите. Ученый, философ, автор «Картин прогресса человеческого ума», маркиз Карита де Кондорсе! Некий г-н Амейльон, вполне искренне считавший себя учёнейшим историком, председательствовал при сожжении 652 ящиков исторических документов. Авторы пишут: «С августа 1789 года по всей Франции вспыхнули костры: среди пляски и диких воплей опьяненной черни сжигались тысячи предметов неоцененной стоимости: мраморные столы, камины, зеркала, витрины, цветные стекла, статуи, резные церковные кресла и пр. «Осветители» замков не щадили даже вековые деревья, которые срубались и сжигались тут же. Иконоборцы набрасывались не только на изображения «бывших» ангелов, «бывших» Христов, «бывших» святых, но также и на балдахины, хоругви, подсвечники, светильники, чаши, сосуды, блюда и все украшения обихода, так называемого, «бывшего» католического культа. Рабочих привлекали насильно к «делу», их заставляли бросать свою работу, чтобы идти на разгромы церковных и господских владений. Картины, украшавшие церкви, должны были быть также «удалены с глаз республиканцев, которых возмущал вид апостолов лжи, «сих смехотворных» фигур, напоминающих о веках невежества».[576] Все, что служило прошлым режимам в качестве предметов жречества, ритуала, наслаждения, шло в пламень, переплавлялось, кромсалось, уничтожалось, подвергалось разграблению. Слуги церкви шли на всякие ухищрения во имя спасения драгоценных реликвий. Так, в одном из городков избранный мэром монах надумал для спасения иконы Богоматери «приписать ей водяными красками красный колпак и таким образом превратить ее в весьма презентабельную богиню Разума, чем и спас образ от рук иконоборцев». Неисповедимы пути твои, Господи!
Однако давайте вспомним опять же, кто поднял первым руку на Господа Бога. Отнюдь не темные крестьяне какой-нибудь далекой Вандеи, а просветители – Вольтер, Лейбниц, Вольней, Гольбах. Вольтер прямо заявил, что «христианство и разум несовместимы». В одном из его атеистических произведений («Оповещение публики») читаем: «Людей испортили главным образом монахи. Мудрый и глубокомысленный Лейбниц ясно доказал это. Он показал, что десятый век, который называют железным веком, был гораздо менее варварским, чем тринадцатый и следующие, в которых родились эти толпы нищих, давших зарок жить на счет мирян и мучать их… Их монастыри – жилище раскаяния, раздора и ненависти. Наконец, они изобрели инквизицию». Вольтер показывал, к чему приводят религиозные «страсти». Однажды прусский король в Силезии столкнулся с тем, что некое протестантское местечко, завистливо относящееся к католическому селению, попросило у короля разрешения убить всех в этом селении… Король осведомился у них, а как бы они посмотрели на то, если бы католики обратились к нему с аналогичной просьбой расправиться с протестантами. Протестанты убежденно заявили: «О, ваше всемилостивейшее величество! Это совсем другое дело: мы истинная церковь!»[577] Такова психология поведения многих групп населения.
Разрушительные действия масс и революционеров не могут быть оправданы. Слава прошлого «в его немых памятниках» имеет право на сохранение и заботу потомков. Мы вполне согласны с авторами, осуждающими «заговор во славу мракобесия»: «В своем стремлении сбросить всякое иго, порвать всякую связь с прошлым к чему было революции накидываться на мертвые камни? Эти руины, которые она нагромоздила за собой, останутся для нее вечным укором, от которого ей будет, может быть, труднее освободиться, чем от всего прочего. Нельзя не согласиться, что истребление произведений литературы и искусства оставило по себе даже более глубокое впечатление, чем все потоки крови, пролитые в гражданской войне. Это чувство было живее и болезненнее не только потому, что камень, глина и полотно были, так сказать, безоружны и неповинны в партийных раздорах, и не потому даже, что было прямо безбожно уничтожать в одну минуту то, что стоило стольких веков труда и усилий. Основа его лежит глубже и заключается в сознании, что все, что носит на себе отпечаток духовной жизни, не может и не должно погибать без того, чтобы человечество не чувствовало себя глубоко задетым и оскорбленным в какой-либо области своей интеллигентно-духовной жизни: религиозно-правовой, ученой или художественной. Эти издевательства над человеческой культурой непростительны и не могут быть ничем оправданы».[578]
Однако хочу спросить: «А что прикажете ожидать от народа, который сотни и тысячи лет содержался в условиях более худших, чем скотина?!» Что ему все эти манускрипты и пергаменты, уникальные предметы искусств и раритеты?! Он что, мог их читать и смотреть? Была ли у него тогда такая возможность? Анализ популярной среди народа печатной продукции («голубая библиотека») говорил: любимыми темами и героями простолюдина были феи, волшебники, святые и разбойники. Среди героев книг той поры – Карл Великий, Роланд, Оливье, Гар гантюа, Тиль Уленшпигель, Скарамуш (сохранилось порядка 450 названий). Встречаются в списке произведения и профессионально-воспитательного жанра, дающие некую сумму элементарных знаний (ремесла, арифметика, медицина, астрология и метеорология). В указанных брошюрах народного чтива вы, конечно, не найдете имен великих философов, ученых, писателей эпохи Просвещения. Их место в людском быту прочно заняли катехизис (библия простолюдина), фольклор, песни, танцы. Пласты народной культуры этим не исчерпывались. Заметную роль в ее формировании играли всевозможные суеверия и предрассудки. Скажем, простой народ Франции и Англии долгое время верил, что коронованные особы обладают некой волшебной силой, что они способны исцелять больных и немощных. Во Франции XVII-начала XVIII вв. крестьяне говорили, что Людовик XII ежегодно даровал исцеление примерно 500 подданным, а Людовик XIII, якобы, мог запросто избавлять от «королевской болезни» (скрофулез) до 3 тысяч за раз. Таков уровень народа. О степени дремучести крестьянского сознания говорит и такой факт. Неподалеку от Лиона среди крестьян ещё в XIII в. бытовало суеверие, что если принести на могилу св. Гинефора больного младенца, тот обязательно выздоровеет. Доминиканец Этьен де Бурбон выяснил (1260 г.), что святой – это борзая собака, по ошибке убитая хозяином – владельцем замка. Церковь тогда же запретила это нечестивое поклонение. Однако и шесть веков спустя, в 1879 г., некий лионский любитель старины обнаружил, что крестьяне этой местности продолжали поклоняться святому Гинефору, зная, что это – борзая. «Миновали средневековье, Реформация, Просвещение, Революция, дехристианизация, наступил век пара и железных дорог, – отмечает в этой связи историк, – а какие-то существенные черты общественного сознания крестьянина, делавшие возможным столь противоестественное сочетание, как собака и святой, оставались, по-видимому, неизменными… Ритмы изменения «высокой», интеллектуальной культуры и культуры народной, фольклорной совершенно различны».[579]
Наряду с экономическими проблемами, в годы революции во Франции остро встал вопрос о роли и месте религии и церкви в обществе и государстве. Сугубо богословские и теологические проблемы, конечно, оставим тут в покое. Мы не желаем выставлять их в виде той «черной кошки», которую враги революции запирали в дарохранительницы священников, перешедших на сторону народа (дабы представить их у народа Вандеи в облике дьяволов). Вера – верой, а материя – материей. Можно ли сказать со всей уверенностью, что абсолютно все шаги, предпринятые революционерами против церковников и их имущества, неверны? Обратимся к «Письму доброго друга» аббата Каволо (кантон Марей), в котором приведены основания, говорящие в пользу радикальных перемен и в смаой церковно-религиозной епархии. Жорес справедливо называл оное «Декларацией прав человека для самого христианства». Почтенный и честный кюре открыто бросал в адрес высшего духовенства ряд серьезных упреков. Первое, что оно сделало: разразилось страшными воплями не по поводу забвения народом веры, но лишь по поводу отмены их имущественных привилегий. Бедные приходские священники встали на сторону нации, выразив согласие с ликвидацией привилегий высших церковных сановников. Когда же республика отменила десятину, епископы и вовсе стали призывать на головы «нечестивцев» громы небесные. Кюре пишет: «Когда же Национальное собрание осмелилось передать церковные имущества в распоряжение нации, тогда все увидели, с какой яростью призывало духовенство силы небесные защитить его владения, которые у него отбирали. Тогда все увидели, с каким бесстыдством дело божие смешивают с делом Маммоны и кричат о гибели религии потому, что не будет больше епархий, приносящих 100 тыс. ливров ренты». Так что и среди священников было немало тех, кто поддержал великую революцию, ибо видел в ней надежду на воцарение царства Божия.[580]
Французская слава в зените. Архитектурное украшение свободы. Английская карикатура.
Что же касается упреков, направленных в адрес революционеров в связи с их политикой в отношении официальной церкви и религии, то и тут не все так однозначно. Известно, что Робеспьер был против ниспровержения религиозных основ, придавая немалое значение празднику Верховного Существа. По сути дела, это ничто иное как прославление Христа, унаследовавшего идеалы Просвещения и Революции! Откроем классический труд А. Олара «Культ Разума и культ Верховного существа во время Французской Революции». Историк, главный редактор журнала «La Revolution Francaise» (с 1887 г.), рисует картину антирелигиозной кампании, проводившейся во Франции. Первое, на что он обращает внимание, так это на факт, что мысль об уничтожении католицизма и замены его иной «верой» возникла уже в поздний и самый критический период революции. Страна боролась на два фронта – против восставшей Вандеи и враждебной Европы. Священники же мешали призыву в армию солдат, которые должны были защищать родину (призыв в марте-мае 1793 г. должен был поставить под ружье 300 тысяч человек). 22 июля 1793 г. департамент Соны и Луары потребовал разрешить перелить в пушки колокола, бесполезные для культа. В то же время было решено оставить по одному колоколу в приходе. Нельзя не учитывать и то, что отношение народа к религии изменилось не в лучшую сторону (вспомним участие церковников в поддержке губительного курса, их алчность, участие в разного рода «черных мессах» и преступлениях). Олар справедливо заметил: «Короли не раз давали пример ограбления церквей: теперь обирали храмы, чтобы спасти отечество». Факт, который никем не был опровергнут.
С другой стороны, некоторые из мер, принятых радикалами революции, конечно же, не способствовали привлечению народа на сторону революции. Народ в своей массе консервативен. Его нельзя силой «отрешать от веры отцов». Это и бесполезно, и неразумно, и дико. 19 сентября 1793 г. Конвент декретирует составить сборник героических подвигов патриотов Франции и заменить ими жития святых. Сборник распечатали тиражом в 150 тысяч экземпляров и разослали по школам, муниципалитетам, армиям, народным клубам. Шометт и Фуше открыли бюст Брута на празднике антирелигиозного характера (22 сентября 1793 года). Жители Риз-Оранжис, что на берегу Сены, считавшие своим патроном святого Блэза, низложили его и поставили на это место Брута, назвав его именем коммуну. Кюре же отпустили с миром. Члены Коммуны воздвигли рядом с Собором Парижской Богоматери храм Философии (1793). У входа – бюсты Вольтера, Руссо, Монтескье, Франклина. Собор стал Храмом Разума. По приказу Коммуны печатаются и распространяются стихи со словами:
Французы, Разум вас просвещает; Идите же поклониться ему в те места, Где, под покровом тайны, Священники обманывали ваших предков. Наконец-то непогрешимая Природа Под руководством Свободы Создает из храма лжи и лицемерия Обитель Истины…[581]Психолог С. Московичи писал: всякое общество стремится создать некую религию, подкрепляемую теми или иными символами. Люди сами творят себе богов. Хотя это выглядит шокирующе и даже кощунственно. Далее он пишет в книге «Машина, творящая богов»: «Ничто не появлялось в ходе нашей истории такого, что не создавало бы священных предметов и не стремилось бы во что бы то ни стало их навязать. Несмотря на свои предубеждения и враждебность к культам, Французская революция должна была установить культ Высшего существа и богини Разума. Люди, проникшиеся философией Просветителей, разбивали алтари, изобретали символы и устраивали праздники в честь этих новых божеств. Досадно, что естественный отбор действует в отношении богов так же, как и вотношении смертных. И они, эти боги, практически не пережили тех событий, которые им дали жизнь». Что произошло потом? Разве крушение якобинского режима привело к восстановлению истинной веры? Нет. Случилось так, что «сегодня мы стали менее религиозными». И это потому, что «современная наука и цивилизация изолировали нас, сделали одинокими и индивидуалистичными». Итог побед западной цивилизации вполне очевиден – «мы стали неверующими».[582]
Почему стала возможной победа термидорианской реакции? В основе ее немало причин экономического, политического, духовно-психологического порядка (недовольство торговцев, средних слоев, обывателей). Усталость и страх от постоянной угрозы Террора испытывали многие. Важным фактором поражения революции стала половинчатость реформ. Жирондисты обманывали народ, а вожди оппозиции не сумели организовать массы. Об этом писал французский историк Матьез в «Термидорианской реакции». Депутаты парламента не желали брать на себя ответственность в серьезных вопросах, «играя в легальность», когда нужно было принимать крайние меры. Народ проявил себя, как это часто бывает, мужественнее и решительнее. Где были эти «герои», трусливо прятавшиеся за стенами парламента, когда голодные ремесленники бросились навстречу полиции и армии порядка?! Неужто жертвовать собой?! Какой там!!! Господа парламентарии принадлежали к «белой кости», к совершенно другому классу, чем простонародье. Эти сытые господа рады-радешеньки представлять народ в законодательных собраниях и выступать от его имени. Для них простой народ всего лишь отвлеченная величина, служащая источником будущей власти. От людей труда их отделяло воспитание, состояние, семейные традиции. Конечно, во всех революциях и социальных движениях во главе, как правило, оказываются более просвещенные люди. Но ведь и совесть надо иметь, господа парламентарии! Не всё же облизывать денежных баронов и спекулянтов! Болтаете о своей верности народу. Так хотя бы не продавайте его столь нагло и цинично. Сколь часто мы видим, как трусость и барство лидеров отражается негативно на священной борьбе народа. «В этом заключалась глубокая причина того, – сделал вывод Матьез, – что депутаты-монтаньяры не были настоящими вождями, главарями в полном смысле этого слова, …вождями с инициативой, которые не думают об уклонении от ответственности, главарями, которые приказывают и заставляют повиноваться себе. Народ не имел еще представителей из своей собственной среды. Монтаньяры защищали его по доверенности. Должно было пройти около ста лет до тех пор, пока этот народ стал сам вести свои дела, пока он научился читать». История Франции наглядно показывает, какие личины могут надеть на себя мнимые «защитники и друзья народа». Как охотно предают они труженика, на плечах которого въезжают затем в парламенты или в правительства. Двести лет тому назад рабочий люд (чернь) и праздный класс (собственники) составили во Франции два непримиримых лагеря. Этот пример, разумеется, не единственный в новейшей истории.[583]
Считаю своим долгом выступить защитником дела энциклопедистов и их продолжателей, великих французских революционеров. Целых два столетия полчища филистеров, обывателей, неучей и нечистых на руку дельцов обрушивают потоки желчи и ненависти на Руссо, Робеспьера, Сен-Жюста. За что?! За то, что посмели объявить крупную собственность причиной многих социальных бед и несчастий («От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли для всех, а сама она – ничья!»). Но ведь и сам Руссо никогда и никоим образом не отрицал права собственности, напротив: считал ее истинным основанием гражданского общества, важнейшим условием выполнения всех обязательств граждан и государства.
Собственники всех времен и народов должны усвоить нечто очень важное, жизнеполагающее для них и для народа: собственность – это не только право, но и величайшее в мире обязательство. Владеющий ею обязан распоряжаться собственностью умно, честно и толково. Иначе он должен быть лишен её в законном и общепризнанном народом порядке. Должны быть установлены пределы собственности, используемой в личных, корыстных целях. Руссо верно ориентировал будущее общество на мелкую и среднюю частную собственность.[584]
Антуан Сен-Жюст.
Якобинцы произвели на свет «Декларацию прав человека и гражданина» 1793 года. В ней говорилось об «общем счастье». Они решительно высказались против сосредоточения чрезмерной собственности и богатств в руках ничтожного меньшинства народа. Однако искус неправедных богатств, отнятых в ходе революции у дворян и церкви, оказался силен. И это несмотря на горячий призыв Робеспьера: «Я вовсе не отнимаю у богатых людей честной прибыли или законной собственности, я только лишаю их права наносить вред собственности других. Я уничтожаю не торговлю, а разбой монополистов; я осуждаю их лишь за то, что они не дают возможности жить своим ближним». Мудрая и справедливая позиция. Однако её не могли принять «новые богачи», которые пришли в итоге переворота к власти и хотели в полной мере воспользоваться переделом богатств страны. Слова «нация», «суверенитет нации» заменили на слова «демократия», «народ» и «суверенитет народа» – вот и всё! Пустые, ничего не значащие слова. После контрреволюционного переворота буржуа-термидорианцы с наслаждением отдались спекуляциям и коррупции. Налоги на богатых и законы о максимуме были отменены. Из конституции исключили революционные положения Декларации якобинцев (из нее изъяли права народа на восстание, свободу собраний, печати). Простому люду бесцеремонно указали место прислуги – в «прихожей республики».
Что представляли собой люди, свергшие Робеспьера? Обогатившись в ходе приватизации, они нарушили принципы демократии. Satis verborum (лат. «Слов было сказано предостаточно»). Они не способны были поддержать элементарный порядок в стране, но в произволе и воровстве им не было равных. Начались посягательства на свободу граждан. Противников и оппонентов заключали в тюрьмы. Никогда нищета масс не была еще столь ужасающей. Власть отнимала у них детей на войну, взгромоздила на них заботы церкви, а ее административные и финансовые канцелярии «превращались в купеческие и банкирские конторы».
Критика Термидора шла не только слева, но и справа. Французский писатель-эмигрант, граф Жозеф де Местр (1802–1817), которого революция выгнала из Франции в 1792 г., в работе «Рассуждения о Франции» (1797) упрекал тех, кто обогатился в ходе французской приватизации. (Тогда писали ясно и открыто, а не темнили, как темнят и изворачиваются плутократы России.) Местр прямо говорит «новым французам»: ваши расчеты «не остановят контрреволюцию» (читайте, революцию). Ваши злоупотребления во Франции за известный всем анархический период столь велики, что «сделают контрреволюцию неминуемой, а приход ее внезапным» (речь шла скорее о возмездии народа): «Между тем известно, при каких условиях совершались приобретения; известно, какими бесчестными махинациями, какими скандальными agio (повышение курсов ценных бумаг по отношению к номиналу, – В. М.) они сопровождались. Изначальная и продолжающаяся порочность… приобретательства впечатлила всех; таким образом, французское правительство не может не знать, что если оно будет душить налогами этих стяжателей, то общественное мнение окажется на его стороне, а действия правительства сочтут несправедливыми только сами приобретатели; впрочем, при народном правлении, даже законном, стыд глаза не ест из-за несправедливости; можно только прикинуть, каковой она будет во Франции, где правительство, переменчивое, как и сами люди, и лишенное лица, никогда не отказывалось вернуться к своим деяниям, дабы переделать то, что уже было сделано. Значит, покусится оно и на имущество, при первой же возможности. Опираясь на общественное мнение и (о чем не следует забывать) на зависть всех тех, кто не обладает и толикой национального имущества, правительство станет терзать его обладателей или новыми распродажами, по неким образом измененным правилам, или общим судебным пересмотром сделок с повышением их цены, или чрезвычайными налогами; одним словом, обладатели (имущества) никогда не будут в покое».[585]
Упреки народа «в революционности» (со стороны средств информации) являются ничем иным как подлостью «интеллектуалов», щедро оплаченной денежными тузами. Нобелевский лауреат А. Камю осуждает восстание народа («Свобода – это страшное слово, начертанное на колеснице бурь»). Народ отнюдь не жаждет революций, разрушений и мести. Его к тому вынуждают. Кстати, именно народ после победы революции опрокинул в Версале эшафот и разрушил орудие колесования, видя в эшафоте «алтарь религии и несправедливости». Что несуразного в том, если он решил назвать короля Людовика XVI – Последним?! Все правильно! Час королей, царей, президентов давно пробил. Зачем вытаскивать на арену смердящие трупы?! То, что Камю говорит о десакрализации и развоплощении христианства, верно лишь отчасти. Истина конкретна. Революция и есть приближение царства Христа в его зримой, материальной форме. Пора всем понять, что в Англии, Франции, России рубили (и будут рубить) головы не столько королю («человеку слабому и доброму»), а монархизму и деспотии. Скажу еще более определенно: всем тем, кто на земле каждодневно и вполне зримо осуществляет одну сплошную многовековую казнь людей труда! Поэтому даже архиепископ К. Фоше заметил в дни Французской революции: «День откровения наступил. Восстали кости, услышав глас французской свободы; они свидетельствуют против столетнего угнетения и смерти, пророчествуя о возрождении человеческой природы и жизни народов».[586]
Нам ближе всех нобелевских, да и прочих лауреатов, мнение великого французского историка Жюля Мишле (1798–1874). Автор замечательных произведений, сын типографа, сочетавший философию с историей (они «дополняют друг друга»), создал книгу «Народ» (1845). Ни одну из книг не писал он с такой страстью. Он ответил там клеветникам Французской революции, пожелавшим взвалить всю вину на народ. Вопреки бытующей вздорной версии, как мы видели, вожаки эпохи Террора вовсе не были людьми из народа. Это были преимущественно буржуа и дворяне, люди утонченные, образованные, схоласты и софисты. А разве не такой же вывод делаем мы в отношении вожаков другой революции – Октябрьской, в России 1917 года?! Это не только не люди «из народа», но, заметим вдобавок и подчеркнем особо, – еще и не люди из среды Русского народа (во всяком случае, не они стояли во главе!).
Наполеон, осмысливая в изгнании причины французской революции, писал: «Французская революция произошла не от столкновения двух династий, споривших о престоле; она была общим движением массы… Она уничтожила все остатки времен феодализма и создала новую Францию, в которой повсюду было одинаковое судебное устройство, одинаковый административный порядок, одинаковые гражданские законы, одинаковые законы уголовные, одинаковая система налогов… В новой Франции двадцать пять миллионов людей составляли один класс, управляемый одним законом, одним учреждением, одним порядком».[587] Это было замечательное время (несмотря на кровь и казни). Великие свершения имеют место не только в политике, но в науке и образовании. Лавуазье и Кавендиш творят новую химию. Братья Монгольфье открыли эру воздухоплавания. В 1797 г. в небе над Парижем совершен первый прыжок с парашютом.??рат ставил опыты по электричеству. Бытуют и заблуждения. Тот же Марат причислял физика Вольта и знаменитого химика Лавуазье к шарлатанам. Он считал, что академии не нужны, ибо они – нарост на теле державы. Настоящий научный работник, якобы, не нуждается в чинах, званиях и больших гонорарах. Скромный лавровый венец или почетная лента в состоянии более поощрить его труд, нежели все золото мира.
В любой схватке социальных сил неизбежно присутствуют политика с философией (и отражающие их интересы ученые). Между ними всегда существует связь. Как скажет Бриссо: «Самый крепкий монумент нашей революции – это философия». Зарождение «коммунистических теорий» (Морелли, Мабли, Бабефа, Буонарроти) было логичным следствием обострения борьбы «плебеев» и «патрициев» (бедняков и богачей). Уроки тех лет поучительны. для. Ведь, нашим современникам также не мешает усвоить: если массы лишены элементарных средств к существованию, переворот становится неизбежным! Это подтверждает, в частности, история бабувистов («заговора равных»), заслуживающая обстоятельного анализа.
Уже безнаказанно торжествовала алчность спекулянтов и финансистов. Отменен закон о максимуме. На местах царят жуткое воровство, развал, коррупция. Во времена Робеспьера их быстро бы отправили на плаху. Если статистика 1789 г. противопоставляла положение привилегированных 100–300 тысяч «всему народу», то в 1794/1795 гг. в массах уже поговаривают о необходимости истребить миллион купцов, которые доводят до голода «25 миллионов людей». Знаменательный поворот в настроениях. Читатель обязан войти в положение трудящихся. Масса лишены куска хлеба. Рабочие угрожающе ропщут. Женщины кричат, что убьют себя и детей, ибо их нечем кормить. Возникают огромные «хвосты» (les queues) у булочных, становящиеся центрами ненависти и протеста. В 1795 г. голод охватил не только Париж, но и провинцию. Голодные толпы собираются для похода на реакционный Конвент. Еще большую угрозу для «термидорианцев» представляла голодная армия. А ведь известно, 1794 г. во Франции выдался урожайным. Народ убежден, что голод в стране вызван действиями спекулянтов и купцов, осуществляющих совместно с правительством тайные махинации. Он недалек от истины. Поэтому охотно слушает радикальных агитаторов. Вооруженный люд стал разгонять патрули и полицию. «Гроза собирается на «купцов», на «лавки», на «богатых», на спекулянтов», – писал Е. В. Тарле. О четком противоборстве интересов народа и буржуазии говорили уже открыто (Левассер записывает: «с одной стороны – народ, с другой – буржуазия»). История жестко требовала – покончить с термидорианцами во Франции.
Оценку эпохе, наступавшей после поражения революции во Франции (низвержения якобинцев) дал английский историк Т. Карлейль: «Стало быть, тебе, труженик, твоя борьба и отвага в продолжение этих долгих шести лет восстаний и бедствий не принесли никакой пользы? Ты по-прежнему ешь свою селедку и запиваешь водой в благословенный золотисто-багряный вечер». Большинство русских читателей наверняка повторило бы это фразу, обратив её к «либеральным героям» последних десятилетий. А далее Карлейль пишет: «В сущности, какое положение могло бы быть естественнее этого и даже неизбежнее, как не переходное после санкюлотства? Беспорядочное разрушение Республики бедности, окончившейся царством террора, улеглось в такую форму, в какую только могло улечься. Евангелие Жан-Жака и большинство других учений потеряли доверие людей, и что же еще оставалось им, как не вернуться к старому евангелию Мамоны? Общественный договор не то правда, не то нет; «братство есть братство или смерть», а на деньги всегда можно купить стоящее денег; в хаосе человеческих сомнений одно осталось несомненным – это то, что удовольствие приятно. Аристократия феодальных грамот рухнула с треском, и теперь в силу естественного хода вещей мы пришли к аристократии денежного мешка. Это путь, которым идут в этот час все европейские общества. Значит, это более низкий сорт аристократии? Бесконечно более низкий, самый низкий из всех известных. В ней, однако, есть то преимущество, что, подобно самой анархии, она не может продолжаться… А какое великодушное сердце может притворяться или обманываться, будто оно верит, что приверженность к денежному мешку – чувство благородное? Мамона, кричит великодушное сердце во все века и во всех странах, самый презренный из известных богов и даже из известных демонов. Какое в нем достоинство, перед которым можно было бы преклониться? Никакого. Он не внушает даже страха, а, самое большее, внушает омерзение, соединенное с презрением!.. Приведи его в порядок, построй из него конституцию, просей через баллотировочные ящики, если хочешь, – оно есть и останется безрассудством – новая добыча новых шарлатанов и нечистых рук, и конец его будет едва ли лучше начала. Кто может получить что-нибудь разумное от неразумных людей? Никто. Для Франции наступили пустота и всеобщее упразднение, и что может прибавить к этому анархия? Пусть будет порядок, хотя бы под солдатскими саблями, пусть будет мир, чтобы благость неба не пропала даром; чтобы та доля мудрости, которую она посылает нам, принесла нам плоды в урочный час! Остается посмотреть, как усмирители санкюлотизма были сами усмирены и священное право восстания было взорвано ружейным порохом, чем и кончается эта странная, полная событий история, называемая Французской революцией».[588] Просто потрясающе, как История, эта «старая лентяйка», идет почти одними и теми же путями, как она повторяет (или готова повторить!) один и тот же сценарий (сначала во Франции, а спустя двести лет и в России!). И еще в одном был прав Карлейль. Он говорил, что «мысль сильнее артиллерийских парков» и был твердо убежден, что власть мамоны, которая анархична и глупа по своей сути, «не может долго продолжаться». Ей нужна дисциплинирующая, волевая, железная рука мыслителя и творца. Возле каждого денежного туза, говоря образно, должен стоять капрал (хотя б из налоговой полиции).
Итогом революции не всегда была свобода и обязательное благо народов. Однако без «восстания масс» у них нет ни малейшего шанса прекратить действие страшного маховика эксплуатации и насилия. Молчаливые и робкие всегда останутся рабами. Для них просто не будет места в мире хищников, если они с помощью оружия (или законов) не загонят тех в клетку. О. Бланки, «благородный мученик революционного коммунизма», во многом прав, говоря, что «каждая революция – это прогресс»… Вспыхнуло восстание 12 жерминаля. Контрреволюционная буржуазия действует хитро и коварно. Вначале делает вид, что в столице, якобы, ничего не происходит, не предпринимает даже попыток остановить массу народа, не усиливает охраны правительственных зданий. Все её действия говорят об умышленной тактике, цель которой – завлечь массы в расставленную западню. Напрасно патриоты предупреждают: некоторые члены Совета безопасности стали орудиями иностранной интриги. Буржуазия беспощадна и цинична. Она не остановится перед морем крови, чтобы спровоцировать народ на преждевременное выступление. Как писал Тарле, она лезла из кожи вон, дабы «дать монтаньярам время и возможность скомпрометировать и погубить себя». К сожалению, у народа не нашлось умных, решительных и дальновидных лидеров, способных переиграть коварного противника. Мы видели, что на первом этапе революции важную роль в борьбе народных масс против тирании сыграла прогрессивная печать. Однако среди журналистов было немало и тех, кто нес на себе клеймо древнейшей профессии. Если бы патриоты вовремя нейтрализовали этих подлецов («раздавили гадину»), они облегчили бы путь свободе народа. «Видишь этих мошенников? – спрашивал Дюкенуа одного санкюлота, показывая на ложи журналистов. – «Они все подняли оружие против народа, и они никогда не вернутся в свое логовище». Ницше говорил о плетке, якобы, необходимой мужчине для его бесед с женщиной. Эту аллегорию я бы скорее употребил в отношении продажной прессы.
Восстание 1 прериаля не удалось потому, что не были отслежены главари термидорианцев, не захвачены важнейшие комитеты… «Луве подтверждает, что если бы инсургенты во-время захватили комитеты общественного спасения и общественной безопасности, то все было бы кончено и центр правительственного сопротивления был бы уничтожен». Якобинец Брут Манье в 1795 г. открыто сожалел, что «восставшие не догадались арестовать членов правительственных комитетов, равно как главарей термидорианцев в Конвенте» – Фрерона, Тальена, Лежандра, Барраса, Ровера, Дюмона, Тибодо, Оги, Бурсо, Шенье, Дюбуа-Крансэ, Сиейса, обоих Мерленов и всех убийц Робеспьера. Им нужно было бы захватить кучку лидеров в одну ночь (или как-то нейтрализовать всех их вместе). В итоге же, за этим просчетом последовало поражение – и народ вплоть до июльской революции 1830 года, «казалось, подал в отставку». В итоге же, «третий класс» (крупная буржуазия) победил «низшие слои» населения (бедноту). После этого всем уже стало ясно: путь диктатору (во Франции) был открыт.[589]
Каковы же итоги этой победоносной для буржуазии эпохи? Они противоречивы. Утопист Ж. Мелье (1664–1729) упрекал общество: «Никто не догадывается взяться за… просветительскую работу среди народа, вернее, не решается на это, а если кто решился, то его книги и писания не получают широкой гласности, их никто не видит, их умышленно устраняют и скрывают от народа для того, чтобы они не открыли ему, как его обманывают и держат в заблуждении».[590] Изменилось ли что-либо в этом вопросе после 1793 года? Безусловно, хотя перемены и не сразу бросались в глаза. Если основная победа эпохи Просвещения состояла в осознании наличия чудовищной пропасти, разделявшей культурный, властный слой и невежественные массы, а энциклопедисты тревожным звоном колокола сзывали передовую часть общества к «просветительской мессе», то в результате революционных бурь 1789–1795 гг. стали пробуждаться к деятельности и трудящиеся массы. Причем порой дети революции, «взыскующие града», находили истоки своей веры в прошлом. Французские патриоты повторяли имя Катона; Бабеф стал Гракхом (то есть, выбрал себе имя легендарного героя прошлого). Любой сапожник во Франции готов был называть себя не иначе как Сцеволой.
Гракх Бабёф.
Основатель движения «равных», Гракх Бабеф (1760–1797) писал в сочинении «Постоянный кадастр» о том, что образование стало «своего рода собственностью, на которую каждый вправе претендовать». Он убежден, что «в человеческом обществе или совсем не нужно образования, или все люди должны получать равное образование». Пока дела будут обстоять иначе, образованные хитрецы будут надувать менее ловких и неграмотных. Просвещение необходимо, дабы «дать народу возможность защищать права, еще оставшиеся у него от незаконных притязаний просвещенных интриганов…»[591] Тем паче, что сами учителя недалеко ушли от обучаемых. Бабеф говорил: «Нет ничего более обычного, чем учитель, не умеющий читать». Он предлагал принять необходимые законодательные меры, говоря: «В самом деле, для нации было бы величайшим благом, если бы был издан закон, предписывающий вместо примитивных учреждений, созданных повсюду для бедного народа, вместо всех учителей приходских школ, способных прививать своим ученикам лишь варварские представления, поставить учителей, способных по меньшей мере обучать чтению и нравственным правилам. Следовало бы требовать от них совершенного знания правил языка и обязать их преподавать только в соответствии с этими правилами, разумеется, при условии повышения оплаты каждого из этих учителей соответственно тем дополнительным знания, которые им придется приобрести». Бабеф был прав. У народа, который желают поработить всерьез и надолго, в первую очередь отнимают образование! В проекте декрета говорилось о труде ученых и преподавателей. От лиц, занимающихся наукой, педагогическим трудом, требуется подтверждение гражданской честности и порядочности. Лишь в этом случае их труд признается полезным. Суть образовательной доктрины «бабувистов» такова: «Согласно взглядам Повстанческого комитета воспитание должно быть национальным, общественным, равным».[592]
Однако с другой стороны, ведь мечты миллионов рядовых французов так и остались мечтами. Чем завершилась революция, если называть вещи своими именами? Одна группа правящей элиты отняла деньги, власть и собственность у другой. Вот и всё. Широкие слои народа по-прежнему остались нищими. Её политические итоги можно подвести одной фразой Робеспьера: «Республика погибла! Настало царство разбойников!» В 1791 г., когда в стране завершилось формирование конституционных институтов, из 24 млн. человек населения Франции только около 4,3 млн. человек обрели права активных граждан и около 40 тыс. могло быть избрано. Наверху достигли хрупкого согласия между старой и новой властью (дворянством и крупной буржуазией). Выборы во власть отныне становились чисто денежным вопросом: у кого больше доход и состояние, тот и получал теплое место наверху.
Широкий разброс мнений в Европе и мире возник в связи и по поводу Французской революции. Большинство тех, кого принято называть «передовыми мыслителями» в Европе и мире, в основном, приняли революцию во Франции как неизбежный и справедливый акт возмездия. Пейн, Стэнхоуп, Фокс считали её делом всей французской нации. Английский историк Маколей писал, что 24 миллиона человек во Франции избавились «от всего, что унижало здравый рассудок и причиняло страдания». Проповедник Прайс называл «славными» французскую и американскую революции. Пристли был убеждён, что прежняя система правления «стала крайне ненавистной для страны в целом» и отмечал всеобщее и искренее участие в ней народа. Позитивное отношение к революции продемонстрировал и Карлейль. Он никоим образом не считал ее «безумным событием». Напротив: видел в ней величайший и героический акт народа, хотя и отмечал, что событие это выглядит апокалипсично: «В самом деле, без Французской революции мы вряд ли знали, что вообще надлежало делать с таким временем, как наше… Это настоящий, хотя и ужасный, апокалипсис (откровение) для этого изолгавшегося, поблекшего, искусственного времени… Всяким правдоподобностям настал конец, пустой рутине настал конец; многому настал конец. И вот все это было возвещено людям во всеуслышание, подобно трубному звуку в день Страшного суда. Изучите же по возможности скорее этот апокалипсис, и вы станете мудрейшими людьми. Пройдут многочисленные поколения с омраченным сознанием, прежде чем он будет понят надлежащим образом, однако мирная жизнь невозможна, пока это не свершится!»[593]
Далеко не все стояли на позициях поддержки Французской революции. Одним из самых известных её противников был английский публицист и философ Эдмунд Бёрк (1729–1797). Этот сын дублинского адвоката, ирландец и лидер вигов, с неожиданной страстью обрушился на французов. Самым популярным произведением считается работа «Размышления о революции во Франции», где он выдвинул в адрес революции ряд упрёков. Так, отмечая великие успехи Франции во всех областях знаний, промышленности, культуры, он задался вопросом, а столь ли были уж велики пороки старого общества, «чтобы дать право сразу же сравнять с землёй это огромное здание» (1793). Упреки его несправедливы. Во Франции ни о каком «сравнении с землёю» ценностей цивилизации не шло речи. Наоборот. Революция освободила дорогу новым социально-промышленным силам, одновременно убрав с арены тех, кто не смог или не захотел вписаться в новые реалии. Вместе с тем, Э. Бёрку не откажешь в наблюдательности. Он понял, что революцию творит, в основном, активное меньшинство. Всё население в результате революции делится на угнетателей и угнетённых. «Первые распоряжаются всей государственной властью, всеми вооруженными силами, всем бюджетом страны, всей конфискованной у отдельных лиц и корпораций собственностью. Они отрывают люд низкого звания (the lower sort) от повседневных занятий и берут к себе на жалование, формируя из них корпус янычар, дабы держать в страхе тех, у кого есть собственность…» Надо признать обоснованность этих замечаний. Хотя Э. Бёрк и совершенно не касается столь «простого вопроса» как: «Была ли у других хоть малая частица колоссальной собственности, которая имелась у правящего класса и элиты?» Наконец, почему бы Бёрку не спросить и себя: «А разве ранее в аристократической Франции всем не заправляла еще более узкая корпорация угнетателей?!» Как бы там ни было, а Бёрк во многом способствовал изменению отношения английского правительства к мятежным событиям во Франции.[594]
Революция завершилась воцарением плутократии. Разумеется, это был далеко не лучший финал. Не станем и мы безоглядно восторгаться Французской революцией. Оснований для критики в её адрес более чем достаточно. Президент США Дж. Адамс упрекал французов в непоследовательности, в зависимости от императора-диктатора (Наполеона) и церкви (1811): «Французские философы были слишком опрометчивы и торопливы. Они были столь же хитры, как и себялюбивы, и такие же лицемеры, как священники и политики Вавилона, Персии, Египта, Индии, Греции, Рима, Турции, Германии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Италии или Англии. Они не понимали того, что собирались делать. Они ошиблись в своих силах и возможностях: и в результате были разгромлены со всеми своими теориями. Боюсь, что поспешность и опрометчивость философов задержали прогресс человечества по крайней мере на сто лет… Они вынуждены были искать прибежище у Наполеона, а Гиббон сам стал защитником инквизиции. Какие милые и славные Равенство, Братство и Свободу они установили теперь в Европе!»[595] Возможны разные взгляды на это событие, различно и понимание терминов «революция», «интересы народа», «демократия». Многое, если не все, объясняется классовой, политической позицией. Классики буржуазной психологии и социологии Г. Тард и Г. Ле Бон конца XIX–XX вв. убеждены, что «народные классы, революция представляют собой опасность, которой демократия во Франции не может противостоять».[596] Мы же уверены в обратном: без революций нет и истинной демократии!
Термидорианская реакция во Франции.
Серьезным и глубоким умам надо попытаться лучше понять логику событий, проникнув взором в суть этого акта… Равенство и братство явились на волнах народного гнева, а свобода подкреплена штыками и гильотиной. Не лучший путь? Согласен. Но избежать этого трудно. Не бывает революций «в лайковых перчатках». Уж слишком полярны и взимоисключающи интересы сторон. А если власть имущие, владельцы огромных состояний не желают пойти на компромисс, на уступки народу, что ж, его праведный гнев рано или поздно настигает их. И здесь вина полностью ложится на правящие слои и на богачей! Роялист граф Жозеф де Местр (1754–1821) заявит в своей изданной «подпольно» книге «Рассуждения о Франции» следующее: «Каждая капля крови Людовика XVI обойдется Франции потоками крови. Четыре миллиона Французов, быть может, заплатят своей головой за великое народное преступление – за противорелигиозный и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством» (1797). Написанная после казни Робеспьера и начала термидорианской реакции эта книга откровенна, интересна и поучительна. В схожей ситуации оказалась и Россия, вынужденная заплатить за революцию миллионами жизней её граждан. Де Местр не оставляет камня на камне от демократии, воцарившейся в буржуазной Франции. Система власти там напрочь исключала отправление суверенитета народом. Демократы и республиканцы после ухода Робеспьера приняли законодательство, «лучше расчитанное на истребление прав народа». Он вынужден согласиться даже с якобинцем Бабефом: «Следовательно, был вполне справедлив тот презренный якобинский заговорщик, который откровенно отвечал во время судебного допроса: «Я думаю, что нынешнее правительство является узурпатором власти, нарушителем всех прав народа, который оно ввергло в самое прискорбное рабство. Этот ужасный порядок счастья для немногих, опирающегося на угнетение множеств. Это аристократическое правление так заткнуло народу рот, так опутало его цепями, что разорвать их ему становится труднее, чем когда бы то ни было» (допрос Гракха Бабефа в июне 1796 г.). Что толку в провозглашении конституции, в фиктивном праве избирать представителей, которые неизбежно оказываются далеки от простого народа и его нужд. Самое важное и решающее в нынешней ситуации то, что и при новой власти «народ остается совершенно отстраненным от правления; что он является более зависимым, чем при монархии, и что слова великая республика исключают друг друга, как слова квадратный круг».[597]
Фарисейство буржуазных оракулов безмерно. Сколько яду вылито «цивилизаторами» на могилу Робеспьера, Марата, Эбера, иных известных якобинцев за «грехи террора» (несколько тысяч казненных)! Наполеон уложит в могилу целый миллион – и хоть бы что (в его честь слагаются песни, прах диктатора перенесен в Пантеон). Те, кто относят себя к честным людям, должны были бы сказать, что справедливым актом всемирной истории является: изыскать Народу надежное средство, с помощью которого он надежно упрячет диктатуру крупной буржуазии в «железную клетку» разумного и грамотного народного управления. Декларация прав требовала придания вороватых членов Директории суду народа и наказания «смертью узурпаторов народного суверенитета» (1793). Первое, что сделали «демократы термидора», придя к власти, они тотчас поспешили создать нового грозного бога, что обезопасил бы их от карающей длани Народа. Они желали воровать и грабить, но при этом оставаясь неподсудными! Порядки, установленные контрреволюцией, вызвали у народа отвращение и гнев. Напуганная буржуазия стала судорожно маневрировать, понимая: власть плутократов не сможет держаться вечно.[598] Они стали искать выход. Известный ученый К. Г. Юнг (1875–1961) в «Психологических типах» впоследствии напишет: «Французская революция, вспыхнувшая в то время, явилась столь же живым, сколь и кровавым фоном для этих слов; начавшись под знамением философии и разума, с высоким идеалистическим подъемом, она кончилась хаосом, обагренным кровью, из которого вышел наконец деспотический гений Наполеона. Богиня разума оказалась бессильной перед лицом разнузданного зверя».[599]
После поражения Французской революции и падения якобинцев первое, что сделала реакция – она изменила конституцию. В ней победившая крупная буржуазия обрушилась на права народа. Старая конституция 24 июня 1793 г. показалась ей слишком демократической. Во Франции 22 августа 1795 г. имел место имел место «августовский путч» (но антинародного свойства). «Банда одиннадцати» навязала Конвенту новую конституцию.
Принцип народовластия был подвергнут ограничению. Из декларации прав, которой открывалась конституция, оказалось выброшено право народа на сопротивление властям. Вопиющее нарушение естественных и неотъемлемых прав человека. Русский исследователь проблем французского либерализма В. А. Бутенко (1877–1931) заметил, что в конечном счете предательство интересов народа французской верхушкой и привело к власти Наполеона. Он писал в работе «Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации» (1913): «Этим разочарованием в конституции III года и объясняется то обстоятельство, что переворот 18 брюмера был встречен единодушным сочувствием приверженцев либеральных идей. Его главным вдохновителем был Сийес. Его приветствовали одинаково г-жа Сталь и Бенжамен Констан, Лафайет и братья Ламеты, Дону, Кабанис и другие «идеологи» И можно даже утверждать, что без сочувствия защитников либеральных идей Наполеону не мог бы удаться переворот 18 брюмера».[600] Так же действует реакция в любой другой стране. В первые же дни после контрреволюционного переворота она стремится сковать силы Самсона (народа), дабы тут же заковать его в новые цепи.
Потрясающе, какой головокружительный кульбит совершила буржуазия за пару веков (а то и всего за несколько лет!). То, что казалось очевидным лучшим представителям этого класса в XVIII в., после прихода к власти крупных буржуа подается как опасность, ложь, ошибка, преступление. Быстро же вы прошли ваш путь от величия к ничтожеству, господа! А ведь А. Тюрго незадолго до начала Французской революции убежденно восклицал: «бедствия революции быстро исчезают, благо остается, и человечество совершенствуется».[601] Следует вспомнить и слова выдающегося историка Франции Ж. Мишле, который говорил, обращаясь к памяти французов (1845): «Пусть ребенок все это изучит и узнает, что Франция была спасена дважды: первый раз – Жанной д`Арк, второй раз – революцией 1789 года».[602] Дети, забывшие язык революции, никогда не становятся взрослыми. Их ждет плачевная судьба.
Конечно же, революция – процесс, ограниченный во времени. Перманентных революций не бывает. Главные участники тех событий – живые люди, а они не могут долго находиться в состоянии столь бешеной активности, сверхчеловеческого напряжения, высшей концентрации сил и энергии. Природа, как известно, время от времени переживает «возмущения». Тогда над землей проносятся, сметая все на пути, смерчи, ураганы, бури, тайфуны, лавины и т. д. После этого Природа на какое-то время «успокаивается», входит в нормальное и упорядоченное состояние. Таким же образом ведет себя и общество, нуждаясь в умиротворении.
Приход диктатора. Он утверждал указы…
В этой связи одной из интереснейших и, полагаю, актуальнейших проблем является проблема диктатуры и вообще – «периода после»… Когда и при каких обстоятельствах нация обращается к диктатору?
При всем разнообразии нюансов и сюжетов на эту непростую тему думаю (с высокой степенью вероятности) следующее: такое случается, когда та или иная страна долгое время пребывает в анархическом или полуанархическом состоянии, когда властные корпоративные группы преследуют исключительно свои узкие и эгоистические цели, когда народные массы фактически преданы своими вождями и брошены на произвол судьбы «культурными элитами», когда миллионы и миллионы прозябают в голоде, холоде, болезнях и нищете, когда превозносимая продажной прессой «шлюха-демократия» лишь ухудшает положение абсолютного большинства, когда между кучкой богачей и всем народом вырастает чудовищная пропасть. Тогда неизбежно приходит диктатор! Подобная ситуация сложилась во Франции после краха якобинцев и победы термидорианцев-плутократов. Tel maitre, tel valet![603]
Понимая близость конца «демократического режима», власть судорожно ищет спасения! Правящий класс лихорадочно вел поиски «сильной личности». Она должна была защитить его интересы (украденные у народа и отнятые у былого строя несметные сокровища). Крупные собственники и дельцы вытащили на политическую арену сначала одного, а затем и другого Наполеона. Немногие осознают ту роковую роль, которую сыграл в судьбах мира Бонапарт. С ним современные государства вступили в эпоху тотальных мировых войн. Во многом под его скипетром стало создаваться антидемократическое и тираническое буржуазное государство. Он же потопил мечты века Просвещения в потоках крови и ненависти. Система провинциальных и локальных войн была им отброшена. На горизонте возник призрак мировой империи нового типа. Светлые надежды, взлелеянные титанами Просвещения, оказались нагло попраны, а затем и вывалены в помойную яму отходов цивилизации. Разум изнасилован и освистан бандой жалких политиков, банкиров, писак, жандармов и генералов.
Человечество издавна с каким-то особым, болезненно-пристальным вниманием отслеживает судьбы национальных гениев. Согласно мнению одних, такого рода люди имеют высший (предельно возможный) интеллект и эрудицию. Другие основанием для награждения этим титулом называют интуицию. Третьи требуют от гения, наряду с умом, таланта, мастерства и воли. К примеру, «Grande Encyclopaedie» считает, что гений должен обладать высшим разумом и могучим воображением, приводимыми в действие сильной волей. Четвертые отмечают умение гениев концентрировать «несколько индивидуальностей в своей собственной» (Ж. Гюйо). Пятые, как наиважнейшее свойство гения, выделяют его «способность творить чудеса». Шестые говорят о наличии в гениях, якобы, обостренного чувства грядущего, яркого и образного видения будущего и т. д. Оставим в покое «гениальность» Наполеона. Попробуем понять, как стал возможен приход его к власти в стране, где в течение XVII–XVIII вв. масса просветителей и ученых воспевала свободу, разум, науки. Первое, что обязан сделать ясный ум, желая проникнуть в существо явлений, отбросить всю словесную шелуху.
Итак, место событий – Корсика, игравшая заметную роль на геополитической арене Средиземноморья. Задолго до появления Бонапарта Руссо пророчески скажет в «Проекте конституции для Корсики»: «Есть в Европе еще одна страна, способная принять свод законов – это Корсика. Достоинство и упорство, с каким этот мужественный народ отстоял свою свободу, вполне заслужили того, чтобы какой-нибудь мудрец увековечил ее для него. Меня не оставляет предчувствие, что когда-нибудь этот маленький остров еще удивит Европу». Так и произошло. С Корсики явился миру Наполеон. Почему стал возможен его приход к власти в могучей стране, в которой хватало и коренных претендентов? И что это означало для Франции? Сам по себе приход чужака к власти явление не столь уж необычное для некоторых стран… Вспомним хотя бы ту же Россию, где немцы, поляки и прочие «французы» довольно часто оказывались во властных структурах. Если сказать одной фразой, то она прозвучала бы примерно так: «Наполеона-диктатора породило бездарное правительство воров, взяточников и демагогов!» Во Франции после революции и термидорианского переворота к власти пришли ничтожные фигуры. Чего стоил хотя бы глава правительства периода Директории Поль Баррас (1755–1829). Этот дворянин – продувная бестия, казнокрад, взяточник и террорист (вместе с Тальеном, Ровером, Фрероном, Бурдоном они в годы террора запятнали себя жестокостями в Марселе, Тулоне, Бордо). Таких вот «баррасов» наверху, во властных структурах, было множество. Дабы избавиться от подобных господ, порой нужны «наполеоны».
Ж.-Л. Давид. Генерал Наполеон Бонапарт.
В контексте вышесказанного вполне можно предположить, что приход к власти Наполеона (1769–1821) в каком-то смысле был закономерен и неизбежен. Упомянутый Карлейль как-то заявил: «Пока человек будет человеком, Кромвели и Наполеоны всегда будут неизбежным завершением санкюлотизма»… Наполеон был родом из обеспеченной дворянской семьи (3 дома, имение, виноградники, мельница, пахотные земли на Корсике). Легенды приписывали ему родство чуть ли не с царствующей английской династией, византийскими императорами и даже патрицианским родом Юлиев. (Глядя на иные его поступки, скорее можно поверить в антилегенду, утверждавшую, что он был потомком привратника и скотницы). После учебы в коллеже и военной школе (в Бриенне) Буонапарте получил рекомендацию в Парижскую военную школу. Надо сказать, что его успехи на ниве наук в те годы далеко не блестящи (по успеваемости он 42-й из 58). Хотя вряд ли на этом основании можно судить о способностях.
Каковы его культурные интересы и политические взгляды? Обратимся к книге профессора Сорбонны Жана Тюлара, крупнейшего знатока наполеоновской эпохи. Его взгляд на Наполеона близок нам. Поэтому его уста, в известном смысле, и наши уста. Являясь уроженцем Корсики, Наполеон воплощал чаяния и надежды гордых островитян, не раз восстававших против иностранного владычества (1729). У корсиканцев были свои герои (Паскаль Паоли), порядки, своя конституция, даже свое понимание счастья и справедливости (так, в 1791 г. Наполеон представит в Лионскую академию «Рассуждение о счастье»). Для Франции Наполеон был «иностранцем» (Сенат в воззвании 3 апреля 1814 г. так и назовет его). Позже Шатобриан скажет, что в нем воплотилось «нечто чуждое». Перед французской оккупацией Бонапарты владели на Корсике солидным состоянием. После вторжения они почти всего лишились. Отсюда естественная ненависть к французам. «Он презирал, – говорила мадам де Сталь, – нацию, избранником которой желал быть». Показательно и признание Наполеона той поры (1786): «Французы, вам мало, что вы отняли у нас самое дорогое, вы развратили наши нравы. Положение, в котором находится моя родина, и невозможность его изменить – лишний повод к тому, чтобы бежать из страны, где по долгу службы я обязан превозносить тех, кого по совести должен ненавидеть». И продолжал: «Я причиню французам все зло, какое буду в состоянии причинить». Французская монархия уничтожила созданное Паоли государство Корсика. Поэтому Бонапарт не мог не быть на первом этапе врагом монархии. Он умело маскировал честолюбивые цели под маской «простака». Так называл его Баррас, покровительствуя ему и видя в нем лишь грубоватого и неотесанного служаку. Его появление было неожиданным. Диктаторы появляются нежданно-негаданно, подобно чуме, урагану, тайфуну, наводнению. Возникая где-то в преисподней, они затем исчезают в её безднах.
И все же, что именно способствовало его утверждению во власти? Во-первых, в такие времена история полна интриг, а Наполеон как раз из породы людей, поднаторевших в битвах и ужасах гражданской войны на Корсике. Такому человеку (без принципов и совести) проще проложить путь наверх, на вершину власти, где приличных людей днем с фонарем не сыщешь. К тому же, Бонапарту удалось предстать перед народом в личине «отца нации». Он громогласно заявил о себе как о национальном миротворце и объединителе. (На деле натравил народ на народ и явился причиной кровопролитных войн). Во-вторых, он сумел создать ореол борца, героя, победителя. Не выиграв сражений при Флерюсе, Гейзберге и Цюрихе, он с помощью прессы и лубочных картинов (тогда еще не было ТВ) преподнес итальянскую кампанию «как самую настоящую Илиаду», а фактически проваленный поход в Египет под пером продажных борзописцев предстал «восточной эпопеей Цезаря или Александра».
Уже тогда становилось ясно, что с помощью средств массовой информации, можно (при большом желании) из осла сделать Перикла, а из Иудушки-Головлева – чуть ли не Петра Великого. В-третьих, в Бонапарте были качества, ценимые буржуазией всех времен и народов – жестокость, беспринципность, алчность и тщеславие («самая могущественная страсть»).
Каковы политико-философские истоки его воззрений? С известной натяжкой все же можно отнести его к сторонникам и последователям эпохи Просвещения. Многое из того, о чем писали и говорили просветители, энциклопедисты и революционеры, не выпадало из общей канвы его философии. «Разумный строй» в его понимании означал господство института буржуазной собственности. Таково же отношение и к простому народу. Вы помните, что еще Вольтер иронизировал по поводу дворянства, говоря, что он поверит в их наследственные права, когда увидит на пятках родившегося рыцаря шпоры. Однако он же готов пришпоривать простолюдинов, не стесняясь призывать к силе для обуздания народа. Его идеал – сильный правитель (вспомним раболепно-угодливые расшаркивания перед всеми государями Европы, включая Екатерину II).
Монтескье не видел особой разницы между аристократией, монархией или демократией, считая, что исполнительная власть должна принадлежать королю. Но уж идеолог якобинцев Ж. – Ж. Руссо, казалось бы, должен был бы горой стоять за честную представительскую систему, то есть за власть народа. Однако и тут нас ждет некоторое разочарование. Руссо писал по этому поводу: «Чтобы переварить свободу, нужны крепкие желудки, а у народов Европы их нет». Он был твердо убежден: необходимо сначала просветить людей, а уж затем предоставлять в их распоряжение все прелести свободы.
Робеспьер, как известно, вообще был сторонником «политики твердой руки», считая, что без наличия таковой справиться с управлением в государстве просто невозможно. Тут он был абсолютно прав. В этом направлении и шла эволюция мысли и власти во Франции: от Монтескье – к Вольтеру и Руссо, от Руссо – к Робеспьеру, от Робеспьера – к Наполеону. Потому и стал возможен Бонапарт, что в нем удачно соединились черты и мысли героев всех главных направлений и движений. Соедините лозунги и идеи тех лет, облачите их в подходящую для данной эпохи форму, найдите героическую фигуру, способную воплотить все эти замыслы и лозунги, – и, можете быть уверены: в ближайшем будущем обязательно получите ex dono (лат. «в дар») «Наполеона». Такой же линии в жизни придерживался и Бонапарт, считавший, что достаточно было бы одного пушечного залпа по толпе – и Людовик XVI сохранил бы корону. Однако известность он обрел все же благодаря поддержке брата Робеспьера, Огюстена, с которым его связывали дружеские отношения (не забывайте, что лейтенант Бонапарт одним из первых вступил в филиал Якобинского клуба).
Кем же был Бонапарт в глазах миллионов людей – не только французов? Чтобы понять общее увлечение им, нужно взглянуть на него как бы из толпы, из самой гущи масс. Толпа из любого выскочки готова сделать кумира. Но для этого он должен быть «человеком ее мира», близким, понятным существом, твердо обещающим воплотить в реальность все ее надежды и чаяния. Поэтому столь опасны, непредсказуемы ее инстинкты и порывы. Попробуем более непредвзятым и трезвым оком взглянуть на французов, оставив на мгновенье все пышные словеса об их «демократичности и великом гуманизме». Тот, кто больше всех говорит об этом, менее всего к тому расположен.
Обратимся к Шатобриану, как к очень точному барометру времени. Он так объяснял успехи, даже триумф Наполеона в глазах французов: «Каждодневный опыт заставляет признать, что французы инстинктивно льнут к власти; они вовсе не любят свободу; их единственный кумир – равенство. Меж тем равенство связано тайными узами с деспотизмом. Понятно, что Наполеон был мил французам: как воины, они льнут к власти, как демократы – обожают подводить всех под один уровень. Взойдя на трон, он усадил народ рядом с собою; король из простонародья, он заставлял королей и дворян униженно толпиться перед дверью его покоев; он уравнял все сословия, не низведя знатных до черни, но возвысив чернь до знати; первое ублажило бы завистливую толпу, второе потешило его собственную гордыню. Тщеславию французов льстило такое превосходство над всей Европой, обретенное благодаря Бонапарту; немало способствовал популярности императора и печальный финал его жизни.
Важно и другое: чудесные победы наполеоновской армии покорили воображение молодежи, научив ее преклонению перед грубой силой. Неслыханный успех Бонапарта вселил в каждого дерзкого честолюбца надежду подняться до тех же высот. А между тем этот человек, чей каток проехал по Франции, уравняв в правах всех французов, к вящей их радости, смертельно ненавидел равенство и, как никто другой, способствовал явлению аристократии из недр демократии».[604]
Так что не случайно, нет, далеко не случайно им одно время были поголовно увлечены толпы людей как в Старом, так и в Новом Свете. Знаменательно то, что даже известный американский просветитель Р. Эмерсон узрел в нем воплощение надежд и чаяний буржуазии (в своих эссе). Он напрямую связывает его имя с триумфом демократии. Ничего не скажешь, хорош «демократ», заваливший трупами всю Европу, Египет и пол-Азии. Должно будет пройти немало времени, прежде чем в головах толп, да и элиты наступит некое просветление. Хотя в годы якобинской молодости сам Бонапарт и признавался в письме, что он «ревностный демократ».
И все-таки нельзя не признать, что в некотором смысле это была выдающаяся Личность… Чтобы в этом убедиться, достаточно пунктиром проследить его путь с юных лет. Жил он отшельником. В Бриеннском военном училище его отличала поразительная работоспособность. Он вставал не позже четырех часов утра и принимался за работу. Уже в одиннадцать лет проявилось его горделивое «эго». В ответ на сердитое замечание преподавателя, прозвучавшего словно вызов: «Кто вы такой!» – он с достоинством ответил: «Я человек!» Обладая феноменальной памятью, он работал, как вол, поглощая множество книг по истории (Полибия, Плутарха, Платона, Цицерона, Тацита, Монтеня и т. п.). Дорожный сундук Бонапарта был набит книгами. Наполеон неизмеримо превосходил товарищей знаниями и начитанностью. Разумеется, это не способствовало их дружбе. Мало того, что между ним и богатыми дворянами, коих было большинство в военных училищах Бриенны и Парижа, не было ничего общего, так он еще отказывался принимать участие в их пустых забавах и вечеринках. Он предпочитал посвящать все свое время серьезным занятиям – изучению античной истории и математики. Несколько его тетрадей исписаны заметками по артиллерии. Он изучил царствования Цезаря и Фридриха II. Не чужд он был и литературы (писал романы, новеллы, эссе). Знаменательны их названия: «О любви к славе и любви к отечеству», «Диалог о любви».
Это создавало особый мир чувств, мыслей Бонапарта, записавшего в дневник (1786): «Всегда одинокий среди людей». Одинокий не так уж одинок. Его окружал мир великих умов (Вольтер, Монтескье, Гельвеций, Руссо, Рейналь, Мабли), по которым он и сверял часы своей жизни. И частью правы те, кто относил его к приверженцам «партии философов». Его старший брат Жозеф говорил о нем: «Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира». Таким образом, к 18–20 годам система взглядов Бонапарта в основном сложилась. Перед нами натура республиканского склада. Будучи на службе у короля, он тем не менее заявил: в Европе «остается очень мало королей, которые не заслуживают быть низложенными» (1788). Тем более оснований будет у него сказать эти же слова, но уже в адрес Директории (после блистательных итальянских походов, когда тот, кого называли «замухрышкой», «генералом алькова», стал символом республиканизма). Тогда же вокруг него и сформировалась знаменитая «когорта Бонапарта» – священная дюжина офицеров, которые составили «кулак будущей империи». В самом деле, когда у власти находятся такие трухлявые политические фигуры, как «триумвиры». Однако все это еще впереди.
А.-Ж. Гро. Бонапарт, посещающий зачумленных в Яффе 11 марта 1799 года. 1804 г.
Звезда Бонапарта взошла под Тулоном… Судьбе было угодно, что в трудную минуту, благодаря поддержке комиссаров Конвента Саличетти, Гаспарена и Огюстена Робеспьера (брата могущественного главы Конвента), ему поручили командовать артиллерией армии, осаждавшей Тулон. В Тулоне был оплот Бурбонов. Город обороняли английские, испанские, сардинские солдаты (оккупанты и враги Франции). План Бонапарта был прост, как все гениальное. Он создал две мощные батареи, назвав их батареями Горы и Санкюлотов. В часы штурма он проявил мужество и хладнокровие. Подавая пример бойцам, он велел срыть все укрытия, заявив, что защитой им будет их патриотизм. Участвовал он и в яростном ночном штурме. Под ним убили лошадь, штыком прокололи ногу. Так был взят Тулон. Робеспьер-младший и Саличетти присвоили 24-летнему офицеру звание бригадного генерала (затем, правда, по доносу Саличетти, он будет отправлен в тюрьму, но голову он все же сохранил).[605]
Следует стремительная карьера Наполеона. Первым шагом к будущей власти стали его итальянские походы. Как он выдвинулся? Чтобы ответить на сей вопрос, пришлось бы перечислить сотни, тысячи условий и моментов. Можно говорить о его любви к солдатам и офицерам (запретил рукоприкладство в армии и пытки), о его умении быстро схватывать суть событий и действовать («Время – это все!»), об установленной железной дисциплине. Он расстрелял солдат, укравших священные сосуды в церкви, приказав расстреливать «каждого проворовавшегося интенданта»: «Чрезвычайно важно, чтобы ни один из этих подлецов не ускользнул от кары». В основе побед армии лежали завоевания Великой Французской революции. В облике молодого Бонапарта привлекает его не по годам точное и зрелое видение политических задач. И, конечно, его воля! Воля – «больше, нежели талант» (Бальзак).
Наполеон был весьма образованным человеком, хотя и не энциклопедистом. Историк А. Манфред отмечал, как во время итальянских походов в замке Монтебелло (под Миланом) он собрал поэтов, историков, художников, музыкантов. Бонапарт тогда написал известному астроному письмо (в гуще неотложных дел, занятый военными вопросами): «В свободном государстве нужно особо защищать науки, поднимающие интеллект человека, искусства, украшающие мир и сохраняющие великие деяния предков в памяти потомков. Все гениальные личности, все люди, пользующиеся известностью в мире науки, – являются французами, в какой бы стране они ни жили. Доныне они вынуждены были жить анахоретами, теперь же воцарилась свобода мысли, нет больше ни нетерпимости, ни деспотизма. Соберитесь у меня в замке и расскажите мне обо всех своих желаниях. Кто захочет поехать во Францию, будет принят там с почетом, ибо французский народ предпочитает приобрести великого математика, художника или какого-то другого талантливого человека, а не богатейшие провинции. Поэтому прошу вас передать эти чувства выдающимся людям Милана!»[606] Генерал, сумевший с таким триумфом провести важнейшие военнные кампании тех лет и обладавший вдобавок еще и знаниями, конечно же, заслуживал того, чтобы стать главой великого государства. К тому же, это было время, когда все законы писались кончиком сабли. Минует несколько лет – и жертвой диктатора станут не только пресса, но и представители средних слоев либеральной буржуазии, и даже простой народ. Как мы увидим, у тиранов не бывает возлюбленных.
Вскоре судьба забросит его в Египет, где побывали Александр и Цезарь. Там будут жаркие битвы против мамелюков (с его фразой «Солдаты! Сорок веков глядят на вас с высоты!»), казни пленных (уничтожение восставших жителей Каира, чьи головы Бонапарт повелел посадить на кол), посещение заболевших чумой солдат в госпитале Яффы. Однако одновременно с этим он участвует и в работе созданного им знаменитого походного «Института». С собой в Египет он вывез немало известных ученых, включая Бертолле и Монжа, издавал печатный орган, во всем, даже в названии, похожий на парижское издание (Decade). Ученые помогают Бонапарту фильтровать воду Нила, строить ветряные мельницы, искать сырье для изготовления пороха. Приступают к изучению Египта (нильских рыб и минералов Красного моря, растений дельты Нила и химического состава песков пустыни), исследуют причины чумы и страшной трахомы, от которой слепнет половина Египта. Члены «Института» участвуют в раскопках древних храмов Верхнего Египта, прослеживают остатки античного канала и изучают возможности создания нового (спустя полвека это и претворит в жизнь Лессепс). Печатаются научные труды, рождаются мысли о новой цивилизации. Бонапарт скажет: «Только в Египте я чувствовал себя свободным от пут сковывающей цивилизации, я воочию видел средства осуществить все свои мечты. Я видел себя едущим на слоне с тюрбаном на голове и новым Кораном в руках, написанным в соответствиии с новой религией, которую я основал. Я хотел объединить в этом походе опыт Запада и Востока, поставить историю на службу себе, сломить английское господство в Индии и этими завоеваниями восстановить связи с Европой». Он называл себя султаном Эль-Кебиром.[607] Хотя в этих его мечтах мы видим уже скорее черты «покорителя мира». М. Робеспьер предвидел такое развитие событий, сказав с вступлением Франции в революционную войну: «Цезарь придет».
После возвращения из Италии молодой генерал проявлял большой интерес к научным дисциплинам и искусствам. За обедом он частенько очаровывал своих гостей, рассуждая о математике с Лапласом, о метафизике с Сьейесом, с Шенье о поэзии, с Галлуа о политике, с Дану о законодательстве. Будучи избран в Институт на отделение физических и математических наук, он убеждал всех, что для него сей титул дороже всего на свете, что единственные подлинные победы, которые чего-либо стоят, так это победы, одержанные над невежеством. В иные времена из него мог бы, пожалуй, выйти какой-либо незаурядный ученый, блестящий организатор, наконец, возможно, художник или композитор, имей он на то дарования. Однако госпожа История распорядилась иначе, втянув его в гущу военных и политических водоворотов. Г. В. Плеханов несомненно оказался прав, сказав: «…если бы Наполеон вместо своего военного гения обладал музыкальным дарованием Бетховена, то он, конечно, не сделался бы императором». Так или иначе, а время накладывает отпечаток на любого.
Особый интерес представляют взаимоотношения Наполеона с народом. Не зря же он ревностно изучал Плутарха и Цезаря («Ты похож на героев Плутарха»). Им он в известной мере и подражал. Народ же всегда готов склониться перед сильной личностью. Как психология народов воспринимает правителя или героя? Кого народ любит и превозносит? Людей, несущих в себе типические черты данной расы, ее идеализированное представление о самой себе, впрочем, как и иные ее пороки.
Фуллье пишет, что хотя никогда не могло бы существовать «нации Наполеонов», но что был момент, когда «тайным желанием каждого француза было сделаться Наполеоном». Этот идеальный Наполеон не походил на грубого и вероломного исторического Наполеона. Это был образ, мечта, идея.[608] В массе людей, узревших в Наполеоне собственное alter ego, были миллионы мелких и средних буржуа. У них не было титулов, поместий, привилегий, богатств. В то же время это были люди энергичные и по-своему небесталанные. Все, чем они могли похвастаться, это бьющей через край энергией, жизненными силами, дерзкими мечтаниями. Так они врывались в общественную жизнь после революции: как якобинцы, возглавляющие новую власть на местах и в столице, или как отважные уланы и кирасиры в строй янычар и мамелюков – смело и отважно (чувствуя себя «маленькими наполеонами»).
В своей блестящей работе «К вопросу о личности в истории» Г. Плеханов писал: «Тот же Наполеон умер бы мало известным генералом или полковником Буонапарте, если бы старый режим просуществовал во Франции лишних семьдесят пять лет. В 1789 г. Даву, Дезэ, Мармон и Макдональд были подпоручиками; Бернадотт – сержант-майором; Гош, Марсо, Лефевр, Пишегрю, Ней, Масэнна, Мюрат, Сульт – унтер-офицерами; Ожеро – учителем фехтования; Ланн – красильщиком; Гувиион Сен-Сир – актером; Журдан – разносчиком; Бессьер – парикмахером; Брюн – наборщиком; Жубер и Жюно – студентами юридического факультета; Клебер – архитектором; Мортье не поступал на военную службу вплоть до революции. Если бы старый режим продолжал существовать до наших дней, то никому из нас и в голову не пришло бы теперь, что в конце прошлого века во Франции некоторые актеры, наборщики, парикмахеры, красильщики, юристы, разносчики и учителя фехтования были военными талантами в возможности».[609] В том прелесть, если хотите то и «пикантность» переходных эпох, когда волны событий выносят на поверхность отнюдь не ан-гельско-невинные души, а пеструю массу, где представлены герои и проходимцы высшей пробы.
Среди поклонников Наполеона были и те, кто шел в боевых армейских колоннах, кто работал в мастерских или на полях, кто торговал в лавках и на рынках, кто заполнял собой конторы и школы. Все они (так или иначе) жаждут всего и сразу – денег, собственности, славы. Всякие там моральные принципы: совесть, гуманизм, вера в Господа, иные «несущественные и бесполезные вещи» – мало занимали их воображение. Ими двигала единственная страсть – жажда успеха и быстрой карьеры! Личный интерес просматривается всюду.
Требования времени определяют и лицо эпохи. Если обществу нужны солдаты – оно загоняет нацию в казармы. Если стране нужны ученые, инженеры, мыслители, умные головы, художники, писатели – она шире распахивает двери школ, лицеев, институтов и академий. Если же верхушке захотелось вдруг быстро и неправедно разбогатеть – она начинает плодить различного рода банки, конторы, биржи, «пирамиды», газетенки, дающие возможность нечистым на руку людям быстро сколотить огромные состояния. Наполеон бросил однажды фразу о том, что революции задумываются романтиками, осуществляются прагматиками, а завершаются отъявленными негодяями. Этим господам не свойственны моральные переживания. Ведь и их герой (Наполеон) любил повторять, что сентиментальность необходима лишь женщинам и детям. Все эти новые собственники и власть имущие ненавидели людей высокого образа мыслей (всяких там гуманистов), следуя итальянской пословице: «Если хочешь достичь успеха, не будь слишком хорошим». Наполеон так и поступал. Это проявилось при подавлении мятежа правых (1795 г.). Он не позволял контрреволюции, у которой было пятикратное превосходство в силах, взять Тюильри, где заседал Конвент. По его приказу великолепный Мюрат с эскадроном овладел пушками. Бонапарт отдал команду: «Огонь!». Достаточно было нескольких залпов, чтобы мятежники разбежались. Так и надо работать!
Свершив эти «подвиги Геракла», Бонапарт мог рассчитывать на одобрение народа в вопросе обретения им неограниченной власти! Политическая ситуация было нестабильной и зыбкой. Любая сильная личность, в руках у которой была армия, могла тогда взять власть во Франции. Наполеон заполучил пост диктатора прямо из рук французского народа (4 миллиона – «за», и всего горстка – «против»), заявив: «Обращение к народу приносит двойную выгоду: оно не только подтверждает продление срока, но и облагораживает происхождение моей власти: в противном случае оно так и осталось бы сомнительным».[610] Народный вердикт, который часто так переменчив, закрепил наполеоновские преобразования. Далее уже не составляло труда облачиться в королевскую мантию и водрузить императорскую корону. Сменить генеральский мундир на корону – какая проза!
Посмотрим на молодого Бонапарта глазами художника Жака-Луи Давида (1748–1825). Тот познакомился с ним после итальянских походов (1797). Его впечатление о генерале обычно черпают из воспоминаний Э. Делеклюза, ученика Давида. Тогда он сказал: «О друзья мои, какое у него лицо! Это чистота, это величие, это античная красота! Это – человек, которому в древности воздвигали бы алтари; да, друзья, да, дорогие друзья! Бонапарт – мой герой!» Вряд ли эта экзальтация свойственна Давиду, хотя он и любил античность. Впрочем, увлечение Бонапартом было всеобщим. Настоящий художник может преувеличить, но не солгать. Кисть его не врет. Поэтому стоило бы обратиться к тем рисункам, что хранятся в Ницце (музей Массена). В них есть экспрессия, энергия, нервность. Здесь тонко подмечены черты генерала (жесткость, властность, враждебность, подозрительность). Хищник, готовый растерзать жертву, попавшуюся в лапы.
Как контраст, еще один Бонапарт – прославленный герой, «надежда всей Франции». Перед нами очищенный образ, канонизированный идеал (появляются «чистота, величие, античная красота»). Есть и еще один портрет генерала кисти Давида (хранится в Лувре), где дан набросок головы. Более он не возвращался к портрету. В дальнейшем в портретах нового владыки Франции уже не будет такой обнаженной правды. Бонапарт становился Наполеоном. Личные отношения художника и модели складывались непросто. Вначале Бонапарт хотел добиться внимания Давида, известнейшего художника Франции. Он даже предлагал ему принять участие в итальянских и египетских походах. А вернувшись в Париж из Италии, он сказал секретарю Директории Лагарду, пригласившему его на обед: «Я приду, но при условии, что у вас будет Давид». В этот романтическо-революционный период Бонапарта куда больше интересовали ученые и художники, нежели дельцы и политики. После битвы при Маренго он предложил Давиду написать его портрет.
Ж.-Л. Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар. 1801 г. Версаль, Национальный музей.
Однако то время быстро закончилось. В Бонапарте все отчетливее стали проступать черты диктатора, будущего императора. Он чуть ли не силой заставляет Давида оставить работу над картиной «Леонид при Фермопилах», требуя написания собственного портрета. Он даже учит художника, как надо писать. Давид вынужден отвечать в дворцово-почтитель-ном духе: «Вы учите меня искусству живописи». Впрочем, когда Бонапарт однажды перешел все границы и предложил художнику «вместе сочинить трагедию», Давид остроумно ответил: «Охотно, генерал; но сначала составим вместе план кампании».
Большое парадное полотно «Бонапарт на Сен-Бернарском перевале» – пример того, как художник выполняет царский заказ. По своим живописным качествам оно выглядит великолепно, хотя это и полнейшая идеализация действительности. Искусствовед Е. Кожина пишет: «Он отвлекается от той реальной обстановки, в которой французская армия совершала переход через Сен-Бернар, – переход, поистине героический, когда измученные полуодетые солдаты под ледяным ветром впрягались вместо лошадей в орудийные упряжки, а военные музыканты, выстраиваясь вдоль заваленных лавинами проходов, из последних сил играли им сигнал к атаке. Но та же реальная обстановка слишком приземляла образ Бонапарта. «Он не сидит, как изобразил его Давид, на горячем коне в героической позе, – свидетельствует современник. – Взобравшись на мула с неторопливой и надежной поступью, он медленно поднимается наверх». Художник, несомненно, хорошо знал все это. Эстетика классицизма не только позволяла ему, но даже предписывала отбросить такие случайные детали как нечто случайное, снижающее главную героическую ноту».[611] В работе нет той свободы, независимости и искренности, которые были ранее, в первых набросках и портретах. В том вина не Давида, а Бонапарта. Художник уже лишен возможности лично контактировать со своей моделью. Бонапарт ему не позировал, прислав в его мастерскую «замену» – мундир, сапоги и треуголку (те, что были на нем в день битвы при Маренго). От деспотов всегда и остаются лишь мундиры да сапоги.
Что же за люди вознесли его? Во-первых, крупная буржуазия, нуждавшаяся в диктаторе и завоевателе. Ей позарез нужны были рынки и победы, победы и рынки. Бонапарт дал ей и то и другое. Он навязал Австрии выгодный для страны мир (договор в Кампоформио 18 октября 1797 г.), расширил границы Франции, аннексировав левый берег Рейна (Бельгия, Савойя, Ницца). За пределами страны «по французскому образцу» создаются марионеточные республики – в 1794 г. Батавская республика (Голландия), Цизальпинская (Мила) и Лигурийская (Генуя) в 1797 г., Гельветическая и Римская в 1798 г., Партенопейская (Неаполь) в 1799 г. Все это на руку крупным собственникам, банкирам. Поэтому Р. Эмерсон скажет: «Парижу, Лондону и Нью-Йорку с их коммерческим духом, властью денег и материальных благ также следовало иметь собственного пророка. И им стал с благословения свыше Бонапарт».
Все буржуа на одно лицо. Обобрав народ, они нуждаются в «монархе», чтобы скрыть под его мантией свои нечистоты. Директория – пустое место. Слова Бонапарта: «Ваша директория – это кучка дерьма!». Но когда стервятники начинают «обсасывать кости монарха» (где бы то ни было), значит, они задумали какую-то провокацию или гадость против интересов народа. Во-вторых, свой экономический интерес был и у крестьян.
Массы напоминают женщину. Они готовы любить властителя страны, но отнюдь не бескорыстно. Наполеон это понял. Ведь помимо грома побед, нужны еще и деньги. Он и выколачиввал их из побежденных Францией стран. Французские крестьяне получали выгоду от завоевательских походов и «хлебной блокады». Вспомним, что во времена Империи цены на хлеб во Франции оставались очень высокими (не опускались ниже 29 франков за гектолитр, а в 1812 г. достигли даже 50 франков). П. Лафарг писал в этой связи: «Если Наполеон в своих сражениях и посылал массы крестьян на убой, то он давал им зато возможность брать хорошую цену за свои продукты – это объясняет отчасти любовь крестьян к Наполеону».[612] В-третьих, в деяниях главы государства было немало такого, что заслужило ему признание французского народа. Он энергично стал создавать многочисленные рабочие места (работы на улицах и набережных, заводах, фабриках, ателье), открыл в провинициях богоугодные заведения для нищих и больных, разрешил вход в парки не только буржуазии, но и людям в рабочих одеждах. Он воспротивился закрытию читальных залов: «Этого я ни за что не допущу! Я на собственной шкуре испытал, как приятно знать, что есть теплая комната, где можно почитать газеты и свежие брошюры. И не могу лишить этого других». Он ведь и сам любил читать, изучив «Кодекс Юстиниана», находясь на гаупвахте. Наполеон приказал продавать народу билеты во Французский театр по низким ценам и запретил игорные дома («они разоряют семьи, и терпеть их – значит подавать плохой пример»). В России всё делается совершенно иначе!
В его лице французская буржуазия спела свою лебединую песню! В 30 лет Бонапарт разуверился в юношеских грезах, в надеждах молодости, в якобинской идеологии (и даже в верности жены). Вскоре он стал полновластным диктатором Франции (1800), заявив: «Мы довели до конца роман революции». Вспомним и его слова: «Революция – это Я!» Начав как республиканский генерал, исповедующий принципы революции, он, отдав ей дань, быстро перешел на позиции монархизма. Бонапарт сделал Францию республикой (1802), но, чтобы никто не сомневался в прочности его власти, он расстрелял герцога Энгиенского (наследника Бурбонов). Конечно, диктатор не порывал столь откровенно с народом, как иные жалкие его пародии (известны его слова: «Я вышел из недр народа, я не какой-нибудь Людовик XVI»). Хотя связи консула с Робеспьером и его братом скорее всего являлись данью обстоятельствам и отрыжкой «романтической» юности. Молодой генерал если и призван был к алтарю, то к алтарю Молоха, пожирающего людей. Его девизом стала вторая часть изречения: «Vivre en travaillant ou mourir en combattant!» («Жить работая или умереть сражаясь»).
Осуществив кровавый передел собственности, ограбив страны и народы, французская ли, русская ли буржуазия хочет одного – любым способом сохранить и узаконить награбленное и уворованное в смутные времена. Ей нужна сильная власть, которая удержала бы народ в железной узде. «Все считали, что необходимо сильное правительство, – писал Стендаль. – И они его получили». Кто таков Бонапарт? Цербер крупной буржуазной собственности. Поэтому власть денег всюду старается держать на прицеле какого-нибудь очередного «генерала-наполеончика». Франсис д`Ивернуа скажет о приходе Наполеона к власти: «Следует признать, что французы (авт. – крупные богачи) весьма успешно защитили свои кошельки».[613]
Потому в нем узрели родственную душу и американцы. Р. Эмерсон увидел в императоре «символ демократии»: «Он хочет, чтобы все были допущены к участию в конкуренции, и открывает новые возможности конкурентной борьбы – это класс деловых людей в Америке и во Франции и повсеместно по всей Европе, класс трудолюбивых специалистов. Наполеон и стал их олицетворением. Инстинкт деятельных, смелых, способных людей, повсюду составлявших костяк среднего класса, выделил Наполеона как подлинное воплощение идеалов демократии». Откровенно восхищаясь героем, он выделяет те черты в Наполеоне, которые особенно в нем привлекали янки: «И что бы ни делал он, все отвечало правилам расчета и разумности, экономии средств и, главное, времени. В каком-то смысле французский император стал идеалом человека-машины, если под этим разуметь единство телесной и духовной рациональности. Он свято верил в истины науки и подвергал сомнению небесные эмпирии. И люди увидели в нем прекрасное сочетание природных и интеллектуальных сил, именно то, о чем они сами тайно или открыто мечтали, имея в виду себя самих».[614]
Наполеон кладет конец фарсу демократии.
Аксиома политической культуры Запада – свобода человека, свободы мысли, литературы, науки, право людей на полную, даже самую нелицеприятную правду. На словах все это так. Однако буржуазия быстро сбрасывает маску, указывая науке и просвещению их место. Исключения лишь подтверждают правило. Наполеон это продемонстрировал. Французам скоро пришлось забыть о свободах. Вот что писал Шатобриан: «Во Франции истина иной раз являлась на свет даже при республике, несмотря на неумолимую цензуру палачей; ни одна партия не задерживалась у власти надолго, и противники, свалившие ее, открывали миру то, что таили их предшественники: от эшафота до эшафота, от одной отрубленной головы до другой люди были свободны. Но когда власть захватил Бонапарт, когда его прислужники надолго заткнули рот мысли и французы перестали слышать что-либо, кроме голоса деспота, восхваляющего самого себя и не позволяющего говорить ни о чем другом, истина покинула нас. Так называемые подлинные документы той эпохи недостоверны; в то время ничто, ни книги, ни газеты, не публиковались без разрешения властителя; Бонапарт просматривал статьи для «Монитера», префекты его слали из разных концов страны донесения, поздравления и славословия, соответствующие письменным указаниям парижских властей и условленным мнениям, которые были решительно противоположны действительному мнению общества. Попробуйте написать историю на основании подобных документов! Ссылаясь в своих беспристрастных штудиях на подлинные свидетельства, вы будете подтверждать ложь ложью. Если же кто-то усомнится в том, что обман царил повсюду, если люди, не жившие при Империи, будут упорно продолжать верить тому, о чем прочтут в печатных источниках, или даже тому, что им удастся разыскать в министерских архивах, достаточно будет привести неопровержимое свидетельство – мнение Консервативного Сената, декрет которого гласил: «Ввиду того что свобода печати постоянно ущемлялась произволом имперской полиции и что император всегда прибегал к прессе для того, чтобы наводнять Францию и Европу вымышленными сведениями и лживыми суждениями, ввиду того что акты и отчеты, рассматривавшиеся Сенатом, публиковались в искаженной форме, и проч.». Что можно возразить на такое заявление?»[615] Поступавшая из-за границы информация о состоянии дел во Франции попала под строжайший контроль. Воспрещалось печатание даже путеводителей и топографических описаний, где хоть слово упоминалось о революции. Правительство не позволяло упоминать в учебниках, что в Голландии и Швейцарии когда-либо имела место республика. В Нюрнберге, по требованию Наполеона, расстрелян продавец книг Пальма, отказавшийся назвать имя автора какой-то не понравившейся тирану брошюрки. Народы могли, вероятно, в полной мере оценить справедливость и предостережения Лабрюйера, заметившего по поводу перемен (от которых кстати говоря и ныне не застраховано ни одно общество): «Каким гонениям подверглись бы мысли, книги и авторы их, если бы они зависели от богачей и вообще от всех, кто составил себе изрядное состояние! На этих людей не было бы управы. Какую власть взяли бы они над учеными, как презрительно говорили бы с ними!» Он заговорил о прессе, как о бездне, к которой не следует приближаться в здравом уме. Подумать только, и этот человек еще недавно заявлял: «Карьера открыта для талантов».
Наполеон относился ко всякой политической деятельности с подозрением. Отношение к идеологии со временем также претерпело эволюцию, неся отпечаток некой двусмысленности. В первое время он пытался обольстить тех, в ком видел потенциальных союзников в своем движении к власти. Надо признать, ему это частенько удавалось, ибо Наполеон был величайшим актером. Во времена Директории он еще с интересом воспринимал идеологические беседы. Однако после переворота 18 брюмера всё изменилось. К монархистам и священникам он относился с некоторой снисходительностью (в конце концов, беглым священником был и его всесильный министр полиции Фуше). Либералов же Бонапарт терпеть не мог. Когда некоторые идеологи либерализма повели против него робкую парламентскую борьбу, не представлявшую, впрочем, никакой опасности для его режима, консул пришел в совершеннейшую ярость («Именно идеологам мы обязаны всеми страданиями»). Её-то он и выплеснул на страницах «Журнала де Пари» (Journal de Paris) и в «Меркюр де Франс» (Mercure de France): «Собирается жалкая кучка числом двенадцать или пятнадцать и объявляет себя партией. Безрассудные глупцы, все они считают себя непревзойденными ораторами». Первому консулу нельзя отказать в известной проницательности. Его ненависть к фразерам демократии нам понятна и, пожалуй, оправдана. Можно согласиться с его вердиктом в адрес «либералов и демократов», которых он откровенно называл «бандой прохвостов». Бонапарт однажды заметил, что эти господа с их абстрактными теориями могут «принести Франции куда больше вреда, чем самые опаснейшие революционеры или их доктрины».[616]
Российский историк Е. Тарле писал и о другой стороне «просветительства» Бонапарта… К примеру, тот приказал даже не упоминать о великой революции в печати. Вроде бы никогда на свете не было Робеспьера, Марата, Эбера, Мирабо. Когда в Парижской академии кто-то осмелился с похвалой высказаться о Мирабо, Наполеон страшно разгневался и написал министру полиции: «Не дело президента ученого общества говорить о Мирабо». В отношении прессы диктатор повел себя согласно сформулированному им же девизу – «Для управления печатью нужны хлыст и шпоры». Уже через два с небольшим месяца после переворота им были закрыты без объяснения причин 60 газет (осталось лишь 13, а потом и вовсе 4). Французы презрительно называли эти бонапартистские газетенки не иначе как «носовыми платками». Однако в его поступках был свой резон. Он говорил: «Если я сниму с печати узду, я и трех месяцев не останусь у власти». Уже тогда один из деятелей наполеоновского режима говорил, что надо забить головы молодежи и «праздный ум парижан» музыкой и театром, чтобы они не обращались к политике. Вот во что суждено было трансформироваться человеку, рожденному Французской революцией, стороннику идей французских экономистов «Laissez faire, laissez passer» («Позволяйте делать, кто что хочет, идти, кто куда хочет»).
И все же кое-что диктатору на ниве науки и просвещения удалось сделать. К тому же нет ничего более удаленного от целей просвещения, нежели буржуазная печать. Как известно, при нем положено начало системе высшего образования во Франции, сохраняющейся в основных своих чертах и поныне. Надо все же отдать должное императору. Он прекрасно понял всю неизмеримую важность значения учительства для судеб страны. В преподавателях же высших школ он видел не только своего рода «золотой запас» нации, но и подлинных духовных наставников юношества и главный оплот государства. Он говорил: «Без преподавательского корпуса, сплоченного на основе единого принципа, невозможно единое политическое государство». Перед Францией стояли тогда довольно сложные задачи. Увлечение лицейской формой обучения быстро доказало свою несостоятельность. Кадры этих лицеев оставляли желать лучшего. Финансирование было спорадическим и недостаточным. Буржуазия бойкотировала новую форму образования. Созданные лицеи не выдерживали конкуренции с частными учебными заведениями. Однако ни одно мощное государство не должно и не может опираться в своей деятельности только на частный образовательный сектор.
Бонапарт оказал мощную поддержку системе высшего и среднего образования во Франции. При нем преподавание в университетах и в средних школах приобрело строго утилитарный, преимущественно технический уклон. В 1803 г. он предпринял реформу Института (Академии наук), расформировав («зловредное» с его точки зрения) отделение моральных и политических наук и переместив его членов в другие существующие подразделения. В 1806 г. принят закон о создании Университета («образовательного и просветительского учебного заведения Империи»). Автором декрета 17 марта 1808 г. был Фуркруа. Декрет закреплял за Университетом, во главе которого стояли магистр, ученый совет и корпус генеральных инспекторов, монополию на образование… Магистр (министр) выдавал разрешительные лицензии преподавателям и учебным заведениям, каждое из которых выплачивало Университету ежегодную «дань». Образование включало три ступени: начальную, находящуюся в ведении монахов; среднюю, состоящую из лицеев и коммунальных школ; высшую – факультеты филологии, естественных наук, права, медицины и теологии Университета. Преподавателей по-прежнему готовила «Эколь Нормаль». Степень бакалавра призвана заменить дворянское звание, открыв дверь в элиту разночинцам.[617] Наполеон не только создал лицеи и технические училища, но и приказал выделить в них 6 тысяч бесплатных мест для самых способных юношей. Треть мест были предназначены сыновьям заслуженных людей («мое правление будет эпохой молодых и талантливых»). А «мудрецы России» всех молодых и талантливых одно время норовили как можно скорее сплавить за рубеж. Спустя три года после его прихода к власти во Франции было 4500 народных школ, 750 реальных училищ, 45 лицеев. Бонапарт реформирует систему власти. Никому не приходило в голову, что первых сенаторов государства можно избирать не из плутократов, а из числа ученых-членов «Института» (треть первых сенаторов пришло из науки). Он потребовал составить список «десяти лучших художников, десяти лучших скульпторов, композиторов, музыкантов, архитекторов, а также указать имена других деятелей искусств, таланты которых заслуживают поддержки», и сделал им заказы. От ученых он ожидал результатов их деятельности, что принесло бы «славу империи» (письмо Лапласу). А чтобы ученые, художники, литераторы, музыканты, профессора творили во славу отечества, Бонапарт ввел орден Почетного легиона (президентом клуба «легионеров» стал ученый-естествоиспытатель). Император говорил: «Французы тщеславны и легкомысленны, как их предки, и восприимчивы только к одному – почету».[618]
Наполеон не был бы самим собой, если бы не потребовал от руководителя высшей школы серьезного улучшения состояния вверенного ему ведомства. Громких фраз да лакейских расшаркиваний при волевом и умном правителе мало. Наполеон настороженно отнесся к реформам в области образования. В первую очередь пострадал министр-реформатор. Модернизация высшей школы вызвала опалу Фуркруа, тот вынужден уйти в отставку. Почему это произошло? Какие же образования и культура нужны Наполеону? Что вообще хотят диктаторы от индивидуумов!? Их чувства противоречивы. Они рады талантам, но только если те лояльны к ним и к их власти (покорные соглашатели). Им хотелось бы, чтобы те умело льстили и холопстовали (с приличествующим случаю тактом). Показательна запись Коленкура, адъютанта и сподвижника Наполеона, с которым тот делился сокровенными мыслями. В ней дана оценка нового главы Университета, руководителя высшей школы Франции и министра Фонтана (1757–1812), льстеца и подхалима. Император говорил: «Он слишком угодлив. Но он очень талантлив. Он служит мне с большим рвением и в настоящее время хорошо руководит народным образованием. Революция сделала нас в слишком большой степени греками или римлянами; надо внушить нашим детям монархические идеи; это вполне соответствует взглядам Фонтана; по крайней мере он выставляет такие взгляды напоказ. Если бы я ему позволил, он зашел бы даже слишком далеко. Он человек умный, но ум у него маленький. Если бы я его не придержал, то он ввел бы у нас воспитание в стиле Людовика XV…» Эта фраза характеризует подлинные идеалы Наполеона, несмотря на республиканскую позу. Исторических наук, особенно наук социальных, он не любил и даже побаивался. Терпеть не мог Тацита за его непочтительность к цезарям. Хотя после 1800 г., добиваясь упрочения положения, одно время заигрывал с идеологическими дисциплинами. Политическую экономию он и вовсе считал шарлатанством, а просветительскую философию люто ненавидел. Философию подвергают гонению, когда перестают мыслить категориями свободы. Наполеон передал и театры под контроль министра полиции Фуше, а якобинцев и бабувистов, сторонников социальной справедливости, выслал на Сейшельские острова.[619]
Жорж Кювье.
Таков же его «роман» с церковью. Хотя серьезные ученые возражали против опоры на религию. Бонапарт проявил ум, узрев в священниках тонких «агентов консульского режима» (таково происхождение и этого «исторического лобызания»). Наполеон рассматривал область веры как одно из полей сражений. Тем более, что вскоре обозначилось стремление церковников захватить место, отводимое образованию. Острее стали разногласия между светской и духовной школами. Церковь постаралась прибрать к рукам не только начальную, но среднюю и высшую школу (когда министром был Фонтен). Церковники повалили валом в школьные аудитории. Стоило ли десяткам и сотням светлейших голов воевать против явных предрассудков религии и священнослужителей, дабы в очередной раз пасть их жертвой?! Энциклопедист П. Гольбах писал: «Функция священнослужителей на этом свете – твердить нам о том свете, преследовать разум, изобретать и преподносить нелепые сказки, выводить из себя тех, кто отказывается им верить, и получать хорошее вознаграждение за свои великие услуги человечеству».[620] Наполеон уроки энциклопедистов помнил, стараясь держать церковь на некоторой дистанции. Он говорил: «Передайте магистру Университета, что ему пристало иметь дело с префектами, а не епископами и не превращать народное образование в дело о котериях и происках церковников». Вероятно, ему вспомнился его разговор с Лапласом. Познакомившись с его учением о происхождении солнечной системы, император поинтересовался, почему там ничего о боге. Отвечая Наполеону, великий ученый как нечто само собой разумеющееся заметил: «Je n`avais pas besoin de cette hypothese» («Я не нуждался в этой гипотезе»). Впрочем, он уже давно пришел к выводу, что «бог на стороне больших батальонов». Хотя воодрузив корону, он стал острее нуждаться и в поддержке церкви. После Аустерлица слово «республика» исчезло с фронтонов французских правительственных зданий и официальных бумаг. Его заменило слово «империя».[621] О тех временах впоследствии Стендаль скажет: «Чем больше шитья на мундирах, тем меньше чести».
Император не был обделен талантами. О своих способностях он говорил: «Самое желательное, что сразу выдвигает человека на первое место, это – равновесие ума и таланта с характером и мужеством. Память у меня изумительная. В молодости я знал логарифмы больше чем тридцати-сорока чисел; знал не только имена всех офицеров во всех полках Франции, но и места, где набирались эти части, и где каждая из них отличалась, и даже какого политического духа каждая». Может быть, поэтому он умел находить и использовать таланты.
Одним из таких людей был основатель сравнительной анатомии и палеонтологии Жорж Кювье (1769–1832). Знаменательно, что эти два идеолога катастроф нашли друг друга и почувствовали взаимную симпатию… Перед революцией Кювье жил в Нормандии, где провел восемь лет (1788–1795), занимаясь научными изысканиями. Он вместе с А. Броньяром изучил строение Парижского бассейна (региона), установив в 1810 г. третичную систему. Суть его научных воззрений такова. То, что мы видим ныне на Земле, не может объяснить все, происходившее на ней ранее. Земная оболочка пережила ряд страшных и внезапных катастроф, когда были затоплены целые материки. Тогда гибла фауна и флора. Затем все успокаивалось, приходило в порядок и начинался новый процесс. Последняя катастрофа случилась всего 5–6 тысяч лет назад. Ученого подвергли суровой критике, теория катастроф была низвергнута и осмеяна (видимо, до очередной страшной катастрофы). М. А. Энгельгардт так подвел итоги его научной деятельности: «Научные заслуги Кювье огромны. Две великие отрасли человеческих знаний – сравнительная анатомия и палеонтология – были подняты им в степень науки. И ту, и другую он застал в виде хаотической груды материалов; и ту, и другую оставил в виде строгих и точных наук, с определенными методами исследования, с общими выводами и законами… Он был творцом естественной системы животного царства».[622]
В 1796 г. Кювье избирают членом Академии наук, а в 1800 г. он занимает кафедру сравнительной анатомии в Коллеж де Франс и назначается секретарем Академии наук. Произошло его знакомство с Бонапартом, незадолго перед тем избравшим себя президентом Академии. Кювье произнес речь. Манера говорить ясно и доходчиво понравилась Бонапарту. Известный остряк Дюпон Немур скажет о нем: «Наконец-то у нас есть секретарь, который умеет читать и писать». Кювье назначают одним из 6 всемогущих инспекторов, которым поручено устройство лицеев в провинциальных городах Франции (в Марселе и Бордо). Живой и правильной речи, даже и научных заслуг недостаточно для успешной карьеры государственного чиновника. Чиновник должен быть благонадежен. В этом едва ли не главное достоинство его (если нет других талантов). Кювье был убежденным консерватором. В отношении Великой Французской революции он высказывался негативно (уже при Наполеоне): «Страшное время, когда убийство приняло имя правосудия» (1806); «Ужасный меч, занесеннный над всем, что только выбивалось из общего уровня»; «Бедствия, которым история не знает равных»; «Гибельная эпоха, когда всякая личная заслуга, всякая независимость были ненавистны правительству, когда можно было хвалить только угнетателей родины и их презренных сателлитов». Гибель его коллег Лавуазье и Кондорсе вызвала в нем законный протест. Прогресс человека он напрямую связывал с прогрессом науки и образования. «Дайте школы прежде, чем давать политические права, – говорил он. – Объясняйте гражданам, какие обязанности налагает на них общество; растолкуйте им, что такое политические права, прежде чем давать их. Тогда улучшения будут достигаться без потрясений; каждая новая идея, брошенная в плодоносную почву, успеет дать росток, развиться и созреть, не причиняя судорог общественному организму». Кювье был своего рода последовательным «соглашателем», ибо считал: нужно иметь дело со всяким правительством, смягчая его крайности и глупости. В дальнейшем его назначат членом Государственного Совета (после возвращения Бурбонов). После краха императора Кювье говорил о роли Наполеона иначе (1816): «Наши плательщики податей были бы и богаче, и счастливее, если бы на подобные завоевания (то-есть научные и промышленные) употреблялась хоть одна тысячная доля того, что у них было вырвано, дабы опустошить пол-Европы и поселить в ней ненависть к нам».[623] Однако в годы царствования диктатора почтенный научный муж хвалил и превозносил его изо всех сил.
Насколько это было в его интересах, Наполеон оказывал знаки внимания научным светилам и церкви. Войдя в Германию, наложив на страну огромную контрибуцию, он проявил готовность выделить математику Гауссу солидную сумму (2000 франков). Того назначили директором обсерватории в Геттингене. Однако щепетильный немец не пожелал брать деньги от завоевателя-француза, который ограбил всю Германию. Теплые отношения сложились у Наполеона с Монжем, искренно ему преданным. Сам же властитель, правда, говорил в его адрес: «Монж любит меня, как любовница», – и не упускал случая пококетничать с ним в духе метрессы. В то же время он проявил заметный интерес и глубокое почтение к великому математику и астроному Лапласу, автору «Системы мира». В этой работе Лаплас так говорил о пути ученого: «Успехи в науках создаются только теми истинными философами, в которых мы находим счастливое соединение могучего воображения с большой строгостью в мышлении и тщательностью в опытах и наблюдениях; душу всякого такого философа волнует попеременно то страстное желание угадать причины явлений, то страх ошибиться именно вследствие такого желания». Лаплас обладал твердым, холодным и очень расчетливым умом. Это обстоятельство крайне импонировало императору, который сам был кремень в вопросах дела. Поэтому он даже сделал Лапласа министром внутренних дел, видимо, решив, что с «земной политической механикой» он справится столь же искусно, как и с «Небесной механикой» (которую тот написал и подарил Наполеону). Однако тому не хватило опыта в столь непростом деле, как руководство серьезной политической структурой. В мемуарах, написанных на острове Св. Елены, он, вспоминая о Лапласе, заметил: «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Еще откровеннее звучат следующие слова императора: «Первоклассный геометр, Лаплас вскоре заявил себя администратором менее чем посредственным». Впрочем, это и не мудрено. Ученые, как правило, вынуждены все время работать в системе вероятностей и неопределенностей (кстати, Лаплас являлся автором «Теории вероятностей»), а четкий политик и администратор, напротив, действует в рамках вполне определенных, конкретных явлений и обстоятельств.[624]
Он поддерживал и других ученых (если только считал их дело разумным и прибыльным). В частности, он уполномочил муниципалитет Лиона приобрести вязально-ткацкую машину Жакара, вдвое сокращавшую расходы фабрикантов. Станок стоил тому 15 лет непрерывного труда, но его купили за годовую ренту в 3 тысячи франков. Подписывая декрет, Наполеон скажет: «Вот человек, довольствующийся малым». Если император все же сумел как-то оценить заслуги изобретателя, то массы повели себя по отношению к нему как невежественные дикари. За это новшество рабочие Лиона чуть его не утопили, назвав изменником. Однако со временем ему был возвигнут памятник. Тиссандье писал: «Станок системы Жакара произвел переворот в ткацком деле, упрочил фабрикацию шелковых материй в Лионе и открыл этому городу источник мануфактурного богатства. Однако не здесь только промышленность обязана глубокой благодарностью Жакару, но также и в Руане, в С. Кантене, Эльбефе, Седане, Манчестере, Берлине, Москве, С. – Петербурге, в Америке, Индии и даже в Китае».[625]
Хотя порой и Наполеону изменял его знаменитый глазомер. Одним из самых известных примеров близорукости Бонапарта стала история с изобретателем Р. Фултоном. Как известно, тот построил паровое судно, продемонстрировав его 9 августа 1803 г. на Сене. В числе зрителей были не только простые люди, но и делегаты Академии наук (Бугенвиль, Боссю, Карно, Перье). Однако напрасно изобретатель призывал всемогущего диктатора обратить внимание на свое детище. Тот относился к Фултону как к авантюристу и шарлатану. Вот как описывал маршал Мармон в «Мемуарах» эту историю: «Американец Фултон… предложил применить к мореплаванию паровую машину, как наиболее могущественный из всех известных нам двигателей. Бонапарт, бывший против всяких нововведений вследствие своих предрассудков, отклонил предложение Фултона. Это отвращение ко всему новому обуславливалось его воспитанием… Но благоразумная сдержанность – говоря мимоходом – не должна переходить в презрение к улучшениям и усовершенствованиям. Фултон продолжал настаивать на дозволении ему сделать опыты и показать результаты того, что он называл своим изобретением. Первый консул считал Фултона шарлатаном и не хотел ничего слышать. Два раза я пытался разубедить в этом Бонапарта, но безуспешно… невозможно и определить, что случилось бы, если бы только удалось изменить его взгляды… Фултона послал нам добрый гений Франции. Не послушавшись его голоса, первый консул выпустил из рук свое счастье». А всего четыре года спустя использование пароходов стало реальностью.
Наполеоновские войска в Египте.
Совершенно особая статья – колониально-захватнические авантюры Наполеона. В их числе и поход в Египет, который был предпринят им для создания плацдарма с целью захвата Индии и Востока. Наполеон, правда, организовал типографию в Египте, где печатались книги на восточных языках. Он даже привез из Франции ориенталистов, но способности ученых использовались скорее для оправдания агрессии. Египетских шейхов заставляли писать письма турецкому султану, доказывая, что они (французы) являются мусульманами. Император облачался в турецкий халат и рассылал в войска декреты (где были, впрочем, и разумные мысли): «Римские легионы покровительствовали всем религиям. Вы встретите здесь обычаи, отличающиеся от европейских: привыкайте к ним». Обращаясь к народам Египта, он убеждал население, что чтит Коран и Аллаха, но клеймит «тиранство мамелюков». Вскоре он продемонстрировал свой «гуманизм» и «либерализм»: восстание обездоленных жителей Каира было им безжалостно подавлено. Бесспорно, битва при пирамидах представляла собой внушительное и эффектное сценическое действо, как и посещение императором зачумленных солдат своей армии в Яффе. Куда более страшная «чума» поджидала французские войска, которые после поражения у Абукира пали духом и стали заниматься грабежом.
Что воочию представляли собой действия там оккупационных французских войск, хорошо известно из воспоминаний мемуаристов. Один из историков так описывал египетский погром, в частности, разгром и осквернение знаменитой мечети ал-Азхар, где располагалась высшая богословская школа (основана еще в X веке). Сначала они открыли огонь из пушек по жилым кварталам. «После очередной ночной стражи… французы ворвались в город и, как поток, не встречая никакого сопротивления, подобно дьявольскому войску, прошли по переулкам и улицам, разрушая все преграды на своем пути… Послав вперед группы пеших и конных, французы проникли в мечеть ал-Азхар, причем въехали туда верхом, а пехота ворвалась, как дикие козы. Они рассыпались по всему зданию мечети и по двору и привязывали лошадей своих к кибла (к нише, указывающей сторону поклонения молящихся во время молитвы – к Мекке, Каабе)… Они буйствовали в галереях и проходах, били лампы и светильники, ломали шкафы студентов и писцов, грабили все, что находили из вещей, посуды и ценностей, спрятанных в шкафах и хранилищах. Разорвав книги и свитки Корана, они разбрасывали обрывки по полу и топтали их ногами. Они всячески оскверняли мечеть: испражнялись, мочились, сморкались, пили вино, били посуду и бросали все во двор и в сторону, а если встречали кого-нибудь, то раздевали и отнимали одежду». Французы полностью снесли мечеть, расположенную около моста Инбабат ар-Римма, разрушили мечеть ал-Макасс и мечеть ал-Казруни, вырубили деревья и снесли множество домов. Так вела себя в покоренной стране одна из наиболее культурных наций. Как могут относиться сыны ислама к такой «просвещенной Европе»! Вот истинная цена миссии белого человека, воспетой Киплингом.[626]
Еще более обнаженно и неприкрыто предстал «свободолюбивый дух» крупной буржуазии в тайных указах и распоряжениях правительства Наполеона. После Французской революции негры и мулаты Сан-Доминго (колонии Франции) наивно полагали, что теперь и у них есть право на свободу и равенство. Они послали в Париж делегацию Национальной ассамблеи Сан-Доминго (60 представителей черного и цветного населения). Вскоре на острове разразилась революция (1791). Повстанцы-негры вышвырнули с острова англичан, которых позвали на помощь французские плантаторы. Борьбу возглавил черный генерал Лувертюр. Его вдохновили идеи аббата Рейна-ля. Он говорил собратьям-повстанцам: «Помните правду нашего учения: цвет кожи ничего не значит, когда мысль свободна и дух независим».
Как же ответила Франция? Она предала своих черных братьев, срубив «древо негрской свободы». В романе А. Виноградова «Черный консул» рассказывается об этих событиях. Лидер восстания Туссен Лувертюр был схвачен и погиб в застенках. В романе есть сцена, где морской и колониальный министр Франции Декре требует от генерал-капитана Леклерка восстановить на Гаити рабство. Он доносит до коменданта Сан-Доминго (1802) указания наполеоновского правительства: «Я имею передать вам намерения и распоряжения правительства. В том, что касается возврата к прежнему режиму черных, естественно, вы проявите некоторую дипломатическую сметливость и политическую осторожность, в силу кровавой борьбы Правительство говорит вам: не спешите с немедленным свержением ложного кумира свободы, во имя которого, увы, в самой Франции пролито столько напрасной крови. Это значило бы поспешностью вызвать войну… Эти условия полевого и военного положения должны постепенно и неуклонно переходить в позитивное рабство цветных и черных людей ваших колоний… Тогда наступит момент вернуть черных и цветных людей в их естественные условия, от которых они были освобождены только в силу роковой случайности. Что касается торговли неграми, то она более чем когда-либо необходима в целях рекрутирования рабочей силы для мастерских и предприятий после того огромного опустошения, которое было произведено в них десятилетними волнениями, в силу чего свободные места остались незамещенными. Итак, ваша цель в Сан-Доминго – поощрять негроторговлю, бесспорно поощряя покупателя уверением в том, что его права покупщика негрской силы ограждены законами Французской республики».[627] Позор тех, кто предал «черную республику», нельзя забыть.
Экспедиции и войны Бонапарта преследовали конкретные, земные, прагматические цели. В основе их – стремление достигнуть военного, политического и экономического господства Франции в Европе и мире. И тут он развил кипучую деятельность. Историк отмечал, что результатом наполеоновских побед стало создание системы «глубоко эшелонированной обороны».
Ф. Туссен-Лувертюр.
Эта рациональная и жесткая система ставила целью экономическое удушение Британии. Наполеон старался поддержать и собственную промышленность, отгородив Францию от остальной Европы высокими таможенными барьерами. Но главным тут было иное. Жизни миллионов людей поставлены на карту во имя достижения призрачных целей мировой империи. Он фактически действует с помощью дипломатии пушек. В традиционной дипломатии его методой были ультимативные требования. Еще будучи первым консулом, он заявил, что не уступит ни одного из своих островных владений в Америке. Он не отдаст не только Тобаго, но «даже какую-нибудь скалу, если бы такая существовала и на ней имелась бы всего лишь одна деревня со 100 жителями». Сдача хоть маленького островка означала бы «бесчестье для французской нации».
Это в России продажные дипломаты и вожди готовы с легкостью сдавать гряды островов, полуостровов и даже целые регионы из-за желания понравиться Европе, Азии и Америке.
Наполеон бросал вызов не только англичанам или русским, но и… самому Александру Македонскому. Вот как описывал его глобальные прожекты покорения мира известный русский писатель В. Н. Ганичев: «Но у Наполеона были более грандиозные планы. Он не со многими делился ими. Египет – это древнее царство Птоломеев – он покорит. Молниеносный поход в Левант и Сирию, груды золота и склонившиеся страны, обращение к порабощенной Индии – и его победоносное войско проходит стремительно путь до Нила. А затем возвращение в Европу, он утверждается в Константинополе. Двумя ногами он станет в мире – в Азии и Европе. Все уже забыли о победах Македонского, а он напомнит».[628]
Надо ли говорить, что для многих народов последствия таких войн были трагичны. Однако и сам французский народ понес немалые потери. Континентальная блокада привела к недостатку и дороговизне сырья. Разразился тяжелейший кризис в промышленности и сельском хозяйстве. Оборот внешней торговли за пять лет до 1811 г. снизился в 1,5 раза. Хлебный неурожай 1811 г. ухудшил и без того неважное положение сельского хозяйства. Цены на хлеб росли стремительно. К 1812 г. в ряде местностей, пострадавших от неурожая, население питалось уже отрубями и лебедой. В промышленности останавливались многие заводы и фабрики. Росла безработица. Если в Париже, во имя поддержания спокойствия, давали пособия булочникам, населению раздавали даровой хлеб и устраивались дешевые столовые, то это во многом благодаря жесткой политике Наполеона. «Собственники, – говорил император, – никогда не бывают в согласии с народом, и первая обязанность государя, не слушая их софизмов, стать на сторону народа». По крайней мере он понимал, что главным ресурсом в стране является народ, а не капитал. Правда, он и пользовался этим «ресурсом» без всякого колебания и сожаления. Количество призываемых на военную службу росло с каждым годом: в 1811 году призвано уже 300 тысяч человек, а в 1812 г. общее число рекрутов составило 427 тысяч человек. Призывали даже тех, кто еще не достиг призывного возраста (в 1811 г. число «уклонистов» от призыва достигло 80 тысяч). Особенно непопрулярны были наборы на «войну против русских» (война 1812 года). По словам префекта полиции Паскье, «если недовольство, вызывавшееся ими, не доходило до открытого бунта, то, во всяком случае, они во всех классах населения вызывали глубокую скорбь». Однако реальное положение дел прикрывалось множеством балов, маскарадов, спектаклей. Но главный «спектакль» должен был разыграться на полях России, хотя Наполеон демагогически и пытался уверить своих приближенных: «Огромную услугу оказал бы мне тот, кто избавил бы меня от этой войны».[629]
О том, как объединенные рати Наполеона вели себя в некоторых европейских странах, писал А. С. Пушкин в известном стихотворении «Бонапарт и черногорцы»:
Черногорцы? Что такое? … это племя злое, Не боится наших сил? Так раскаятся ж нахалы: Объявить их старшинам, Чтобы ружья и кинжалы Все несли к моим ногам». Вот он шлет на нас пехоту С сотней пушек и мортир, И своих мамлюков роту, И косматых кирасир. Нам сдаваться нет охоты, Черногорцы таковы! Для коней и для пехоты Камни есть у нас и рвы… Мы засели в наши норы И гостей незваных ждем, Все они вступили в горы, Истребляя всё кругом…. «………………………….» Дружным залпом отвечали Мы французам. – «Это что? Удивясь, они сказали, Эхо, что ли?» Нет, не то! Их полковник повалился. С ним сто двадцать человек. Весь отряд его смутился, Кто, как мог, пустился в бег. И французы ненавидят С той поры наш вольный край, И краснеют, коль завидят Шапку нашу невзначай.[630]Полчища «Наплюйона» (так величали его в России) принесли немало страданий и русскому народу… Его войска разграбили и сожгли дотла Москву. В период почти поголовного увлечения Наполеоном в Европе, лучше многих других понял его внутреннюю суть российский император Александр I. Ещё в 1802 г., после того как Наполеон объявил себя пожизненным консулом, царь пишет Лагарпу: «Я совершенно переменил, так же как и Вы, мой дорогой, мнение о первом консуле. Начиная с момента установления его пожизненного консульства, пелена спала: с этих пор дела идут всё хуже и хуже. Он начал с того, что сам лишил себя наибольшей славы, которая может выпасть на долю человека. Единственно, что ему оставалось, доказать, что действовал он без всякой личной выгоды, только ради счастья и славы своей родины, и оставаться верным Конституции, которой он сам поклялся передать через десять лет свою власть. Вместо этого он предпочёл по-обезьяньи скопировать у себя обычаи королевских дворов, нарушая тем самым Конституцию своей страны. Сейчас это один из самыз великих тиранов, которых когда-либо производила история».[631] Иные французские историки пытались возложить вину за вторжение войск Наполеона в Россию на самих русских. А. Мале, утверждал, что «то была хитрость России выступить с инициативой мер, за которыми, собственно, и последовала война». Далее он продолжал: «Александр I повернулся против Наполеона с 1810 г., почти столь же внезапно как он повернулся к нему в 1807 г. Среди причин разрыва союза между ними можно назвать: враждебность русской аристократии к Франции; потери, которые приходилось нести все той же знати в результате континентальной блокады; и наконец, в особенности характер и амбициии самого русского царя. Тильзитский договор возмутил и шокировал русское дворянство, ибо эти дворяне, относившиеся к крестьянам как к рабам, восприняли с ненавистью тот дух свободы, что был рожден Великой Французской революцией. Надо признать, что и первый французский посол, которого Наполеон направил в Петербург, плохо подходил для такой роли. Он нашел тут холодный прием: никто из владетельных особ даже не желал приглашать его в дом. В церквях он публично молился против французов».[632] Всегда находятся те, кто готов сделать из русских самых закоренелых злодеев. Когда же сами попадают впросак, просят о помощи.
В. В. Верещагин. В штыки! Ура! Ура!
Говоря о битве русских против французов (1812), Ф. Глинка подчеркивал, что те руководствуются корыстными и эгоистичными побуждениями: загрести им обещанные сокровища, добраться до цели и вернуться с награбленным. Русские же думают об ином: как заслонить собою «сердце России и мать городов», как отстоять родную землю и спасти поруганные алтари, сохранить прах отцов и матерей. Все оружие Европы стремится столкнуть русских (как нынче – сербов) в небытие. Однако этого не сможет сделать никто благодаря великому мужеству и самопожертвованию великого народа, несмотря на жертвы. «В отечественной войне и люди – ничто! Кровь льется, как вода: никто не щадит и не жалеет ее!»[633] Чем закончился этот всеевропейский, страшный поход в Россию, хорошо известно… Французы были изгнаны, а русские взяли Париж.
Автор «Солдатской песни» (Иван Кованько), напечатанной в «Сыне Отечества» (сентябрь 1812 г.), оказался полнейшим провидцем, когда написал в дерзком стихотворении (за него даже цензора уволили) чистую правду об этом нашествии:
Хоть Москва в руках французов, Это, право, не беда! Наш фельдмаршал, князь Кутузов, Их на смерть впустил туда. Вспомним, братцы, что поляки Встарь бывали также в ней: Но не жирны кулебяки Ели кошек и мышей… Свету целому известно, Как платили мы долги: И теперь получат честно За Москву платеж враги. Побывать в столице – слава! Но умеем мы отмщать: Знает крепко то Варшава, И Париж то будет знать.[634]Русские войска, вступив на землю Европы и Франции в 1815 г., вели себя там несравненно гуманнее и цивилизованнее. Барклай-де-Толли 18 июня 1815 г. писал генералу Сабанееву: «Не могу довольно возблагодарить господ воинских начальников за то величайшее удовольствие, которое мне доставляют сведения приватные и многие формальные отзывы от начальства в Германии о скромном и тихом поведении войск наших во всех тех местах, чрез которые они по сие время проходили». После подписания трактата о первом парижском мире (1814) войска союзных держав очистили территорию Франции. Наши войска в богатой Европе и Франции, к тому времени ограбившей полмира (не будем забывать об этом), вели себя достойно. Хотя материальное положение победившей русской армии было нелегким.
Как отмечал полковник А. С. Лыкошин в статье «Русская армия во Франции», в возвратившихся из Франции полках мундиры и панталоны были «испещрены разноцветными заплатами, иногда даже кожаными, так что трудно было определить цвет сукна; шинели пришли в ветхость, и их не хватало по числу людей; кивера были всевозможных форм, русских и иностранных, ранцевые ремни заменялись веревками; ружья были всевозможных систем – русских, прусских, английских и других, причем их не хватало на весь штатный состав нижних чинов»… Впрочем, после краткого ее пребывания во Франции ситуация существенным образом изменилась для тех, кто оставался там (даже на малое время). Русские войска увидели, что европейская жизнь и в самом деле не так уж плоха. Зачастую она была куда как лучше, чем в их любезном отечестве. Любопытные признания находим в письме домой русского офицера Вепрейского (август 1815 г.): «Наша армия в таком теперь виде, в каком никогда не бывала: полки комплектные, одеты чудесно, все в тонких мундирах; люди разъелись так, что у многих мундиры не сходятся; больных почти вовсе нет; все сделалось ловко, без палок, редко слышно, чтобы случилась какая-нибудь шалость; солдаты всем довольны и начинают чувствовать, что они значат, и гордятся своим состоянием; спросите теперь у 200 тысяч русских, которые находятся здесь, всякий из них согласится нюхать лучше дым французский, нежели русский; что-то будет, как назад пойдем в благословенную Россию!»[635]
Франция при императоре Наполеоне походила на деспотическое царство. Диктатор похож на маркиза де Сада, чьим фантасмагориям вынуждены были внимать народы. Вот как оценивал это нашествие упомянутый Шатобриан: «Ряд наполеоновских войн, побед и поражений могут составить обширную Илиаду, поход в Россию – потрясающую трагедию, с которою всякая другая трагедия, вылившаяся из под пера поэта, не может сравниться». Однако тема «Наполеон в России» – предмет уже иного повествования, как и совсем другой книги.
Мы видели, во что обошлась человечеству наполеоновская «легенда». Удивительно, но этот палач стал героем многих произведений литературы и искусства. Бетховен создал в его честь «Героическую» симфонию (впрочем, затем порвал своё посвящение). Наполеон и в эпицентре поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш» («За нас, – все хором восклицают, – // Сам бог: с Наполеоном – он, // А с нами – сам Наполеон!»). В Польше завоевателя превозносили, как нигде в мире, видя в нем смертельного врага России и «верного друга Польши». Мицкевич проповедывал культ Наполеона в своих лекциях в Коллеж де Франс. В 1849 г. он писал в «La tribune des peuples»: «Под наполеоновской идеей следует понимать воплощение французского принципа, борящегося с русским принципом (оба они стремятся к тому, чтобы овладеть Европой)! Бонапартизм же, наоборот, это – стремление использовать имя в интересах одного человека, одной семьи, то же самое, что орлеанизм или легитимизм». Наполеон в глазах Мицкевича это – «революция, ставшая правильной властью. Это социальная идея, ставшая правительством. Наполеон, это тысяча еще других вещей, которые народ осуществит, а нас заставит объяснить». За этим именем, по мысли польского поэта, скрываются те начала, которые «народ боготворил в лице Наполеона» (вера в великий народ, в принципы, которые этот народ провозгласил, единство слова и дела и т. д.). Как видим, иные узрели в нем мессию, призванного преобразить мир. Однако тот никогда не обещал полякам возродить Польшу, презрительно бросая в их адрес: «Я посмотрю, достойны ли вы быть нацией». Не помогли даже чары и прелести 18-летней Марии Валевской, которая несколько недель кряду в уединенном прусском замке Финкенштейн отдавала «сиру» всю себя, страстно защищая «будущую независимость Польши» (1807).[636] Хотя и сам полководец влюбился в прекрасную польку, удовлетворенно заметив, что если Бонапарту женщины порой отказывали, то Наполеону никогда. Плодом этой необузданной страсти стал не только сын, будущий принц Валевский, но и независимость части Польши – Великого герцогства Варшавского.
Мария Валевская – возлюбленная Наполеона.
Кто только не прославлял Бонапарта (Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шелли, Беранже, Гейне и т. д.). Даже испанский художник С. Дали скажет, что в 7 лет он мечтал быть Наполеоном. Оставим великим их заблуждения. Мы же видим за этой мифологической фигурой призрак Смерти. С приходом Наполеона народы обрели не вольность и свободу, не расцвет наук, культуры и образования, а невиданные муки и страдания. Куда ближе к истинной оценке его роли вердикт, вынесенный ему главами европейских правительств (1815 г.). В нем он назван врагом человечества и объявлен вне закона.[637] Кстати, два признанных гиганта – Бальзак и Делакруа, так и не снизошли до императора: нет Наполеона ни на страницах «Человеческой комедии», ни на полотнах Делакруа (тот не закончил ни одну из посвященных ему картин). Правда, Бальзак упоминает вскользь о нем на страницах романа «Темное дело», где пишет о «его неотразимом обаянии» (тогда еще консула) в глазах французской публики… Что же касается «властителя дум» Шатобриана, тот и вовсе люто ненавидел Наполеона, называя его ничтожеством «под маской Цезаря и Александра» (позже он скажет о нем так же, но несколько в более благоприятном смысле: в статье «Бонапарт и Вашингтон»). Для Виктора Гюго корсиканец – это «божий бич», который послан на землю небом. Писатель говорил как в 7 лет увидел Наполеона во время торжеств в Пантеоне: тот поразил его своим видом – «как бог из бронзы» (он даже посвятит ему романтическое стихотворение). Свои детские воспоминания об императоре оставил и поэт Г. Гейне: лицо у Бонапарта мраморного цвета, как на греческих и римских бюстах, глаза «ясные, как небо, они могли читать в сердцах человеческих», на челе «витали духи будущих битв»; позже оценки иные – «вульгарная физиономия». Известно, что массы и личности никогда не прощают кумирам краха их иллюзий.
К корсиканцу обращал свои бессмертные строки и Александр Сергеевич Пушкин:
О ты, чьей памятью кровавой Мир долго, долго будет полн, Приосенен твоею славой, Почий среди пустынных волн… Великолепная могила! Над урной, где твой прах лежит, Народов ненависть почила И луч бессмертия горит.Поэт не вполне прав: ненависть еще не скоро почила. Тяжкие последствия вторжения наполеоновских полчищ долго еще будут отзываться на судьбах народов. Видно, губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин был недалек от истины, заявляя в одном из своих писем: «Стоило ли жизни близ двух миллионов людей, потрясений всех властей и произведения непонятных варварств и безбожия, чтобы сделать из пехотного капитана Короля» (императора Наполеона). Ясное дело, не стоило. Однако возникает вопрос: «Мог ли вообще Наполеон стать продолжателем великого движения мысли, начатого философами Европы в середине XVIII века?» Выразим некоторое сомнение. Не стоит ждать от генералов ренессансов. Мозги генералов западного мира устроены иначе. Писатель Мопассан был в чем-то прав, сказав: «Военная каста – это бич нашего мира. Мы боремся с природой, с невежеством, с препятствиями всех видов, чтобы облегчить тяжелое бремя нашей злосчастной жизни. Благодетели человеческого рода, ученые, посвящают всю свою жизнь, отдают весь свой труд, изыскивают средства, которые могли бы помочь, спасти, облегчить наши страдания. Они работают настойчиво и плодотворно, накопляют открытия, расширяют человеческий кругозор, раздвигают границы науки, ежечасно одаривают человеческий разум новыми сокровищами знания, ежечасно увеличивают счастье, изобилие, силу своего отечества. Но вот грянула война. В полгода генералы разрушают все, что создано человеческим гением за 20 лет упорного труда».[638]
Пока есть хотя бы малейшая возможность прибегнуть к разуму и знаниям для решения насущнейших задач государства, народа, следует действовать в рамках законности, согласия и мира. Порядок наилучшего свойства – результат сотрудничества, взаимопонимания спорящих и конфликтующих сторон. Если же этого нет, если в социуме власть каким-то образом захватили люди безответственные, а наверху оказались воры, бандиты, демагоги и невежды, дело худо. Тогда обстоятельства могут потребовать чрезвычайной власти и диктатуры. Конечно, есть определенный резон в словах С. Сигеле, который пишет («Преступная толпа»): «Всякая диктатура по необходимости приводит к деспотизму и несправедливости, так как тот, кто имеет возможность сделать все, на все решается. Это считается психологическим законом». Возможно, и так. Однако это лишь часть правды. А надо бы сказать и о другом. Иначе мы намеренно искажаем картину. Дело в том, что под личиной «демократий» сегодня фактически скрывается диктатура охлок-ратов и плутократов, власть верхов, кучки «жестокой, неукротимой, потерявшей всякое чувство справедливости, находящейся в состоянии буйного помешательства».[639] По сути, это – преступная банда. Чтобы обуздать ее, нужен умный, волевой, смелый диктатор. Можно сколько угодно осуждать диктатуру армии, но порой её помощь необходима. Только её мощь может раздавить бандитов и обуздать воров.
Твердый порядок может быть выходом из тупика. Она привлекает не только поклонников сильной власти, но и простой народ. Разумеется, власть военных должна быть заменена после того, как ситуация в стране выправится. Но возможна ли сильная власть при демократии? Лишь при условии, если речь идет об истинно народной демократии, а не о плутократии, нагло шествующей в ее наряде. И все же не исключаю, что в ряде случаев для иных стран (Россия в их числе) порой абсолютно необходима умная и жесткая Диктатура. Иногда народ склоняется к Диктатуре, как беспризорный ребёнок, брошенный непутёвыми и подлыми родителями. Он готов прижаться к первой же попавшейся на пути груди (того, кто проявит хотя бы минимальную заботу и знаки внимания). К сожалению, диктатура не бывает без издержек. Следует помнить, что и крупная буржуазия хочет иметь своего генерала, хотя выражается не столь откровенно как Сийес, заявивший в 1799 г.: «Мне нужна шпага!» Что изменилось в 1999? Ничего! Если стране повезёт и во главе её встанет одарённая и многогранная личность, она последует советам умнейших ученых и энциклопедистов. Такие просвещенные диктаторы редки. Иной же приведет народ не к процветанию, а к бойне, к трагедии вселенского масштаба, к удушению свобод, к экономическому и промышленному спаду, к гибели миллионов. Храни и нас Господь от такого правителя («героя дивного»).
Тем более что в России кандидатов в Наполеоны всегда хватало с избытком. В одной из бесед Ф. М. Достоевский даже произнес целую речь по этому поводу. Он говорил, что в Петербурге среди литераторов была такая поговорка, что нет, дескать, ни одного поручика, который не мечтал бы выйти в Наполеоны. Таков пушкинский Германн, у которого «наполеоновский профиль». И это вовсе не случайно. Германн – это российский Бонапарт, нетерпеливо ждущий собственного Тулона. Мало ли таких Бонапартов шаталось (и шатается) не только по столицам, но и по всем самым глухим русским захолустьям! Такие есть в Саратове и Сибири. «Мой друг литератор Бутков, выходец из саратовских мещан и большой практический философ, как-то в одном разговоре чрезвычайно тонко заметил, что после двенадцатого года в России миллионы разумных голов закружились от мечтаний о Наполеоне».[640]
После краха, на острове Св. Елены, он уверял своего друга Лас Казаса, что мечтал выработать единый общеевропейский кодекс, создать европейский кассационный суд, унифицировать вооруженные силы, установить на континенте единую денежную систему и систему мер и весов и т. п. «Европа, – говорил он, – действительно превратилась бы в единый народ, и в своих путешествиях каждый везде находился бы на своей великой общей родине». В его планы входило создание «семьи европейских народов», которая представляла бы собой организацию «типа американского конгресса или судебной палаты греческих амфиктионов». Во главе единой и многонациональной Европы должен был бы стоять император Наполеон.
Что представляла бы собой эта объединенная Европа, построенная на конфедеративной основе? Для русских сегодня нелишне заглянуть за ширму громких рассуждений о «едином европейском доме». Наполеон был довольно откровенен, рассказывая о своих замыслах и планах. В 1809 г. Меттерних так обрисовал картину будущей Европы, как она тогда представлялась императору: «Европа, охваченная общей реформой. Центральное, обладающее чрезмерной властью правительство оказывает давление на слабых подданных, озабоченных только тем, чтобы влачить жалкое существование, скованное цепями. Испания покорена, Оттоманская Порта выдворена за Босфор, границы Великой Империи простираются от Балтики до Черного моря; Россия… будет оттеснена в Азию».[641] Сегодня мы воочию видим, как натовские наполеоны (кларки, робинсоны, куки, саланы) воплощают разбойничий план в Югославии. После этого они, нейтрализовав армию с помощью «пятой колонны» внутри нашей страны (пользуясь безвольностью и трусливостью Кремля), примутся и за Россию. Они сделают то, что сделал бы Наполеон в 1812 г., когда, угрожая России и Александру I ужасными условиями будущего передела мира («возьму Польшу и Смоленские земли»), говорил: «Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону Востока». Он попытался практически воплотить чудовищный план2.[642] Однако тайный план жив.
К слову сказать, непосредственным результатом агрессии Наполеона стала вовсе не единая Европа. Берусь утверждать, что именно «покоритель мира» разрушил те достаточно тонкие и деликатные связи, которые налаживались веками между народами. Он ускорил движение стран в сторону национализма (в сторону дальнейших конфликтов и мировых войн). Это важнейшее следствие наполеоновских войн подметил Н. Я. Данилевский: «Толчок, который довел национальный вопрос до сознания европейских народов, дан был Наполеоном I. Побуждаемый как честолюбием, так и роковым положением, в которое он был поставлен, от победы к победе, дошел он до восстановления империи Карла Великого. Но через 1000 лет после Карла народы, входившие в состав его монархии, уже вполне обособились в национальные группы. Те принципы объединения, которыми обладал Карл, уже давно перестали существовать; новый же принцип политической свободы, будто бы представляемый Наполеоном, можно разве только в шутку подкладывать в основу здания, воздвигавшегося французским императором. Следовательно, вместо нового объединения народов Европы, предприятия Наполеона могли только заставить их сильнее почувствовать свои национальные различия и свои национальные сродства». Это мы увидим в Испании, Германии и Сербии.[643]
Европа в силу ряда причин, о которых мы расскажем в другом месте, привыкла видеть в России одно из двух: или некое чудище, или объект колонизации. Десятки и сотни поколений европейцев воспитаны на мысли, что Европа должна противостоять российской Евразии. Когда Наполеон замышлял свой поход в Россию, он был твердо убежден, что не мирное включение славян в «европейский дом», а покорение «этих полуазиатов» даст стимул и основание для создания обширной европейской системы, соответствующей духу столетия и служащей «прогрессу цивилизации» («Дополнительный акт к Конституции империи», опубликованный в период «Ста дней», преамбулу к которому, якобы, написал сам император).
Какую трагедию заключает История в том, что она отдает себя в руки таких вот чудовищ. Именно он превратил Францию в милитаризованное государство (Э. Людвиг). Позже после страшного поражения в России он вновь начнет набирать армию. Меттерних, увидев этих молодых людей, выскажет Наполеону упрек: «А кого вы будете набирать завтра, детей?» Тот в дикой ярости бросил ему под ноги шляпу и выкрикнул с пеной на устах, словно бешеный: «Вы – не солдат и не знаете, что такое ощущение презрения к человеческой жизни».
Разрушение всемирной монархии (конец всемирного жандарма неминуем). Карикатура И. И. Теребенева.
Знатокам рода человеческого давно следовало бы обратить внимание на ту поистине страшную роль, которую сыграл Наполеон в судьбах подрастающего поколения. Иных правителей лучше было бы усыпить еще в колыбели: столь трагичны плоды их правления и царствования для народов (особенно, для молодежи!). Вот и Наполеон сделал войну главным занятием для двух-трех поколений. Это ли не «идеал правления»?! Сколько же убийц и нравственных уродов появилось на свет в итоге воцарения этого «самодура в треуголке»!
Увы, пока существует род людской, сражения будут уносить человеческие жизни. Ведь правителям и кланам всегда не хватает власти, лишней земли, короны, ордена, звания, титула, денег, какого-то «нефтяного и газового Эльдорадо». Пока это так, властителям народов всегда потребуются герои: солдаты, генералы, маршалы… Вот и Наполеон громкими победами также во многом обязан своим маршалам. Имена их известны: Бернадот, Даву, Дюрок, Ней, Массена, Мюрат, Ланн и другие. Иные французские историки даже утверждают, что «история института маршалов Франции есть история самой Франции, причем в ее самом благородном виде». В судьбах воинов есть все… Но так как война штука страшная и беспощадная, то благородство тут чаще плетется в самом хвосте добродетелей. С другой стороны, армия – это и есть народ. В ее жизни и смерти спрессованы все человеческие качества, эмоции, страсти, страдания (как скажет тот же А. де Виньи: «Армия есть нация в Нации»).
Подумать только, пару поколений назад все бредили науками и книгами! Но вот печальный финал, неизбежный, когда власть попадает к военным и империалистам! О том, что происходило тогда с французской молодежью, написал в своей исповеди и Альфред де Виньи («Неволя и величие солдата»)… Перед нами предстаёт абсолютно искареженное поколение, с извращенным сознанием и ложными идеалами. Эти ребята не желали внимать уже ничему, кроме гула пушек и армейских труб! Граф де Виньи, наследник старинного аристократического рода, гордого своими военными традициями, честно и открыто говорит о настроениях молодых людей во времена наполеоновской империи: «В последние годы Империи я был легкомысленным лицеистом. Война все перевернула в лицее, барабанный бой заглушал для меня голос наставников, а таинственный язык книг казался нам бездушной и нудной болтовней. Логарифмы и тропы были в наших глазах лишь ступенями, ведущими к звезде Почетного Легиона, которая нам, детям, представлялась самой прекрасной из всех небесных звезд. Ни одна рассудительная мысль не могла надолго овладеть нашими умами, взбудораженными непрерывным громом пушечной пальбы и гулом колоколов, которые отзванивали Te Deum! Стоило одному из наших братьев, недавно выпущенному из лицея, появиться среди нас в гусарском доломане и с рукой на перевязи, как мы тотчас же стыдились наших книг и швыряли их в лицо учителям. Да и сами учителя без устали читали нам бюллетени Великой армии и наши возгласы «Да здравствует император!» прерывали толкование текстов Тацита и Платона. Наши наставники походили на герольдов, наши классы – на казармы; наши рекреации напоминали маневры, а экзамены – войсковые смотры».[644] Какие же подвиги совершили во имя Франции ее маршалы? Какова их судьба? Писатель-романтик Новалис изрек афоризм: «Характер – это судьба». Их судьбы и характеры довольно любопытны и героичны.
Любители поэзии наверняка вспомнят прекрасное стихотворение М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль (Из Зейдлица)», где есть и такие строки, посвященные её маршалам:
…И в час его грустной кончины, В полночь, как свершается год, К высокому берегу тихо Воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, Очнувшись, является вдруг; На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук. Скрестивши могучие руки, Главу опустивши на грудь, Идет и к рулю он садится И быстро пускается в путь. Несется он к Франции милой, Где славу оставил и трон, Оставил наследника-сына И старую гвардию он. И только что землю родную Завидит во мраке ночном, Опять его сердце трепещет И очи пылают огнем. На берег большими шагами Он смело и прямо идет, Соратников громко он кличет И маршалов грозно зовет. Но спят усачи-гренадеры В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат: Иные погибли в бою, Другие ему изменили И продали шпагу свою…[645]Маршалы Наполеона – дети своего народа. Массена – самый крупный военный талант. Мюрат – самый храбрый и элегантный. Бернадот – самый удачливый из маршалов. Можно и дальше подбирать сравнения и эпитеты. Однако давайте уделим им, героям Франции, хотя бы пару строк. Их могилы и памятники далеко, а образы тут вот – перед нашими глазами. Всех мы вряд ли сможем описать (Клебер, Ланн, Жубер, Мюрат, Ней, Бернадотт и др.). Жан Батист Бернадот (1763–1844) принадлежал к зажиточной и почтенной семье, в которой немало юристов. После школы он учился на адвоката. Видимо, профессия его не впечатлила, и он пошел в «морскую пехоту» (в Королевский морской полк добровольцем). Прослужив полтора года на Корсике (в родном городе Наполеона Аяччо) и заработав малярию, он ушел в отпуск по болезни. Революцию он встретил на службе в полку, который был расквартирован в Марселе. Получив в 1792 г. чин лейтенанта, он мечтает о гораздо большем. Как скажет о нем Фуше, «честолюбие, несомненно, было его преобладающей страстью». Что показаал Бернадот как военный? Умение воевать, добротный военный профессионализм. В армии главное – дисциплина: «Армия без дисциплины может одержать победу, но не сможет извлечь из нее пользу». Особых военных лавров он не добыл. В те годы Французской республике не везло на полях сражений. Молодого энергичного полковника, отразившего нападение австрийцев у Гизы, заметил комиссар Конвента, прозванный современниками «ангелом смерти» (Сен-Жюст дал ему чин бригадного генерала). Вскоре он получил следующий чин.
Бернадот – в гуще сражений, дружит с генералом Марсо, «львом французской армии». Его и самого называют «богом войны». Однако он не отличается хвастовством и самомнением иных военных, готовых «одним полком» штурмовать Фермопилы. Все обратили внимание на то, что генерал никогда не посылает солдат в бой, очертя голову, не изучив тщательно обстановку. Бернадот лучше помедлит, всё взвесит и десять раз обдумает. Его личное мужество бесспорно. Однако, быть может, главное достоинство командующего в том, насколько он умеет беречь жизнь своих солдат и офицеров. За это его любили больше, чем за громкие победы. Не знаю как для кого, а для меня его прозвище «генерал-плебей» звучит как высшая награда и признание. Знакомство его с Бонапартом было трудным для обоих. Видимо, у них схожие темпераменты. Уровень подготовки войск Бонапарт оценил высоко (и не ошибся). В битвах его солдаты, как и Бернадот, на высоте. Будущий император, хотя и видел в нем соперника, но высоко ценил «гасконского генерал-майора» (тот был родом из Гасконии).
Политические интриги привели к тому, что Бернадота назначают послом в Вену. Начало его дипломатической акции было не очень удачным. Посол повел себя, подобно д`Артаньяну, с гасконским пылом и страстью. Он вывесил трехцветный французский флаг, которые разъяренные венцы сожгли. Женитьба на Дезире Клари ввела его в семейство Бонапарта. В 1799 г. его назначают военным министром. И хотя в этой должности он пробыл недолго, он немало сделал для Франции, говоря: «родившись, так сказать, на войне, воспитанный войною за свободу, я чувствовал, что сам вырастаю среди опасностей и побед».
Особую роль в его судьбе сыграл эпизод, когда войска Бернадота, форсировав Эльбу, захватили гнездо Гогенцоллернов – Бранденбург. Тут-то ему в плен и сдались воевавшие в армии Блюхера 1,5 тысячи шведов. Бернадот любезно обошелся с их командиром (Г. Мернером) и его солдатами. Вскоре о благородном французском маршале «узнала вся Швеция». Несмотря на сложные отношения с Наполеоном, тот после Тильзита все же жалует Бернадота (князя Понте-Корво) обширными владениями на территории Польши, Ганновера и т. п. Наполеон, несмотря на все свои недостатки, умел ценить талант своих сподвижников. Говорят, он высоко ценил способности князя, восклицая: «Что за голова!»
Битва в ущелье Дьявола.
В 1810 году сейм шведского риксдага в г. Эребру единогласно голосует за кандидатуру Бернадота в качестве наследника бездетного Карла XIII. Приехав в Швецию, он вышел из католической и принял лютеранскую веру. История распорядилась так, что ему придется трижды сражаться с наполеоновскими маршалами (Гросбеерн, Денневиц, Лейпциг). Он и тут ведет себя осторожно, говоря адьютанту российского императора Александра I о своем нежелании «проливать французскую кровь». Вместо битв с Наполеоном он (в 1814 г.) предпочел напасть на Данию и вынудил ту «уступить» Швеции Норвегию. Бернадот вздумал унаследовать «бесхозную» корону Франции после отречения Наполеона. С этой целью он прибыл в Париж, где возмущенные французы встретили его криками: «Прочь, изменник! Прочь, вероломный!» Об императоре он скажет (после его триумфальных «Ста дней»): «Наполеон – величайший полководец всех времен, самый великий человек из всех когда-либо живших на земле людей, человек более великий, чем Ганнибал, чем Цезарь и даже чем Моисей». Как бы там ни было, а Бернадот оставил по себе добрую память у народа Швеции и в качестве короля Карла XIV Юхана. В старости он вспоминал о днях героической молодости с грустной улыбкой: «Я тот, кто был когда-то маршалом Франции, а теперь всего лишь король Швеции».[646]
Среди маршалов были разные люди. Вот, скажем, Л. Даву (1770–1823), герцог Ауэрштедтский, проконсул Наполеона в Германии, палач Гамбурга, победивший пруссаков в 1806 г. и получивший прозвище «железного маршала». Он принадлежал к известной фамилии. Любовь к истории и современной философии сделали из него ярого республиканца. Как потомок старинного дворянского рода оказался в рядах противников своего сословия? Во-первых, он презирал старое дворянство. Во-вторых, любил родину, и сословная гордость не могла занять в его сердце места отечества. Он твердо встал на позиции служения революции. Противникам из аристократического стана он сказал: «Так вы хотите войны? Хорошо, мы будем сражаться; но на вас падет стыд, а для меня останется слава и честь… Я защищаю свое отечество». В то же время он не желал принимать участия и в «узаконенной расправе» над якобинцами («Должны ли мы быть подвержены тирании любого рода, вроде тирании комитета или клуба?» – писал он своему другу в начале 1794 г.). Поэтому ушел на год в отставку. Затем его восстановили в должности. Началась карьера при Наполеоне. Далеко не все в нем вызывало симпатию среди окружающих. По словам Мармона, он «сам себя назначил шпиком императора и каждый день лично являлся к нему с докладами». Тот называл маршала «сущим мамлюком», афиширующим Наполеону преданность. Маршал бывал порой жесток. Во время обороны Гамбурга (1813–1814), «вершины его воинской славы», он изгнал из города тысячи бедняков в злую декабрьскую стужу (и этим сохранил запасы продовольствия для армии), провел реквизиции в Гамбургском банке и т. д. После возвращения роялистов он пишет письмо маршалу Сен-Сиру (военному министру короля), прося, чтобы все проскрипционные меры правительства против военных, служивших Наполеону во время «Ста дней», были обращены против него. Он просил об этом наказании как о «милости».
Замечательной и колоритной личностью был маршал Мишель Ней (1769–1815). Родом он из семьи простого бочара. Закончил католический коллеж. В детских играх был заводилой («маленьким Александром Великим»), что, видимо, и предопределило его судьбу… Ней записался в армию добровольцем. Революция открыла перед ним дорогу. Как скажет один из роялистских авторов, в предводители французских войск были поставлены адвокаты, купцы, сержанты, капралы. Одним словом, армия республики становилась подлинно народной. О нем же можно было с полным правом сказать, что он «имел существование свое от революции» (а я вспоминаю иных генералов и маршалов, что, строго говоря, также получили «существование своё от революции», Великой Октябрьской революции, но предали её дело).
Это был честный и храбрый воин. Обратим внимание на одну из инструкций, составленных Неем для своих солдат и офицеров: «Нашим солдатам обязаны объяснять причину каждой войны. Только в случае вражеского нападения мы вправе ожидать проявления чудес доблести. Несправедливая война в высшей степени противна французскому характеру». Знаю, что такого рода война противна и русскому характеру. После того, как Ней стал маршалом (император восстановил это звание, существовавшее во Франции с XI в., но отмененное революцией), он ничуть не возгордился. Он помнил дни, когда две буханки хлеба на столе казались ему куда более ценной добычей, чем маршальские звезды. И все же в нем жил тайный якобинец. Он терпеть не мог верховной власти. Как вспоминала одна современница, «всякая власть казалась ему тяжела», и даже власть императора доставляла беспокойство. Наполеон это ощущал, как-то упомянув о крамоле Нея: «Если бы я должен был умереть от руки маршала, я готов бы держать пари, что это было бы от его руки». И все же никто иной как Ней поведет в битве при Ватерлоо в последнюю атаку «последней армии Наполеона» пять тысяч ветеранов… Впереди в пешем строю, с обнаженной саблей в руке идет Ней! Под ним в бою убито 5 лошадей. Маршал призывает офицеров и солдат «лечь до последнего»! После поражения ему предложат бежать в Швейцарию или в Америку. Однако «храбрейший из храбрых» не предаст родину, не захочет пятнать свою честь. Его арестуют. Нея судила палата пэров. Когда адвокат предложил ему отказаться от родины (и тем самым спасти жизнь), он воскликнул: «Я – француз, и умру французом!» Ней не стал на колени, не позволил завязать глаза. Залп – и маршал упал. Комендант молвил: «Вот великий урок, как надо умирать!»[647]
Среди маршалов своей храбростью выделялся и А. Массена (1758–1817). Наполеон называл его «любимое дитя победы». Тот был очень решителен, храбр, неустрашим, честолюбив, воинственен и упрям. А еще он очень любил две вещи – «славу и деньги» (Бурьенн). Император сумел дать ему то и другое. Свои знаменитые победы он одержал при Риволи, Цюрихе, Генуе и Эслинге. Однако сам Массена с завистью говорил, что он «отдал бы все за один швейцарский поход Суворова». Конечно же, позором стали его огромные хищения в армии. Наполеон пишет брату Жозефу в 1806 г., узнав о чудовищных поборах и грабежах Массены: «Массена ни на что не годится… Он хороший солдат, но он не думает ни о чем, кроме денег; только этим и определяется его поведение и это то единственное, что побуждает его действовать, даже тогда, когда я нахожусь с ним рядом. Поначалу он довольствовался небольшими суммами, но теперь и десятки миллионов неспособны удовлетворить его алчность». В другом письме Жозефу, отмечая, что Массена и Сен-Сир стащили 6 миллионов 400 тысяч франков (последний стал военным министром после реставрации монархии), Наполеон потребовал вернуть деньги: «Если он этого не сделает, я направлю в Падую военную комиссию для расследования, так как такого рода грабительство нетерпимо. Заставлять солдат голодать и не платить им жалованья под тем предлогом, что предназначенные для этого суммы денег являются подарком, сделанным ему провинцией, чересчур опрометчиво». Не опрометчиво, а подло. За такие дела маршалов и генералов надо расстреливать перед строем!
Как не вспомнить И. Мюрата (1767–1815), потрясавшего товарищей отчаянной храбростью, а сердца женщин – ослепительной фигурой и мундирами! Наполеон говорил, что никогда не видел человека храбрее, решительнее и блистательнее его во время кавалерийских атак. Кентавр с мечом архангела… Наполеон сказал о Мюрате: «Мюрат имел совершенно отличный характер. Он поступил ко мне всем, чем был впоследствии. Он любил, могу даже сказать, обожал меня. В присутствии моем он благоговел и всегда готов был пасть к ногам моим. Мне не следовало удалять его от себя: без меня он ничего не значил, а находясь при мне, был правою моею рукою. Стоило мне только приказать, и Мюрат вмиг опрокидывал 4 или 5 тыс. человек в данном направлении; но предоставленный самому себе, он терял всю свою энергию и рассудительность. Не понимаю, как такой храбрец мог иногда трусить. Мюрат был храбр только в виду неприятеля, и тогда он, может быть, превосходил храбростью всех на свете… В поле был он настоящим рыцарем или Дон-Кихотом; в кабинете – хвастуном без ума и решительности. Но первый был благороднее по характеру, великодушен и откровенен». Наполеон жалел, что не взял его в дело Ватерлоо.[648] Вряд ли его спас бы даже и Мюрат.
Если во главе неправедного дела стоит и человек большого таланта, у него нет ни единого шанса на победу. Сколько сил, энергии, мужества, средств, жизней отдала Франция на наполеоновскую авантюру! И что же?! Все кончилось тут, у Ватерлоо. С. Цвейг в новелле «Невозвратимое мгновение. (Ватерлоо, 18 июня 1815 года)» писал, что причина катастрофы Наполеона – нерешительность маршала Груши. Тот не пришел на помощь Наполеону в решающую минуту: «Одну секунду думает Груши, и эта секунда решает его судьбу, судьбу Наполеона и всего мира. Она предопределяет, эта единственная секунда на ферме в Вальгейме, весь ход девятнадцатого века… Если бы у Груши хватило мужества, если бы он посмел ослушаться приказа, если бы он поверил в себя и в явную, насущную необходимость – Франция была бы спасена…»[649] Ничего подобного. Победи Наполеон в битве, неизбежно наступил бы час иного «ватерлоо». Его все равно низвергли бы, а народы понесли бы больше жертв!
Наполеон, словно яркая комета, однажды пронесшаяся по небу, привлек внимание миллионов. Великая Отечественная война 1812 года показала, что русский народ непобедим и могуч, и готов прийти на помощь Европе. В «Походных записках артиллериста» современник так оценил итоги завоевательных походов французского императора: «Как страшный ураган убийственным вихрем ниспровергает все существующее на земле, так Наполеон пробежал со своей ратью пространство тысячи верст, от Немана до Москвы и обратно, со всеми ужасами гибельной войны, со всеми бедствиями человечества, истребившими великие силы Франции, вооружение целой Европы и положившими начало сокрушению его колоссального могущества. В шесть месяцев исчезли все его обширные предприятия… и только следы поражений, следы пламени и гибели указали путь на всем пространстве, по которому пробежал этот гений, истребитель человечества. Ежели Европа стонала под тяжким игом власти своего завоевателя и ежели ныне она наслаждается бытием своим в прежнем порядке вещей, то этим обязана, конечно, России: пожар Москвы, эта беспримерная жертва любви народа к отечеству, осветила надежду спасения в узнице. Гигант был потрясен в своем могуществе».[650]
Стендаль утверждал, что Наполеон, отправляясь в Россию, постоянно и весело напевал слова из арии, которую он слышал в превосходном исполнении Порто (в «Molinara»):[651]
Si batte nel mio cuore
L`inchiostro e la farina?[652]
Если бы к тому времени Чайковский написал «Щелкунчика», Наполеону следовало бы выбрать одну из вариаций на эту тему, где «король крыс» был побежден отважным солдатом.
Что скрыто за его жизнью? Вопросом этим задавался и Гете. Он говорил: «Наполеон отправился на поиски Добродетели, но, не найдя ее, обрел Могущество». Пустые, лживые слова. Не добродетели искал тиран, а безграничной власти. И не могущество обрел он, а бессилие, позор, заточение и смерть. Ныне его имя славят апологеты. Э. Радзинский (в мечтах о русском Наполеоне) пытается уверить, что из всех вояк и диктаторов этот, якобы, завоевал «целый свет одною любовью». Опять «двойная бухгалтерия». Российского диктатора И. Сталина они стараются втоптать в прах, а «цивилизатора» Наполеона готовы воспеть! Впрочем, русский писатель А. Зиновьев отдал XIX век Наполеону, а век XX – И. Сталину.
Последствия его походов таковы. В результате их были сокрушены около 250 средневековых, небольших государств, герцогств, княжеств в Европе (в Германии). После этого осталось около 40 государственных образований. Наполеон заметно очистил Авгиевы конюшни Европы от «монархического наследия». Это способствовало буржуазному прогрессу, большей свободе международных и экономических связей. Наполеон провел ряд важных реформ, создал Французский банк, укрепил франк и т. д. История распорядилась так, что ему была уготована судьба полководца, а затем уж реформатора (хотя заслуги его и в этой области все-таки немалые). Сам Наполеон, принимая от Лапласа посвящение в виде «Небесной Механики», восхищаясь ее «совершенной ясностью», кажется, искренне заметил: «Вот для меня новый случай пожалеть, что, увлеченный силой обстоятельств, я пошел по иному, столь далекому от науки, пути».[653] Карлейль прав, сказав: «Придет время, когда сам Наполеон будет лучше известен своими законами, нежели своими битвами, а победа при Ватерлоо окажется менее значительным событием, чем открытие Института механики». Создатель знаменитого «Кодекса Наполеона» (находясь в заточении на острове Св. Елены) и сам утверждал: «Моя истинная слава не в сорока сражениях, выигранных мною; Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и не может быть забыт Гражданский кодекс». Все это так. Кодекс Наполеона действует в большинстве европейских стран и по сей день. Жаль, что светлые мысли посетили его в изгнании, после того, как он огнем и мечом прошел по городам и весям. Пусть уж лучше вожди открывают научные институты, а не кровавые сражения.
Кодекса чести и гуманизма Наполеон так и не сумел обрести в своем сердце. О народе в конституции он забыл. Знаменателен его ответ Констану. Он спросил перед Ватерлоо: «Как писать конституцию?» Тот с сарказмом изрек: «Пишите кратко и непонятно». В отношении парламентариев он высказался вполне откровенно (в беседе с Меттернихом накануне похода в Россию): «Законодательный корпус послушен мне, осталось лишь класть себе в карман ключ от зала заседаний. Франция еще меньше годится для демократии, чем другие страны… Поэтому, вернувшись, я превращу Сенат и Государственный совет в верхнюю и нижнюю палаты, депутатов большей частью буду назначать сам. В палатах будут сидеть подлинные народные представители – сплошь опытные деловые люди и никаких пустомель-фантазеров. Тогда Франция получит разумное управление и при бездеятельном монархе – ибо грядут и такие – и обычного воспитания, какое дается принцам, станет вполне достаточно».[654]
Гражданский кодекс Наполеона действует в большинстве европейских стран и по сей день.
На закате жизни, после возвращения с Эльбы (1815), император, якобы, желал примирения с Европою и с народом, говорил, что не хочет завоеваний, не хочет власти одной партии, и что начал, якобы, прислушиваться к советам оппозиции. Он заявил: «Я сын народа: и хочу то, чего хочет он, я готов слушать его волю». Похоже, Наполеон понял, что для создания мировой империи у Франции нет сил («Для этого нужно двадцать лет и два миллиона…»). Однако его раскаяния запоздали. Он уже принес миллион на алтарь Молоха. И вот израненной и обескровленной стране он обещает мир, говорит, что состарился и жаждет быть «императором земледельцев, плебеев Франции». Уверяет, что его девизом станут слова «Все – нации, все для Франции». Будут публичные прения и ответственные министры. Отменяется цензура. Однако декретом от 10 апреля 1815 г. он самолично пересмотрел конституцию и учредил наследственную палату пэров, видя в ней узду для народа Франции. Нет, нет, тираны не меняются. Только их гибель несколько примиряет нас с фактом их существования.
По сравнению с ничтожествами во власти Наполеон сочетал ум и решительность. Однако непомерное честолюбие и цинизм погубили в нем его лучшие начала. Хорошо знавшие его говорили, что он всегда был полон лицемерия и фальши. Гонкур имел право написать о нем в «Дневнике»: «Все фальшиво, все ложь, все реклама у этого человека, замечательного актера, у которого, по словам Сегюра, никакая страсть не бывала бескорыстной».[655] Были ли у него обычные человеческие слабости? Вероятно, как и у всех других людей. Бонапарту не чужды были любовные страсти. Ж. Сименон говорил: «Мне отвратителен Наполеон. После одного из сражений, где погибло 30 тысяч французских солдат, он пишет жене послание: «Все это ничто по сравнению с тем, что завтра я буду в твоих объятиях»… Но в признании воина нет ничего неестественного или тем более постыдного. Любовь к женщине часто заставляет мужчин терять голову. Так, он писал из Италии жене, Жозефине Богарне, прекрасной креолке, сменившей постель казненного мужа на ложе правителя Барраса, а затем доставшейся в качестве «трофея» и Наполеону. Так вот, диктатор угрожает ей участью Дездемоны. В другом письме (к Карно) Бонапарт восклицал: «Я в отчаянии, моя жена не едет. У нее наверняка есть любовник, он-то и удерживает ее в Париже. Проклинаю всех баб!» В его словах ощущается та же слепая ярость командира, что и в одном из его приказов по армии, когда он решил, было, изгнать из нее всех шлюх, коварно разоружавших его славных солдат своими прелестями: «Если через 24 часа после зачтения этого приказа в армии будут обнаружены женщины, не имеющие соответствующего разрешения, их следует вымазать черной краской и выставить на два часа на всеобщее обозрение».[656] Однако, став императором, он быстро растерял и свое «целомудрие», и былые «мавританские страсти» к Жозефине.
Перед смертью он размышлял уже об ином: как оценит его история. Врагов немало, но Наполеон был уверен, что им не удастся сокрушить его пьедестал. «Они будут грызть гранит», – уверял Наполеон. И все же какова самооценка императором его собственной жизни и деяний? «Пусть стараются урезывать, безобразить, коверкать мои поступки, все-таки трудно будет совершенно уничтожить меня, – писал он. – Историк Франции все-таки будет рассказывать, что происходило во время империи, и будет вынужден выделить некоторую часть подвигов на мою долю, и это ему почти не представит труда: факты говорят сами за себя, блестят, как солнце. Я убил чудовище анархии, прояснил хаос. Я обуздал революцию, облагородил нацию и утвердил силу верховной власти. Я возбудил соревнование, награждал все роды заслуг и отодвинул пределы славы. Все это чего-нибудь стоит! На каком пункте станут нападать на меня, которого не мог бы защитить историк? Станут ли бранить мои намерения? Он объяснит их. Мой деспотизм? Историк докажет, что он был необходим по обстоятельствам. Скажут ли, что я стеснял свободу? Он докажет, что вольность, анархия, великие беспорядки стучались к нам в дверь. Обвинят ли меня в страсти к войне? Он докажет, что всегда на меня нападали. Или в стремлении к всемирной монархии? Он покажет, что оно произошло от стечения неожиданных обстоятельств, что сами враги мои привели меня к нему. Наконец, обвинят ли мое честолюбие? А! Историк найдет во мне много честолюбия, но самого великого, самого высокого! Я хотел утвердить царство ума и дать простор всем человеческим способностям. И тут историк должен будет пожалеть, что такое честолюбие осталось неудовлетворенным!.. Вот, в немногих словах, вся моя история!»[657]
Уверенность императора в абсолютной беспринципности и угодливости историков не лишена, конечно же, основания. Но не до такой же степени! Есть историки иного типа, что, подобно Ж. Мишле, «всем сердцем с народом», а не с царями, императорами, президентами, тиранами. Они воздадут им по заслугам. Впрочем, нашлись во Франции люди трезвого ума, каковым был писатель-романтик А. Ламартин (1790–1869), автор «Истории жирондистов». Позже он так скажет о Наполеоне (правда, уже после возвращения того с Эльбы): «Нужны призма славы и иллюзия фанатизма для того, чтобы видеть в его лице того времени тот идеал духовной красоты и врожденного царственного величия, который впоследствии придали его лицу мрамор и бронза… Его впавшие глаза беспокойно следили за народом и войсками. Его рот улыбался механически толпе, в то время как мысли, очевидно, были где-то далеко».[658]
Таков этот «властитель дум» многих европейцев конца XVIII-начала XIX вв. По сути своих поступков Наполеон ничем не отличался от демономаньяков средних веков, изуверов инквизиции или разбойников НАТО. Микроб зла уживался в нем с микробом цинизма. Франция отдала миллионы жизней. Ради чего? Завоевание мира? Наполеон желал, чтобы Франция правила всем светом. Однако как можно «править всем светом», уничтожая безжалостно народы! Тот, кто мечтал о власти над целым миром, обрел в качестве пристанища черную скалу острова Св. Елены. В день его рождения и гибели небо осветила яркая комета. Судьба его предначертана. Она действительно подобна падучей звезде, о которой писал Беранже:
Зловещий блеск, душа моя! Временщика звезда скатилась; С концом земного бытия И слава имени затмилась… Уже врагами бюст разбит, И раб кумир во прах свергает!.. Смотри, смотри: звезда летит, Летит, летит и исчезает![659]Яркой «звездой» буржуазной эпохи был и Талейран… Знатный род Шарля Талейрана (1754–1838) (отец – князь Шале, граф Перигор, воспитатель дофина) во многом определил его судьбу. Талейран получил образование в известных учебных заведениях Франции (коллеж д`Аркур, семинария Сен-Сюльпис, Сорбонна). Предполагалось, что он станет священником, но вышло иначе. «Зачем учиться в семинарии, – писал он, – если хочешь быть министром финансов». Уже на исходе жизни он признался: «Вся моя молодость была посвящена профессии, для которой я не был рожден». Тем не менее, в возрасте 34 лет, благодаря покровительству короля, Талейран получил сан епископа (и 52 тыс. ливров дохода в год). Головокружительная и блестящая карьера лишь начиналась. В течение многих лет Талейран будет возглавлять дипломатическую службу Франции: он – министр иностранных дел во времена Директории, в период Консульства и империи Наполеона, а затем при Людовике XVIII.
Во времена, когда быстро меняется политическая обстановка, общество порой «нуждается» в циниках и проходимцах высочайшей пробы. К таким особам, бесспорно, он и принадлежал. Один из богатейших людей в Европе. Талейрана называли «великим магистром ордена взяточников». В уме дипломату, тем не менее, не откажешь. Наполеон называл его «самым большим лжецом века», но это не мешало императору использовать ловкого вельможу. Он и сегодня наверняка пришелся бы ко двору иных правителей. Один из самых ловких политиков, каких только знала мировая история. Ведь удержался на такой должности при разных строях! Novus rex, novus lex! («Новый царь – новый порядок!»). Вряд ли какому-либо из министров иностранных дел в Европе удастся повторить его карьеру. Он обладал разносторонними талантами, умом, трудолюбием (масса документов составлено лично им). Заслуги его на дипломатической ниве не столь очевидны, хотя он и не скупился на саморекламу: «Конкордат, Амьенский мир, политическая организация Италии, швейцарское посредничество, первые попытки восстановления федеральной германской системы свидетельствуют о деятельности, мудрости и влиянии администрации, которую я создал и которой я руководил». Он очень искусно вел дипломатические переговоры и беседы. Наполеона однажды спросил Талейрана: «Вы король беседы в Европе. Каким же секретом вы владеете?» Тот ответил: «Когда вы ведете войну, вы всегда выбираете ваши поля сражений?.. И я выбираю почву для беседы. Я соглашусь только с тем, о чем я могу что-либо сказать. Я ничего не отвечаю… В общем, я не позволю задавать себе вопросы никому, за исключением вас. Если же от меня требуют ответов, то это именно я и подсказал вопросы». При этом он был довольно жестким человеком и требовал от подчиненных работоспособности и лояльности. В отношении свободы мнений Талейран занимал вполне «демократическую позицию», говоря: «Я прощаю людям, которые не разделяют моего мнения; я не прощаю им, если они имеют своё».[660]
Что же касается собственно политических пристрастий, он ревностно отстаивал интересы Франции (и Австрии) против России. В ответ на упрек Наполеона – «Вы всегда австриец» – признавал: «Отчасти, Ваше Величество, но правильнее было бы сказать, что я никогда не бываю русским и всегда остаюсь французом». Талейран ничуть не заблуждался в отношении морального облика «обожаемого патрона», сказав о Наполеоне: «Этот человеческий дьявол смеется над всеми; он изображает нам свои страсти, и они у него действительно есть». В свою очередь и Наполеон видел в его лице великого мастера двойной игры, говоря о Талейране: «Он – единственный, кто меня понимает». В хитрости, коварстве, проницательности ему не откажешь.
После того как будущий крах Наполеона обозначился, он повел скрытую игру против «хозяина», взвесив все «за» и «против». Возможно, этим объясняется и его признание русскому царю в Эрфурте. Во время секретной беседы он заявил Александру: «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ – цивилизован, французский же государь – не цивилизован; русский государь – цивилизован, а русский народ не цивилизован; следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа».
На деле это означало лишь одно – предательство. Талейран показал всем своим тогдашним и будущим «коллегам», как можно выгодно и ловко торговать секретами и интересами своей родной страны. Наполеон перед всем своим двором кричал: «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! Вы не верите в Бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца!.. Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы – грязь в шелковых чулках!»
Что же Талейран? Направился к австрийскому послу, в стан противника, прямо предложив свое сотрудничество. Меттерних писал в Вену: министр «снял передо мною всякую маску», заявив о готовности «вступить в прямые сношения с Австрией» и намекнул: что цена за его «услуги» – несколько сот тысяч франков.[661] Впоследствии иные попытаются обелить поступок Талейрана, ссылаясь при этом чуть ли не на царя Давида, говоря: мол, и сам министр иностранных дел считал, что нет ничего на белом свете, что можно назвать «предательством». Поскольку все в жизни меняется, то и предательство, дескать, лишь вопрос времени и места. То, что уже не существует в реальной жизни или фактически отмерло (монархия, Наполеон, империя или что-то еще), не есть объект предательства… Только для достойного человека Родина всегда остается родиной, а предатель, хоть он и министр – всегда предатель, какие «козыри» не доставай!
Знаем и мы министров иностранных дел, которые сделали «своей профессией» служение и преданность иностранным дворам и державам. Их подлость и двуличие оценены там по достоинству. Такой политик – бесценная находка для Запада. Эти люди следуют словам одного из героев Бальзака (Вотрена): «Принципов нет, а есть события; законов нет – есть обстоятельства». Его кредо выражено в словах: «Дипломатия – наука о коварстве и двуличии».
Предатель, циник, интриган, Князь подлецов, мошенник века, Вор из воров, Земли прореха Таков бессмертный Талейран…[662]Разумеется, есть естественная и закономерная перемена взглядов. Это – дело житейское. Как говорил Бальзак, не меняются лишь дураки и покойники. Но в случае с Талейраном (а шире – и «талейранизмом» как явлением) мы имеем дело не с тем, «с какой девицей идти под венец», и уж тем более не с идейной эволюцией человека, а с циничным и гадким актом алчной корысти, продажности. Исходя из такой философии, можно оправдать и измену родине. Ведь буржуа в принципе чужды любые отеческие привязанности («дым родного пепелища»). Действия Талейрана, которого иные считают и ныне чуть ли не величайшим гением европейской политики, Александр I оценил кратко, но выразительно: «Какие мошенники».
«Тайлеран – человек о шести головах». Карикатура 1815 года. На надписях – здравицы в честь дворян, свободы, Конвента, первого консула, императора, Людовика XVIII, Карла X, Луи-Филиппа I.
Но и в сугубо профессиональной области этот министр иностранных дел оставил печальное наследие, будучи марионеткой Наполеона. Читаем у Шатобриана: «Деятельность Талейрана на поприще дипломатическом доказывает его относительную посредственность: вы не сможете назвать ни одного сколько-нибудь значительного его достижения. При Бонапарте он только и делал, что исполнял императорские приказы; на его счету нет ни одних важных переговоров, которые бы он провел на свой страх и риск; когда же ему представлялась возможность поступать по собственному усмотрению, он упускал все удобные случаи и губил все, к чему прикасался… Стараниями господина де Талейрана мы вовсе лишились границ: стоит нам проиграть сражение в Монсе или в Кобленсе, и через неделю вражеская кавалерия окажется под стенами Парижа».[663] На его же совести – и расстрел герцога Энгиенского.
И все же справедливости ради напомню: Талейран один из авторов «Декларации прав человека и гражданина». В ряде случаев он умело отстаивал интересы Франции (особенно, если приходилось действовать против России, а это бывало часто). Европейцы никогда не упустят случая сговориться против нас за нашей спиной. То, что русские дважды освободили их Европу, в расчет не принимается. Америка и Европа проявляют просто потрясающую способность к закоснелой русофобии. Вот что доносила тайная полиция императору Фердинанду (1814) о настроениях, царящих тогда в окружении Талейрана: «Франция желает лишь противовеса против России. Соединялось же христианство против мусульман несколько веков тому назад, почему же ему не соединиться против калмыков, башкир и северных варваров… Мы не позволим, чтобы над нами насмехались. У нас есть 400 000 человек, которые готовы к действию по первому свистку. Мы собираемся ежедневно в 4 часа утра (sic!) у Талейрана, и он дает каждому из нас тему».[664] Как видите, Европа всегда почему-то быстро находит общий язык против русских и России. Это для них нечто вроде «Отче наш».
Деятельность Талейрана, Тартюфа дипломатии, не ограничилась только внешнеполитической деятельностью. В докладе о народном образовании (1791) он призвал к необходимости создания новой, эффективной системы обучения и воспитания. В её основу им был положен, казалось бы, разумный принцип: «Всех поставить на надлежащее место». Он считал, что «было бы истинным безумием, какой-то жестокой благотворительностью хотеть, чтобы каждый человек проходил все ступени образования». В школах второй ступени (для наиболее способных) вводился принцип платного обучения. Талейран понимал важность образования для будущего страны и нации. «Образование, – писал он, – это действительно особая держава, область влияния которой не может быть учтена ни одним человеком, и даже национальная власть не может установить ее границ. Сфера ее влияния громадна, бесконечна».
Итог жизни Талейрана вряд ли назовешь успешным (если, разумеется, не считать целью жизни обретение богатств и власти). И дело даже не в личных его качествах как гражданина. Талейран не отвечал самым скромным запросам морали и порядочности («князь с двойным отступничеством»). Хотя сегодня дело этого патологического лжеца с успехом продолжают такие личности как Б. Клинтон, М. Олбрайт, Т. Блеер, Х. Салано и другие. Талейран по достоинству сумел бы оценить их политику лжи и двойной морали. Они – «герои нашего времени», ибо, как писали о Талейране, «лгут с поразительной беззастенчивостью». Это внутренее родство Талейрана, «отца современного европеизма» и «атлантиста», с США даже побудило М. Понятовского, министра внутренних дел в правительстве В. Жискар д`Эстена, написать внушительный том «Талейран в Соединенных Штатах». После того, как обнаружили письма, свидетельствовавшие о его тайных связях с Людовиком XVI, он бежал в Англию, а затем в США. Он два года пробыл в Америке. Прибыв туда, Талейран предложил Жермене де Сталь принять участие в земельных и финансовых операциях (в нем всегда жил торговец). Шатобриан говорил о нем, что Талейран «не готовит заговоры, он торгует». Это неточность. Такой дипломат всегда торгует, и особенно нагло, когда готовит заговоры. Так что нам ближе и понятнее оценка В. Гюго, сказавшего: в нем все «хромало, как и он сам».[665]
Во главе тайной полиции Франции стоял никто иной как легендарный министр Жозеф Фуше (1759–1820), о котором Бальзак сказал, что «он имел большую власть над людьми, чем сам Наполеон». Современники его не любили, боялись и презирали… «Да кто же, в самом деле, любит тайную полицию?!» – спросите вы. Не знаю, не знаю. Поскольку человек слаб и греховен, он нуждается в церкви и полиции. Одни спасают его душу, другие – бренное тело. Кстати говоря, в истории не было ни одного великого государственного деятеля, который бы не располагал прекрасной разведкой и тайной службой. Кромвель не жалел денег на разведку и «держал у себя в кармане секреты всех монархов Европы». Без разведки нет нации. Фридрих II объяснял причины сокрушительного поражения французского маршала Субиза: «За маршалом де Субиз двигаются сто поваров, а впереди меня – сто шпионов». В России последних лет вожди, включая некоторых руководителей тайных служб, вели себя иначе: разрушали разведку, продавая секреты, чтобы заполучить «в карман» пачку жалких банкнот.
Раз уж вспомнили о тайной полиции, было бы величайшим грехом обойти её своим вниманием. Если жена может вас покинуть, любовница самым вульгарным образом бросить, «друг» – предать, а банк – разориться, то тайная полиция, можете быть уверены, сохранит верность и преданность почти немыслимую, едва ли не трогательную. Она не может вас бросить, не считает разумным покидать, крайне редко предает и почти никогда не разоряется. Тайная полиция – нечто вроде опочивальни, исповедальни, банка и «английского клуба».
Любая страна нуждается в услугах тайной полиции и милиции… Тем более, что и уголовный мир преуспел в создании разведывательных и контрразведывательных структур. Уже в начале XVIII века в Париже известностью пользовалась шайка разбойника Картуша. В нее, по некоторым данным, входило около 2 тысяч человек. Сумев награбить огромные суммы денег и ценности, тот использовал эти средства для подкупа полиции, чиновников, судей, военных, врачей и т. д. и т. п. Сотни трактирщиков выполняли в его организации роли хранителей и скупщиков краденого. У Картуша было множество «двойников». Любопытно, что многие полицейские не проявляли рвения в поимке преступника. Не исключено, что многие из них тайно находились у вора на содержании (как и некоторые милицейские чины в России). В тюрьму он попал, можно сказать, случайно (выдал кто-то из своих). Попав на эшафот, он выдал всю банду, так как та не смогла освободить его (произведены сотни арестов).[666]
Жозеф Фуше.
Фуше – одна из самых загадочных, примечательных фигур рубежа XVIII–XIX столетий. Хотя «нет такого клеймящего и бранного слова», которым бы его не клеймили. Бальзак назвал его самым интересным в психологическом отношении характером века, посвятив в романе «Темное дело» страницу этому «сумрачному, глубокому и необычному уму, который так мало известен», упомянув о его «своеобразной гениальности». Читаем у Бальзака: «Своеобразная гениальность, столь ужаснувшая Наполеона, обнаружилась у Фуше не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых выдающихся и непонятных людей своего времени, сложился и вырос в бурях Революции. При Директории он достиг тех вершин, с которых люди глубокого ума получают возможность предвидеть будущее, основываясь на опыте прошлого; а затем вдруг, – подобно посредственным актерам, которые под влиянием какой-то внезапно вспыхнувшей искры становятся гениальными, – проявил поразительную изворотливость во время молниеносного переворота 18 брюмера. Этот бледнолицый человек, воспитанный в духе монашеской сдержанности, посвященный в тайны монтаньяров, к которым он принадлежал, и в тайны роялистов, к которым в конце концов примкнул, долго и незаметно изучал людей, их нравы и борьбу интересов на политической арене; он проник в замыслы Бонапарта, давал ему полезные советы и ценные сведения. Довольствуясь тем, что он доказал свою ловкость и полезность, Фуше поостерегся раскрыть себя до конца, он хотел остаться у кормила правления; однако двойственное отношение к нему Наполеона вернуло ему политическую свободу… В то же время ни прежние, ни новые его коллеги и не подозревали всей широты его таланта – чисто административного и, в глубоком смысле слова, государственного, – так был велик его дар почти неправдоподобной проницательности и безошибочного предвидения».[667] Словом, это был «великий государственный деятель».
Блестящий организатор и сильный государственник, Фуше обладал редкой проницательностью. Он проник в замыслы едва ли не всех политических сил своего времени (монтаньяры, роялисты, Бонапарт, Людовик). С. Цвейг посвятил ему книгу «Жозеф Фуше. Портрет политического деятеля» (1929). Книга вызвала небывалый интерес (50-тысячный тираж). Все тайное человека интересует. Цвейг назвал Фуше «самым совершенным макиавеллистом нового времени». Как бы извиняясь перед читателем, Цвейг говорит о том, что он сознает, что жизнеописание подобной «насквозь безнравственной личности», хотя бы и значительной и своеобразной, «противоречит потребностям нашей эпохи». Но ведь эпохи-то меняются. Сегодня отнюдь не герои Плутарха «определяют судьбы мира», а герои иного склада. Цвейг разъясняет: «В реальной, в подлинной жизни, в области действия политических сил решающее значение имеют – и это необходимо подчеркнуть, чтобы предостеречь от любых видов политической доверчивости, – не выдающиеся умы, не носители чистых идей, а гораздо более низменная, но и более ловкая порода: закулисные деятели». Чаще всего это не какие-то герои, а азартные игроки, «люди сомнительной нравственности и небольшого ума» (наполеоны, талейраны, фуше из той же породы).[668] Хотя ума у Фуше было побольше, чем у иных.
Длительное время Фуше преподавал математику и физику, будучи надзирателем и инспектором в монастырях (Ниора, Сомюра, Вандома, Парижа). Тут он научился едва ли не главному достоинству политика, разведчика, дипломата – «технике молчания». Словно алхимик душ, он проникал в «тайны состава» человеческих эмоций, страстей, вожделений. Заметьте кстати, что три самых великих дипломата французской революции – Сийес, Талейран и Фуше – опять-таки вышли из монастырской школы. В монастыре он обрел качества опытного и сильного лидера: привычку к железной дисциплине, спартанской выносливости, умение скрывать свои мысли и чувства, готовность до минимума ограничить запросы личной жизни… История играет судьбами людей, словно это какие-то щепы в океане жизни. В Аррасе Фуше в кружке местной интеллигенции («Розати») знакомится с адвокатом Робеспьером и чуть даже не женится на его сестре, Шарлотте. В Париже собираются Генеральные штаты. Фуше выставляет свою кандидатуру и в 1792 г. попадает в Конвент (ему 32 года). С той поры он твердо придерживался правила – пребывать в тени (правя из-за кулис). Цвейг называл это «последней тайной могущества Жозефа Фуше». Любопытно объяснение причин могущества: «Как истинный и законченный мастер политической интриги, он ценит только действительные возможности власти, а не ее внешние отличия. Ликторский жезл, королевский скипетр, императорскую корону он спокойно предоставляет другому; будь то сильный человек или марионетка – это безразлично: он охотно уступает ему блеск и сомнительное счастье быть любимцем народа. Он удовлетворяется тем, что знает положение дел, влияет на людей, действительно руководит мнимым повелителем мира и, не рискуя собой, ведет самую азартную из всех игр – грандиозную политическую игру. В то время как другие связаны своими убеждениями, своими публичными речами и действиями, он, избегающий света, в своем тайнике сохраняет внутреннюю свободу и остается недвижимым полюсом в беге событий. Жирондистов свергли – Фуше остается, якобинцев прогнали – Фуше остается, директория, консульство, империя, королевство и снова империя исчезают и гибнут – один лишь Фуше всегда остается благодаря своей изумительной сдержанности, благодаря своему дерзкому мужеству, с которым он сохраняет полную бесхарактерность и неизменное отсутствие убеждений». Это описание, бесспорно, не исчерпывает характеристики этой яркой личности.
Франсуа Гизо. С портрета Делароша.
Немногие знают, что за много лет до К. Маркса в свет вышла лионская «Инструкция», подписанная совместно Колло д`Эрбуа и Фуше (автор – Фуше). Цвейг назвал его «первым откровенным социалистом и коммунистом революции». Читаем строки, вышедшие из-под пера Фуше и д`Эрбуа: «Революция совершена для народа; но под этим именем не следует подразумевать привилегированный благодаря своему богатству класс, присвоивший все радости жизни и все общественное достояние. Народ – это совокупность французских граждан и прежде всего огромный класс бедняков, защищающих границы нашего отечества и кормящих своим трудом общество. Революция была бы политическим и моральным бесчинством, если бы она заботилась о благополучии нескольких сотен людей и терпела нищету двадцати четырех миллионов. Она была бы оскорбительным обманом человечества, если бы мы все время только говорили о равенстве, тогда как огромные различия в благосостоянии отделяют одного человека от другого». Кроме того, никак нельзя согласиться с оценкой Фуше как «человека бесхарактерного». Нам бы такого «бесхарактерного» – в министры полиции!
И это говорит проконсул Республики! А я слышу в его словах волю Народа, требующую наступить на горло ворам и бессовестным богатеям. Даже Робеспьер с Сен-Жюстом при слове «собственность» как-то робели и спешили объявить ее «неприкосновенной». Но Революция уже вышла на улицы. Завтра ее комиссары и консулы заставят воров и плутократов отдать все, что они награбили у народа. Фуше решительно и смело действует в направлении egalisation dea fortunes (франц. – «уравнения состояний»). Он создает «филантропические комитеты», смысл политики которых ясен и понятен: «Возвращайте все украденное – или вас всех поставят к стенке!» Он, правда, готов разъяснить тем, кто плохо соображает: «Если богатый не использует своего права сделать достойным любви режим свободы – республика оставляет за собой право завладеть его состоянием». Такую «Декларацию любви» давно пора подписать десяткам тысяч господ в России! И в казну широкой рекой потекут деньги. Фуше доносит Конвенту: «Здесь стыдятся прослыть богатым». Или боятся быть богатым? Есть богатство законное, а есть такое, что достигнуто главным образом преступным и позорным путем. Эти собственники должны страшиться власти – и быть экспрорприированы.
Жизнь его не раз бывала на волоске. Он участвовал в заговоре против Робеспьера. Тот его пощадил. Затем он вошел в заговор Бабефа. Бедного Бабефа арестовывают и расстреливают. Фуше обвиняют в терроре (он на три года уходит в тень). После прихода к власти Директории его снова позовут. Сначала он посол Французской республики, а затем и министр. И тут выясняется глубокий смысл слов Мирабо, что якобинцы в должности министра это уже совсем и не якобинские министры. Они теперь «источают примирительный елей». Фуше становится консерватором, говоря: «Порядок, порядок, спокойствие, безопасность». Затем он стал миллионером и герцогом Отрантским (при Наполеоне), но это уже менее интересно.[669]
Эпоха представляла собой довольно монументальное зрелище. Да и как еще мог воспринять обычный человеческий разум столь колоссальные перемены в мировом порядке? Война американских колонистов, и возникновение Соединенных Штатов Америки. Революционная буря во Франции, бросившая короля Людовика XVI и Марию Антуанетту на плаху. Появление яркой звезды Наполеона, и покорение императором едва ли не всей Европы. Создание им империи, большей по размерам, нежели Священная Римская империя. Вторжение на просторы России армий «двунадесяти языков». В этом вот нашествии «цивилизованных варваров» в Россию было нечто от завоеваний легендарного Аттилы. Однако сгинул и новый Аттила, а империя Наполеона развалилась, как карточный домик. Sic transit gloria mundi! (лат. «Так проходит слава мирская»). Урок очевиден: исчезают наполеоны, но не Франция!
Подведем некоторые, сугубо предварительные итоги рассматриваемой эпохи… Франция в известном смысле подтверждала слова французского историка Ф. Гизо (1787–1874), говорившего в «Истории цивилизации в Европе», что назначение его страны состояло в том, чтобы marcher a tete de la civilisation («идти во главе цивилизации»). В его труде дается обоснование этого главенства: «Влияние Франции на Европу в XVII и XVIII вв. представляется весьма различным. В первом из этих веков общеевропейское значение и место во главе цивилизации принадлежит уже не французскому правительству, а самой Франции, французскому народу. Сначала властвует над умами и привлекает к себе общее внимание Людовик XIV со своим двором, потом Франция и ее общественное мнение. В XVII веке были народы, которые, как народы, рельефнее французов выступали на сцену исторического мира, принимали в судьбе своего отечества более деятельное участие. Так, например, германская нация – во время Тридцатилетней войны, английский народ – во время Английской революции, несравненно больше зависели от самих себя, нежели современные им французы. С другой стороны, в XVIII веке многие европейские правительства превосходили французское своею силою, значением, могуществом своим. Фридрих II, Екатерина II, Мария Терезия без сомнения отличались в Европе большею деятельностью и влиянием, нежели Людовик XV. Однако и в ту и в другую эпоху во главе европейской цивилизации стоит Франция, первоначально – благодаря своему правительству, потом благодаря самой себе, с помощью то политической деятельности ее повелителей, то умственного развития своего. Итак, для полного знакомства с преобладающей силою французской, а, следовательно, и европейской цивилизации необходимо изучить в XVII в. французское правительство, в XVIII – французское общество».[670]
Франция блистательно проявила себя в ряде областей. В начале XVIII в. страна была сельскохозяйственной житницей Европы. Переход на позиции «меркантилизма» немало способствовал дальнейшему экономическому развитию. Известную позитивную роль сыграли и евреи. Дело в том, что по мере того как «сыны Шейлока» изгонялись из Англии (с 1290-го по 1660 г.), еврейский капитал перемещался во Францию (та переболела «детской болезнью антисемитизма» раньше). Наполеон породил в стране новые вкусы, и, любя деньги, оказывал еврейским финансистам поддержку. В моду вошли культурные изыски и моды других народов. Дальнейший бурный рост производства и экономики вскоре обозначил ведущую роль Франции на континенте.[671] Все эти огромные успехи в искусстве, науке, культуре и военном деле возникали не сами по себе, а во многом и благодаря классическому наследию, воспринятому в коллежах и университетах лучшими умами Франции. Победившая в XVIII в. буржуазия проявила себя в этих областях с лучших сторон. В ней видится, несмотря на наличие множества гнусных черт, все же «чертог надменного, но здравого ума» (Верхарн).
Характер событий тех лет раскрыт и К. Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Он пишет: «Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789–1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 г., то революционные традиции 1793–1795 годов…При рассмотрении этих всемирно-исторических заклинаний мертвых тотчас же бросается в глаза резкое различие между ними. Камилль Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени – освобождение от оков и установление современного буржуазного общества. Одни вдребезги разбили основы феодализма и скосили произраставшие на его почве феодальные головы. Другой создал внутри Франции условия, при которых только и стало возможным развитие свободной конкуренции, эксплуатация парцеллированной земельной собственности, применение освобожденных от оков промышленных производительных сил нации, а за пределами Франции он всюду разрушал феодальные формы в той мере, в какой это было необходимо, чтобы создать для буржуазного общества во Франции соответственное, отвечающее потребностям окружение на европейском континенте. Но как только новая общественная формация сложилась, исчезли допотопные гиганты и с ними вся воскресшая из мертвых римская старина – все эти Бруты, Гракхи, Публиколы, трибуны, сенаторы и сам Цезарь. Трезво-практическое буржуазное общество нашло себе истинных истолкователей и глашатаев в Сэях, Кузенах, Руайе-Колларах, Бенжаменах Константах и Гизо; его настоящие полководцы сидели за конторскими столами, его политическим главой был жирноголовый Людовик XVIII. Всецело поглощенное созиданием богатства и мирной конкурентной борьбой, оно уже не вспоминало, что его колыбель охраняли древнеримские призраки. Однако как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война, битвы народов».[672]
Великая Французская революция вызвала к жизни мощные созидательные силы. Без этой революции не было бы новых законов, новой экономики, современного образования, культуры, достойного уровня жизни и мыслей миллионов! Это справедливо и для другой революции, о которой речь ещё впереди. Не все приняли Французскую революцию. Избранный в 1970 г. во Французскую академию Э. Ионеску обрушился на революцию с нелепыми упреками, тем самым доказывая, что мировая слава не всегда достается лучшим умам человечества… Напомним его слова: «Франция заразила мир своей страстью к политическому бунту, который подменяет собой бунт более оправданный, более метафизический – бунт против положения человека в мире, против его состояния. Теперь во всем мире начиная с Французской революции нас преследует какая-то мания революции, какой-то нервный тик, навязчивая идея. Быть революционером – это хорошо. Стоит только сказать «революция» – и мы уже приветствуем это слово-табу. С точки зрения прогресса, технического и промышленного, который не является самым главным делом, даже с этой точки зрения революции пагубны: они не имеют ничего общего с прогрессом и эволюцией техники, они не помогают, напротив, они тормозят процесс; они восстанавливают под другими названиями распадающиеся или ослабевшие структуры. Мы не будем обсуждать эту проблему здесь».[673] Обсуждать проблему не станем и мы. Видимо, гражданская совестливость не была присуща г-ну Ионеску. А может, дело проще? Монтень как-то сказал: «Я говорю правду постольку, поскольку осмеливаюсь ее говорить; чем старше я становлюсь, осмеливаюсь делать это все реже».
Великая Французская революция, как и Великая Октябрьская социалистическая революция в России, – величайшее событие мировой истории. Конечно, обе революции не избежали ошибок, преступлений и заблуждений. Их лидерам порой свойственны и обычные человеческие слабости. Выступая против социальных привилегий дворянства, Бриссо, Марат, Робеспьер, увенчали фамилии частичкой «де» (де Варвиль, де Марат, де Робеспьер). В толпе есть и «мясники», готовые пролить кровь невинных жертв. И все же упреки в крайностях (террор, диктат) несут на себе отпечаток гнева разъяренных плутократов или же горя невинных страдальцев, что были принесены на жертвенник преступлений их класса или клана (в которых лично они часто совершенно не виновны). В то же время надо быть отъявленным мерзавцем, чтобы не замечать в социальной революции гласа правды и истины. Запад вовремя признал статус революции. Поэтому и сумел добиться ощутимого прогресса. Клемансо считал, что необходимо рассматривать и воспринимать Французскую революцию как единый социальный и политический блок. И мы обязаны принимать наш Октябрь так, а не иначе. Показывая лишь казни и лагеря при социализме (как это делается в нынешней России), мы лжем себе и Истории. Жаль, у Клемансо не хватило честности, чтобы распространить принцип и на русскую революцию: «Он осуждает её за «террор» и в то же время отказывается судить Французскую революцию за него же».[674] Видите: такова их хваленая «объективность»!
В XVIII–XIX вв. Франция ведёт и направляет всё человечество, словно прилежная бонна – неразумное дитя. XVIII век во всеобщей истории часто называют «французским веком». Великая Французская революция, а затем империя Наполеона приковали к ним внимание народов. Даже такой «истинный немец» как К. Маркс, не видел для себя в Германии, где даже «воздух делает человека крепостным», должного простора, и устремился в Париж (в 1843 г.), в этот «старый университет философии», в «новую столицу нового мира», считая ее самым лучшим «сборным пунктом» для всех мыслящих и независимых голов. Что искал знаменитый бунтарь в революционной Франции? Единства теории и практики. Париж – лаборатория революций. Французский утопический социализм – одновременно практический социализм. Сюда направился и Генрих Гейне, которого отнесут к «самым изящным умам Франции». А разве Россия не искала у Франции ответа на многие вопросы? Мы и не вспоминаем о том, что это Робеспьер, Марат, Сен-Жюст, Ру, Кутон, Бланки и другие вынесли («в коконе революции») прообраз иных социалистических декретов в Советской России. Черты, присущие французским революциям, получили развитие и в России. Поэтому любой, кто не является полнейшим невеждой, никогда и не стал бы утверждать, что Октябрьская революция – это, так сказать, prolem sine matre creatam («дитя, рожденное без матери»). Слова из этих овидиевских «Метаморфоз» уж явно никак не подходят к метаморфозам политическим.
Французы первыми в Европе принялись всерьез обустраивать и расширять здание экспериментальной науки. Исследователь Э. Эшби писал: «Имена Бэкона и Ньютона обеспечивают Англии высокое место в истории научной революции. Но первой признала гигантское значение работ Ньютона и первой последовала на практике заветам Бэкона – Франция… которая стала матерью организованного научного исследования». Преподавание естественных наук сосредоточено в Музее естественно-исторических наук и в медицинских школах. Лагранж, Монж, Карно, Лаплас составляют гордость и славу не только французской, но мировой науки. Для системы образования Франции характерна высокая степень централизации. «Система централизации, введенная в Политехнической школе и вслед затем принятая во всех высших учебных заведениях Франции, – пишут историки Лависс и Рамбо, – соответствует известной черте национального духа французов и, так или иначе, вошла в их нравы».[675]
О роли революции в судьбе личности поведает лучше других судьба математика Монжа… Гаспар Монж (1746–1818) – одна из колоритнейших фигур той эпохи. Сын точильщика и торговца скобяным товаром стал видным ученым-математиком, морским министром, создателем оборонной промышленности Франции, организатором системы науки и образования, членом Якобинского клуба. Да разве такое было бы возможно без Великой Французской революции! Еще находятся невежды и негодяи, что клеймят революции (эти сыновья и дщери прачек и рабов, сами они в недавнем прошлом все получили от революции)… Гаспар был старшим сыном. Второй сын старика Монжа, Луи, был участником экспедиции Лаперуза, профессором математики и астрономии, как и младший, Жан… Вот вам прямые, так сказать, вполне зримые итоги революционных перемен для низов третьего сословия («плебейства»).
Монж начал учиться с шести лет (у монахов, в школе ораторианцев г. Бона, существующей с XV в.). Мальчик был гордостью школы (его экзаменационная работа 1762 г. хранится как священная реликвия в магистратуре города). Затем следует учеба и преподавание в Коллеже Св. Троицы в Лионе. Монашеская карьера его не привлекла, да и отец отсоветовал. Монж поступил в знаменитую Мезьерскую школу кондукторов и инженеров. Сюда шли дети благородного происхождения (число учеников не превышало 30–50 человек). Монж не принадлежал к лицам благородного происхождения, и его взяли на отделение кондукторов. Математику тут преподавал крупный ученый Боссю, у которого он стал ассистентом, а затем и преподавателем этой школы. Монж по сути дела самостоятельно создал новую отрасль геометрии (начертательную геометрию). К сожалению, потребовались годы, прежде чем эта наука пробила себе дорогу в жизнь. Вскоре ученый занял кафедры профессоров физики и математики (1770) и стал получать жалованье по двум кафедрам (1800 ливров в год). В 24 года он уже ведущий педагог Школы. После того как Монж в присутствии Д`Аламбера прочел доклад «Мемуар об интегрировании некоторых дифференциалов», его по представлению Боссю, Кондорсе, Д`Аламбера избрали член-корреспондентом Парижской академии. Монж был прекрасным педагогом. Сила его воздействия, знания предмета, увлеченность завораживали учеников, читал ли он физику, химию, математику, резку камня или теорию перспективы. Перспектива стать гением притягивает умную молодежь куда более, нежели «радужные картины» личного обогащения. Его мысли и руки находились в постоянном движении. Монж работал с учениками не только в стенах школы, водя их на близлежащие заводы и в мастерские, совершая неоднократные экскурсии на природу. Его биографы пишут: «Случалось иногда, чтобы поскорее попасть с учениками на какой-либо завод, Монж, не тратя времени на разыскивание дорог и мостов, переходил вброд широкий ручей, не прерывая при этом своих объяснений. Молодые люди, окружавшие его, также не замечая препятствий на своем пути, продолжали внимательно слушать: так велика была магия его влияния на умы!» Мензьерскую школу вскоре стали называть «школой Монжа». Нет возможности пересказать все превратности судьбы и пути-дороги великого ученого. В 35 лет он стал академиком, а к 45 годам – крупнейшим ученым Франции. Якобинцы открыли пути в науку простому люду!
В годы Великой Французской революции Монжа назначили морским министром по предложению Кондорсе (он руководил им семь месяцев). С флотом дела обстояли неважно. Видя невозможность исправить положение, Монж честно заявил, что не хочет руководить министерством, а если надо Республике, готов быть простым конторщиком в бюро. Он с радостью вернулся в Академию наук, где продолжал трудиться во славу Франции (организовал мастерские по производству пороха, работал над новыми военными технологиями, способствовал делу развития культуры и образования). К сожалению, Конвент на какое-то время закрыл Академию наук, а также высшие и средние специальные школы. Университеты, включая Парижский, превратились в чисто схоластические и формальные учреждения. Студенты на занятия не ходили, учились кое-как, а дипломы получали за особую плату. Среди профессоров было немало тех, кто, говоря попросту, хотел лишь «зашибить деньгу». Монж, названный Лагранжем «дьяволом геометрии», постарался исправить положение. Он создал Центральную школу общественных работ, где и руководил аспирантами-преподавателями. Эта каторжная работа требовала чрезвычайного напряжения сил. Показательно и то, что ученый не желал иметь никаких преимуществ перед трудовым людом. Он отправлялся каждое утро по мануфактурам с пайкой хлеба под мышкой. Ничего другого в его нищем рационе не было. Когда жена однажды пыталась добавить в его «рацион» кусок сыра, Монж возразил: «Право же, вы ввязываете меня в очень скверную историю; ведь я рассказывал вам, что, когда на прошлой неделе я проявил некоторое чревоугодие, мне пришлось с горечью услышать, как депутат Ниу с загадочным видом говорил окружающим: «Монж перестает стесняться: глядите, он ест редиску»… Так в годы революции жили истинные ученые.[676]
Лазар Никола Карно (старший).
Другой выдающийся представитель французской науки – Л. Карно (1753–1832). Организатор многих побед Наполеона, он все свободное от политических забот время уделял своей любимой математике. При этом он показал себя и как серьезный философский мыслитель. Его работы «Геометрия положения» (1803) и «Исследование секущих» (1806) легли в основу современной геометрии. Широко был известен в научных кругах и Пьер Симон Лаплас (1749–1827), астроном, физик, математик. Он создал «Аналитическую теорию вероятностей» (1812) и «Трактат о небесной механике» (1798–1825), предложив космогоническую гипотезу (гипотезу Лапласа). В 18 лет его назначили профессором военной школы, а затем приняли в Академию. Занятия небесной механикой Лаплас дополнил политикой. Наполеон сделал его на короткое время министром внутренних дел и наградил титулом графа (Людовик XVIII сделал его маркизом и пэром Франции). Лаплас считал вселенную устойчивой, не видя необходимости приводить её «в порядок» силой (как у Ньютона). Труды других французских ученых составили заметную страницу в истории науки (Лежандр, Лакруа, Пуассон, Пуансо).
Искусства самым непосредственным образом приняли участие в воспитании и образовании. В 1791 г. знаменитый Лувр становится крупнейшим национальным музеем. Руже де Лиль создает величественную «Марсельезу», которую вскоре узнает и подхватит весь мир. Картина художника Ж. Л. Давида «Клятва Горациев» стала знаменем революционной Франции, а ее девиз «Свобода или смерть!» вдохновлял отважных волонтеров, вставших на защиту республики. Триумфальную арку в Париже украсит величественная скульптура Рюда. Деятели искусств Франции обращают внимание правителей на ту роль, которую играет художественная культура в деле воспитания и обучения подрастающих поколений. Живописец Ж. Давид, первый художник страны, автор многих замечательных полотен, выступая в Конвенте (1794), страстно говорит о важной роли музеев и вообще искусства в воспитании юношества: «Не заблуждайтесь, граждане, музей отнюдь не бесполезное собрание предметов роскоши и развлечения, которые способны лишь удовлетворять любопытство. Он должен сделаться серьезной школой. Учителя пошлют туда своих юных питомцев, отец поведет туда сына. При виде гениальных творений юноша почувствует, как заговорят в нем те способности к наукам или искусству, которые вдохнула в него природа. Пришло время, законодатели, преградите дорогу невежеству, скуйте ему руки, спасите музей, спасите произведения, которые может уничтожить одно дыхание и которых скупая природа, быть может, никогда не создаст вновь. Прискорбное небрежение уже нанесло пагубные удары памятникам искусства; я не намерен перечислять здесь перед вами все испытанные ими злоключения».[677]
Ф. Рюд. Марсельеза (Выступление добровольцев в 1792 г.). Триумфальная арка в Париже.
Период с 1800 по 1815 год характеризуется и расцветом французской героической музыки. Воскресает интерес к древним грекам и римлянам. Музыкантов привлекает поэзия эллинов. Впервые французы занялись всерьез культурой и литературой других народов. Их внимание обращено на Гёте, Шекспира, Бетховена, Моцарта. На оперной сцене поставлены моцартовские «Свадьба Фигаро» (1793), «Волшебная флейта» (1801), «Дон-Жуан» (1805). Исполняется знаменитая симфония «Сотворение мира» Й. Гайдна. В 1795 году создана Парижская консерватория. Возводится прекрасное здание театра «Гранд Опера». Великий певец Адольф Нурри (1802–1839), слывший кумиром публики, в дни Июльской революции 1830 года будет петь народу «Марсельезу» с высоты баррикад. Его заветной мечтой стало создание театра для народа. Он восклицал, говоря о роли музыки: «Основать большой театр народной оперы! Сделать так, чтобы в души рабочих, ремесленников, мужчин и женщин предместий, проникло чувство прекрасного и понимание шедевров! Стать капельмейстером бедняков!».
Прекрасно о взаимодействии музыки и знания скажет известный французский композитор Гектор Берлиоз (1803–1869): «В музыке проявляются одновременно и чувство и разум; от каждого занимающегося ею, – будь то исполнитель или композитор, – она требует природного вдохновения и познаний, которые приобретаются только путем длительного изучения и глубоких размышлений. Соединение знания и вдохновения образует искусство. Музыкант, нарушивший это условие, никогда не станет подлинным артистом, даже если и получит право называться этим именем. Так и нерешенный Горацием по отношению к поэтам важный вопрос о превосходстве природных данных над знаниями или знаний над природными данными кажется нам не менее трудно разрешимым по отношению к музыкантам. Ведь удавалось же некоторым людям, совершенно чуждым музыкальной науке, создавать грациозные и даже величественные песни, пример тому Руже де Лиль с его бессмертной «Марсельезой».[678] Песня стала гимном страны. Французы не стали ее менять на «Боже, царя храни!» Вспоминая выражение Гюго – «Пение помогает вырастить лес», мы имеем право заявить вместе с нашим читателем: «Музыка и искусства помогают вырастить здоровую нацию».
Завершим наш рассказ кратким путешествием по Парижу… Историк культуры И. Гревс писал: «Из области психологии народов и жизни подвижников науки, людей жаждавших истины или вожделевших богатства и наслаждения, конкистадоров и романтиков, ловцов сильных ощущений и искателей утоления религиозного чувства, из биографий замечательных людей и наблюдений над детскою жизнью педагог-экскурсионист-путешественник почерпнет, как из рога изобилия, ценный материал для освещения задач и приемов экскурсионного дела. Это – непочатый фонд удивительной «информации». Он тут увидит, как в человеческих действиях, специально в тяге к путешествиям и в переживании путешествий многообразно скрещиваются утилитарные и даже корыстные побуждения с идеалистическими порывами и чисто духовными потребностями».[679] До этого Париж интересовал нас скорее как средоточие гения и силы французского народа, как своего рода духовный и идейный резервуар великой нации. В. Гюго в очерке, посвященном этому городу (1867), так сказал о его назначении: «Назначение Парижа – распространение идей. Бросать миру истины неисчерпаемой пригоршней – в этом его долг, и он выполняет его… Париж – сеятель. Где он сеет? Во мраке. Что он сеет? Искры. Все, что вспыхивает то здесь, то там и искрится в рассеянных по земле умах, – это дело Парижа. Прекрасен пожар прогресса, – его раздувает Париж. Ни на минуту не прекращается эта работа. Париж подбрасывает горючее: суеверия, фанатизм, ненависть, глупость, предрассудки. Весь этот мрак вспыхивает пламенем, оно взмывает вверх и благодаря Парижу, разжигающему величественный костер, становится светом, озаряющим умы. Вот уже три века победно шествует Париж в сияющем расцвете разума, распространяя цивилизацию во все концы мира и расточая людям свободную мысль; в шестнадцатом веке он это делает устами Рабле, …в семнадцатом веке – устами Мольера, …в восемнадцатом веке – устами Вольтера… Париж выполняет роль нервного центра земли. Если он содрогнется, вздрагивают все. Он отвечает за все, и в то же время он беззаботен».[680]
Жюль Ардуэн-Мансар и Шарль Лебрен. Зеркальная галерея Королевского дворца в Версале. Начата в 1678 г.
Велика роль Парижа в создании неповторимого облика культуры Франции. Граждане ее часто и верно говорят, повторяя слова Генриха Бурбонского: «Париж стоит мессы» («Paris vaut bien une messe»). Париж и в самом деле прекрасен, хотя и не очень древен. Некогда древние галлы на островах (самым крупным из них был остров Сите) построили маленькую Лютецию. Вспомним, что уже в XIV–XV веках Париж являл собой сердце Франции. Париж – это не только столица, но и пышный королевский двор. Известно, что сюда Кольбер, могущественный министр Людовика XIV, выписывал знаменитых архитекторов и скульпторов. Он не жалел средств, собирая в Париже и Версале греческие и римские статуи и слепки. Все они должны были служить «образцами для обучающейся художественной молодежи». Здесь же находилась знаменитая на всю Европу Сорбонна, работали переплетчики, переписчики и изготовители пергамента, миниатюристы, входящие в университетскую корпорацию. Известно, что Данте и Петрарка, посетившие сей град, оставили восторженные отзывы об «иллюминаторах» как о наилучших европейских мастерах. Здесь появились первые городские школы. В Париже сложилась одна из лучших художественных школ Европы.[681] По этому историческому, легендарному и беззаботному Парижу стоит прогуляться. Конечно, если мы захотим увидеть древние соборы, кладки старейших французских замков, вроде замка Германтов, «дворца фей», следует избрать иной маршрут, так сказать, «средь лилий Генриха и саламандр Франциска» (М. Волошин). Французский писатель М. Пруст, устремлявшийся в прошлое в надежде найти живых носителей «печати веков», говорит в своем романе «У Германтов»: «Посмотри на башни Германтов… Подумай, что возвышались они, нерушимо вздымая XIII век, тогда, когда… вас не могли приветствовать башни Шартра, башни Амьена, башни Парижа, которые еще не существовали».[682] Как видим, и Париж не стразу строился.
В эпоху Великой Французской революции город стал обретать и новые архитектурные черты… Исчезла построенная в XIV в. и модернизованная в середине XVII в. Бастилия. Площадь, возникшая на ее месте, стала алтарем, у которого служили молебны во славу героев, способствовавших падению тирании. На месте Бастилии возвели павильон для бала (18 июля 1790 г.), закрепив надпись: «Здесь танцуют». Декорации менялись: вскоре тут зазвучал хор из оперы Рамо «Кастор и Поллукс». Актеры пели: «Пусть все воспрянет, пусть все расцветет при имени святом Руссо». Фундамент бывшей тюрьмы стал местом, где установили бюст Руссо, сюда доставили и прах Вольтера. Французы желали увековечить память о революции. На месте крепости-тюрьмы они думали поставить колонну или храм. И разрушали они тюрьму, а не мавзолей! В другой стране, словно стыдясь своей истории, бездари, не положившие даже камня в основу здания, хотят вытравить память о великой Революции!
В 1790 г. на Марсовом поле, ранее пустынном и пыльном, создана площадь нового типа – площадь Федерации. Она не была окружена зданиями и служила местом сбора масс митингующего народа. В центре арены возвышался алтарь Отечества. Проект навеян замыслами архитектора Леду и разработан Келлериером. Здесь шли празднества, давались клятвы на верность народу. Тут провозгласили конституцию 18 сентября 1791 г. Именно здесь состоялся праздник Верховного существа, культ которого провозгласил Конвент по инициативе Робеспьера (8 июля 1794 г.). Посреди площади была возведена большая гора, к вершине которой вела крутая спиральная дорога. Художник Давид писал: «Огромная гора становится алтарем Отечества. На вершине возвышается дерево Свободы. Народные представители устремляются под его гостеприимные ветви» (всего там могли разместиться более 3 тысяч человек). Французская революция проявила склонность к гигантомании, как в дальнейшем и русская революция. В революционных эпохах есть нечто, что их роднит. Разве между проектом колоссальной башни Этьена Булле, появившимся в 1790-е гг., и планом гигантского Дворца Советов в России XX в. нет схожих черт?! Появляются строения, призванные запечатлеть черты эпохи. Возведенная архитектором Суффло церковь Св. Женевьевы (1791) получила название Пантеона. Тут найдёт успокоение «прах великих людей, заслуживших благодарность Отечества». Первым здесь захоронят Мирабо. Так стал меняться образ города.[683]
Ранее мы говорили о вандализме эпохи Французской революции. Однако были и 20 флореальских постановлений Конвента, заметно изменивших облик Парижа. Они касались украшения садов и дворцов в Тюльери, сооружения новых памятников: защитникам республики 10 августа – на площади Побед; народу – на Новом мосту; природе – на площади Бастилии; свободе – на площади Бастилии; постройки колоннады в Пантеоне; статуи Ж. Ж. Руссо – на Елисейских полях; крытых арен для концертов – на площади Новой оперы, близ больших бульваров; постройки храма Равенства; статуи Философии – в зале заседаний Конвента; расширение Естественно-исторического музея и восстановление Художественного театра.[684]
Изменения коснулись не только пространственно-архитектурного облика Парижа, но и его души. У любого города есть душа. Она может быть холодной и бесстрастной, а может быть и романтичной, пылкой и страстной. Париж скорее относится ко второму типу городов. Он страстен и чувственен… Вот как описывал Давид одно из шествий революционного народа в ходе праздника Единения (10 августа 1793 г.): «Сбор произойдет на площади Бастилии. Среди её развалин будет воздвигнут фонтан Возрождения в виде олицетворенной природы. Из её плодоносных грудей… забьет в изобилии чистая вода».[685] Её должны были пить из особой чаши представители 86 департаментов Франции. Ну чем вам не Фонтан наций на грандиозной Выставке достижений народного хозяйства СССР, хотя у нас не было статуи с короной египетских фараонов. Зато место фараонов заняли рабочий и колхозница. Однако разве перед ансамблем, переименованном в Храм Человечности, не стояла схожая по духу и смыслу фигура! Посредине площади был изображен скульптурно французский народ в виде колоссальной фигуры. Архитектурный облик Парижа стремился стать как бы «говорящим».
Ж. Шальгрен и др. Триумфальная арка на площади Этуаль в Париже. 1806–1836 г.г.
Париж – восхитительнейшая из фей, рожденная Францией… Фея, созданная руками талантливых строителей и архитекторов, чье каменное «платье» весьма изящно декорировано зеленью бульваров, парков и садов… В конце XIX-начале XX вв. он представлял собой уже совсем иную картину, нежели то, что мы ранее писали о нем («пейзажи» середины или конца XVIII в.). Обратите внимание на архитектурный ансамбль, расположенный между Лувром, Триумфальной аркой и Бурбонским дворцом. «Триумфальная дорога Франции», – сказал о пути от Нотр-Дам к дворцу Шайо французский писатель А. Моруа. Париж – не только одна из наиболее красивых, но и одновременно самая интеллектуальная столица мира (после Москвы). Тут каждый камень несет след величайшей культуры. Улицы, набережные, площади, музеи, бульвары Парижа – незабываемы. В столице много гармоничных ансамблей. Тут мирно и органично соседствуют Лувр и Нотр-Дам, Пер-Лашез и Монмартр, Комеди Франсэз и Институт Франции (средоточие пяти академий), Елисейские поля и Эйфелева башня. Тут гений барона Османна удивительнейшим образом сочетается с талантом инженера Эйфеля. Поклонники же ландшафтной архитектуры направят свои стопы в величественный Версаль.
Версаль – эталон французского классицизма. Это – русский Петергоф. Первоначальный замысел ансамбля состоял из города, дворца и парка. Его авторами были Луи Лево, Андре Ленотр и Ардуэн-Мансар. Начало работ над ансамблем относят к 1668 году. Над сооружением Версаля трудилась огромная армия архитекторов, художников, мастеров прикладного и садово-паркового искусства. Сады его великолепны. Как когда-то сказал о них Жак Делиль:
Пускай другой поет украшенное славой Движенье колесниц Победы величавой, Атрея грозного кровавые труды… Мне светит Флоры взор: я буду петь сады![686]К дворцу, парящему над окружающей местностью, ведут три широких проспекта, напоминающих трезубец Посейдона. К основному зданию примыкают два других. Помещения дворца отделаны с подобающей роскошью и разнообразием. Приемные залы посвящены античным богам (Аполлону, Диане, Марсу, Венере, Меркурию). Самое парадное помещение – Зеркальный дворец. Венецианский посол, описывая прием в версальской Зеркальной галерее, говорил, что там «было светлее, чем днем» и «глаза не хотели верить невиданным ярким нарядам, мужчинам в перьях, женщинам в пышных прическах». Дивное зрелище походило на некий волшебный сон («заколдованное царство»). Здесь масса чудесных строений: интимная королевская резиденция Большой Трианон, Мраморный двор и, конечно же, Версальский парк, являвший собой великолепное зрелище и прекрасную сценическую площадку для множества красочных и необычайных зрелищ, которые и устраивались тут двором.[687]
Говоря о сооружениях подобного типа, всегда следует помнить о двух сторонах медали. Одна из них – чисто практическая. Во что обходится народу и государству та или иная королевская (президентско-парламентская) затея? Ученые подсчитали, что за полвека, с 1661 по 1715 гг., Версаль обошелся нации в 68 млн. франков (включая сюда обслуживание парка и служебных помещений дворца). Много это или мало? Сумма расходов безусловно значительная, но она сравнима с простым бюджетным дефицитом государства в 1715 г. (тот составил 77 млн. франков). С другой стороны, не надо забывать, что Версаль стал своего рода «учебником изящного и прекрасного» не только для французов, но и для всего мира. Сюда устремлялись десятки посольств. Кстати говоря, и Россия в лице Петра Великого вобщем-то взяла за образец Версаль для возведения целого ряда величественных сооружений в Петербурге, Петергофе или Царском Селе. Поэтому нам кажется справедливыми оценка этого сооружения Пьером Верле, заметившим: «Все согласятся, что Людовик XIV, подарив нам Версаль, обогатил Францию. Траты Великого короля подарили миру замок, которым нельзя не восхищаться». Любовь короля к Версалю передастся затем и Франции. Разделяем мнение Блюша: «И если в течение века многие будут стремиться создавать в Европе вещи, похожие на Версаль, то из этого можно сделать вывод, что оригинал был выполнен с блеском».[688]
Знатоки театра устремятся на площадь Оперы (французы воспитаны классиками «больше, чем им самим это известно»), а поклонники наук двинутся, видимо, на площадь Сорбонны. Латинский квартал – цитадель студенчества и профессуры. В Парижский университет приезжают со всего мира. Здесь же, вокруг Сорбонны, расположены книжные магазины, дополняющие знаменитые развалы на набережной Сены. Париж – крупнейший университет культуры. Пословица гласит: «Lutetia non urbs, sed orbis» (Лютеция – не город, а целый мир).
Нет сомнений в том, что, помимо средоточия эстетического наслаждения, Париж является центром мысли Франции. Андре Моруа писал: «Вы скоро поймете, что Париж для Франции больше чем столица. Париж – мозг этого огромного тела. Это вовсе не значит, что во французских провинциях нет выдающихся людей. В действительности коренные парижане занимают в стране место, соответствующее их числу. Но все великие люди провинции получают признание только в Париже. Репутация действительна только тогда, когда она подтверждена Парижем».[689] Париж – прекрасный учитель истории для подрастающих поколений французов. А. Франс сказал: «Мне кажется, нельзя быть полной посредственностью, если вы воспитываетесь на набережных Парижа, напротив Лувра и Тюильри, рядом с дворцом Мазарини и славной рекой Сеной, которая течет между башнями, башенками и шпицами колоколен». Гонкуры всю жизнь изучали город, сделав его центром их интересов. Импрессионисты воспели незабвенный Париж в тысячах картин и рисунков. Гюго писал, что если Рим порождает «чернь», то Париж порождает «народ»: «Дитя Парижа, даже необразованное, даже невежественное – ибо до тех пор, пока не будет осуществлено обязательное обучение, оно, по воле правительств, будет обречено на невежество, – так вот, дитя Парижа, не подозревая об этом и не замечая этого, дышит воздухом, который делает его честным и справедливым».[690]
Лувр – это легенда Франции, ее муза и сокровищница. Туда устремлялись все, кто был отмечен когда-либо славой. Даже Мольер восклицал, обращаясь к музе: «Скорее в Лувр!» Делакруа проводил там дни и ночи. Если символом Рима является волчица, то символом Парижа стал Лувр (франц. «louve» – «волчица). Говорят, что на этом месте был когда-то расположен волчатник. Исторически Лувр возник в конце XII века на месте крепости, воздвигнутой Филиппом Августом около 1190 г. Затем тут стояли башни средневекового замка, одна из которых служила сокровищницей. Здание собственно Лувра стали возводить в 1540 г. и строили несколько столетий. Генрих IV в одной из зал замка поселил лучших мастеров живописи, скульптуры, ювелиров и чеканщиков. С 1640 г. тут печатались и книги. В XVII в. Людовик XIV предпринял грандиозную реконструкцию (1643–1715). Вокруг большой площади выстроились дворцы. Этот комплекс зданий и составляет нынешний Лувр, занимая территорию в 18 гектаров. С богатством его картин, скульптур, гравюр, рисунков, камней, гобеленов, фарфора, бронзы и керамики едва ли что может сравниться, разве что Эрмитаж. Луврский музей возник из небольшой королевской коллекции Франциска I, находившейся в его любимой резиденции – дворце Фонтенбло. Он задался идеей собрать в ней самые редкие драгоценности, которые стали бы принадлежностью короны. С него и пошла традиция собирать редкие предметы искусства и мастерства. Сюда стали поступать подарки особам королевского дома. Например, в залах Лувра можно увидеть зеркало в раме, украшенной изумрудами (это был свадебный подарок Венецианской Республики Марии Медичи). Среди россыпей редчайших драгоценностей особо выделяется знаменитый алмаз «Регент» (137 каратов), найденный в Индии, в копях Голконды. Алмаз пережил массу приключений, попадая в руки невольников, матросов, перекупщиков, губернаторов, герцогов, королей, революционеров (в 1792 г. он вместе с драгоценностями короны исчез при разграблении восставшими дворца Тюиль-ри), но каким-то чудом вернулся. Республика вынуждена была заложить алмаз богатому московскому купцу Трескову. Генерал Бонапарт вернул бесценный алмаз и приказал его вправить в эфес своей шпаги. Однако в 1799 г. он заложил его, чтобы иметь возможность совершить переворот 18 брюмера. Кстати говоря, русские цезари не покушались на драгоценности государства (а те, кто покушались, были далеко не русские).
Самый старинный зал в Лувре – «Зал кариатид». Он свидетель свадьбы Марии Стюарт, здесь ставил пьесы Мольер. Наиболее интересны залы, посвященные искусству Древнего Востока. Грандиозное собрание египетских древностей ныне занимает 20 залов, где можно увидеть и бронзовую статуэтку царицы Карамамы (IX век до н. э.), знаменитого «Сидящего писца», рельеф с изображением фараона Сети I, принимающего ожерелье от богини Хатор. В одном из залов находится кусок из черного базальта с клинописными буквами «Свода законов царя Хаммурапи» (XVIII век до н. э.). В Отделе античного искусстваваше внимание наверняка привлечет знаменитая Венера Ми-лосская, обнаруженная на острове Милос (1820). Венерой Ми-лосской назвал ее первый исследователь, секретарь французской Академии художеств Катрмер де Кинси. Так же ее называл и офицер Дюмон-Дюрвиль, участник экспедиции на острова Греции, быстро оценивший находку крестьянина. Возможно, статуя принадлежала резцу Праксителя. Когда фигуру выставили на обозрение, вся образованная Франция пришла на поклон, хотя у нее не было левой руки (по свидетельству Дюрви-ля, некогда она была с яблоком в руке – Венера с яблоком Париса). О ней писали Ламартин, Шатобриан, Мюссе, Гюго, Готье и другие. Французам пришлось выдержать настоящую битву с греками, чтобы доставить эту бесценную статую во Францию. Особенно хороша картинная галерея Лувра (Леонардо, Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Гойя, Делакруа). Тут же и «Джоконда» Леонардо да Винчи (жена флорентийского банкира Мона Лиза). Одним словом, невозможно побывать в Париже и не быть в Лувре. Вспоминаются слова Леонардо, писавшего портрет Моны Лизы: «Нельзя допустить, чтобы эта модель скучала…Тогда ничего не получится, кроме мертвенной передачи более или менее сходных с оригиналом черт лица».[691]
В последнее время Большой Лувр обновился и расширился. К нему добавилось «крыло Ришелье», открытое в 1993 г. и сопостоавимое по размерам со старым музеем XIX века, что на набережной Орсэ. Ансамбль, куда входит и «крыло Денона» с собранием итальянских, испанских и североевропейских культур, был полностью завершен в 1997 году. При этом открылись 35 новых залов французского искусства XVII–XIX вв. и были реконструированы залы античного искусства. Всего же во Франции имеется 34 национальных музея (из них 19 за пределами Парижа), а также около 900 музеев под контролем Министерства культуры. За последние четверть века были созданы или обновлены 80 музеев в Париже и провинции.[692]
Видное место занимает Франция и в жизни России, даже если не уходить далеко в прошлое. Известно, что Петр I посетил Францию (1717), ставя перед собой важные дипломатические цели. Эта страна уже играла тогда лидирующую роль в политике и экономике, определяя, наряду с Англией, Испанией и Голландией, многое. Русский царь стремился усилить свои позиции на Черном море и нуждался в поддержке могучей Франции. Однако и французская держава нуждалась в хороших и добрососедских отношениях с восточным гигантом. Напомним, что к тому времени Россия победила такого грозного соперника, как шведы. Вот что сообщал маршал Франции граф де Тессе герцогу Орлеанскому о своем разговоре с Петром. Петр сказал: «Положение Европы изменилось, Франция потеряла своих союзников в Германии, Швеция почти уничтожена и не может оказать вам никакой помощи. Я предлагаю не только свой союз, но и мое могущество»[693]
Стоит сказать о том, что предок великого поэта А. С. Пушкина, Абрам Ганнибал, крестник Петра Великого, учился в высшей военно-инженерной школе (Ecole de l'Artillerie). Идея созданной Людовиком XV школы принадлежит известному французскому инженеру Вобану. Попасть туда было очень трудно, ибо для этого требовались не только обширные знания в области математики и техники, но и высокие рекомендации из высшего света. Помогло то, что предок Пушкина имел военные заслуги перед Францией и за героизм, проявленный им в боях, получил чин инженер-лейтенанта французской армии. Три года спустя сам А. Ганнибал так описывал это событие: «Прошу донести Цесарскому Величеству, что я был в службе здес порутчиком инженерским, в котором полку я служил полтора года учеником. Понеже сделали здес школу новую для молодых инженеров в 1720 году, в которую школу не принимали иностранных, кроме тех, которые примут службу французскую, но я надеялся, что не противно Его Величеству, что я принял службу для лутчего учение»[694]
В дальнейшем особый интерес вызвали в различных слоях русского народа два события – Французская революция и война против Наполеона. Современники отмечали, что «Французская революция имела в России, как и в других местах, много приверженцев», что «вольноглаголение о власти самодержавной (стало) почти всеобщим, устремляющееся к необузданной вольности, воспалилось примером Франции». Одним из непосредственных результатов повышенного интереса к этим событиям стало появление массы французских изданий: «Все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно». Шла активная торговля из-под полы «подрывной литературой», на которую был спрос у переводчиков, студентов, профессоров. Некоторые сведения печатались и в русских газетах. В 1789 г. был опубликован русский перевод «Декларации прав человека и гражданина». При этом царская цензура тогда еще не запрещала печатать материалы о революции во Франции.
Французский посол граф Сегюр писал в мемуарах: «Хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы, и эта первая победа бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан и некоторых молодых людей более высокого социального уровня». Деятельное участие в революции принял даже воспитатель будущего царя Александра I, швейцарец Лагарп. Есть и масса других не менее значимых примеров, которые должны были бы заставить противников и недругов Революций всерьез задаться вопросом: «Почему?!» Почему многие просвещенные люди восприняли это событие с таким энтузиазмом. Правда, известный французский историк И. Тэн пришел к выводу, что революция 1789–1793 гг. была диктатурой городской черни в Париже и других городах, подобно тому как Жакерия была диктатурой черни в деревнях («История французской революции»). Этот ответ не может нас удовлетворить. Мы знаем, что Мирабо, Марат, Робеспьер чернью никогда не были. Не были ею Голицын, Строганов, Лагарп и другие.[695] Вероятно, у многих русских было предчувствие, что и России не избежать революции. Иные знатные русские приветствовали штурм Бастилии. В нем участвовали два сына князя Голицына, друг Радищева А. М. Кутузов, а Карамзин расхаживал по Парижу с революционной кокардой. Когда якобинцы основали клуб «Друзей Закона», туда вступил и граф П. Строганов (1790). По случаю принятия в члены клуба он заявил: «Лучшим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Россию возрожденной в такой же революции». Странная и удивительная страна, эта Россия, где графы и князья будут воевать «за чернь»!
Понятно и то, что отношение государственной власти России к Французской революции в корне изменилось после свержения короля и казни Людовика XVI. Известно, что Екатерина II пыталась собрать силы в Европе для разгрома республиканцев. Она не только субсидировала эмигрантов для восстановления монархии, но и за пару месяцев до своей смерти готовилась к организации, по сути дела, открытой военной интеревенции во Францию, планируя послать туда 60-тысячный корпус русских войск под командованием графа А. В. Суворова.[696]
Живой интерес проявили к событиям и крестьяне. Э. Жене писал: «Крестьяне пожирают сообщения о французских событиях, печатаемые в русских газетах». Тут у всех был свой интерес. Наполеон рассчитывал, что крестьяне встанут на его сторону в надежде получить свободу. Насколько иностранцы не понимают Россию, говорят факты. Например, Наполеона уверяли в том, что стоит его армии подойти к Москве, как все крестьяне восстанут и Россия будет покорена (так же думал Гитлер). В крепостном народе ходили слухи, что «француз хочет взять Россию и сделать всех вольными» (1807). Особеннобоялись такого бунта и восстания богатенькие столицы (Москва и Петербург). Власти высказывали официальные опасения: может случиться так, что домашние люди, живущие без состояния и родства (а их немало), «в соединении с чернью все разграбят, разорят, опустошат». Шпики доносят о беседах среди крепостных мужиков. Один другому говорит: «Погоди немного, и так будете все вольные. Французы скоро Москву возьмут, а помещики будут на жалованье». Генерал Н. Н. Раевский выражал страх по поводу возможных возмущений крестьян (июнь 1812 г.): «Я боюсь прокламаций, чтобы не дал Наполеон вольности народу, боюсь в нашем краю внутренних беспокойств».[697] Таких примеров масса. Надежды или страхи на воцарение в России французского императора и порядков, как говорят в таких случаях, были преувеличены. Историк Ю. Лот-ман, читавший лекции в Тартуском университете, однажды так высказался по этому поводу: «Когда Наполеон вступил на русскую землю, он отчасти рассчитывал на поддержку русского крестьянства, которому он, по его мнению, нес освобождение от помещичьего гнета и крепостного права. Однако русское крестьянство его не только не поддержало, но, как мы знаем, приняло активное участие в партизанской войне, потому что для русского крестьянина было невозможно, чтобы русским царем был француз. В сознании русского крестьянина законным, природным русским царем мог быть только немец».[698]
Попытку приоткрыть тайну событий во Франции конца XVIII в. предпринял и А. С. Пушкин, задумав очерк «О французской революции» (1831). Дело отчего-то не сдвинулось и он ограничился двумя ничего не значащими страницами. Возможно, великий поэт не смог или не пожелал честно ответить на острейшие вопросы, которые сразу же поставила перед ним тема. Нельзя забывать, что еще слишком свежи были в памяти раны (казнь декабристов). Словно ощущая внутренний зов, он вернулся к теме Великой Французской революции (в 1836 г.). В очерке «Александр Радищев» читаем: «Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра… В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения… Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на ценсуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой – чтобы писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».[699]
Велик Пушкин, спору нет, но как социальный реформатор он вряд ли подходит на роль пророка. Жизнь ясно показала, что верховная власть в России готова слушать только себя. Плевать ей на крестьян, писателей, ученых, учителей. Она слушает лишь то, что отвечает ее личным и корыстным интересам. Да что мысль – ЖИЗНЬ ЛЮДСКАЯ, истинно «священный дар Божий», не ставится ею ни во грош! Поэтому она нуждается не столько «в содействии людей просвещенных и мыслящих», сколь в помощи жуликов, циников, иуд и негодяев.
Резкая критика в адрес Французской революции не утихала в России и сто лет спустя. В частности, один из авторитетнейших русских мыслителей конца XIX-начала XX вв. Л. А. Тихомиров (как ранее Жозеф де Местр) подчеркивал, что так называемая великая революция не принесла истинной свободы народу… Однако для небольшой и даже ничтожной его части возникли небывалые возможности: «Для еврейства же открылась новая эра». Французские евреи предприняли очень серьезные усилия для того, чтобы раскачать корабль государственности. Дело даже не в том, что Моисей Мендельсон, живя в Берлине, стал вдохновителем Мирабо. Считается, что евреи при новой власти (либерально-рыночная модель) получили изумительную возможность соединить «демократию» (политическую машину господства кучки плутократов) с властью финансистов, спекулянтов («денежных мешков»). При этом разрушение христианской религии и соборов во Франции дало им тогда невиданную власть над умами (2300 католических церквей были обращены народом в «Храмы Разума»). В характерном отрывке из его «Религиозно-философских основ истории» (1913–1918) Л. А. Тихомиров говорит: «Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в революционной Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев отстояли – то молчанием, то низвержением «тирана» (Робеспьера) – и привели к эмансипации. Это была заря так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу это делалось, но так называемая эмансипация евреев была поставлена на всю мощь «современной» государственности, так что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени. При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали привилегированным сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду сохранили свою религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская… Для евреев получилось положение чрезвычайной привилегированности. Впервые в истории… они получили большие права, нежели местные граждане стран рассеяния. Понятно, что каковы бы ни были дальнейшие цели Воскресения Израиля, страны новой культуры и государственности становятся с тех пор опорным пунктом еврейства».[700] В его словах, конечно, есть толика правды. Однако неверно ставить полный знак равенства между великой революцией и усилиями пусть влиятельной, но все же маргинальной группы. Если евреи и приняли участие в революции во Франции, то их влияние среди масс населения тут не было столь значимым, как, скажем, в той же России.
Это не означает, что масонов не было в природе. Были. К масонским группам принадлежали даже некоторые видные представители Просвещения (д`Аламбер, Гельвеций, Вольтер). Отдельные масоны пописывали статьи в «Энциклопедию» Дидро. Однако соотнесите цифры и факты. Среди 150 редакторов «Энциклопедии» насчитывалось 10 масонов, а из 270 авторов опубликованных статей к их числу принадлежало только 17 (несколько заметных фигур). Связи Вольтера с «Энциклопедией» начались задолго до того, как он, уже в старости, вступил в парижскую ложу «Девяти сестер» (1778). К тому же «фернейский мудрец» довольно презрительно отзывался о них. Ходила легенда, что, якобы, и Наполеон был масоном. Но у него хватало и других проблем. Он не стал бы тратить время на подобные сборища. Находясь на острове Св. Елены, в одной из бесед он так охарактеризовал масонов (1816): «Это сборище глупцов, которые собираются, чтобы хорошо поесть и следовать смешным причудам». Хотя он и признавал: «Они помогли и во время революции, и совсем недавно ограничить власть папы и влияние духовенства. Когда чувства народа обращены против правительства, все секретные общества стремятся ему вредить». Последнее замечание верно. В те годы в странах Европы, как и во Франции, действовали противники царствующих режимов и правительств. Они работали скрытно, прикрываясь масонским орденом, что удобно для подрывных дел.[701] Такого рода масонский след мы затем увидим и в России.
Однако вернемся к теме оценки Французской революции. Глубоко нами чтимый профессор Московского университета Н. И. Кареев видел смысл революции в реализации благородных «принципов 1789 года». Если В. И. Герье уделял больше внимания психологическим основам якобинской диктатуры, то Кареева, в основном, интересовали ее политэкономические аспекты. Знаток социальной истории, он в «Общих основах социологии» (1918) отмечал консерватизм масс «в культурном отношении, а следовательно в политической и правовой идеологии, равно как в хозяйственном быту». Важна социально-политическая оценка, данная им санкюлотам Парижа. Он решительно поддержал якобинцев во главе с Робеспьером, хотя не скрывал своего несогласия с ними в стремлении «превращения сословного общества в бессословное гражданство». Считая необходимым принятие государством суровых мер против плутократов и спекулянтов, он в то же время писал: «Главным способом к этому явилось насильственное вмешательство в экономическую жизнь посредством реквизиций, установление максимума для цен на жизненные припасы, казней над хлебными барышниками, биржевиками, поставщиками в армию и т. п., что останавливало, в свою очередь, промышленность и торговлю, вредило интересам других классов и отражалось на самих же санкюлотах, так что им, раз уже вступившим на эту дорогу, оставалось лишь или совершенно отказаться от такой системы улучшения своего материального быта или идти далее по тому же пути, т. е. делать революцию бесконечной и усиливать террористические меры».[702]
Спор о Великой Французской революции (как и о революциях в России) не утихает и, полагаю, никогда не утихнет. В позициях сторон вскоре выясняется (если «поднять забрала»), чьи интересы, собственно, отстаивают спорщики. Жаждущие «заморозить» существующий несправедливый и позорный порядок делают акценты на просчетах, ужасах, преступлениях революции. Сторонники же народной власти и народно-демократического правления, естественно, делают упор на позитивных социополитических и экономических достижениях, последовавших за тем или иным радикальным переворотом. Иные старались затушевать сходство и усилить различия… Скажем, один из первых марксистов России, П. Струве утверждал (1920), что, кроме довольно поверхностных сходств в политической сфере, старый режим Франции не представлял аналогий с тем режимом, что был разрушен русской революцией. Для старого режима Франции характерны следующие черты: 1) партикуляризм, или раздробленность права и порядка управления в национально и культурно объединенной среде; 2) связанность торговли; 3) связанность промышленности; 4) крайнее развитие сословных привилегий, податное неравенство сословий. Вольтер острил, говоря, что, путешествуя по Франции, ему на каждой перепряжке лошадей «приходилось менять право». В России старый порядок отсутствовал: не было ни того партикуляризма, ни той архаичности права, которые характерны для Франции. Уже со второй половины XVIII в. в России окончательно восторжествовала свобода внутренней торговли, а внутренние таможенные пошлины были отменены в России «самодержавной императрицей Елизаветой приблизительно на сорок лет раньше, чем они были отменены французским революционным парламентом». В эпоху французской революции в России при господстве крепостного права в значительной мере (юридически) господствовал принцип свободы промышленности. Крупнейшим отличием русской революции от французской, по мысли Струве, было и то, что во Франции литература XVIII в. создала дух, который безраздельно господствовал и не имел себе соперников. «Рядом с ним не было никакого духовного течения, которое тогда же выдвинуло бы крупные умы и создало бы великие произведения. «L`esprit classique» в его редакции XVIII века вдохновил революцию и воплотился в ней. Только потом пришли Жозеф де Местр и Огюст Конт, между которыми стоит Сен-Симон. Совсем другое дело в России. В ее духовной жизни тот дух, который вдохновил революцию и воплотился в ней, не был отнюдь ни оригинальной, ни единственной, ни самой могущественной духовной силой».[703]
Еще большее значение обрели взаимоотношения России и Франции на рубеже XVIII–XIX вв., когда две армии столкнулись в Европе в борьбе за геополитическое господство. В суть этого спора вдаваться не будем, ибо это тема специального исследования. Суворов ведь заставил Европу считаться с Россией (единственный и самый эффективный способ вызвать у
Европы уважение к себе – бить ее на всех фронтах или торговать с нею, лучше то и другое). Стоило «непобедимому» Наполеону узреть мощь наших армий, как он тут же стал юлить.
Известно, что мысль о союзе России и Франции витала со времен Шетарди, который вел переговоры с царицей Елизаветой Петровной. С этой целью направили и графа Сегюра к Екатерине II. Бонапарту на первом этапе была очень нужна поддержка могущественной России. Будучи первым консулом, тот всячески старался найти ключик к сердцу русской монархии. Он даже просил об этом прусского короля, говоря в январе 1800 года: «Мы не требуем от прусского короля ни армии, ни союза; мы просим его оказать лишь одну услугу – примирить нас с Россией». Когда на престол в России взошел Павел I, многое изменилось. В России многое, если не все, зависит от ориентации «монарха». Если он смотрит на Англию, США – курс один. Если России повезет и у власти оказывается личность поумнее, знающая историю и традиционный антируссизм англосаксов – ситуация иная. Павел был более дальновидным политиком, нежели у нас привыкли о нем думать и говорить. Он заявил: «Что касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее прибегающей ко мне, в особенности как противовесу Англии». Стоило англосаксам распознать, куда дует ветер (антианглийский курс), они тут же повели тайную войну против царя. Посол Англии Уитворт дерзко и угрожающе заметил: «Император в полном смысле не в своем уме».[704]
Обе державы «созданы географически, чтобы быть тесно связанными между собой». Бонапарт считал, что Франция и Россия должны быть стратегическими партнерами. В свою очередь, и Павел проявлял знаки внимания и симпатии к французскому руководителю (в его кабинете появляется портрет Бонапарта, он резко требует от Людовика XVIII покинуть Ми-таву). Они строят совместные грандиозные планы: высадка в Ирландии, раздел Турции, военные действия в Средиземном море и покорение Индии (35-тысячный французский корпус должен был встретиться с русским в Астрахани, на пути в Индию). Хотя план сохранялся в тайне, кто-то из царского окружения наверняка донес. Англия всполошилась. И Павла I убрали свои заговорщики (Н. Панин). Все предатели в России обычно находятся в «ближнем окружении». Поговаривали, что в убийстве замешан посол Англии Уитворт. Так считал и Бонапарт: «Они промахнулись по мне 3 нивоза, но попали в меня в Петербурге». Союз с Францией не состоялся. Англия нанесла удар с обычным коварством, как тайный убийца.[705]
Свидание в Тильзите.
Интерес к Франции у русских не пропадал никогда. В 1790 г. писатель Н. М. Карамзин посетил столицу. Он так описывал Париж тех лет: «Принимаясь за перо с тем, чтобы представить вам Париж хотя не в совершенной картине, но по крайней мере в главных его чертах, должен ли я начать, как говорили древние, с яиц Леды и объявить с ученою важностию, что сей город назывался некогда Лютециею… Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге… Вошедши в сад (авт. – сад Тюльери), не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада, или красотою бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник Ленотр, творец сего, конечно, искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатью ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так, как в полях Елисейских, а так называемые лучшие люди, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу, посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы – красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет – взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Останьтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите… тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира – кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, – зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или по крайней мере цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты – так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным и самым вонючим городом».[706] В то время город еще не был таким, как описал его Бодлер: «Дворцы, ступени и аркады в нем вознеслись, как Вавилон».
Карамзин побывал во Франции в самые горячие дни начала революции. Вероятно, он стал свидетелем многих захватывающих событий. Тогда толпа в Париже устроила самосуд над генеральным контролером финансов Фулоном (конец сентября 1789 г.). Он устанавливал налоги и вызвал всеобщую ненависть масс своими словами о том, что голодающие могут жрать сено. Его отрубленную голову, окровавленный рот которой был набит сеном, носили по улицам Парижа. Это было дикое и страшное зрелище. Но разве не прав был Бабёф, обвинивший власти в том, что они превращают народ в зверей?! Он побывал и в Лионе, где видел сцены такого же рода. В целом, его отношение к революции было, скорее, негативным. Он увидел во французском народе «страшного деспота», который только и занят казнями и насилиями, крича «a la lanterne»! («на виселицу!»), хотя будущий историк не мог пропустить столь выдающегося события. Кутузов, посетивший в это время Париж, оценивая итоги заграничного путешествия Карамзина, писал: «Может быть, и в нем произошла французская революция?» Историк побывал и в театрах, и в салонах, и на улицах, и в Национальном собрании. Несмотря на то что он однажды сказал «боюсь крови и фраз» (по поводу испанской революции), его увлекли речи Робеспьера, которого он слышал многократно. Ю. М. Лотман в книге о Карамзине писал: «Карамзин наблюдал. То, что он видел, его, вероятно, ужасало, но и влекло. Можно думать, что в вихре политических мнений, в потоке слов магнитной стрелкой для него была личная честность говорящих. С этим связана неожиданная, но засвидетельствованная достоверными и близко знавшими Карамзина мемуаристами глубокая человеческая привязанность его к Робеспьеру.
Николай Тургенев вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. – Ю. Ё.) рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы: под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи». Мнение это тем более должно было удивить Николая Тургенева, что сам он к Робеспьеру относился весьма отрицательно. Однако этому не следует удивляться: декабрист Тургенев, когда думал о Робеспьере, видел перед собой исторического деятеля, известного ему по страницам книг и брошюр. Он оценивал политическую программу и историческую роль вождя якобинцев. Карамзин видел перед собой человека, его жесты и позу». Позже он, правда, несколько разочаровался в утопии, сказав стихами: «И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить»[707]
Даже наше признание гения Франции и ее культурных заслуг не позволяет закрывать глаза на общее (убогое) развитие европейского люда. Вот что писал в своих заметках русский писатель Фонвизин, путешествовавший по Европе в XVIII в.: «Могу сказать, что кроме Руссо, который в своей комнате зарылся как медведь в берлоге, видел я всех здешних лучших авторов. Я в них столько же обманулся, как и во всей Франции. Все они, выключая малое число, не то, что заслужили почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер». В другом месте читаем: «Человеческое воображение постигнуть не может, как при таком множестве способов к просветлению, здешняя земля полнехонька невеждами. Со мною вседневно случаются такие сцены, что мы катаемся со смеху. Можно сказать, что в России дворяне по провинциям несказанно лучше здешних, кроме того, что здешние пустомели имеют наружность лучше».
В письме Фонвизина П. И. Панину делается весьма любопытный вывод, не лишенный актуальности и во времена нынешние: «Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею в многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве».[708] Эволюция ума русского драматурга, начавшего свой идейный путь с поклонения Западу и атеизма, а пришедшего в итоге к вере и национализму, могла бы кое-что подсказать и современникам.
Повышенный интерес к России проявляли и французы. Особенно это стало заметно в XVIII–XIX вв., когда они поселилисьв двух русских столицах (в связи с революцией и эмиграцией). На территории Российской империи в 1793 г. обитало 2423 француза. Три четверти проживали в столицах и ближайших к ним городах. Если и заносил ветер судьбы в провинцию, то в качестве учителей. В основном это были все же представители трудовых профессий (учителя, военные, ремесленники, повара). Хотя около тысячи из них могут быть отнесены к лагерю «диссидентов» (политических эмигрантов). Среди известных эмигрантов: брат якобинца Ж. – П. Марата – Будри, философ и писатель Жозеф де Местр, который прожил в России около 14 лет, и, наконец, герцог Ришелье (известный на всю Одессу «дюк»). «Дюк» Ришелье оставил заметный след на юге России. По поручению Екатерины он создал план военных поселений в Новороссии. Его назначили губернатором огромного южного края, включавшего три губернии. Вот как писал о нем историк Д. А. Ростиславлев: «В своей практической деятельности герцог пытался воплотить свой политический идеал. Он управлял Но-вороссией, как средневековый сюзерен, ревниво относясь к вмешательству в дела края столичной бюрократии. Ришелье лично объезжал край, возглавлял военные экспедиции против непокорных горцев, вникал во все вопросы управления, выделения земельных участков. Для своих подданных он был справедливым правителем, судьей, распорядителем земельного фонда. Ришелье опирался в управлении на людей, которым он лично доверял. Среди них абсолютно преобладали дворяне, в том числе французские эмигранты».[709]
При Екатерине II в столицах появилось множество модисток и лавок модной одежды. Когда в Москве дамы отправлялись на Кузнецкий мост за покупками, они говорили: «Ехать во французские лавки». В повести Сенковского даже есть такое выражение: «все эти Европейцы Кузнецкого Моста». Вспомним и слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума»:
А все Кузнецкий мост, и вечные французы, Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: Губители карманов и сердец! Когда избавит нас творец От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок! И книжных и бисквитных лавок!Влияние французской культуры было более широким. Важным «агитатором» и «пропагандистом» выступал живой французский язык. Все образованное общество в России худо ли, бедно ли, но владело французским языком. Хотя, как утверждал маркиз де Кюстин, знали они его ровно настолько, «чтобы читать, да и то с трудом». Тем не менее, это приличный вполне уровень. Образованные люди знакомились с главными произведениями, созданными во Франции. Император Николай I каждый день прочитывал от первой до последней строчки единственную французскую газету «Журналь де Деба». Хотя свет общался, скорее, на некой смеси «французского с нижегородским», были в русском обществе и такие высокообразованные личности, как А. С. Хомяков.
Французский язык Хомякова неизменно вызывал восхищение у тех, кто с ним сталкивался. Г. Морель вспоминал: «Французский читатель испытывает впечатление, исполненное очарования. Прежде всего, это восхитительная неожиданность: спрашиваешь себя, откуда иностранец, который едва лишь проездом повидал Францию, мог столь совершенно овладеть ее языком? Ибо французский язык Хомякова не просто правилен и даже изящен, в нем не только различаются наитончайшие оттенки смысла слов, но более того, предложения – всегда остающиеся легкими, несмотря на свою длину, – развиваются с гармонией и плодовитостью, напоминающей лучших прозаиков великого столетия.
И однако, сколь бы ни был французским язык Хомякова, чувствуется, что ни в какую эпоху так не писали по-французски во Франции. В XVII в. не было этого лексикона, а в XIX уже не было этого синтаксиса. Хомяков много читал наших лучших авторов, и именно им он обязан архаическим совершенством своего языка»[710]
Порой переходил на французский язык и Пушкин. И. Тургенева называли «самым французским из русских писателей». Философ Вл. Соловьев сочинил на французском главный труд – «Россия и Вселенская церковь», а ученый И. Мечников, переехавший жить во Францию для работы в Институте Пастера, вообще писал работы на французском. Директор Института Пастера Э. Ру говорил ему: «Оставаясь русским по национальности, вы сделались французом». Хотя эта увлеченность французской культурой верхов порой переходила все разумные границы. Как скажет российский историк В. О. Ключевский: «Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Сегодня же из нас, русских, хотят сделать англосаксов или, на худой конец, евреев.
Впрочем, следовало учесть, что французский язык был в то время языком международного общения, признаком принадлежности к высокой культуре. В этом смысле показательно и характерно письмо юного А. Горчакова, будущего канцлера, к дядюшке, где тот пишет: «Приятно мне очень видеть из Вашего письма, любезный дядюшка, что Вы хотите из французелюба (за которого Вы меня почитаете) сделать русского, но позвольте заметить, что тут вы немного ошибаетесь, люблю французский язык, потому что он необходим, что без него нигде показаться нельзя и что, словом, он сделался вернейшим признаком хорошего воспитания. Но я к нему не пристрастен до той степени, чтобы пренебречь отечественной словесностью» (из Царскосельского лицея).[711] Подобные слова мог сказать в ту пору едва ли не каждый член высшего общества. Не случайна и полная победа карамзинского стиля. Ведь Карамзин многое перенял у французов. П. Милюков довольно тонко подметил в «Очерках по истории русской культуры», что «славянщина» была окончательно вытеснена из литературного языка, чтобы уступить место «приятности слога, называемой французами elegance».[712]
Впрочем, интерес к французскому языку был заметен и в провинции (среди дворян). Скажем, ярославский помещик Н. И. Тишинин (переводчик, литератор) принимает решение обучать свою дочь французскому и заключает договор с учительницей из Франции, некой Ж. де Крузаз. Текст гласит: «Я обязуюсь вступить во услужение к господину Тишинину французскою мамзелью на следующих кондициях; а именно обещав дочери его, благородной девице, дать пристойное воспитание в рассуждении как обхождения, учтивости и прочих похвальных качеств, так и особливо добосердечия и достойных природы своей нравов; словом, она от меня все наставления получить имеет, которые благородной девице знать должно, причем обучать ее буду французскому языку, истории и географии, и для того родитель ее меня не оставит, снабдит потребными книгами. Еще же я обязуюсь обучать ее читать, писать по орфографии, сколько я сама умею, сверх того и служительнице нашей не оставлю давать наставление во французском языке. Я надеюсь, что со мною поступлено всегда будет с такою учтивостию, которую учительнице оказать должно; …в рассуждении платы я довольна тем, что господин Тишинин мне обещать изволил… двести рублев в год» (1767).[713]
Значительная часть военных, побывавших в Париже с великой русской армией, сокрушившей Наполеона, конечно, не могла остаться равнодушной не только к прелестям француженок, но и к социально-политическим и культурным завоеваниям французского народа. Это выражалось в письмах домой, в понимании высокого уровня жизни европейцев. Впоследствии все признавали значение такого вот психологического воздействия. Спустя многие годы поэт А. Фет в переписке с великим князем Константином Константиновичем (известным в литературе как поэт К. Р.) отмечал: «Принесшие из Парижа дух французских писателей XVIII века гвардейцы задумали перенести революцию и на русскую почву; но декабристы встретили отпор непреклонного хранителя самодержавия Николая Павловича. Несмотря на полнейшую неудачу, республиканский дух преемственно сохранился в высших умственных слоях, преимущественно мира науки. Гвардейцы заразились в Париже гражданским свободомыслием, а адепты германской науки – в философских школах».[714]
На французском писались даже конституции. В 1820 г. в канцелярии Н. Н. Новосильцева в Варшаве, по поручению императора Александра, составлена конституция по-французски, не по-русски (похоже, у нас все конституции пишутся «западниками» то на французский, то на американский манер). Проект российской тогдашней конституционной хартии декларировал политические свободы и равенство всех граждан перед законом. Увы, цели этого проекта так и остались на бумаге.[715] В иных случаях, впрочем, к месту и слова Г. Державина: «Французить нам престать пора!» Почему бы нам не создать основной Закон страны по русским меркам! Вон и на триумфальной арке в Царском селе, воздвигнутой в честь побед русского воинства над Наполеоном, надпись была сделана на французском. Характерно и то, что когда в 1829 г. в России отмечалась 25-летняя годовщина взятия Парижа и решили воздвигнуть памятник победы над галлами (а с ними – двунадесять языков), исполнение проекта опять же было поручено французу А. Монферрану (1786–1858). Как известно, Монферран получил образование в Королевской школе архитектуры, где учился у главных архитекторов Наполеона (Ш. Персье, П. Фонтэна). С 1816 г. он жил и работал в России, будучи автором проекта Исаакиевского собора. А затем вот родилась и величественная Александровская колонна в Петербурге, которая была выше известных дорических колонн Антонина, Траяна и Вандомской колонны. Кроме того, в нее был заложен и совершенно иной содержательный смысл. Верх колонны украшала не фигура цезаря, а образ Веры в виде ангела с крестом в руках, попирающего ядовитую змею. Колонна символизирует победу славного русского воинства над европейскими варварами (внизу помещены наряду с римскими доспехами и русские – скульптурные изображения шлема Александра Невского, лат царя Алексея Михайловича, щита князя Олега, некогда прибитого на вратах Царьграда).
Подобно тому как французский язык некогда вошел в обиход значительной части российского дворянства, по популярности с ним соперничала и прекрасная французская кухня. Начиная с петровско-екатерининских времен в Россию хлынул поток парикмахеров и кухмистеров из Европы. Естественно, в их числе были и французы (знаменитые французские повара Карем, отец и сын Жебоны, Пети, Гильта и другие). Надо сказать, что они нисколько не испортили русской кулинарной школы. Напротив, даже сделали стол наших любезных соотечественников разнообразнее, тоньше, изысканнее. Эти вкусы укоренились в обществе, несмотря на краткий период «застольной блокады», когда русские объявили супостатам в 1812 г. бойкот (бойкот не только оккупантам, но и французским кушаньям и винам). Многие тогда из патриотических побуждений перешли на все русское (кулебяки, каши, кислые щи).[716]
Понятно, что влияние французских нравов и вкусов выходило за границы столов, «книжных и бисквитных лавок». Характерно, что даже «солнце русской поэзии» А. С. Пушкин, говоря как-то о значении «Горе от ума» тогда еще не признанного Грибоедова, отразил то глубокое проникновение французской истории и культуры в умы и языки российского образованного общества. Он сказал: «Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерской ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе».[717] Мода не ограничивалась лишь лавками. В XVIII в. писатель П. – О. Бомарше написал комедию «Севильский цирюльник» – и стал великим. В России в конце XX в. создается помпезный «Сибирский цирюльник». В первом случае слуга-цирюльник становится народным героем, во втором герой-император больше похож на слугу, «слугу двух господ».
Гражданское общество в России всегда симпатизировало французской культуре. Побывав в России, это обстоятельство отметил и писатель А. Дюма (1858). В частности, он увидел, что многие образованные русские знают и любят Виктора Гюго, Ламартина, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и зачитываются его романами (даже в отсталой тогда еще Финляндии). Он решительно был несогласен с де Кюстином, утверждавшим, что сам воздух Россиии чужд искусству («воздух этой страны враждебен искусству»). Кстати, большая заслуга А. Дюма в том, что, вернувшись во Францию, он познакомил французского читателя с поэтами и прозаиками России. Не зная русского языка, он при помощи подстрочника сумел создать первые поэтические переводы из Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Некрасова, перевел повести Бестужева-Марлинского и Лажечникова, способствуя сближению культур.[718]
Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I в Ленинграде. 1766–1782 г.г.
После завершения тяжелейшей войны против Наполеона возрос интерес и к французским мемуарам. Чем он вызван? Конечно, не только желанием узнать мнение вчерашнего противника о России, но открывшимися перед русскими большими возможностями, известной тягой к европейскому миру и культуре. Тысячи людей, не покидавших ранее отечества, теперь, так сказать, полЕвропы прошагали (в первый раз). Одним из примеров культурного влияния, последовавшего после личного знакомства с Европою, стал и пробудившийся в России интерес к мемуаристике. В начале XIX в. во Франции появились мемуарные серии книг (по 60—100 томов). Из Европы в Россию хлынул настоящий книжный потоп. «Московский Телеграф» отмечал: «Особенно Франция представляет в своем отношении богатый запас материалов и неимоверную деятельность книгопродавцов. Неудивительно! Книги французские читаются везде». В. Белинский рассматривал исторические записки (memoires) в качестве прямой «собственности французов», называя оные – «чадо их народности». Многие искренне желали, чтобы и в России, наконец, появилась такого рода мемуарная литература.
Мемуары с точки зрения социокультурного и политического влияния выполняют важную общественную роль. Мемуары – память народа, запечатленная в книгах. Раньше «право на память» имели лишь царственные особы и вельможи. Порой в их ряды попадали различные выдающиеся личности (писатели, художники, ученые). После же эпохи революций многие обрели право не только владеть собственностью, избирать и быть избранными во власть, но и писать мемуары. Так, глас обычного, простого человека стал доступен векам и потомкам. Трудно переоценить всю значимость этого события. Отныне мы – «свидетелиистории», глас которой уже не замолчать. Разумеется, иные мемуары не гарантируют от искажений действительности. Но они более красноречивы, нежели «сухие документы» (которые так же могут лгать). В мемуарах обманы и пристрастия заметнее. Народ, любящий читать мемуары, имеет больше шансов обрести свободу. Ведь в них можно поведать истину, заклеймить тиранов, предателей и воров, отомстить врагам отчизны. Любите мемуары. В них сокрыто тайное оружие, которое может вдохнуть веру и энергию в людей достойных, преданных своему отечеству (или же наказать властных ничтожеств). И тогда огненные строки, словно письмена Валтасара, появятся на чертогах презренных правителей. Любите мемуары, друзья.
Последнее обстоятельство заставляло верховную власть в России относиться с крайней подозрительностью, чуть ли не с тайным страхом ко всякого рода запискам и мемуарам. Иные вельможи (цари, генсеки, премьеры, президенты, банкиры, генералы и т. д.) так наследили в истории России, что норовят подальше спрятаться от глаз потомков. Академик Л. Н. Майков удивлялся, приводя в пример Англию, где существовал обычай после смерти известного лица печатать все материалы, касающиеся его биографии. У нас в России тогда наблюдалась совершенно противоположная картина. Умрет знаменитый человек – и через 20–30 лет материалы о нем приходится разыскивать «как о каком-нибудь деятеле древних времен». Хотя, с другой стороны, надо было бы спросить: а может, он жил так, что народ уже через 20 лет вспоминать не хочет об этом властителе-разбойнике! Вот и А. Я. Булгаков, когда писал брату, санкт-петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову, сожалел: «У нас не так, как во Франции; там всякий министр пишет все, что видит, знает и делает».[719] Чудной человек этот А. Я. Булгаков. Он, кажется, не вполне отдавал себе отчет, что живет в России, а не в Англии или Франции… Да если у нас каждый царь, президент, премьер, министр, генерал, или крупный чиновник начнет писать всё, что знает, ему же головы не сносить.
Хотя Александр III при открытии французской выставки в Москве (1891) обнажил голову, стоя выслушав гимн Французской республики «Марсельезу». Используя нашу музыку, Э. Ленобль и М. Роже пишут франко-русский гимн: «Оба народа священные узы будущим свяжет одним». Это было время русско-французского сближения и создания союза. В 1897 г. Розанов набросал отрывок «Франко-русских впечатлений», в котором, наблюдая французов среди русской толпы, отметил «превосходство русского в сторону глубины» и превосходство француза «в сторону естественной, природной грации». Гораздо более важна готовность французов к активному действию, к воплощению замысла, к мускульному поступку. У нас же Иван готов сотню-другую лет просидеть на куче навоза, все возмущаясь по поводу того, что никто не взял, да не убрал эту «кучу дерьма» (за него и вместо него, разумеется). Розанов пишет: «О, тупица тысячу лет просидел бы в навозе и твердил: «je suis et j`y reste»; его обстригли бы, его хоронили бы, и он, уже только кончиком носа выглядывая из-под земли, твердил бы: «je suis et j`y reste». Но эта фригийская шапочка – это эмблема исторической резвости, вечного внимания к минуте; внимания и к окружающему; и под нею, как под чеченскою папахой или старомосковской пудовой шапкой, нельзя прийти в состояние, описанное поэтом в стихе: «Спит, покой ценя». И вот отчего эту вечно одушевленную резвушку так любили всегда европейские народы; таким связующим, объединяющим и, следовательно, высокочеловечным звеном она вошла в семью их».[720] Этой вот «резвости», политической воли и гражданского мужества очень не хватает нам, русским (русским особенно).
Простой народ относился ко всяким «французским штучкам» без особого энтузиазма. Он видел не радужные образы европейца, а колонны мародеров и захватчиков, вторгшихся в Россию под знаменами «просвещенной Европы». Труженик не разделял любования интеллигенции заграницей и неумеренное восхваление оной. В народной среде получили распространение шутливые песенки, вроде той, что приводим ниже («Москва и Париж»):
Не дошедши до Парижа, Стал хвалиться Парижом. «Не хвались-ка, вор-француз, Своим славным Парижом! Как у нас ли во России Есть получше Парижа: Есть получше, пославнее, Распрекрасна жизнь Москва. Распрекрасна жизнь Москва, Москва чисто убрана…».[721]Частично поэтому у некоторых французов и европейцев складывалось о России не всегда верное (и не очень лестное) представление. Достаточно заглянуть в книгу Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Маркиз, воспользовавшись кратким путешествием по России, сделал далеко идущие и в основе своей ложные выводы. Он уезжал из Парижа с надеждой, что лишь тесный союз Франции и России способен внести мир в европейские дела. Но, увидав вблизи русский народ, узнав «истинный дух» его правительства, он почувствовал, что наш народ отделен «от прочего цивилизованного мира мощным политическим интересом, опирающимся на религиозный фанатизм». Кюстин уверял французов, что они должны искать себе поддержку у других наций, с которыми их связывают общие нужды и интересы. Такими великими нациями он счел французов и немцев, за которыми последует остальная Европа. «Судьбы нашей цивилизации, открытой, разумной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы». О том, что представляет собой эта «разумная Европа», мы видели и видим. Она развязала две мировые войны и недалека от развязывания третьей.[722]
Каковы же его впечатления от самой России, её целей и её будущего? Перед нами предстает мрачное, тупое и безнадежное общество. Создается впечатление, что Кюстин специально поставил целью представить Россию «страной запуганных идиотов». Дадим ряд выдержек. Итак, в России человеческое достоинство, конечно же, совершенно неведомо. Русские более проворны, чем мускулисты, более свирепы, чем энергичны, и более хитры, чем предприимчивы. Самое для них трудное и наименее естественное – это чем-то всерьез занять свой разум, на чем-то сосредоточить воображение. Русские не могут найти себе полезного применения, ибо – вечные дети. Ум их от природы ленив и поверхностен. Они напрочь лишены и научного гения. У русских никогда не проявлялась способность к творчеству. Ими движет только страх. Поэтому они готовы идти на всё. Кюстин видит колосса вблизи – и ему трудно представить, что сие есть творение божественного Промысла. Кюстин убежден в том, что главное предназначение России «покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия». Россия, считает он, «недоцивилизация». Удел русского общества (как думали тогда и думают сейчас многие «знатоки России» в Европе и западном мире) – «распространить свои завоевания на Восток, а затем распасться самому».[723] Подобная глупость живуча. Ох уж этот «бесстыдный ум француза» (К. Бальмонт).
Очевидно, у Кюстина – «плохая память»… Ведь это не Россия, а Франция во время революции декретами Конвента установила в Европе французскую диктатуру! Поход во имя освобождения стал походом завоевателей. Бриссо в 1792 г. заявил, что «границей Французской республики должен быть только Рейн». Не было и речи о всяких там демократиях и свободах для народов. Революционеры заявили: «Поэтому объявите, что вы никогда не будете вступать в переговоры с бывшими тиранами…» Так действовала буржуазия, признавая суверенитет только тех, кто признал законную власть Революции, давала собственность на управление лишь лояльным к Франции, ввела французские деньги. Это был революционный «протекторат Франции над народами». Ее курс в Европе был повсюду принудительным![724]
Сложным было, естественно, отношение народов и к французам. Руссо говорил: «Франция, эта кроткая и доброжелательная нация, которую все ненавидят и которая ни к кому не питает ненависти»? В чем причина такого к ней отношения? Разве не в том, что эта «кроткая и доброжелательная нация» поставила на колени почти полмира! Мы уже не говорим о прозелитизме, свойстве, которое де Мэстр считал преобладающим свойством французского характера (по отношению к идеям и, добавлю, к модам). Идеи вообще опьяняют французов (и русских), подобно самым крепким винам. Аббат Галиани говорил, что если итальянец играет словами, то француз одурачивается ими. Итальянцы с немалой завистью и страхом взирали на подъем Франции. В начале XIX в. Джиоберти писал о «чрезвычайно поверхностной и шарлатанской Франции» и называл её в одном из стихов «злодейская и черная Франция». Мстя французам за победы, он обрушил на них потоки критики… Плебеи, лишенные «творческой силы», не способные «господствовать над миром». Он высмеивал их любовь ко всему человечеству, называя «первыми лгунами на земном шаре». Они готовы проявлять забавное фанфаронство, называя «свои революции мировыми». Так же будут поступать и революционеры в России. Французы – тщеславны, как и все нации, но это еще не основание для того, чтобы лишать их заслуженных наград и героизма (там, где они того стоят).
Особые отношения у французов с немцами… Они напоминают отношения Зевса со своим сыном Аресом (Марсом), или Кастора и Полидевка. Народы эти часто меняются ролями, так что сразу и не определишь, кто из них кто. Однако немец не сделает и шага, не спросив себя, а что об этом подумает его кровник-француз («глаза Германии всегда были устремлены на Францию»). Многие немцы старались по мере сил быть объективными к сопернику. Кант отмечал их «благорасположение и готовность помочь», «радость при оказании услуги», «универсальную филантропию», хорошее воспитание и вежливость. Француз «любит, вообще говоря, все нации». К примеру, «он уважает английскую нацию, тогда как англичанин, никогда не покидающий своей страны, вообще ненавидит и презирает француза». Кант считал, что французская нация, в целом, достойна любви. При этом он подчеркивал, что все главные заслуги и достоинства французской нации связаны с женщиной. «Во Франции, – говорил он, – женщина могла бы иметь более могущественное влияние на поведение мужчин, чем где-либо, побуждая их к благородным поступкам, если бы хоть немного заботились о поощрении этой национальной черты». Гете не только признавал хлебосольство французов, но и воздавал должное их гениям: «никогда не будет узнано все, чем мы обязаны Вольтеру». Он отмечал наличие в них «ума и остроумия», а также глубины, гения, воображения, возвышенности, естественности, таланта, благородства и т. д. и т. п. В то же время указывал на отсутствие у них устоев и уважения к религии. Автор «Демокрита» Вебер (XVIII в.) был уверен, что «французы имеют право занять первое место среди народов и составляют действительно высшую нацию по своей живости и быстроте ума». Когда другие народы обычно плакали бы или корчились от бешенства, «они смеются, и так было всегда…» Бальзак писал о своем народе (вспоминая Стендаля): «Автор смеется над тем, что любит, он – француз».[725]
Мнения немцев в отношении галлов порой содержат и скрытую неприязнь, не говоря уже о всевозможных колкостях. Фридрих II бросил в их адрес упрек (или похвалу?): «Мне нравится приятная мания французов быть вечно в праздничном настроении; признаюсь, я с удовольствием думаю, что четыреста тысяч жителей большого города поглощены исключительно прелестями жизни, почти не зная ее неприятностей…» (1739). Гейне отмечал, что французы «любят войну ради войны, вследствие чего их жизнь, даже в мирные времена, наполнена шумом и борьбой». Они не только тщеславны, но и примешивают к тщеславию «погоню за наиболее прибыльными местами», обладая «общей манией разрушения». Впрочем, он же отдавал должное их завоеваниям, говоря: «Восхвалим французов! Они позаботились о двух величайших потребностях человеческого общества – о хорошей пище и о гражданском равенстве: в кулинарии и свободе они достигли величайших успехов, и когда мы все на равных правах соберемся на большой пир примирения, в хорошем расположении духа, – ибо что может быть лучше компании равных за хорошо накрытым столом? – то первый тост мы провозгласим за французов».[726] Они способствовали эмансипации народов. Даже знаменитая живость и разговорчивость французов воспринималась немцами по-разному. Одни подчеркивали значение разговора: «Здесь действительно не щадят усилий, и французы чрезвычайно ценят умение выражаться. Разговаривать – значит для них думать вслух. Франция – это ум, грация, вежливость, восторженность: она напоминает стакан пенящегося шампанского. Французы во всем находят хорошую середину, почти не оставляющую места крайностям». Достойно и то, что «французы защищают своих друзей, не жалея крови».
Другие были крайне нелестного мнения о тех же самых особенностях и привычках. Иные отмечали: «Французу необходимо болтать, даже когда ему нечего сказать». Немецкий философ Шопенгауэр бросил крылатую фразу: «у других частей света имеются обезьяны; у Европы имеются французы». К. Фохт, отвечая на нападки на галлов Моммзенов и Фишоров, заметил в своих «Политических письмах»: «Услуги, оказанные Францией европейской цивилизации даже при правлении Наполеонов, так значительны, ее содействие прогрессу и культуре нашего времени настолько необходимо, что, несмотря на все совершенные ею ошибки и на всю ответственность, навлеченную ею на себя, симпатии возвращаются к ней, по мере того, как судьба наносит ей свои удары… Я говорю себе, что Европа без Франции была бы хилой, что без нее нельзя обойтись и что в случае, если бы она исчезла, ее должны были бы заменить другие, менее способные играть ее роль. Эти французы составляют нечто, и всякий, отрицающий это, вредит самому себе».[727] Что же такое это «нечто» в обобщенном виде?
Итак, подведем итог: 1) французская провинция сцементировала тело нации (Жанна д`Арк и другие), возродила Францию, вопреки Валуа; 2) короли и кардиналы создали абсолютистское правление, но монархия не выдержала испытания временем; 3) эпоха Просвещения подняла уровень культуры и жизнеобеспечения народа (Вольтер скажет: «Пусть говорят что угодно, в Европе больше людей, чем было тогда, да и люди стали лучше»); 4) события XVII–XIX вв. упрочили место Франции и Парижа в европейской цивилизации, пробудили доселе дремавшие силы народа, подтвердив величие и могущество французского гения; 5) в литературе, науке и искусстве Францией созданы изумительные шедевры и творения; расширились горизонты европейской мысли, культуры, социального прогресса; 6) Великая Французская революция дала миру значимые и важные ориентиры развития, что позволяет считать ее событием мирового масштаба; несмотря на казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, без революции не было бы многих славных завоеваний французской и мировой мысли, культуры и науки; 7) так уж устроен социальный механизм общества, что за революцией нередко следует откат (или «термидор»), из которого, в свою очередь, готов «вылупиться» диктатор, как это и случилось в послереволюционной Франции (Наполеон); Наполеон закрепил победу буржуазии, дав простор всем её инстинктам; 8) Парижская Коммуна указала людям труда путь к равенству и справедливости, явив миру пример конфликта и классовых противоречий, став прологом революционных бурь в России XX в.; 9) история давно и прочно связала Францию и Европу тесными, хотя и не всегда дружескими узами; французский ум и искусство оставили зримый отпечаток на сознании и вкусах всех и каждого, а ее капитал предпринял немало усилий во славу своей страны и ее культуры; 10) велико и непреходяще значение культуры Франции для России; перед французским гением (несмотря на всю брань Кюстина) мы почтительно склоняем голову, понимая глубокую правоту фразы историка Ж. Мишле: «Для того, чтобы постичь Францию, нужно постичь историю всего мира».
Конечно, отношения между двумя нашими странами порой напоминают отношения давно знающей друг друга пары. Период пылкой, необузданной страсти у неё вроде бы миновал, но время согревает душу памятью о прошлом, о сладостных, незабываемых годах любви и сердечной преданности («Сердечное согласие»). Как сказал французский писатель Д. Фернандес: «Французы и русские мыслят по-разному. Мы необыкновенно близки, хотя по каким-то простым вещам порой не можем договориться. Исторически Россия и Франция связаны узами брака – со времен Петра I, чья дочь чуть было не обвенчалась с Людовиком XV. Как и в любой супружеской паре, у нас бывают и ссоры». Но если во времена Пушкина Россия в глазах французов была некой «легендой», то ныне она все более похожа на Феникс. Потому недалеко время, которое явит миру новый невиданный взлет дружества двух стран.
Вклад французской мысли, культуры и политики в мировую цивилизацию бесспорен и огромен. Французы научили нас (и учат по сей день) бережно ценить прошлое, которое необходимо aimer comme ses yeux (беречь как зеницу ока). В творениях её гениев немало того, что мы вправе отнести к l’esprit de tout le monde (разуму всех). В этой талейрановской фразе речь идет не только о Франции и Англии, но и обо всей Европе. И хотя А. С. Хомяков однажды сказал: «Что хорошо для Француза, Немца, Латыша, Англичанина, то еще для нас может быть очень плохо», не будем акцентировать внимание на различиях. Будем рады, если вы полюбите истинную Францию, её великую историю, её прекрасный язык, её культуру и поэзию. Нигде вы не встретите таких песен, такого вина, наконец, возможно, что и таких женщин, такого вкуса (Жан Поль писал, что «вкус – это эстетическая совесть»). Посетите Францию с любовью и вы поймете, почему ее любил Тургенев и многие русские, а поэт Беранже взволнованно писал: «Я ж Францию увижу, – и закроет мои глаза сыновняя рука».
Примечания
1
Гизо Ф. История цивилизации в Европе (фрагменты). // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1990, с. 66–67.
(обратно)2
Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998, с. 462–463.
(обратно)3
Гудзь-Марков А. В. Индоевропейская история Евразии. Происхождение славянского мира. М., 1995, с. 96.
(обратно)4
Уайльд О. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М., 1993, с. 144.
(обратно)5
Кареев Н. И. Историко-философские и социологические этюды. Спб., 1895, с. 121.
(обратно)6
Бергсон А. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. М., 1992, с. 33.
(обратно)7
Цит. по: Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1994, с. 115
(обратно)8
Beard Ch., Beard M. The American Spirit. A study of the idea of Civilization in the United States. N. Y., 1962, p. 63.
(обратно)9
Найдыш В. М. Цивилизация как проблема философии истории. М., 1997, с. 8.
(обратно)10
Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. Т. 2. М., 1983, с. 298.
(обратно)11
Beard Ch., Beard M. The American Spirit. A study of the idea of Civilization in the United States. N.Y., 1962, p. 7.
(обратно)12
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. С. – П. – М., 1873, с. 3.
(обратно)13
Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989, с. 18.
(обратно)14
Гизо Ф. История цивилизации во Франции. Т. 1. М., 1877, с. 12.
(обратно)15
Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1990, с. 81.
(обратно)16
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т. 1. М., 1993, с. 199.
(обратно)17
Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. Т. 1. М., 1996, с. 343.
(обратно)18
Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995, с. 26.
(обратно)19
Могилевский Г. Торжество православия. // Образ. № 3 (7), 1996, с. 94.
(обратно)20
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 6-ое, С. – П., 1995, с. 108.
(обратно)21
Мунье Э. Что такое персонализм? М., 1994, с. 3.
(обратно)22
Левандовский К. Карл Великий. М., 1999, с. 69, 172.
(обратно)23
История дипломатии. Под ред. В. П. Потемкина. М., 1941, Т. 1, с. 141–143.
(обратно)24
Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Л., 1986, с. 53.
(обратно)25
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. С. – П. – М., 1873, с. 31.
(обратно)26
Февр Л. Бои за историю. М., 1991, С. 198.
(обратно)27
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Игры обмена. Т. 2. М., 1988, с. 142–147.
(обратно)28
Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М., 1992, с. 157–160.
(обратно)29
Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990, с. 481.
(обратно)30
Наука о науке. Сборник. М., 1966, с. 33.
(обратно)31
Mumford L. The myth of the mashine. N. Y., 1970, p. 45, 48, 178.
(обратно)32
Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988, с. 201.
(обратно)33
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Т. 1. М., 1986, с. 458–459.
(обратно)34
Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988, с. 159, 181.
(обратно)35
Леопарди Дж. Этика и эстетика. М., 1978, с. 241.
(обратно)36
Койре А. Очерки по истории философской мысли. М., 1985, с. 109, 118.
(обратно)37
Апокин И. А., Майстров Л. Е., Эдлин И. С. Чарльз Бэбидж. М., 1981, с. 9.
(обратно)38
Grayson L. The making of an engineer. N. – Y. – T., 1993, p. 15–16.
(обратно)39
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, с. 203.
(обратно)40
Толковый словарь живого Великорусского языка Владимира Даля. Т. 3. М., 1882, с. 508.
(обратно)41
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991, с. 194–195.
(обратно)42
Демин В. Н. Тайны Вселенной. М., 1998, с. 324–325.
(обратно)43
Коперник Н. О вращении небесных сфер. М., 1964, с. 11.
(обратно)44
Герасименко М.П. Николай Коперник – выдающийся экономист эпохи раннего капитализма. Киев, 1953, с.32.
(обратно)45
Великие мыслители Запада. Под ред. Я. Мак-Грила. М., 1998, с. 199.
(обратно)46
Испанская классическая эпиграмма. М., 1970, с. 103.
(обратно)47
Коперник, Галилей, Кеплер, Лаплас и Эйлер, Кетле. Биографические повествования. Челябинск, 1997, с. 187.
(обратно)48
Коперник, Галилей, Кеплер, Лаплас и Эйлер, Кетле. Биографические повествования. Челябинск, 1997, с. 185, 212.
(обратно)49
Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. Т. 1. М. – Л., 1936, с. 396.
(обратно)50
Лункевич В. В. Подвижники и мученики науки. М., 1962, с. 121–122.
(обратно)51
Кузнецов Б. Г. Галилей. М., 1964, с. 25, 49, 94.
(обратно)52
Штекли А. Галилей. М., 1972, с. 75.
(обратно)53
Галилей Г. Избранные труды. Т. 2. М., 1964, с. 10.
(обратно)54
Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 1997, с. 494–495.
(обратно)55
Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т. 1. Книги I и II, М., 1997, с. 268.
(обратно)56
Лебон Г. Психология толп. Тард Г. Мнение и толпа. М., 1998, с. 110.
(обратно)57
Выгодский М. Я. Галилей и инквизиция. Ч. 1. М. – Л., 1934, с. 172.
(обратно)58
Тимирязев К. Наука и демократия. Л., 1926, с. 415–416.
(обратно)59
Лассаль Ф. Сочинения. Т. 1. Спб., 1905–1906, с. 165–166.
(обратно)60
Cohen I. B. Revolution in Science. L., 1985, p. 4.
(обратно)61
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое время (от Леонардо до Канта). Т. 3. С. – П., 1996, с. 425, 432.
(обратно)62
Кареев Н. Историко-философские и социологические этюды. С. – П., 1895, с. 43.
(обратно)63
Антология мировой философии в 4-х томах. Т. 1. Ч. 2, М., 1969, с. 897.
(обратно)64
Лаудан Л. Наука и ценности. // Современная философия науки. М., 1994, с. 224–225.
(обратно)65
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое время (от Леонардо до Канта). Т. 3. С. – П., 1996, с. 18–19, 47–49.
(обратно)66
Платон. Сочинения в 3-х томах. Т. 1. М., 1968, с. 90.
(обратно)67
Пиренн А. Нидерландская революция. М., 1936, с. 40–42.
(обратно)68
Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970, с. 258.
(обратно)69
Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. М., 1995, с. 122–123.
(обратно)70
Скотт В. Айвенго; Шарль де Костер. Легенда об Уленшпигеле. М., 1980, с. 420.
(обратно)71
Кирхнер В. Альба: железный герцог Испании; Роосбрек Р. Вильгельм Оранский – мятежный принц. Ростов-на-Дону, 1998, с. 151, 167.
(обратно)72
Кирхнер В. Альба: железный герцог Испании; Роосбрек Р. Вильгельм Оранский – мятежный принц. Ростов-на Дону, 1998, с. 192, 215, 290.
(обратно)73
El final de la Guerra de Flandes (1621–1648). 350 anniversario de la Paz de Munster. Madrid, 1998, p.
(обратно)74
El final de la Guerra de Flandes (1621–1648). 350 anniversario de la Paz de Munster. Madrid. 1998, p. 46–47.
(обратно)75
Нефедов С. А. История Нового времени. Эпоха Возрождения. М., 1996, с. 135–137.
(обратно)76
Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики. М. – Л., 1965, с. 98.
(обратно)77
Dutch Arts. Cultural heritage in Netherlands. Leiden, 1990, p. 6–9.
(обратно)78
Dutch Arts. Architecture in the Netherlands.Leiden, 1991, p. 5, 7,32.
(обратно)79
Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992, c. 165–166.
(обратно)80
Dutch Arts. Arts in the Netherlands. Leiden, 1992, p. 4–6.
(обратно)81
Розеншильд К. К. История зарубежной музыки (до середины XVIII в.). Вып. 1. М., 1978, с. 74.
(обратно)82
Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. М. – Л., 1940, с. 116–127.
(обратно)83
Дюбо Ж. – Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, с. 258–259.
(обратно)84
Мастера искусства об искусстве. Т. 2. М., 1966, с. 360, 361.
(обратно)85
Ротенберг Е. И. Искусство Голландии XVII века. М., 1971, с. 36, 52.
(обратно)86
Frans Hals. Foreword by R. Sorban. L., 1978, p. 12, 15.
(обратно)87
Львов С. Питер Брейгель. М., 1971, с. 28.
(обратно)88
Рубенс П. П. Письма. Документы. Суждения современников. М., 1977, с. 378.
(обратно)89
Иванов В. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 414.
(обратно)90
Мастера искусства об искусстве. Т. 3. М., 1967, с. 172.
(обратно)91
Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. М., 1995, с. 142–143.
(обратно)92
Шмитт Г. Рембрандт. М., 1970, с. 8, 210.
(обратно)93
Мастера искусств об искусстве. Т. 3. М., 1967, с. 251, 252.
(обратно)94
Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. Стихотворения (1828–1841). Т. 1. М. – Л., 1958, с. 287.
(обратно)95
Gombrich E. H. The story of Art. Oxford, 1984, p. 331, 333.
(обратно)96
Лев Н. Эмануэль де Витте. М., 1976, с. 14, 15, 38, 83.
(обратно)97
Фоменко А. Т. Новая хронология Греции. Античность в средневековье. Т. 1. М., 1996, с. 46–47.
(обратно)98
Кириллин В. А. Страницы истории науки и техники. М., 1986, с. 220–223.
(обратно)99
Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии. Т. 1. М., 1960, с. 375.
(обратно)100
Гальтон Ф. Наследственность таланта. М., 1996, с. 127.
(обратно)101
Гроций Г. О праве войны и мира. М. 1956, с. 7.
(обратно)102
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое время. Т. 3. С. – П., 1996, с. 427.
(обратно)103
Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Биографические повествования. Челябинск, 1996, с. 200, 210.
(обратно)104
Спиноза Б. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М., 1957, с. 233, 381.
(обратно)105
Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998, с. 306–307.
(обратно)106
Герцен А. И. Собрание сочинений в 9-и томах. Т. 9. М., 1958, с. 119–120.
(обратно)107
Дубнов С. М. Краткая история евреев. М., 1996, с. 389.
(обратно)108
Сенека. Декарт. Спиноза. Кант, Гегель. Биографические повествования. Челябинск, М., 1996, с. 111–112.
(обратно)109
Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции. М. 1995, с. 230.
(обратно)110
Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974, с. 109–111.
(обратно)111
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23, с. 761.
(обратно)112
Wladimiroff I. Andries Winius and Nicolaas Witsen, Tsar Peter`s Dutch connecttion. // Around Peter the Great. Three Centuries of Russian-Dutch Relations. Groningen. 1997, p. 5–7.
(обратно)113
Holland horizon. Quarterly magazine of the Netherlands. Vol. 7, № 4, December 1995, p. 8.
(обратно)114
Ibid., Hooijmaaijers E. Cornelis Cruys, a Dutch Rear-Admiral in Russian Service. p. 29.
(обратно)115
Толстой А. К. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. М., 1969, с. 380–381.
(обратно)116
Бродский Б. Свидетели странного века. М., 1978, с. 35–38.
(обратно)117
История Нидерландов. Гаага, 1995, с. 39–40.
(обратно)118
Монархи Европы. Судьбы династий. М., 1997, с. 217.
(обратно)119
Форстер Г. Избранные произведения. М., 1960, с. 303–304.
(обратно)120
Ефремов А. Благородный король Артур и его доблестные рыцари. М., 1996, с. 9.
(обратно)121
Goldsmith`s history of England. From the invasion of Julius Caesar to the death of George II. p., 1849, p. 13.
(обратно)122
Мортон А. Л. История Англии. М., 1950, с. 49–51.
(обратно)123
Гизо Ф. Происхождение цивилизации в Европе. С. – П., 1905, с. 250–251.
(обратно)124
История крестьянства в Европе. Крестьянство Европы в период развитого феодализма. Под ред. З. В. Удальцовой, Ю. Л. Бессмертного. Т. 2. М., 1986, с. 53, 602.
(обратно)125
Вестминстерские статуты. Перевод Е. В. Гутновой. М., 1948, с. 93.
(обратно)126
Английская деревня XIII–XIV вв. и восстание Уота Тайлера. Сост. Е. А. Косминский и Д. М. Петрушевский. М. – Л., 1935, с. 131.
(обратно)127
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. С. – П. – М., 1873, с. 188.
(обратно)128
Шекспир У. Трагедии. Сонеты. М., 1968, с. 541.
(обратно)129
Лоудз Д. Генрих VIII и его королевы. Ростов-на-Дону-Москва, 1997, с. 283–284.
(обратно)130
Мор Т. Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973, c. 189.
(обратно)131
Фаган Г. Обнаженный меч. М., 1962, с. 85–95.
(обратно)132
Антолгия мировой философии в 4-х томах. Т. 2. М. 1970, с. 102.
(обратно)133
Уотсон К. Сэр Томас Мор. // Мыслители образования. Т. 3. М., 1996, с. 175–194.
(обратно)134
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 255.
(обратно)135
Мор Т. Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973, с. 79, 192.
(обратно)136
Осиновский И. Н. Жизнь и творчество Томаса Мора. // В кн.: Мор Т. Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973, с. 149–150.
(обратно)137
Лоудз Д. Генрих VIII и его королевы. Ростов-на-Дону, 1997, с. 292.
(обратно)138
Бродель Ф. Время мира. Т. 3. М., 1992, с. 360.
(обратно)139
Дмитриева О. В. Елизавета I. М., 1998, с. 22, 30, 35.
(обратно)140
Дмитриева О. В. Елизавета I. М., 1998, с. 45–46.
(обратно)141
Питаваль Э. Голова королевы. Т. 2. М., 1993, с. 505–506.
(обратно)142
Блон Ж. Великий час океанов (Атлантический). М., 1978, с. 66–72.
(обратно)143
Маховский Я. История морского пиратства. М., 1972, с. 56.
(обратно)144
Day C. A History of Commerce. N.Y. – L., 1917, p. 37, 76.
(обратно)145
Дмитриева О. В. Елизавета I. М., 1998, с. 105–107, 147–150, 239.
(обратно)146
Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 239.
(обратно)147
Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1974, с. 218–219.
(обратно)148
Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Принц и нищий. М., 1978, с. 574, 576.
(обратно)149
Барг М. А. Кромвель и его время. М., 1950, с. 53.
(обратно)150
Тьерри О. Избранные сочинения. М., 1937, с. 265–266.
(обратно)151
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997, с. 72.
(обратно)152
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997, с. 103.
(обратно)153
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т. 2, с. 263.
(обратно)154
Меркантилизм. М., 1935, с. 18–19.
(обратно)155
Хилл Кр. Английская Библия и революция XVII века. М., 1998, с. 28, 32, 33.
(обратно)156
Цит. по: Косарева Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997, с. 25.
(обратно)157
Хилл К. Английская Библия и революция XVII века. М., 1998, с. 289–291.
(обратно)158
Stone L. The crisis of the aristocracy (1558–1641). Oxford, 1965, p. 672, 684, 685.
(обратно)159
Aylmer G. E. Rebellion or Revolution? England (1640–1660). Oxford, 1986, p. 274.
(обратно)160
Stone L. The crisis of the aristocracy (1558–1641). Oxford, 1965, p. 674–675.
(обратно)161
Ришелье, Оливер Кромвель, Наполеон I, князь Бисмарк. М., 1994, с. 59.
(обратно)162
Барг М. А. Кромвель и его время. М., 1950, с. 100.
(обратно)163
Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994, с. 174–175.
(обратно)164
Нефедов С. А. История Нового времени. Эпоха Возрождения. М., 1996, с. 158–165.
(обратно)165
Павлова Т. Кромвель, М., 1980, с. 198.
(обратно)166
Гюго В. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 14. М., 1956, с. 119–122.
(обратно)167
Соссей Д. П. Ш. Иллюстрированная история религий в 2-х томах. Т. 2. М., 1889, с. 466–467.
(обратно)168
Джексон Т. А. Борьба Ирландии за независимость. М., 1949, с. 62, 65, 80.
(обратно)169
Альдебер Ж., Бендер Й., Груши И. и др. История Европы. Минск-Москва, 1996, с. 289.
(обратно)170
Сергеев А. Г. Правители государств и отцы церкви Европы за 2000 лет. М., 1997, с. 436.
(обратно)171
Тьерри О. Избранные сочинения. М., 1937, с. 306, 309.
(обратно)172
Гюго В. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 10. М., 1955, с. 5, 43, 393–394.
(обратно)173
Леонтьев К. Избранные статьи. Цветущая сложность. М., 1992, с. 104.
(обратно)174
История Европы. Под рук. Ф. Делуша. Минск-Москва, 1996, с. 250.
(обратно)175
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997, с. 93–97.
(обратно)176
Барг М. А. Шекспир и история. М., 1979, с. 21.
(обратно)177
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1, с. 572–573.
(обратно)178
Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М., 1988, с. 114–115.
(обратно)179
Уоллес И. Любовницы, героини, мятежницы. М., 1995, с. 395, 417.
(обратно)180
Гилилов И. М. Уильям Шекспир, кто вы? – «Наука в России». № 3, 1994, с. 77.
(обратно)181
Уильям Шекспир. Лирика. Составитель С. Макуренкова. М., 1999, с. 487–489.
(обратно)182
London in the age of Shakespeare: an anthology. Ed. by L. Manley, L., 1986, p. 335.
(обратно)183
Тиссандье Г. Мученики науки. М., 1995, с. 188–189.
(обратно)184
Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1977, с. 10, 11, 124.
(обратно)185
Цит. по: Мортон А. Л. Английская утопия. М., 1956, с. 78–83.
(обратно)186
Агасси Дж. Революция в науке – отдельные события или перманентные процессы? // Современная философия науки. Хрестоматия. М., 1994, с. 89, 91.
(обратно)187
Гарвей. Дженнер. Кювье. Пирогов. Вирхов. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 47.
(обратно)188
Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936, с. 116, 157, 249.
(обратно)189
Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936, с. 261–262.
(обратно)190
Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 1997, с. 510–511.
(обратно)191
Скотт В. Пуритане. Легенда о Монтрозе. М., 1971, с. 323.
(обратно)192
Слово о науке. Сост. и автор Е. С. Лихтенштейн. М., 1978, с. 30.
(обратно)193
Корабли мысли. Зарубежные писатели о книге, чтении, библиофилах. Рассказы, памфлеты, эссе. Сост. В. В. Кунин. М., 1980, с. 37–38.
(обратно)194
Павлова Т. Милтон. М., 1997, с. 325, 367.
(обратно)195
Локк Дж. Педагогические сочинения. М., 1939, с. 72.
(обратно)196
Олдридж Р. Джон Локк. // Мыслители образования. Т. 3. М., 1996, с. 59–69.
(обратно)197
Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995, с. 89.
(обратно)198
Hicolson H. The age of Reason. L., 1961, p. 263.
(обратно)199
Антология мировой философии. Т. 2. М., 1970, с. 413.
(обратно)200
Паскаль. Ньютон. Линней. Лобачевский. Мальтус. Биографические повествования. Челябинск. 1995, с. 108, 123.
(обратно)201
Судьбы книг. Книги, открывающие мир. М., 1984, с. 75, 78.
(обратно)202
Карцев В. Ньютон. М., 1987, с. 16, 115, 122.
(обратно)203
Вавилов С. И. Исаак Ньютон. М., 1989, с. 120–121.
(обратно)204
Westfall R. Never at rest: A biography of Isaac Newton. Cambridge, 1982, p. 318.
(обратно)205
Цит. по: Бочаров Л. И., Ефимов Н. Н., Чачух И. М., Чернышов И. Ю. Заговор против русской истории (факты, загадки, версии). М., 1998, с. 148–150.
(обратно)206
Коперник, Галилей, Кеплер, Лаплас и Эйлер, Кетле. Биографические повествования. Челябинск, 1997, с. 213.
(обратно)207
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, с. 255.
(обратно)208
Цит. по: Боголюбов А. Н. Роберт Гук. М., 1984, с. 43, 74, 83, 138.
(обратно)209
Уинстэнли Дж. Избранные памфлеты. М. – Л., 1950, с. 170, 210.
(обратно)210
Павлова Т. Уинстэнли. М., 1987, с. 219, 227, 231, 238.
(обратно)211
Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1995, с. 52–53.
(обратно)212
Дефо Д. Робинзон Крузо. История полковника Джека. М., 1974, с. 180.
(обратно)213
Урнов Д. Дефо. М., 1978, с. 9, 27, 30.
(обратно)214
Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996, с. 246–247.
(обратно)215
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 36, с. 181.
(обратно)216
Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987, с. 316.
(обратно)217
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 2. С. – П. – М., 1873, с. 295, 343.
(обратно)218
Хилл К. Английская Библия и революция XVII века. М., 1998, с. 298–299.
(обратно)219
Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции. С. – П., 1907, с. 387.
(обратно)220
Smith A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. V.II, Oxford, 1976, p. 811.
(обратно)221
Ренев Е. Г. Концепции цивилизации в философии истории Шотландского просвещения.// Цивилизации. Выпуск 2. Отв. ред. М. А. Барг. М., 1993, с. 227.
(обратно)222
Смоллет Т. Путешествие Хамфри Клинкера; Голдсмит О. Векфильдский священник. М., 1972, с. 258–259.
(обратно)223
Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1978, с. 43.
(обратно)224
Espinasse M. The decline and fall of restoration science. In «The intellectual revolution of seventeenth century». London, 1974, p. 347–368.
(обратно)225
Европейская поэзия XVII века. М., 1977, с. 69.
(обратно)226
Великие мыслители Запада. Под ред. Я. Мак-Грила. М., 1998, с. 393–394.
(обратно)227
Аникин А. Адам Смит. М., 1968, с. 55, 56, 68.
(обратно)228
Дашкова Е. Литературные сочинения. М., 1990, с. 139.
(обратно)229
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М. – Л., 1935, с. 45.
(обратно)230
История теоретической социологии. От Платона до Канта. Т. 1. М., 1995, с. 163.
(обратно)231
Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 2. М., 1995, с. 250–253.
(обратно)232
Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. М., 1995, с. 273; Кн. 2, с. 264–265.
(обратно)233
Хатчесон Фр., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973, с. 323, 383, 404, 415.
(обратно)234
Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973, с. 116–117.
(обратно)235
Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975, с. 375–378.
(обратно)236
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4, с. 385–386.
(обратно)237
Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974, с. 264–265.
(обратно)238
Колесо фортуны. Из европейской поэзии XVII века. М., 1989, с. 403.
(обратно)239
Ярошевский М. Г. История психологии от античности до середины XX в. М., 1996, с. 95.
(обратно)240
Беркли Дж. Сочинения. М., 1978, с. 154, 158.
(обратно)241
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, с. 285.
(обратно)242
А centre of Intelligence. Manchester, 1992, p. 5–7.
(обратно)243
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, с. 293.
(обратно)244
Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 249.
(обратно)245
Английские материалисты XVIII в. Т. 3. М., 1968, с. 7–8.
(обратно)246
Уоттс Р. Джозеф Пристли. – «Мыслители образования. Перспективы». 1995, № 1/2, с. 333.
(обратно)247
Лавуазье. Фарадей. Лайель. Чарлз Дарвин. К. Бэр. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 148.
(обратно)248
Гутенберг. Уатт. Стеффенсон. Фултон. Дагер. Ньепс. Эдисон. Морзе. Биографические повествования. Челябинск, 1996, с. 178.
(обратно)249
Апокин И. А., Майстров Л. Е., Эдлин И. С. Чарльз Бэбидж. М., 1981, с. 36–37.
(обратно)250
Антология мировой философии в 4-х томах. Т. 4. М., 1972, с. 492.
(обратно)251
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13, с. 150.
(обратно)252
Рикардо Д. Сочинения. Т. 2. М., 1955, с. 182, 214.
(обратно)253
Victorian Britan. Ed. by S. Mitchell. N.Y., 1988, p. 239–245.
(обратно)254
Английский сонет XVI–XIX веков. М., 1990, с. 451.
(обратно)255
Роджерс П. Генри Филдинг. Биография. М., 1984, с. 9.
(обратно)256
Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. М., 1973, с. 578–579.
(обратно)257
Теккерей У. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1975, с. 366.
(обратно)258
Форстер М. Записки викторианского джентльмена. М., 1985, с. 32.
(обратно)259
Лэм Ч. Очерки Элии. Л., 1979, с. 23, 217.
(обратно)260
Блейк У. Стихи. М., 1982, с. 203.
(обратно)261
Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. М., 1975, с. 75.
(обратно)262
Теккерей В. Ярмарка тщеславия. Роман без героя. М., 1968, с. 593.
(обратно)263
Бронте Ш. Учитель. С. – П., 1997, с. 211–212.
(обратно)264
Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики. М. – Л., 1965, с. 166–167.
(обратно)265
Джексон Т. А. Борьба Ирландии за независимость. М., 1949, с. 93.
(обратно)266
Бродель Ф. Время мира. Т. 3. М., 1992, с. 383.
(обратно)267
Бернс Р. Стихотворения. Поэмы. Шотландские баллады. М., 1976, с. 27.
(обратно)268
Мортон А. Л. История Англии. М., 1950, с. 380–381.
(обратно)269
Цит. по: Смоллет Т. Приключения Перигрина Пикля. М., 1955, с. 3–5.
(обратно)270
Beard Ch., Beard M. The Rise of American Civilization. Vol. 1., New York, 1928, p. 292.
(обратно)271
Честерфилд. Письма к сыну. Л., 1971, с. 176.
(обратно)272
Шервин О. Шеридан. М., 1978, с. 8, 9, 21, 22, 265.
(обратно)273
Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие. М., 1968, с. 141.
(обратно)274
Рикардо Д. Сочинения. Парламентские речи. Т. 4. М., 1958, с. 173, 174.
(обратно)275
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М., 1973, с. 250–251.
(обратно)276
Бёлль Г. Ирландский дневник и др. М., 1988, с. 93.
(обратно)277
Гарди Т. Мэр Кэстербриджа. Рассказы. М., 1988, с. 27, 49.
(обратно)278
Жорес Ж. Социалистическая история Французская революция. Т. 4, М., 1981, с. 339.
(обратно)279
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 2, с. 343–344.
(обратно)280
Черняк Е. Б. Секретная дипломатия Великобритании. М., 1975, с. 246, 249.
(обратно)281
Трухановский В. Г. Адмирал Нельсон. М., 1980, с. 8–10.
(обратно)282
Эджингтон Г. Адмирал Нельсон. История жизни и любви. М., 1992, с. 25, 261.
(обратно)283
Байрон. Дневники. Письма. М., 1965, с. 276.
(обратно)284
Давидсон А. Сесил Родс – строитель империи. Москва-Смоленск, 1998, с. 14–15.
(обратно)285
Давидсон А. Сесил Родс – строитель империи. Москва-Смоленск, 1998, с. 57–59, 423.
(обратно)286
Паскаль, Ньютон, Линней, Лобачевский, Мальтус. Биографические повествования. Челябинск, 1995, с. 314.
(обратно)287
Кропоткин П. А. Этика. М., 1991, с. 382–383.
(обратно)288
Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. Т. 1. Спб., 1868, с. 99–100.
(обратно)289
Томпсон Э. П. Плебейская культура и моральная экономия. Статьи из английской социальной истории XVIII и XIX вв. // История ментальностей. М., 1996, с. 180–187.
(обратно)290
Ласки М. Утопия и революция. // Утопия и утопическое мышление. М., 1991, с.170.
(обратно)291
Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. М., 1968, с. 28–32.
(обратно)292
Уткин А. И. Черчилль. М., 1997, с. 8–9.
(обратно)293
Уткин А. И. Черчилль. М., 1997, с. 26–27.
(обратно)294
Соумс М. Уинстон Черчилль: его другая жизнь. // Ридерз Дайджест. Июль 1997, с. 46.
(обратно)295
Саймонс Дж. Карлейль. М., 1981, с. 39, 42, 46, 55.
(обратно)296
Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, с. 526.
(обратно)297
Саймонс Дж. Карлейль. М., 1981, с. 81.
(обратно)298
Саймонс Дж. Карлейль. М., 1981, с. 136, 164, 166.
(обратно)299
Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994, с. 256.
(обратно)300
Архитектура русской усадьбы. Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1998, с. 216–220.
(обратно)301
Дом англичанина. Английская классическая новелла. М., 1989, с. 484–485.
(обратно)302
London in the age of Shakespeare: anthology. Ed. by L. Manley. L., 1986, p. 3–4.
(обратно)303
Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960, с. 405–406.
(обратно)304
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. М., 1992, с. 373–375.
(обратно)305
Добро пожаловать! Лондон. Лондон, 1998, с. 34–38.
(обратно)306
Воронихина Л. Н. Лондон. М., 1969, с. 20, 140.
(обратно)307
Мастера искусства об искусстве. Т. 4. М., 1967, с. 487.
(обратно)308
Ривкин Б. Британский музей. М., 1980, с. 3–10.
(обратно)309
Смоллет Т. Приключения Перигрина Пикля. М., 1955, с. 19.
(обратно)310
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. С. – П. – М., 1873, с. 545–546.
(обратно)311
Гюго В. Собрание сочинений в 15-и томах. Т. 15. М., 1956, с. 334.
(обратно)312
Гегель Г. В. Ф. Философия истории. С. – П., 1993, с. 454.
(обратно)313
Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII—начала XIX в. М., 1983, с. 180.
(обратно)314
Черняк Е. Б. Секретная дипломатия Великобритании. М., 1975, с. 305.
(обратно)315
Федоров-Давыдов Г. А. Монеты – свидетели прошлого. М., 1985, с. 60.
(обратно)316
Моруа А. Жизнь Дизраэли. М., 1991, с. 11–13.
(обратно)317
Митрополит Иоанн. Самодерджавие духа. С. – П., 1994, с. 259.
(обратно)318
Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. С. – П., 1994, с. 11, 522.
(обратно)319
Попов Б. Эдуард Гиббон в России. // Европейский альманах. М., 1994, с. 104.
(обратно)320
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1983, с. 411, 460.
(обратно)321
Моэм У. С. Подводя итоги. М., 1991, с. 395.
(обратно)322
Русская культура без границ. № 1, 1999, с. 68–69.
(обратно)323
Монархи Европы. Судьбы династий. Под ред. Н. В. Попова. М., 1997, с. 462.
(обратно)324
Монархи Европы. Судьбы династии. Под ред. Н. В. Попова, М., 1997, с. 81–86.
(обратно)325
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. – П., 1995, с. 134.
(обратно)326
Кант И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 6. М., 1966, с. 567.
(обратно)327
Киреев Р. Глеб Успенский: «Гибель мне предстоит неминучая». // Роман-газета XXI век. № 1, 1998, с. 75.
(обратно)328
Лесков Н. С. Собрание сочинений в 5-и томах. Т. 3. М., 1981, с. 185–194.
(обратно)329
Иванов В. Ф. Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней. М., 1998, с. 469.
(обратно)330
Пияшева Л. Реформа. // Октябрь. № 1, 1991, с. 157.
(обратно)331
Бутенко В. А. Токвиль. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82-х томах. Т. 65. СПб., 1892–1907.
(обратно)332
Олейников Д. И. Классическое российское западничество. М., 1996, с. 75.
(обратно)333
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. М., 1997, с. 271.
(обратно)334
Дневник Делакруа. Под ред. М. В. Алпатова. М., 1950, с. 516.
(обратно)335
Джером К. Джером. Трое в лодке (не считая собаки). Л., 1980, с. 368.
(обратно)336
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1983, с. 435.
(обратно)337
Скифский роман. Под общей ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997, с. 309.
(обратно)338
Fowles J. The Ebony Tower. Eliduc. The Enigma. М., 1980, p. 134.
(обратно)339
Цит. по: Эджворт М. Замок Рекрент. Вдали отечества. М., 1972, с. 348.
(обратно)340
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. – П., 1995, с. 201.
(обратно)341
Фуллье А. Психология французского народа. // Революционный невроз. М., 1998, с. 246.
(обратно)342
Иллюстрированная история религий. Под ред. проф. Д. П. Шантепи де ля Соссей. Т. 2. М., 1992, с. 466.
(обратно)343
Дрюон М. Яд и корона. Негоже лилиям прясть. Л., 1981, с. 7.
(обратно)344
Сергеев А. Г. Правители государств и отцы церкви Европы за 2000 лет. М., 1997, с. 270.
(обратно)345
Дрюон М. Когда король губит Францию. Минск, 1983, с. 5–6.
(обратно)346
Малинин Ю. П. Патриотические идеи Алена Шартье и итальянская гуманистическая мысль. // Культура и общество Италии накануне нового времени. М., 1993, с. 216–217.
(обратно)347
Культура и общество Италии накануне нового времени. М., 1993, с. 229.
(обратно)348
Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987, с. 373.
(обратно)349
Райцес В. И. Жанна д`Арк. Л., 1982, с. 14, 93.
(обратно)350
Российская газета, 22 октября 1999 года, с. 30.
(обратно)351
Гизо Ф. История цивилизации в Европе. С. – П., 1905, с. 212.
(обратно)352
Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. М., 1988, с. 3.
(обратно)353
Петрусевич Н. Искусство Франции XV–XVI веков. Л., 1973, с. 13–16, 148.
(обратно)354
Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв. М., 1973, с. 531.
(обратно)355
Филипп де Коммин. Мемуары. М., 1987, с. 11, 400.
(обратно)356
Берзин Э.О. Нострадамус и его предсказания. М., 1992, с. 7, 254.
(обратно)357
Сапелкин А.А. Апокалипсис Нострадамуса. М., с. 20, 146, 148.
(обратно)358
Рабле. Мольер. Вольтер. Гюго. Жорж Санд. Золя. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 16.
(обратно)359
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973, с. 88, 147, 149.
(обратно)360
Фуллье А. Психология французского народа. // Революционный невроз. М., 1998, с. 23.
(обратно)361
Вийон Ф. Лирика. М., 1981, с. 70, 117.
(обратно)362
Фавье Ж. Франсуа Вийон. М., 1999, с. 65.
(обратно)363
Западноевропейский сонет XIII–XVII веков. Поэтическая антология. Л., 1988, с. 261.
(обратно)364
Ронсар. Лирика. Перевод с французского В. Левика. М., 1963, с. 10, 25.
(обратно)365
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 74.
(обратно)366
Гриненко Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М., 1998, с. 510–511.
(обратно)367
Петрусевич Н. Искусство Франции XV–XVI веков. Л., 1973, с.162, 168.
(обратно)368
автор – В. Б. Миронов.
(обратно)369
Лебон Г. Психология толп. Тард Г. Мнение и толпа. М., 1998, с. 334–335.
(обратно)370
Монтень М. Об искусстве жить достойно. М… 1973, с. 77.
(обратно)371
Коган-Берштейн Ф. Мишель Монтень и его «Опыты». // Мишель Монтень. Опыты. Т.3, М., 1979, с. 324–327.
(обратно)372
Монтень М. Опыты. Т. 1–2. М., 1980, с. 141, 153–154.
(обратно)373
Монтень М. Опыты. Т. 1–2. М., 1980, с. 146, 360, 361.
(обратно)374
Вормсер Ж. Монтень (1533–1592). // Перспективы: вопросы образования. N 1/2, 1995, с. 157.
(обратно)375
Монтень М. Опыты. Т. 3. М., 1979, с. 359, 361.
(обратно)376
автор – В. Б. Миронов.
(обратно)377
Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы. М., 1968, с.31.
(обратно)378
Вейс Г. История цивилизации. Новое время XIV–XIX вв. Т. 3. М., 1998, с. 364–366.
(обратно)379
История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. М., 1986, с. 602.
(обратно)380
Этьен де ла Боэси. Рассуждения о добровольном рабстве. М., 1962, с. 8–10.
(обратно)381
Дюма А. Три мушкетера. М., 1978, с. 260–261.
(обратно)382
Мемуары мессира д`Артаньяна. Т. 1. М., 1995, с. 138–139.
(обратно)383
Ришелье, Оливер Кромвель, Наполеон I, Князь Бисмарк. М., 1994, с. 8, 9, 44, 54.
(обратно)384
Цит. по: Егоров А. А. Неизвестный Ришелье. // Кнехт Р. Дж. Ришелье. Ростов-на-Дону, 1997, с. 9.
(обратно)385
Сто великих любовников. Автор-составитель И.А. Муромов. М., 1998, с. 150–154.
(обратно)386
Карельский А. В. Метаморфозы Орфея. М., 1998, с. 84–85.
(обратно)387
Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 4. М., 1975, с. 257.
(обратно)388
Кнехт Р. Дж. Ришелье. Ростов-на-Дону, 1997, с. 213, 220.
(обратно)389
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 40, 43.
(обратно)390
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 38–39.
(обратно)391
Кнехт Р. Дж. Ришелье. Ростов-на-Дону, 1997, с. 354.
(обратно)392
Гельвеций К. А. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1974, с. 190–191.
(обратно)393
Франсуа де Ларошфуко. Мемуары. Максимы. Л., 1971, с. 20–21.
(обратно)394
Дюма А. Двадцать лет спустя. М., 1976, с. 7–9.
(обратно)395
Бертрам Д. Г. История розги. Т. 1. М., 1992, с. 100.
(обратно)396
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 107, 115, 129.
(обратно)397
Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции XVII века. М., 1969, с. 7, 8, 126.
(обратно)398
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 191–195, 390–392.
(обратно)399
Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина. Т. 2. М., 1960, с. 9.
(обратно)400
Лафарг П. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Т. 2. М. – Л., 1928, с. 93.
(обратно)401
Бальзак О. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 15. М., 1955, с. 207, 208, 214.
(обратно)402
Рабле. Мольер. Вольтер. Гюго. Жорж Санд. Золя. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 94, 114.
(обратно)403
Мольер. Комедии. М., 1972, с. 101.
(обратно)404
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 218.
(обратно)405
Стендаль. Собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 5, М., 1978, с. 344–345.
(обратно)406
Булгаков М. Жизнь господина де Мольера. М., 1991, с. 125, 129.
(обратно)407
Мориак Ф. Жизнь Жана Расина. М., 1988, с. 90.
(обратно)408
Жан Расин. Трагедии. Новосибирск. 1977, с. 244.
(обратно)409
Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Биографические повествования. Челябинск, 1996, с. 82–83.
(обратно)410
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 3. С. – П., 1996, с. 185, 192.
(обратно)411
Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1989, с. 250–260.
(обратно)412
Асмус В. Ф. Декарт. М., 1956, с. 312, 342.
(обратно)413
Гассенди П. Сочинения в 2-х томах. Т. 1, 1966, с. 302–307.
(обратно)414
Ларошфуко Ф. Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры. М., 1974, с. 144.
(обратно)415
Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994, с. 63.
(обратно)416
Паскаль Б. Мысли. Спб., 1888, с. 103, 116, 165, 187.
(обратно)417
Паскаль, Ньютон, Линней, Лобачевский, Мальтус. Биографические повествования. Челябинск, 1995, с. 59–61.
(обратно)418
Шестов Л. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1993, с. 315–316.
(обратно)419
Тарасов Б. Паскаль. М., 1979, с. 232, 233, 237, 260.
(обратно)420
Филиппов М. М. Блез Паскаль: его жизнь, научная и философская деятельность. Челябинск, 1997, с.12.
(обратно)421
Кляус Е.М., Погребынский И.Б., Франкфурт У.И. Паскаль (1623–1662). М., 1971, с. 1, 178.
(обратно)422
Тютчев Ф. И. Лирика. Т. 1. М, 1964, с. 199.
(обратно)423
Европейская поэзия XVII века. М., 1977, с. 659.
(обратно)424
Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970, с. 167.
(обратно)425
Бейль П. Исторический и критический словарь в 3-х томах. М., 1968.
(обратно)426
Богуславский В. М. Пьер Бейль. М., 1995, с. 67.
(обратно)427
Рокэн Ф. Движение в общественной мысли во Франции в XVIII веке (1715–1786). Спб., 1902, с. 192.
(обратно)428
Огурцов А. П. Философия науки эпохи Просвещения. М., 1993, с. 35, 73.
(обратно)429
Ламетри Ж. Сочинения. М., 1976, с. 5–17, 200.
(обратно)430
Гельвеций К. А. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1974, с.195.
(обратно)431
Гельвеций К. А. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1974, с. 180, 238.
(обратно)432
Ларошфуко Ф. Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры. М., 1974, с. 443.
(обратно)433
Моруа А. Литературные портреты. М., 1970, с. 28–29.
(обратно)434
Монтескье Ш. Персидские письма. М., 1956, с. 15, 209.
(обратно)435
Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1956, с. 190–191.
(обратно)436
Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции XVII века. М., 1969, с. 56–57.
(обратно)437
Цит. по: Золотов Ю. Жорж де Латур. М., 1979, с. 33–35.
(обратно)438
Saint-Simon. Memoires. Tome premier. М., 1976, p. 13–36.
(обратно)439
Валери П. Об искусстве. М., 1976, с. 494–495.
(обратно)440
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1983, с. 292–293.
(обратно)441
Сен-Симон. Избранные сочинения. Т. 1. М. – Л., 1948, с. 147–148.
(обратно)442
Данилевский В. Нартов. М., 1960, с. 44, 48.
(обратно)443
Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума, или мемуары г-на Мелькура. М., 1974. с. 207.
(обратно)444
Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин. М., 1973, с. 53.
(обратно)445
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 572–573.
(обратно)446
Прево. Манон Леско; Лакло Ш. Опасные связи. М., 1967, с. 77, 144, 428, 500.
(обратно)447
Монтескье Ш. Персидские письма. М., 1956, с. 140.
(обратно)448
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994, с. 67–68.
(обратно)449
Дидро Д. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1991, с. 173.
(обратно)450
Дидро Д. Нескромные сокровища. М., 1992, с. 16–19.
(обратно)451
Мариво. Удачливый крестьянин. М., 1970, с. 114, 328.
(обратно)452
Ватто А. Старинные тексты. М., 1971, с. 7, 65.
(обратно)453
Немилова И. С. Ватто и его произведения. Л., 1964, с. 127.
(обратно)454
Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. М., 1970, с. 57–58.
(обратно)455
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 216.
(обратно)456
Аббат Прево. История одной гречанки. М. 1975, с. 274.
(обратно)457
Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Б. Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. М., 1974, с. 484.
(обратно)458
Моруа А. Литературные портреты. М., 1970, с. 31, 37.
(обратно)459
Вовенарг Л. Введение в познание человеческого разума. Л., 1988, с. 45, 96, 385.
(обратно)460
Робинэ Ж. Б. О природе. М., 1936, с. 130.
(обратно)461
Кропоткин П. А. Великая Французская революция. М., 1979, с. 7–9.
(обратно)462
Артамонов С. Д. Вольтер и его век. М., 1980, с. 126.
(обратно)463
Письма Вольтера. М. – Л., 1956, с. 249–250.
(обратно)464
Исторические и критические опыты Томаса Карлейля. М., 1878, с. 153.
(обратно)465
Вольтер. Философские сочинения. М., 1988, с. 214.
(обратно)466
Сиволап И.И. Социальные идеи Вольтера. М., 1978, с. 125, 199.
(обратно)467
Рабле. Мольер. Вольтер. Гюго. Жорж Санд. Золя. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 193.
(обратно)468
Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 1971, с. 327.
(обратно)469
Вольтер. Избранные произведения. М., 1947, с. 448–449.
(обратно)470
Гюго В. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 14, М., 1956, с. 435.
(обратно)471
Акимова А. Вольтер. М., 1970, с. 352, 355.
(обратно)472
Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв. М., 1973, с. 91.
(обратно)473
Бомарше. Драматические произведения. М., 1971, с. 257.
(обратно)474
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-та томах. Т. 75. М., 1956, с. 234.
(обратно)475
Руссо Ж. – Ж. Юлия, или новая Элоиза. М., 1968, с. 524, 526.
(обратно)476
Руссо Ж. – Ж. Педагогические сочинения. Т. 1. М., 1981, с. 390.
(обратно)477
Бабеф Г. Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М., 1976, с. 370.
(обратно)478
Руссо Ж. – Ж. Трактаты. М., 1969, с. 465–466.
(обратно)479
Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969, с. 151–200.
(обратно)480
Жан-Жак Руссо об искусстве. Л. – М., 1959, с. 66, 91.
(обратно)481
Бахтин Н. Руссо и его педагогические воззрения. СПб., 1913, с. 63.
(обратно)482
Акимова А. А. Вольтер. М., 1970, с. 170.
(обратно)483
Фейхтвангенр Л. Мудрость чудака, или смерть и преображение Жан-Жака Руссо. М., 1956, с. 435.
(обратно)484
Вольф Р. П. О философии. М., 1996, с.141.
(обратно)485
Besse G. Rousseau. L`apprentissage de l`humanite. Рaris, 1988.
(обратно)486
Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998, с. 360.
(обратно)487
Робеспьер М. Избранные произведения в 3-х томах. Т.1. М., 1965, с. 164.
(обратно)488
Enlightenment in Legal and Social Philosophy. Ed. by N. MacCormick and Z. Bankowski. Aberdeen University Press, 1989, p. 15.
(обратно)489
Марлей Дж. Дидро и энциклопедисты. М., 1882, с. 361–362.
(обратно)490
Гольбах П. Письма к Евгении. Здравый смысл. М., 1956, с. 342.
(обратно)491
Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина. Т. 2. М., 1960, с. 15, 16, 22.
(обратно)492
Монтескье Ш. Персидские письма. М., 1956, с. 183.
(обратно)493
Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М. 1936, с. 210.
(обратно)494
Фейнберг Е.Л. Две культуры. М., 1992, с. 138.
(обратно)495
Европейское Просвещение и Французская революция XVIII века. М., 1988, с. 44.
(обратно)496
История теоретической социологии. Под ред. Ю. Н. Давыдова. Т.1. М., 1996, с. 191.
(обратно)497
Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-Фаталист и его хозяин. М., 1973, с. 187.
(обратно)498
Дидро Д. Избранные философские произведения. М., 1941, с. 7, 75.
(обратно)499
Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994, с. 168–175.
(обратно)500
Акимова А. Дидро. М., 1963, с. 164.
(обратно)501
Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д`Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 360.
(обратно)502
Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994, с. 21, 322.
(обратно)503
Якимович А. Шарден и французское Просвещение. М., 1981, с. 56.
(обратно)504
Darnton R. The business of Enlightenment. A publishing history of the Encyclopedia. L. 1979, p. 12.
(обратно)505
Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996, с. 257.
(обратно)506
Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д`Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск. 1998, с. 294.
(обратно)507
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 22. с. 310–311.
(обратно)508
Альдебер Ж., Бендер Й., Груша И. и другие. История Европы. М., 1996, с. 271.
(обратно)509
Кондильяк Э. Сочинения в 3-х томах. Т. 1. М., 1980, с. 294–295.
(обратно)510
Бомарше. Драматические произведения. Мемуары. М., 1971, с. 146.
(обратно)511
Зонина Л. Жизнь и похождения Пьера-Огюстена Карона де Бомарше. // Бомарше. Драматические произведения. Мемуары. М., 1971, с. 8, 18, 146.
(обратно)512
Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое время (от Леонардо до Канта). Т. 3. С. – П., 1996, с. 455.
(обратно)513
Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. Л., 1970, с. 170, 193.
(обратно)514
Марешаль С. Избранные атеистические произведения. М., 1958, с. 82.
(обратно)515
Писарев Д. И. Избранные философские и общественно-политические статьи. М., 1949, с. 510.
(обратно)516
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 4, 208, 221.
(обратно)517
Тэннэхилл Р. Секс в истории. М., 1995, с. 312–313.
(обратно)518
Сто великих любовников. Автор-составитель И. А. Муромов. М., 1998, с. 18, 27.
(обратно)519
Парнов Е. Трон Люцифера. М., 1991, с. 44–247.
(обратно)520
Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции. С. – П., 1907, с. 95.
(обратно)521
Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции. С. – П., 1907, с. 111, 641.
(обратно)522
Лафарг П. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Т. 2. М. – Л., 1928, с. 94.
(обратно)523
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. – П., 1998, с. 400.
(обратно)524
Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937, с. 70, 72.
(обратно)525
Франсуа де Ларошфуко. Мемуары. Максимы. Л., 1971, с. 212, 251.
(обратно)526
Тихомиров Л. А. Критика демократии. М., 1997, с. 191.
(обратно)527
Митрополит Иоанн. Русская симфония. Очерки русской историософии. С. – П., 1998, с. 245.
(обратно)528
Тихомиров Л. А. Критика демократии. М., 1997, с. 200.
(обратно)529
Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М., 1956, с. 155.
(обратно)530
Мирабо. Меттерних. Франклин. Вашингтон. Линкольн. Биографические повествования. Челябинск, 1995, с.54.
(обратно)531
Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1979, с. 227.
(обратно)532
Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1979, с. 216, 225.
(обратно)533
Шатобриан Ф. Р. Замогильные записки. М., 1995, с. 71.
(обратно)534
Карлейль Т. Французская Революция. История. М., 1991, с. 161–163.
(обратно)535
Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 1. Книга 2-я, М., 1977, с. 61, 78.
(обратно)536
Кропоткин П. А. Великая Французская революция. М., 1979, с. 286–289.
(обратно)537
Степанов И. Жан-Поль Марат и его борьба с контрреволюцией. М., 1924, с. 20, 23.
(обратно)538
Манфред А. Марат. М., 1962, с. 300, 336.
(обратно)539
Левандовский А. Робеспьер. М., 1965, с. 19, 37.
(обратно)540
Робеспьер М. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. М., 1965, с. 164–165.
(обратно)541
Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991, с. 482.
(обратно)542
Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М. – Л., 1966, с. 91.
(обратно)543
Робеспьер М. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 3, М., 1965, с. 254–256.
(обратно)544
Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970, с. 29.
(обратно)545
Татур Ю.Г. Система образования Франции. М., 1994, с. 3.
(обратно)546
Захер Я. Идеология «бешеных». – «Под знаменем марксизма». 1929, N 5, с. 105.
(обратно)547
Педагогические идеи Великой Французской революции. М., 1927, с. 168.
(обратно)548
Бабеф Г. Сочинения в 4-х томах. Т. 3. М., 1977, с. 239.
(обратно)549
Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д`Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 430.
(обратно)550
Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936, с.30
(обратно)551
Вейсберг Г. П., Фрумов С. А., Желваков Н. А. Хрестоматия по истории педагогики. Т. 2. М., 1940, с. 8.
(обратно)552
Дорфман Я. Г. Лавуазье. М. – Л., 1948, с. 380–388.
(обратно)553
Гельвеций К.А. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1974, с. 15.
(обратно)554
Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М. – Л., 1966, с. 80.
(обратно)555
Menetra J. – L. Journal de ma vie. P., 1982. // История ментальностей. Историческая антропология. М., 1996, с.55.
(обратно)556
Фридлянд Ц. Дантон. М., 1934, с. 280–286, 300–301.
(обратно)557
Дорфман Я. Г. Лавуазье. М. – Л., 1948, с. 343–345.
(обратно)558
Тиссандье Г. Мученики науки. М., 1995, с. 223.
(обратно)559
Карлейль Т. Французская революция. М., 1991, с. 474.
(обратно)560
автор – В. Б. Миронов.
(обратно)561
Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 1. М., 1957, с. 493.
(обратно)562
Станиславский К. С. Сочинения в 8-и томах. Т. 5. М., 1958, с. 466.
(обратно)563
Дейч А. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973, с. 129, 137.
(обратно)564
Лихтенберг Г. К. Афоризмы. М., 1965, с. 32.
(обратно)565
Кропоткин П. А. Великая Французская революция. М., 1979, с. 375.
(обратно)566
История Европы. Под редакцией Ж. Альдебера, Й. Бендера, И. Груша. Минск-Москва, 1996, с. 277.
(обратно)567
Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-Фаталист и его хозяин. М., 1973, с. 208.
(обратно)568
Устрялов Н. В. Patriotica. // В поисках пути. М., 1992, с. 255–256.
(обратно)569
Бачко Б. Робеспьер и террор. // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998, с. 151.
(обратно)570
Кропоткин П. А. Великая Французская революция. М., 1979, с. 273–274.
(обратно)571
Лёмэй Э. Х. Как умирали отцы революции. // Исторические этюды о Французской революции. Памяти В. М. Далина (К 95-летию со дня рождения). М., 1998, с. 125–136.
(обратно)572
Какова жизнь, такова и смерть (лат.).
(обратно)573
Беркова К. Н. Процесс Людовика XVI. М., 1923, с. 99, 100, 175, 224.
(обратно)574
Кузнецов Ю. До свиданья! Встретимся в тюрьме. М., 1995, с. 23.
(обратно)575
Гюго В. Лирика. М., 1971, с. 167.
(обратно)576
Кабанес О. и Насс Л. Революционный невроз. // Революционный невроз. М., 1998, с. 385–396.
(обратно)577
Французские просветители XVIII в. о религии. М., 1960, с. 188, 190.
(обратно)578
Кабанес О. и Насс Л. Революционный невроз. // Революционный невроз. М., 1998, с. 398.
(обратно)579
История крестьянства в Европе. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. Т. 3. М., 1986, с. 492–498.
(обратно)580
Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 1. кн. 2-ая. М., 1977, с. 268.
(обратно)581
Олар А. Культ Разума и культ Верховного существа во время Французской Революции. Л., 1925, с. 32, 73.
(обратно)582
Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998, с. 74–75.
(обратно)583
Матьез А. Термидорианская реакция. М. – Л., 1931, с. 178, 184.
(обратно)584
История философии: Запад – Россия – Восток. кн. 2-ая. М., 1996, с. 253–254.
(обратно)585
Местр Ж. Рассуждения о Франции. М., 1997, с. 152–154.
(обратно)586
Камю А. Бунтующий человек. М., 1990, с. 199.
(обратно)587
Вернет Г. История Наполеона. М., 1997, с. 592.
(обратно)588
Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991, с. 542–543.
(обратно)589
Тарле Е. В. Жерминаль и Прериаль. М., 1951, с. 20, 92, 94, 145, 146, 178.
(обратно)590
Мелье Ж. Завещание. М., 1954, с. 79.
(обратно)591
Бабеф Г. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. М., 1975, с. 302–303.
(обратно)592
Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. М. – Л., Т. 1. 1948, с. 31, 374, 390.
(обратно)593
Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994, с. 163.
(обратно)594
Чудинов А. В. Размышления англичан о Французской революции. М., 1996, с. 17, 65, 68, 85.
(обратно)595
Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. М., 1993, с. 187.
(обратно)596
Московичи С. Век толп. М., 1998, с. 209.
(обратно)597
Жозеф де Местр. Рассуждения о Франции. М., 1997, с. 25, 62–63.
(обратно)598
Всеобщая история государства и права. Под ред. К. И. Батыра. М., 1995, с. 239–253.
(обратно)599
Юнг К. Г. Психологические типы. М., 1996, с. 114.
(обратно)600
Бутенко В. А. Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации. Т. 1. СПб., 1913, с. 163.
(обратно)601
Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937, с. 54.
(обратно)602
Мишле Ж. Народ. М., 1965, с. 181.
(обратно)603
Каков поп – таков и приход! (франц.)
(обратно)604
Шатобриан Ф. Замогильные записки. М., 1995, с. 321.
(обратно)605
Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1971, с. 25, 38, 80.
(обратно)606
Тарле Е. В. Наполеон. М., 1992, с. 110–112.
(обратно)607
Людвиг Э. Наполеон. М., 1998, с. 61, 80, 92, 118, 120.
(обратно)608
Фуллье А. Психология французского народа. // Революционный невроз. М., 1998, с. 249.
(обратно)609
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 2. М., 1956, с. 327–328.
(обратно)610
Людвиг Э. Наполеон. М., 1998, с. 171.
(обратно)611
Из истории классического искусства Запада. Сборник статей. Л., 1980, с. 164–168.
(обратно)612
Лафарг П. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Т. 2. М. – Л., 1928, с. 95.
(обратно)613
Тюлар Ж. Наполеон, или миф о «спасителе». М., 1997, с. 30–40.
(обратно)614
Покровский Н. Ральф Уолдо Эмерсон. В поисках своей Вселенной. М., 1995, с. 271, 273.
(обратно)615
Шатобриан Ф. Замогильные записки. М., 1995, с. 318–319.
(обратно)616
Dictionnaire Napoleon. Sous la direction de J. Tulard. P., 1987, p. 902–903.
(обратно)617
Тюлар Ж. Наполеон, или миф о «спасителе». М., 1997, с. 261–262.
(обратно)618
Людвиг Э. Наполеон. М., 1998, с. 175.
(обратно)619
Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991, с. 327.
(обратно)620
Гольбах П. Карманное богословие. М., 1959, с. 165.
(обратно)621
Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1971, с. 338, 392, 429.
(обратно)622
Гарвей. Дженнер. Кювье. Пирогов. Вирхов. Биографические повествования. Челябинск. 1998, с. 121.
(обратно)623
Энгельгардт М. А. Жорж Кювье. Его жизнь и научная деятельность. С. – П., 1893, с. 63.
(обратно)624
Коперник. Галилей. Кеплер. Лаплас и Эйлер. Кетле. Челябинск. Биографические повествования. 1997, с. 292.
(обратно)625
Тиссандье Г. Мученики науки. М., 1995, с. 295, 256–257.
(обратно)626
Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986, с. 125.
(обратно)627
Виноградов А. К. Черный консул. Минск, 1982, с. 231–232.
(обратно)628
Ганичев В. Н. Росс непобедимый. М., 1993, с. 195–196.
(обратно)629
Херасков И. М. Франция без Наполеона. // Отечественная война и русское общество. Т. 6, М., 1912, с. 2–8.
(обратно)630
Пушкин А. С. Собрание сочинений в 9-ти томах. Т. 2. М., 1974, с. 333–335.
(обратно)631
Сахаров А. Н. Александр I. М., 1998, с. 212.
(обратно)632
Malet A. Histoire contemporaine (1789–1900). P., 1918, p. 242.
(обратно)633
Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1985, с. 160–161.
(обратно)634
Отечественная война и русское общество. Под ред. А. К. Дживилегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Т. 5. М., 1912, с. 166.
(обратно)635
Отечественная война и русское общество. Под ред. А. К. Дживилегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Т. 6. М., 1912, с. 131, 140.
(обратно)636
История XIX века. Под ред. Лависса и Рамбо. Т. 2. М., 1938, с. 34, 43.
(обратно)637
Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1971, с. 696.
(обратно)638
Мопассан Г. Собрание сочинений в 7-ми томах. Т. 5. М., 1977, с. 385–386.
(обратно)639
Сигеле С. Преступная толпа. М., 1998, с. 68, 69.
(обратно)640
Цит. по: Никитин М. Здесь жил Достоевский. М., 1973, с. 159.
(обратно)641
Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. М., 1987, с. 161–162.
(обратно)642
Миронов В. Б. Пир мудрецов. М., 1994, с. 256.
(обратно)643
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. – П., 1995, с. 209–210.
(обратно)644
Альфред де Виньи. Неволя и величие солдата. Л., 1968, с. 10.
(обратно)645
Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. М. – Л., 1958, с. 483–484.
(обратно)646
Егоров А. А. Маршалы Наполеона. Ростов-на-Дону, 1998, с. 77, 81.
(обратно)647
Егоров А. А. Маршалы Франции. Ростов-на-Дону, 1998, с. 274, 319.
(обратно)648
Егоров А. А. Маршалы Франции. Ростов-на-Дону, 1998, с. 125, 375.
(обратно)649
Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 1. М., 1957, с. 501.
(обратно)650
Гарин Ф. А. Изгнание Наполеона. М., 1948, с. 613.
(обратно)651
«Мельничиха» (итал.); Стендаль. Собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 5, М., 1978, с. 6.
(обратно)652
Стать ли мне чернильной крысой
Иль мельником мне стать? (итал.)
(обратно)653
Блистательный Наполеон. // Мережковский Д. С. Наполеон-человек. М., 1995, с. 239–241.
(обратно)654
Эмиль Людвиг. Наполеон. М., 1998, с. 367.
(обратно)655
Эдмон де Гонкур, Жюль де Гонкур. Дневник. Т. 1. М., 1964, с. 212.
(обратно)656
Людвиг Э. Наполеон. М., 1998, с. 69, 80.
(обратно)657
Вернет Г. История Наполеона. М., 1997, с. 593.
(обратно)658
Козловский Л. С. Наполеон и романтизм. // Отечественная война и Русское общество. Под ред. А. К. Дживилегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Т. 6. М., 1912, с. 157–158.
(обратно)659
Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв. М., 1973, с. 359.
(обратно)660
Борисов Ю. В. Шарль Морис Талейран. М., 1989, с. 12–13, 155, 156, 310.
(обратно)661
Тарле Е. В. Талейран. М., 1962, с. 88, 94, 96.
(обратно)662
авт. – В. Б. Миронов.
(обратно)663
Шатобриан Ф. Р. Замогильные мысли. М., 1995, с. 573–574.
(обратно)664
Тарле Е. В. Талейран. М., 1962, с.161.
(обратно)665
Борисов Ю. В. Шарль Морис Талейран. М., 1989, с. 7.
(обратно)666
Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны. М., 1966, с. 216.
(обратно)667
Бальзак О. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 11. М., 1954, с. 405–406.
(обратно)668
Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М., 1956, с. 151–154.
(обратно)669
Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М., 1956, с. 165, 172, 174, 218.
(обратно)670
Гизо Ф. История цивилизации в Европе. С. – П., 1905, с. 272–273.
(обратно)671
Бродель Ф. Время мира. Т. 3. М., 1992, с. 394.
(обратно)672
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 8, с. 120.
(обратно)673
Ионеску Э. Противоядия. М., 1992, с. 259.
(обратно)674
Тексты по истории социологии XIX–XX веков. М., 1994, с. 173.
(обратно)675
История XIX века. Под редакцией Лависса и Рамбо. Т. 1. М., 1938, с. 361–363.
(обратно)676
Боголюбов А. Н. Гаспар Монж. М., 1978, с. 14, 30, 32.
(обратно)677
Мастера искусств об искусстве. Т. 4. М., 1967, с. 35.
(обратно)678
Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974, с. 28.
(обратно)679
Гревс И. М. Экскурсии в культуру. М., 1925, с. 16.
(обратно)680
Гюго В. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 14. М., 1956, с. 434–435.
(обратно)681
Петрусевич Н. Искусство Франции XV–XVI веков. М., 1973, с. 17.
(обратно)682
Пруст М. У Германтов. М., 1993, с. 5.
(обратно)683
Швидковский Д. О. Архитектура и монументальное искусство Великой Французской революции.//Художественные модели мироздания. Кн. 1-ая. М., 1997, с. 227–229.
(обратно)684
Кабанес О. и Насс Л. Революционный невроз. // Революционный невроз. М., 1998, с. 399.
(обратно)685
Давид Л. Речи и письма. М. – Л., 1933, с. 100.
(обратно)686
Делиль Ж. Сады. Л., 1987, с. 16.
(обратно)687
Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции (XVII век). М., 1969, с. 157–158.
(обратно)688
Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, с. 408, 425.
(обратно)689
Моруа А. Париж. М., 1970, с. 9.
(обратно)690
Гюго В. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 15. М., 1956, c. 483.
(обратно)691
Сто великих музеев мира. Автор-составитель Н. А. Ионина. М., 199, с. 112–116.
(обратно)692
Франция / Русский текст под общей редакцией проф. Ю. И. Рубинского. М., 1999. С. 245.
(обратно)693
Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I. СПб., 1994. С. 105–106.
(обратно)694
Гнамманку Д. Абрам Ганнибал. М., 1999. С. 46–47.
(обратно)695
Башилов Б. История русского масонства. М., 1993, с. 133–135.
(обратно)696
Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994, с. 240–241.
(обратно)697
Отечественная война и Русское общество. Под ред. А. Дживилегова. Т. 5. М., 1912, с. 75–79.
(обратно)698
Успенский В.А. Прогулки с Лотманом и вторичное моделирование. // Лотмановский сборник. N1, 1995, с.103.
(обратно)699
Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 6. М., 1976, с. 192, 194–195.
(обратно)700
Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М., 1997, с. 365–366.
(обратно)701
Черняк Е. Б. Невидимые империи. М., 1987, с. 91, 99.
(обратно)702
Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. Т. 3. Спб. 1892–1917, с. 588.
(обратно)703
Струве П. Б. Россия. // Русская философия собственности. XVIII–XX. С. – П., 1993, с. 263–265.
(обратно)704
Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1971, с. 336, 339.
(обратно)705
Оболенский Г. Павел I. М., 1990, с. 230–232.
(обратно)706
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1983, с. 283–284.
(обратно)707
Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1998, с. 135–137.
(обратно)708
Цит. по: Башилов Б. История русского масонства. М., 1993, с. 154.
(обратно)709
Ростиславлев Д. А. Идеология французской эмиграции в конце XVIII-начале XIX века в России. // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. N 3, 1998, с. 65–67.
(обратно)710
Хомяков А. С. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1994. С. 351.
(обратно)711
Красный архив. Т. 6. 1936, с. 179.
(обратно)712
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. Ч. 1. М., 1994, с. 285.
(обратно)713
Лебедев А. В. Тщанием и усердием. М., 1998, с. 124–125.
(обратно)714
К. Р. Избранная переписка. С. – П., 1999, с. 374.
(обратно)715
Кюстин А. Россия в 1839 году. Т. 1. М., 1996, с. 255, 376.
(обратно)716
Романов С. История русской водки. М., 1998, с. 169–170.
(обратно)717
Пушкин и его время (1799–1937). М., 1997, с. 186.
(обратно)718
Дюма А. Путевые впечатления в России. Сочинения в 3-х томах. Т. 1. М., 1993, с. 30.
(обратно)719
Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997, с. 155–157.
(обратно)720
Розанов В. В. Религия и культура. Т. 1. М., 1990, с. 141–143.
(обратно)721
Исторические песни. Баллады. М., 1991, с. 624.
(обратно)722
Кюстин А. Россия в 1839 году. Т. 2. М., 1996, с. 346.
(обратно)723
Кюстин А. Россия в 1839 году. Т. 1. М., 1996, с. 340–343.
(обратно)724
Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 4. М., 1981, с. 158–159.
(обратно)725
Бальзак О. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 15. М., 1955, с. 416.
(обратно)726
Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1971, с. 677.
(обратно)727
Фуллье А. Психология французского народа. М., 1998, с. 153–166.
(обратно)

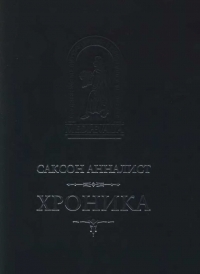
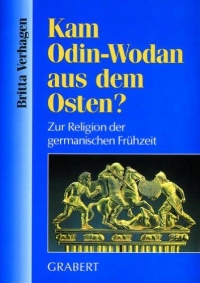



Комментарии к книге «Народы и личности в истории. Том 1», Владимир Борисович Миронов
Всего 0 комментариев