Стелла Лазаревна Абрамович ПУШКИН В 1836 ГОДУ Предыстория последней дуэли
ВВЕДЕНИЕ
Гибель Пушкина на дуэли «во цвете лет, в средине его великого поприща» была воспринята всей образованной Россией как национальная трагедия. Прошло почтя полтора столетия с того дня. Но до сих пор этот трагический факт русской истории привлекает к себе широкий общественный интерес.
Изучением преддуэльных событий, в которых с самого начала было много неясного и даже загадочного, занималось несколько поколений пушкинистов. Огромная заслуга в научной разработке этой темы принадлежит П. Ё. Щеголеву, собравшему ценнейшие материалы и документы, связанные с историей гибели Пушкина. В его монографии «Дуэль и смерть Пушкина» опубликованы и подвергнуты научному анализу основные источники по этой теме. Обобщив эти материалы, П. Е. Щеголев впервые восстановил связную картину преддуэльных событий. Последнее прижизненное издание труда Щеголева вышло в свет в 1928 г. На него обычно опираются все биографы поэта и авторы научно-популярных работ.
За истекшие полвека целый ряд исследователей внесли свой вклад в изучение этой темы. Были найдены и опубликованы новые материалы и документы, в том числе и такие, которые открыли прежде неизвестные подробности (среди них: письма Карамзиных 1836–1837 гг.; десять автографов Пушкина из архива Миллера; письма и дневниковые записи императрицы с упоминанием о Пушкине и Дантесе; дневник Д. Ф. Фикельмон; отклики на преддуэльные события в письмах В. Ф. Вяземской, С. А. Бобринской, П. А. Осиновой; наконец, письма и документы из семейного архива Гончаровых). В разных изданиях были опубликованы десятки исследований, уточнивших отдельные моменты преддуэльной истории (работы А. С. Полякова, М. А. Цявловского, Б. В. Казанского, Н. В. Измайлова, Л. П. Гроссмана, Д. Д. Благого, Н. Я. Эйдельмана, Я. Л. Левкович и многих других).
Таким образом, накопился огромный материал, который не мог быть в свое время учтен Щеголевым. Обобщающую картину преддуэльных событий на основе новых материалов попытался дать М. И. Яшин в серии статей, публиковавшихся в 1960-х годах в журналах «Звезда» и «Нева». Но в его статьях наряду с ценными архивными публикациями имеется целый ряд необоснованных гипотез, которые внесли немалую путаницу в истолкование дуэльной истории. Важный вклад в изучение этой темы был сделан А. А. Ахматовой. К сожалению, ее работа о гибели Пушкина, чрезвычайно интересная, хотя и во многом спорная, осталась незавершенной. Вместе с тем в последнее время в печати стали появляться статьи сенсационного характера, якобы объясняющие некие «тайны» дуэльной истории. Противоречия в известных нам материалах, до сих пор не объясненные, дают повод для такого рода рискованных построений, не имеющих ничего общего с научными гипотезами.
Назрела настоятельная необходимость подвергнуть критической проверке весь свод дошедших до нас материалов и документов, относящихся к дуэльной истории, с тем чтобы на основе строго проверенных фактов попытаться воссоздать целостную картину преддуэльных событий. Этой задаче и посвящена настоящая работа. Изложение в аей доведено до 25 января 1837 г. Темы: «Январское письмо Пушкина к Геккерну», «День дуэли», «Гибель Пушкина и русское общество» — остались за пределами этой книги. Они должны стать предметом специального исследования.
В заключение не могу не упомянуть о том, что инициатором и вдохновителем этой книги был Дмитрий Сергеевич Лихачев. Приношу ему сердечную благодарность за его доброе внимание к моей работе.
Все цитаты из сочинений Пушкина, писем его и к нему приводятся далее по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. I–XVI. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1937–1949 с указанием тома и страницы в тексте. В квадратных скобках даются слова, зачеркнутые в подлиннике, в угловых скобках — слова или части слов, вставленные в текст для уточнения смысла.
ГОД 1836-й
4 ноября 1836 г. утром на квартиру Пушкина в доме Волконских («…на Мойке близ Конюшенного мосту…») было доставлено три конверта с анонимными письмами.
Первое из них, адресованное самому Пушкину, прибыло по городской почте. В девятом часу утра его принес письмоносец.[1] Второе, несколько часов спустя, доставил посланный от Е. М. Хитрово (Елизавета Михайловна, полагая, что к ней по ошибке попало письмо на имя Пушкина, велела тотчас же отнести его на квартиру поэта).[2] Третий экземпляр пасквиля в то же утро вручил Пушкину В. А. Соллогуб. Молодой человек чувствовал во всем этом какой-то подвох, но не считал себя вправе распечатать письмо или уничтожить его.[3]
В этот же день еще четверо друзей и знакомых поэта (Вяземские, Карамзины, Виельгорский, Россеты) получили точно такие же пакеты для передачи Пушкину, но, заподозрив недоброе, распечатали их и оставили у себя.
В конверте, прибывшем утром по городской почте, Пушкин обнаружил такое письмо, написанное по-французски нарочито измененным почерком: «Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в Великий Капитул, под председательством высокопочтенного Великого Магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена. Непременный секретарь граф И. Ворх» (XVI, 394).
Произошло то, что было для Пушкина нестерпимее всего. Брошена была тень на его честь и доброе имя его жены.
Удар был нанесен из-за угла. Виновники этого подлого дела надеялись остаться безнаказанными. С этого дня, который был для него поистине ужасным, жизнь Пушкина переломилась. «С получения безымянного письма он не имел ни минуты спокойствия», — вспоминал впоследствии П. П. Вяземский.[4] То же самое говорили все, кто был близок с Пушкиным в последние месяцы.
Трудно вообразить, что ему пришлось пережить 4 ноября.
Утром состоялось его объяснение с женой. По словам П. А. Вяземского, «эти письма <…> заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна; она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть».[5] Вот тогда-то Пушкин и узнал от Натальи Николаевны о том, что происходило в последние дни, о чем она не решалась ему до сих пор сообщить, опасаясь взрыва с его стороны.
Как ни мучителен был этот разговор, может быть, доверие жены, открывшейся ему во всем, дало ему силы выдержать этот удар. Во всяком случае и воспоминания близких людей, и все поведение Пушкина говорят об одном: первым и главным его побуждением после появления анонимных писем было стремление защитить жену.
В. А. Соллогуб, посетивший поэта 4 ноября днем, видел его после только что состоявшегося объяснения с Натальей Николаевной. Вот что он рассказывает в своих записках:
«Я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:
— Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елисаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, над безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моете камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой.
Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами <…> он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания».[6]
В. А. Соллогуб, единственный из очевидцев, чья воспоминания об этом дне дошли до нас, свидетельствует о поразительном самообладании Пушкина. Письмо, переданное Соллогубом, было третьим за этот день. Пушкин еще не мог знать, сколько таких писем пущено в оборот. Появление нового экземпляра пасквиля заставило его понять, что интрига только начинает разворачиваться и возможны еще новые удары. Тем не менее во время визита молодого человека он ничем не выдал своих чувств.
Больше никаких подробностей об этом дне мы не знаем.
К кому из друзей он бросился в первый момент? Как и когда узнал о письмах, которые получили Вяземские, Карамзины и другие? Где провел вечер? Об этом не сохранилось никаких свидетельств.
Известно лишь одно: 4 ноября вечером Пушкин послал по городской почте вызов Жоржу Дантесу.
События, разыгравшиеся 4 ноября, имеют свою предысторию — внешнюю, бросающуюся в глаза, и глубинную, предопределенную тем положением, в которое был поставлен правительством Николая I гениальный русский поэт.
Остановимся прежде всего на этой очевидной, внешней стороне дела, чтобы возможно точнее восстановить фактический ход событий, предшествовавших дуэльной ситуации.
1
Настойчивое ухаживание молодого кавалергарда Дантеса[7] за Н. Н. Пушкиной обратило на себя внимание петербургского общества в начале 1836 г. До того времени никаких толков на этот счет не существовало ни в свете, пи в кругу близких людей, с которыми Пушкины общались постоянно.
Легенду о двухлетнем постоянстве Дантеса, ранее бытовавшую в биографической литературе, убедительно опровергла А. А. Ахматова, опираясь па два письма молодого человека к Геккерну, которые были опубликованы в 1946 г.[8] В первом из этих писем, датированном 20 января 1836 г., Дантес писал Геккерну о своей любви как о новости, которая совсем недавно вошла в его жизнь и была еще неизвестна барону. Данные этого письма и позволили А. А. Ахматовой более точно, чем раньше, определить хронологические границы всей этой истории.[9]
Сведения, исходящие от Дантеса, подкрепляются другим, очень точным свидетельством, которое имеется в записках В. А. Соллогуба. Соллогуб, уехавший из Петербурга в Тверь в октябре 1835 г., в первый раз услыхал об ухаживании Дантеса за женой поэта в феврале 1836 г. Об атом ему рассказал проезжавший через Тверь П. А. Балуев — жених Машеньки Вяземской, и это было для Соллогуба новостью.[10] Значит, до зимы 1835/36 г. никаких разговоров на эту тему в пушкинском кругу не было.
Письма Дантеса, опубликованные французским писателем Анри Труайя, относятся как раз к этому времени — к началу 1836 г. Они могли бы много прояснить, если бы не были вырваны из контекста всей переписки. Взятые вне этого контекста и без учета особенностей эпистолярного стиля я бытовой культуры эпохи, они подают повод для крайне субъективных суждений.
В настоящее время возможна лишь осторожная предварительная оценка этих биографических документов.
Обратимся к первому из них.
20 января 1836 г. Жорж Дантес признался своему покровителю барону Геккерну, что он влюблен в самую прелестную женщину Петербурга. Ив содержания письма явствует, что эта любовь вспыхнула совсем недавно, да и сам молодой человек просит барона отнестись снисходительно к его новой страсти.
Дантес писал: «… я безумно влюблен! Да, безумно, так как я не знаю, как быть; я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив; поверяю тебе это, дорогой мой, как лучшему другу и потому, что я знаю, что ты примешь участие в моей печали; но, ради бога, ни слова никому, никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен. Потому что, видишь ли, я бы сделан все на свете для нее, только чтобы ей доставить удовольствие, потому что жизнь, которую я веду последнее время, — это пытка ежеминутная. Любить друг друга и иметь возможность сказать об этом лишь между двумя ритурнелями кадрили — это ужасно: я, может быть, напрасно поверяю тебе все это, и ты сочтешь это за глупости; но такая тоска в душе, сердце так переполнено, что мне необходимо излиться хоть немного <…> Повторяю тебе еще раз — ни слова Брогу <или Брагу?>, потому что он переписывается с Петербургом, и достаточно одного его сообщения супруге, чтобы погубить нас обоих! <…> До свиданья, дорогой мой, будь снисходителен к моей новой страсти, потому что тебя я также люблю от всего сердца».[11]
В свое время, когда два письма Дантеса — это и следующее — были опубликованы, они произвели ошеломляющее впечатление, так как впервые осветили события «изнутри», с точки зрения самих действующих лиц. До тех пор об отношениях Дантеса и Натальи Николаевны мы знали лишь по откликам со стороны.
Первоначальное знакомство с этими эпистолярными материалами привело биографов к единодушному мнению о том, что молодых людей связывало сильное взаимное чувство. Вывод этот представлялся бесспорным, он никогда не пересматривался, и письма Дантеса за истекшие тридцать лет ни разу не подвергались детальному критическому анализу, хотя как биографический источник они, несомненно, представляют интерес и нуждаются в изучении.
Попытаемся проделать опыт критического анализа этих эпистолярных материалов.
Нет нужды говорить о том, что письма влюбленного молодого человека всегда являются свидетельством до крайности субъективным и односторонним по отношению к окружающему миру, но они многое раскрывают в нем самом.
Январское письмо говорит прежде всего о том, что Дантес в тот момент был охвачен подлинной страстью. Искренность его чувств не вызывает сомнений. Он весь поглощен своим новым увлечением. Оно заполняет всю его жизнь и является главной пружиной всех его поступков. Но следует отнестись с сугубой осторожностью к его заявлениям, касающимся H. H. Пушкиной. Дантес виделся с пленившей его женщиной только на балах: он успел за это время лишь несколько раз поговорить с ней во время танцев. Он расточал ей свои признания и бальные комплименты, как он сам пишет, «между двумя ритурнелями кадрили». Судя по его второму письму, он лишь в начале февраля впервые нашел возможность объясниться с нею. Тем не менее модный молодой человек, избалованный успехом у женщин, заранее был уверен в том, что его избранница отвечает ему взаимностью. Его слова: «… она тоже любит меня…» — свидетельствуют скорее о его самоуверенности, чем о реальном положении дел.
На первый взгляд, может показаться, что это письмо говорит о рыцарском характере чувств Дантеса. Забота молодого человека о репутации любимой женщины, стремление сохранить свою любовь в тайне, видимая готовность к самопожертвованию — все это, конечно, настраивает в его пользу.
Но не будем торопиться с выводами. Сопоставим письмо Дантеса с другими аналогичными документами эпохи.
Как мы видели, Дантес, сообщая барону Геккерну о своей новой страсти, особое внимание уделяет соблюдению тайны. Он не называет имени той, которую любит, однако рассчитывает на то, что оно будет угадано. При этом он умоляет барона не высказывать своих догадок вслух, не произносить имени этой дамы в разговорах, не упоминать его в письмах. С этой просьбы он начинает свои признания, а затем несколько раз возвращается к ней в своем письме.
Но все это, как мы убедимся, отнюдь не свидетельствует о возвышенном характере его чувств. Требование тайны в подобных ситуациях было в те времена своего рода этикетной нормой. Не принято было, говоря о романе со светской женщиной, прямо называть ее имя. Его сообщали лишь с условием строгого соблюдения тайны.
В. А. Соллогуб, вспоминая о нравах той поры, писал: «В те времена <…> рассказывать о своих похождениях со светскими дамами почиталось позором». И тут же добавлял: «… на все эти грехи точно натягивали вуаль из легкой дымки».[12] Дымка в действительности была почти прозрачной, так как обычно речь шла о мнимой тайне.
О характерном образчике тогдашних светских нравов рассказывает, например, князь М. Б. Лобанов-Ростовский в своих воспоминаниях, относящихся к концу 1830-х годов. Он пишет об одном из своих приятелей, который пользовался большим успехом у женщин и любил их, «особенно из-за удовольствия сообщать друзьям под строгой тайной о своих любовных похождениях». «До того, как я его хорошо узнал, — признается мемуарист, — я свято хранил его секреты, но вскоре я открыл, что был посвящен в тайну наряду со всеми». «Когда я однажды посмеялся над ним по этому поводу, — вспоминает князь, — он вполне серьезно заявил мне, что не стоит обладать женщиной, если нельзя этим похвастаться».[13]
Как видим, речь шла в сущности не о сохранении тайны, а о внешне безупречном соблюдении этикетных норм. Требование тайны было неким общепризнанным правилом игры.
Типология поведения модного светского человека запечатлена и в беллетристике того времени. Так, в повести «Лев», действие которой происходит в 1830-е годы, В. А. Соллогуб изображает ситуацию, очень близкую к той, которая вырисовывается из письма Дантеса. Вот как развивается любовное приключение героя этой повести. Молодой человек, заслуживший в свете репутацию «льва», намекает своему приятелю, что он влюблен в замужнюю даму и надеется на взаимность. «Ты понимаешь, что я не могу ее назвать», — с такого заявления начинает «лев» свое признание. Затем он подробно описывает внешность дамы, ее дом, характеризует ее мужа, их положение в обществе и все это заключает словами: «Больше я ничего не могу тебе сказать и прошу тебя: не спрашивай у меня, кто она».
Комизм ситуации обнажается вполне, когда герой просит приятеля ехать с ним на вечер, чтобы отвлечь внимание мужа. Приятель, давно уже разгадавший мнимую тайну, наконец спрашивает: «Кто ж она?». И герой шепотом на ухо сообщает ему имя красавицы, царившей тогда в большом свете. «О львиная скромность! О веселый рыцарь нашего века, герой нашего времени!», — восклицает в заключение автор.[14]
Дантес являл собою образец модного светского человека этого типа. Стиль его поведения на первых порах ухаживания за женой поэта очень напоминает образ действий «льва», описанного Соллогубом. Разумеется, речь идет не о прямых аналогиях, а о типологическом сходстве. Напомним, кстати, что слово «модный» (fort à la mode) присутствует и в характеристике, данной Дантесу Пушкиным (XVI, 213).
Дантес тоже был рыцарем на словах. Требуя от своих конфидентов соблюдения тайны, сам он очень скоро привлек к ней всеобщее внимание. И в этом сказалась не только непоследовательность поведения влюбленного, — Дантес знал, что громкий роман с женой Пушкина выдвинет его на первые роли в кругу петербургской золотой молодежи.
Уже в январе — феврале, во время зимних праздников, его ухаживание за женой поэта было замечено и об этом пошли разговоры.
5 февраля 1836 г., возвратившись с бала у княгини ди Бутера, Мари Мердер, дочь воспитателя наследника, записала в своем дневнике: «В толпе я заметила д'Антеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу, — он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жою Пушкиной. До моего слуха долетело:
— Уехать — думаете ли вы об этом — я этому не верю — вы этого не намеревались сделать…
Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, — они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцевал мазурку с г-жою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту!».[15]
Как видим, в те же самые дни, когда Дантес писал свое письмо Геккерну, он открыто выражал свою страсть на многолюдных балах, что сразу привлекло к себе внимание великосветского Петербурга. Однако зимой это еще не вызвало особенного шума в обществе.
В том, что Дантес был влюблен в H. H. Пушкину, не было повода для сенсации. Она была окружена романтическим поклонением, вызванным не только ее красотой, но и обаянием имени, которое она носила. «Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы», — вспоминал В. А. Соллогуб. «Я с первого же раза без памяти в нее влюбился, — признавался он, — надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной <…> Я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видавших!».[16]
Хотя Дантес не был поклонником такого рода, он не сразу был выделен из числа этих романтически настроенных обожателей. В январе — феврале был дан лишь первый толчок великосветской сплетне. «Жужжанье клеветы» вокруг имени H. H. Пушкиной поднялось позднее.
Зимой 1836 г. в разных петербургских кружках отношение Натальи Николаевны к Дантесу оценивали по-разному.
Молоденькая фрейлина М. Мердер, наблюдая в эти дни за Дантесом и H. H. Пушкиной, уверилась, что они «безумно влюблены друг в друга». Те, кто стоял ближе к Пушкину и его семье, люди более проницательные и гораздо лучше осведомленные, видели эти же вещи в ином свете. H. M. Смирнов, вспоминая о зимнем сезоне 1836 г., писал о Дантесе: «Он страстно влюбился в госпожу Пушкину <…> Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием (невзирая на то, что искренне любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива) <…> или из неосторожного кокетства, принимала волокитство Дантеса с удовольствием».[17]
Графиня Д. Ф. Фикельмон, чьи наблюдения отличаются большой психологической точностью, тоже отмечала, что вначале H. H. Пушкина, несмотря на настойчивость Дантеса, держала его на расстоянии. Вот что она пишет о жене поэта: «Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз по фамилии Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре <…> стал более открыто проявлять свою любовь».[18]
Княгиня В. Ф. Вяземская, которая в своих рассказах о Пушкине была всегда предельно откровенна и не считала нужным стеснять себя никакими условностями, говорила, что Наталья Николаевна мужа любила действительно, а с Дантесом кокетничала. По ее словам, H. H. Пушкина и «не думала скрывать, что ей приятно видеть, как в нее влюблен красивый и живой француз». Впоследствии она же говорила П. И. Бартеневу: «Я готова отдать голову на отсечение, что все тем и ограничивалось и что Пушкина была невинна».[19]
Так оценивали положение дел те, кто хорошо знал о взаимоотношениях в семье Пушкина.
В феврале у Дантеса состоялось объяснение с Натальей Николаевной. Об этом он сообщил барону Геккерну в письме, датированном 14 февраля:
«Когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор; а его было очень трудно поддержать, потому что речь шла об отказе человеку, любимому и обожающему, нарушить ради него свой долг; она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно; а когда она сказала мне: я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой; право, я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если бы я был Один, и уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла, но теперь это не то же самое: я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана».[20]
М. А. Цявловский, комментируя это письмо, писал: «Ответное чувство Натальи Николаевны к Дантесу теперь <…> не может подвергаться никакому сомнению». Таково же было мнение Анри Труайя, впервые опубликовавшего эти два письма Дантеса.[21]
Тем не менее мы позволим себе в этом усомниться.
Попытаемся на основании февральского письма восстановить суть того разговора, который произошел между H. H. Пушкиной и кавалергардским поручиком Жоржем Дантесом.
Этот разговор состоялся на каком-то вечере в начале февраля. Но объяснение, на которое Дантес возлагал такие надежды, оказалось для него, по его собственному признанию, «ужасным». До сих пор он надеялся на взаимность и полагал, что на его пути стоят лишь внешние препятствия, но он встретил неожиданный отпор. В сущности, он получил отказ. Как он пишет, его состояние в тот момент было таково, что она стала его утешать.
Нам неизвестно, на самом ли деле произнесла H. H. Пушкина эти слова: «Я люблю вас так, как никогда не любила», или в такой форме передал ее утешительные речи Дантес. На основании письма Дантеса содержание этого разговора можно восстановить лишь приблизительно. Зато его письмо дает представление о том, как вела себя в момент объяснения H. H. Пушкина. Судя по письму Дантеса, она вполне владела собой, держалась свободно и непринужденно. По-видимому, молодой человек в момент объяснения не почувствовал с ее стороны ответного отклика. Вот почему после этого вечера в его отношении к ней что-то сдвинулось. Он пишет: «… с этого дня моя любовь к ней еще возросла, но теперь <…> я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана».
Это последнее заверение по стилю и духу близко к романтическому умонастроению, которое было характерно для карамзинской молодежи.[22] Как мы увидим, Дантеса хватило ненадолго, но какое-то время он выступал в этой роли преданного обожателя.[23]
После масленицы Дантес реже встречался с H. H. Пушкиной в свете. «Я стал немного спокойнее с тех пор, как не вижу ее каждый день», — писал он Геккерну 14 февраля.[24] Весной Наталья Николаевна почти перестала выезжать. Но к этому времени Дантес завязал тесные дружеские связи с молодежью карамзинского кружка и стал постоянным гостем у Вяземских и у Карамзиных, в домах, где Пушкин с женой бывали чаще всего.
Для всех, кто входил в этот узкий дружеский круг, страсть Дантеса давно перестала быть тайной. Но вряд ли это тогда вызывало у кого-нибудь тревогу. К влюбленности молодого француза относились скорее как к безнадежному обожанию.
Сестра поэта Ольга Сергеевна, упоминая в письме к отцу о своем пребывании в Петербурге зимой и весной 1836 г., писала о Дантесе: «Его страсть к Натали не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я тоже над этим подшучивала».[25] «Тоже».. т. е. как и все остальные.
С. Н. Карамзина, встретившая Дантеса 1 июля на петергофском празднике, рассказывала в письме к брату об этой встрече в самом легком и шутливом тоне: «Я шла под руку с Дантесом. Он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали)».[26]
Как видим, ни у родных Пушкина, ни у его друзей ухаживание Дантеса в это время не вызывало никаких дурных предчувствий или серьезных опасений. Правда, в этих женских отзывах проскальзывает тень досады по отношению к «прекрасной Натали». Но тем не менее репутация Натальи Николаевны в дружеском кругу — вне подозрений. Когда Андрею Карамзину, уехавшему за границу в мае, сообщили осенью об анонимных письмах, он в ответ с негодованием написал: «Не понимаю, как мог найтись подлец, достаточно злой, чтобы облить грязью прекрасную и добродетельную женщину!».[27] Андрей Николаевич, как и все Карамзины, знал о страсти Дантеса, во его уважение к Наталье Николаевне ничуть не было поколеблено.
Непосредственные отклики, запечатленные в письмах и дневниках современников, говорят о том, что в первой половине года даже самые близкие люди не видели во взаимоотношениях Натальи Николаевны с Дантесом ничего, внушающего серьезную тревогу.
У нас есть все основания предполагать, что зимой и весной 1836 г. ухаживание Дантеса не нарушило согласия в семье Пушкина. Убедительнее всего об этом говорят хорошо известные майские письма поэта к жене. Но, конечно, Пушкин не остался безразличен к тем волнениям сердца, которые переживала Наталья Николаевна. Очевидно, он знал и о состоявшемся в феврале объяснении. Скорее всего жена сама ему об этом рассказала. Как известно, Наталья Николаевна привыкла быть откровенной с мужем. Это подтверждается многими сообщениями, идущими из круга друзей поэта. Д. Ф. Фикельмон в своем дневнике записала: «Она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса»; «Она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя знала его пламенную, необузданную природу», — рассказывал В. А. Соллогуб.[28]
Позднее, в ноябрьском письме к Геккерну, оставшемся неотправленным, Пушкин писал: «Поведение вашего сына было мне совершенно известно уже давно и не могло быть для меня безразличным; но так как оно не выходило из границ светских приличий и так как притом я знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя, с тем чтобы вмешаться, когда сочту своевременным..». Далее он добавлял: «Признаюсь вам, я был не вполне спокоен» (XVI, 189). Этой лаконичной фразой Пушкин обозначил все то, что ему пришлось пережить в последние месяцы, накануне ноябрьских событий.
Он не был спокоен и зимой. Мы знаем, что в конце января — начале февраля 1836 г. Пушкин находился в особенно тревожном состоянии. 31 января сестра поэта О. С. Павлищева писала мужу из Петербурга: «Я не помню его в таком отвратительном состоянии духа…».[29]
Именно в эти дни, в начале февраля, у Пушкина одна за другой разыгрались три дуэльные история, причем в каждой из них зачинщиком был сам поэт. Ничего подобного с ним не случалось со времен его бурной молодости. А с тех пор как Пушкин стал семейным человеком, у него, насколько нам известно, вообще не было ни одной дуэльной истории. Этот взрыв свидетельствует о некой критической ситуации, возникшей в его жизни. Но было бы наивным объяснять ее только семейными осложнениями. Тому были более глубокие причины.
2
Противостояние поэта и царя, длившееся уже целое десятилетие, в 1834–1835 гг. приобрело особую напряженность. Общее поправение правительственного курса трагически сказалось на судьбе Пушкина. Усилился нажим власти на поэта.
Пожалование в камер-юнкеры сделало его положение еще более стесненным, чем оно было до сих пор. Поэт принужден был теперь постоянно приспосабливаться к строго регламентированным нормам придворной жизни. Разыгравшаяся летом 1834 г. история с отставкой заставила Пушкина особенно остро почувствовать, до какой степени он был лично зависим от воли самодержца. Полицейский сыск приобрел в это время столь откровенные и циничные формы, что поэту стало известно и о перлюстрации его переписки, и о том, что его письма к жене препровождаются для прочтения к царю. Усилились и цензурные притеснения: новый министр просвещения Уваров, стремясь подчинить поэта общей цензуре, фактически свел на нет привилегии, которыми Пушкин пользовался с 1826 г.
Все чаще Пушкин оказывался в ситуациях, глубоко оскорбительных для него. Его достоинство поэта и даже неприкосновенность его частной жизни были под угрозой.
Все это породило поистине трагическую коллизию. Пушкин чувствовал, что ему необходимо уехать из столицы и уединиться в деревне. Казалось, только так он может отстоять свою личную независимость и наладить свои материальные дела. Однако разрыв с Петербургом был чреват для поэта слишком серьезными потерями. Его положение главы русской культуры, его исторические изыскания, издательские дела и многообразные литературные контакты требовали постоянного присутствия в столице. Отъезд в деревню не только вызвал бы новые осложнения в его отношениях с правительством, до и лишил бы поэта возможности непосредственно участвовать в современной культурной жизни.
Пушкин мечтал уехать и знал, что уезжать нельзя, В конце концов исход дела решили чисто практические соображения. Когда Пушкин летом 1835 г. объявил родным и друзьям, что он подает в отставку и покидает Петербург, оказалось, что ему с семьей некуда ехать. Отец поэта, узнав о планах своего старшего сына, недвусмысленно дал ему понять, что не намерен отдавать в его распоряжение Михайловское. По этому поводу он написал дочери следующее: «Так как я надеюсь на будущий год, если господь отпустит нам жизни, поехать в Михайловское, то мы не можем ему его предоставить па все это время. В наши расчеты совсем не входит лишиться и этого последнего утешений».[30] Ехать с малолетними детьми в Болдино, где не было барского дома, Пушкин тоже не мог. Оп хотел приобрести клочок земли близ Михайловского или под Москвой, но денег на это не было.
Вот почему, когда Пушкину разрешили сделать в государственном казначействе долгосрочный заем в размере 30 000 рублей, это оказалось для него единственным реальным выходом из положения После длительных переговоров с Бенкендорфом Пушкин в августе 1835 г. наконец принял решение: он взял предложенную ему ссуду, обязавшись погашать ее за счет своего жалованья, и остался в Петербурге.
Мечта о покое к воле, о бегстве в «обитель дальнюю трудов и чистых нег» оказалась утопией. Жизнь диктовала иные решения. Еще недавно Пушкин писал жене: «Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами» (XV, 156). Теперь он вынужден был сделать новый заем и тем еще крепче связал себя с официальным Петербургом.
Выбор, сделанный Пушкиным, не принес ему облегчения. Неопределенность его нынешних отношений с правительством, сознание своей зависимости, тревога за будущее семьи — все это так мучительно беспокоило поэта, что он не мог работать. Осенью 1835 г. Пушкин пережил совершенно необычное для пего состояние творческого спада Приехав в Михайловское в начале сентября с тем, чтобы остаться там па три-четыре месяца, Пушкин почувствовал, что он не может писать. Сначала он не терял надежды, что удастся «расписаться». По осенние дни текли один за другим, а вдохновение но являлось. «Писать не начинал и не знаю, когда начну…», — писал Пушкин жене 14 сентября. Его последующие письма говорят о все нарастающей душевной тревоге 21 сентября. «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет»; 25-го: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому, что не спокоен» (XVI, 47, 48, 50).
Состояние депрессии, мучительно пережитое поэтом в Михайловском, было вызвано глубочайшей внутренней неудовлетворенностью. Пушкин чувствовал, что обстоятельства подчиняют его себе, и это было для него невыносимым.
Внезапная остановка в работе сломала все его планы. Осень всегда была для Пушкина порой свершений. То, что было им задумано и начато ранее, именно в это время обретало воплощение в законченной поэтической форме. Но в 1835 г. поэту не удалось завершить ни одной из начатых им больших вещей. Пробыв в Михайловском около полутора месяцев (почти столько же, сколько в 1833 г. в Болдине), Пушкин привез из деревни одно законченное стихотворение («Вновь я посетил…») я незавершенную повесть «Египетские ночи».
Незадолго до отъезда из Михайловского поэт признался в письме к Плетневу: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось…» (XVI, 56). Вот почему к концу года у Пушкина не было готово к печати ни одного крупного произведения, кроме «Путешествия в Арзрум», представленного в цензуру еще весной.
Теперь единственной ставкой Пушкина в той борьбе, которую он вел, стало задуманное им периодическое издание. 31 декабря 1835 г. поэт написал Бенкендорфу официальное письмо, в котором просил разрешить ему издать в будущем году «4 тома статей чисто литературных» (XVI, 69). Наученный горьким опытом, он действовал очень осторожно. Полгода тому назад Пушкин получил отказ, когда ходатайствовал о разрешении издавать газету. Поэтому теперь он просил даже не о журнале, а о литературном сборнике в четырех томах. Ему нужно было добиться разрешения во что бы то ни стало: на карту было поставлено все его будущее.
В 10-х числах января поэту стало известно, что его «Современник» разрешен. Пушкин был силой, с которой царь не мог не считаться, и на сей раз он решил не доводить дело до нового конфликта. Пушкин встретил это известие с таким торжеством, с каким он несколько лет тому назад писал Плетневу по поводу своей трагедии: «Милый! победа! Царь позволяет мне напечатать „Годунова“ в первобытной красоте…» (XIV, 89). Только что полученное разрешение тоже было его великой победой. С этого момента настроение Пушкина переломилось. Издание журнала открывало перед ним новые перспективы и давало надежды на постоянный литературный заработок.
1836-й год начинался для Пушкина счастливо…
Но вскоре над головой поэта снова собрались тучи. В середине января в Петербурге появился номер «Московского наблюдателя», в котором была напечатана пушкинская сатира «На выздоровление Лукулла». Убийственный памфлет Пушкина привлек всеобщее внимание. Хорошо известно свидетельство А. В. Никитенко: «Пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова».[31]
Последствия не замедлили сказаться. Публикация «Лукулла» повлекла за собой неприятности, всей серьезности которых Пушкин, вероятно, не предвидел. Его выступление против министра просвещения и главы цензурного ведомства было, конечно, ходом очень рискованным. Но поэт был так раздражен цензурными преследованиями, которым он подвергся, что пошел на этот риск. В своей неравной борьбе с министром Пушкин сделал ставку на гласность. Он надеялся на то, что общественное мнение будет на его стороне. Но времена изменились. Реакция общества оказалась в целом глубоко враждебной поэту. Против Пушкина ополчился весь чиновный и аристократический Петербург. Уваров, публично ошельмованный, обратился с жалобой к царю, и царь поручил Бенкендорфу сделать Пушкину строгое внушение. Известие об этом тотчас же распространилось. 20 января Никитенко записал в своем дневнике: «Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор».[32]
Пушкину пришлось выдержать тягостное объяснение с Бенкендорфом. Он пытался выйти из положения достойным образом. Как рассказывает Ф. Ф. Вигель, в кабинете шефа жандармов разыгралась следующая сцена: «Когда Бенкендорф призвал Пушкина и спросил его <…> на кого он написал эти стихи, тот с смелою любезностью отвечал; „На вас!“. Бенкендорф рассмеялся…».[33] «Вот видите, граф, вы этому смеетесь…», — будто бы ответил ему Пушкин[34] (по другим сведениям, поэт сказал: «Вы не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?»). Но отшутиться Пушкину не удалось. Он принужден был выслушать все, что Бенкендорф намерен был ему высказать от имени царя и от своего собственного. Поэту было предложено объясниться лично с Уваровым, но, судя по всему, ему удалось уклониться от этого.
Как бы то ни было, официальный царский выговор был для Пушкина тяжелым ударом и грозил многими осложнениями. С него все и началось. Неприятности посыпались затем как из рога изобилия.
В 20-х числах января стало известно, что цензором «Современника» назначен А. Л. Крылов — самый придирчивый и самый трусливый из всех членов Санкт-Петербургского цензурного комитета. Уваров начал сводить свои счеты с Пушкиным.
Воспользовались моментом и литературные враги поэта. 1 февраля в очередном номере «Библиотеки для чтения» появилась статья О. И. Сенковского с издевательскими нападками на Пушкина по поводу выхода в свет перевода сказки Виланда «Вастола», к изданию которой поэт оказался курьезным образом причастен. Желая помочь бедствующему литератору Е. П. Люценко издать его перевод, Пушкин разрешил ему поставить на титульном листе «Вастолы» свое имя в качестве издателя. Сказка Виланда вышла без указания имени переводчика, но с подзаголовком: «Издано А. Пушкиным», так что читатели могли подумать, что перевод принадлежит самому поэту. Вот этим казусом и воспользовался Сенковский. Он обвинил поэта в неблаговидном поступке, заявив, что Пушкин «дал напрокат» свое имя и тем самым обманул публику.[35] Поэт был больно задет выпадами Сенковского, так как обвинения были не литературного, а личного характера.
В эти же дни до Пушкина стали доходить отголоски пересудов на его счет. Поэт ощутил сгущавшуюся вокруг него атмосферу травли.
Вот тогда-то и разразились, один за другим, февральские дуэльные инциденты, которые с точки зрения житейского здравого смысла как будто не имели под собой серьезных оснований.
Первым в этом ряду был инцидент с С. С. Хлюстиным, московским знакомым Пушкина. Посетивший поэта 3 февраля Хлюстин был принят Пушкиным «по обыкновению весьма любезно», как свидетельствует присутствовавший при этом Г. П. Небольсин.[36] Но когда гость в ходе разговора упомянул о пресловутой «Вастоле» и процитировал слова Сенковского о том, что поэт обманул читателей, Пушкин взорвался. Разговор принял острый характер. Хлюстин не сумел достойно выйти из положения, и обмен репликами закончился тем, что Пушкин заявил: «Это не может так окончиться…». Назавтра поэт направил Хлюстину письмо, которое было воспринято молодым человеком как вызов. Дело едва не дошло до барьера. Не без труда его удалось уладить при посредничестве С. А. Соболевского (XVI, 79–82).
После столкновения с Хлюстиным как будто плотину прорвало. Пушкин больше не мог и не хотел сдерживаться, он сам перешел в наступление. Буквально на следующий день после истории с Хлюстиным поэт начал еще одно объяснение. До Пушкина дошли слухи о том, что после выхода в свет его оды «На выздоровление Лукулла» князь Н. Г. Репнин позволил себе дурно отозваться о нем в обществе. Эти слухи распространял В. Ф. Боголюбов, которого все называли «уваровским шпионом-переносчиком».[37]
Поэт не счел возможным объясняться с Боголюбовым и обратился прямо к князю Репнину. 5 февраля Пушкин направил Репнину следующее письмо: «Князь, с сожалением вижу себя вынужденным беспокоить ваше сиятельство; но, как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и то имя, которое оставлю моим детям». Заверяя князя, что он всегда питал к нему чувства искреннего уважения, Пушкин писал, что только настоятельная необходимость заставила его обратиться к нему с подобным письмом: «… некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от вас. Прошу ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить» (XVI, 83, 382).
Тон письма был достаточно решительный. Если бы Репнин не захотел вступать в объяснения, он должен был бы рассматривать это письмо как вызов. Однако Репнин ответил поэту вежливым и церемонным письмом, в котором сообщал, что никогда ничего на его счет в присутствии господина Боголюбова не говорил. Что же касается пушкинской оды, Репнин выразил по этому поводу свое неодобрение, но высказал его в такой форме, что это не могло быть оскорбительно для поэта. Письмо заканчивалось просьбой не обижаться на правду и выражением чувства почтения.
В данном случае обе стороны оказались на высоте. Несмотря на гнев, клокотавший в нем, Пушкин сумел найти нужный для такого письма тон и выдержал его от начала до конца. Это не легко далось ему. В черновом варианте письма были, например, такие выражения: «Оскорбленное лицо просит князя Репнина соблаговолить не вмешиваться в дело, которое его никак не касаетея…» (XVI, 418). Но Пушкин обуздал свой гнев, в переписанное набело письмо, отправленное Н. Г. Репнину, оказалось вполне корректным по содержанию и во форме, что и дало возможность князю ответить поэту в том же тоне.
Однако Пушкин на этом не остановился. Тогда же он дал ход еще одной дуэльной истории. Поводом для нее послужила какая-то неловкая фраза, сказанная Владимиром Соллогубом Наталье Николаевне. Это недоразумение между Соллогубом и женой поэта произошло еще в октябре 1835 г. Но Пушкину стало о нем известно уже после отъезда молодого человека в Тверь, и он, сочтя поведение Соллогуба дерзостью по отношению к Наталье Николаевне, послал ему вдогонку письмо, в котором содержалось требование извинений. Письмо поэта затерялось, и Соллогуб узнал о нем со слов А. Н. Карамзина только в январе. В начале февраля Пушкин получил его ответ. Но в том состоянии, в каком он тогда находился, он не захотел удовлетвориться этими письменными объяснениями. Поэт уполномочил Хлюстина передать Соллогубу, что не считает дело оконченным и что он будет в Твери в конце февраля (XVI, 253–254, 420).
Из-за болезни матери Пушкин был вынужден отложить свою поездку, а когда в мае Соллогуб явился к нему для объяснений, дело неожиданно легко уладилось. Как только молодой человек согласился написать Наталье Николаевне записку с извинениями, Пушкин тотчас же протянул ему руку и «сделался чрезвычайно весел и дружелюбен».
Более того, убедившись, что Соллогуб не хотел нанести его жене никакой обиды, Пушкин посоветовал Наталье Николаевне первой сделать шаг к примирению. И, как рассказывает Соллогуб, когда они встретились осенью на вечере у Вяземских, Н. Н. Пушкина попросила у него «своим волшебным голосом извинения».
Пушкин сказал Соллогубу, когда объяснение между ними закончилось: «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться?.. Да что делать? J'ai la malheur d'être un homme publique et vous savez que c'est pire que d'êfre une femme publique».[38] Шутка была горькой. За ней многое скрывалось. Из-за того он и бился, чтобы не дать низвести высокое звание поэта до подобного уровня.
Важно отметить следующее: ни в одном из февральских инцидентов Пушкин не стремился во что бы то ни стало довести дело до поединка. Поэт твердо настаивал лишь на формальных объяснениях. Он использовал статус дворянской чести, чтобы оградить себя от клеветы и оскорблений.
Однако самый факт вызова — или ситуации, близкой к вызову, — говорит о том, что Пушкин был доведен до крайности. В те дни поэт пережил момент чрезвычайного душевного напряжения. Он был настроен очень решительно и внутренне готов был бросить вызов судьбе и вступить «в игру со смертью».[39]
Нельзя не вспомнить при этом, что в пушкинских замыслах последних лет возникает настойчиво повторяющийся мотив «желанной смерти» (назовем хотя бы такие произведения, как «Полководец», или незавершенные фрагменты: «Мы проводили вечер на даче…», повесть о Петронии, «Марья Шоннинг»). Общей особенностью всех этих замыслов является психологическая настроенность героя — человека, полного сил, но избирающего смерть, потому что, как писала А. А. Ахматова, для него «остаться — было бы равносильно потере уважения к самому себе <…> или подчинению воле тирана».[40]
Ни в одном из этих произведений нет прямой авторской исповеди, но они так или иначе связаны с какими-то очень важными глубинными пластами душевной жизни поэта. В них отразилось то, что было доминирующим в настроении Пушкина последних лет, — его внутренняя готовность к самому крутому повороту в своей судьбе ради спасения чести и человеческого достоинства.
Эта психологическая настроенность сложилась у Пушкина задолго до истории с Дантесом. Она была реакцией на то, что теснило его со всех сторон, ответом на все усиливающийся нажим власти, предпринявшей в это время новые попытки смирить и обуздать его.
3
В январе — феврале 1836 г. Пушкин был очень занят своим журналом и «Историей Петра». Поэт рассчитывал в конце февраля, когда первый том «Современника» будет сдан в печать, уехать в Москву для работы в архивах. Но все сложилось иначе, чем он предполагал. Обострилась болезнь его матери. Видя ее состояние, Пушкин не решился уехать из Петербурга. Каждый день, хоть и ненадолго, он появлялся у родителей. «Счастье, что Александр не уехал, как собирался…», — писала 11 марта Ольга Сергеевна.[41]
Мать поэта скончалась 29 марта. Все печальные хлопоты Пушкин взял на себя. По его настоянию Надежду Осиповну похоронили в стенах Святогорского монастыря, рядом с могилами его деда Осипа Абрамовича Ганнибала и бабушки Марии Алексеевны. Один из всей семьи, Пушкин провожал гроб с телом матери в Михайловское.
Тогда же он отметил место — рядом с могилой матери — для себя. Кому-то из близких поэт сообщил об этом. По словам П. А. Плетнева, в те дни Пушкин, «как бы предчувствуя близость кончины своей <…> назначил подле могилы ее и себе место, сделавши за него вклад в монастырскую кассу».[42] Об этом же сообщает и П. В. Анненков: «Александр Сергеевич положил тело ее в Святогорском Успенском монастыре и тут же сделал вклад обители на собственную свою могилу».[43]
Плетнев говорит: «как бы предчувствуя…». Но хорошо известно, что о месте своего последнего успокоения поэт думал давно, задолго до того дня, когда он сделал свой вклад в казну Святогорского монастыря. Ему было тридцать лет, когда он сказал: «День каждый, каждую годину Привык я думой провождать, Грядущей смерти годовщину Меж их стараясь угадать…». И уже тогда, будучи в расцвете своих духовных и телесных сил, Пушкин отчетливо выразил свою волю: «И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать…» (III, 195).
В последние годы жизнь его сложилась так, что он чувствовал себя не властным даже в этом выборе. «Меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку», — читаем мы в одном из пушкинских писем 1834 г. (XV, 167). Поэт как будто предугадывал окрик Бенкендорфа, раздавшийся в январе 1837 г.: «Почему положен в гроб не в мундире?!». Мысль о том, что его могут похоронить в камер-юнкерском мундире («полосатом кафтане») приводила Пушкина в бешенство.
В день похорон матери, стоя у «отческих могил», Пушкин подтвердил свою волю, высказанную им уже давно. Он позаботился о том, чтобы избежать уготованного ему последнего унижения.
Поэт вернулся из Михайловского 16 апреля.
Весна в 1836 г. выдалась ранняя, и в апреле уже было сухо и тепло. Пушкин надолго уходил из дому и гулял в одиночестве. Возможно, именно в эти апрельские дни, гонимый тоской и воспоминаниями, он посетил могилу Дельвига на Волковом кладбище, и, вероятно тогда же, им была сделана следующая запись об этом дне:
«Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m'en distrai<en>t[44] — теперь иду на поклонение в Ц<арское> С<ело> и в Баб<олово>.
Ц<арское> С<ело>!.. (Gray) les jeux du Lycée, nos leçons… Delvig et Kuchel<beker>, la poésie[45] — Баб<олово» (III, 477).
Запись эта, сделанная под свежим впечатлением недавно пережитого, по всей вероятности, является планом будущего стихотворения, и в то же время она сохраняет значение автобиографического документа, ибо в ней запечатлен след душевного состояния Пушкина тех дней. В этом фрагменте тема кладбища обозначена предельно лаконично. Чувствуется, что мысль поэта стремится оттолкнуться от зрелища смерти и тлена. Кладбищенские впечатления вытесняются воспоминаниями о лицейской юности — о счастливом прологе жизни. Эта мажорная тема и развернута в плане подробно. Весь фрагмент так и озаглавлен — «Prologue».[46]
Замысел, намеченный в этом плане, не был осуществлен. Но посещение могилы Дельвига оставило в душе Пушкина глубокое и болезненное впечатление, которое долго его преследовало. Оно отозвалось позднее в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу…», написанном несколько месяцев спустя, в августе.[47]
Весной, когда Пушкин вернулся из Михайловского, душа его жаждала освободиться от горестных впечатлений последнего времени. Он знал, что скоро будет много писать и, как всегда в таких случаях, стремился уехать из Петербурга, чтобы отрешиться от повседневной суеты и хоть на какое-то время остаться наедине с самим собой. Ему необходимо было сосредоточиться на тех художественных замыслах, которые властно овладели его воображением.
4
29 апреля Пушкин выехал в Москву. Все хозяйственные дела он поручил жене. Ей предстояло без него перебраться с детьми и имуществом на дачу. Хлопоты по изданию второго тома «Современника» по просьбе поэта взял на себя Одоевский.
Приехав в Москву, Пушкин с первой же почтой отправляет жене «подробное донесение» о своем путешествии. Он пишет ей очень часто и с нетерпением ожидает ее гиеем. Пушкин был рад, что уехал, но скучал по дому. Майские письма поэта к жене свидетельствуют о мире и полном согласии в семье Пушкина в это время.
4 мая, рассказывая жене о своей поездке и о первых днях пребывания в Москве, Пушкин, между прочим, сообщает: «Я успел уже посетить Брюллова <…> У него видел я несколько начатых рисунков, и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного! невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя» (XVI, 111).
«Что твое брюхо и что твои деньги? — пишет он ей через два дня. — Я не раскаиваюсь о моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию — а ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди что… Черт их побери! У меня кровь в желчь превращается. Цалую тебя и детей. Благословляю их и тебя…» (XVI, ИЗ).
Эти подробные письма говорят о сложившейся у Пушкина потребности в постоянном общении с женой. Он пишет ей обо всем: о примечательных московских встречах в новостях, о своих занятиях и планах, о том, что раздражает в гнетет его. Почти никогда не раскрывающий себя в письмах, Пушкин с женой откровенен, как ни с кем другим.
Наталья Николаевна в курсе всех его дел и намерений. В отсутствие мужа она выполняет и его деловые поручения. 11 мая, отвечая на письмо жены из Петербурга, Пушкин пишет: «Очень, очень благодарю тебя за письмо твое, воображаю твои хлопоты, и прошу прощения у тебя за себя и книгопродавцев. Они ужасный моветон, как говорит Гоголь…» (XVI, 114). И тут же передает через Наталью Николаевну поручения для Одоевского, чьим попечениям он вверил «Современник».
В эти же дни в Петербурге к жене поэта обращались с вопросами и поручениями друзья Пушкина. Известно, например, письмо Одоевского от 10 мая, адресованное Наталье Николаевне, в котором он сообщает о затруднениях, возникших при печатании второго тома, и просит поторопить Пушкина с приездом. Письмо заканчивается шутливой припиской: «Наконец 7-е, и самое важное: если Алек. Серг. долго не приедет, я в вас влюблюсь и не буду давать вам покоя» (XVI, 232). Та же интонация дружески-доброжелательной шутки слышится и в словах II. А. Вяземского, который в одном из летних писем называет ее: «Г-жа Соиздательница» (XVI, 153).
Пушкин писал жене каждые два-три дня. Она была так же аккуратна. И когда от нее четыре дня не было писем, он огорченно пенял ей: «Что это, женка? так хорошо было начала и так худо кончила! Ни строчки от тебя; уж не родила ли ты? сегодня день рождения Гришки, поздравляю его и тебя. Буду пить за его здоровье. Нет ли у него нового братца или сестрицы? погоди до моего приезда. А я уж собираюсь к тебе. В Архивах я был, и принужден буду опять в них зарыться месяцев на 6; что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму <…> Ты уж вероятно в своем загородном болоте. Что-то дети мои и книги мои? Каково-то перевезли и перетащили тех и других? и как перетащила ты свое брюхо? Благословляю тебя, мой ангел. Бог с тобою и с детьми. Будьте здоровы…». А через день, получив от нее письмо, приписывает: «Я получил от тебя твое премилое письмо — отвечать некогда — благодарю и цалую тебя, мой ангел» (XVI, 116–117).
Много лет спустя, вспоминая об этих днях, В. А. Нащокина рассказывала: «Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги поцелуями».[48]
Между тем в эти дни в Москве Пушкин в водовороте встреч, дружеских и деловых. Поэт общается со старыми Друзьями, с московской родней и знакомыми. Он отогревается в радушном доме Нащокина, где ему все рады. И Пушкин знает истинную цену этой душевной привязанности. «Любит меня один Нащокин», — пишет он жене, рассказывая о московских встречах (XVI, 116).
На этот раз у Пушкина в Москве было множество дел, связанных с «Современником». Ему необходимо было найти среди московских книгопродавцев комиссионера для распродажи журнала и договориться с ним об условиях. Пушкин хотел расширить круг авторов своего журнала и привлечь к сотрудничеству московских литераторов.
В Московском архиве Коллегии иностранных дел при — содействии его начальника А. Ф. Малиновского Пушкин ознакомился с описями документов и понял, что для работы над материалами по истории Петра Первого ему снова придется приехать в Москву надолго — не менее чем на полгода. Зная, что у него мало времени, поэт ограничился на этот раз лишь просмотром некоторых дел, особенно интересовавших его.
Приезд Пушкина стал праздником для культурной Москвы. В его честь устраивались обеды, его наперебой зазывали в гости. Принимал он визитеров и у себя. Пушкин встречался с литераторами, учеными, актерами, художниками. Повидался он и со старыми друзьями и знакомыми: Александром Раевским, Чаадаевым, М. Ф. Орловым, Баратынским.
Некоторое представление об этих встречах Пушкина и о диапазоне его творческих интересов дают дошедшие до нас отклики московских знакомых поэта.
В майском письме к А. И. Тургеневу Чаадаев сообщал: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром Великим».[49]
15 мая профессор Московского университета археолог И. М. Снегирев записал в дневнике: «Утром я был у Пушкина, который обещал написать разбор моих пословиц и меня приглашал участвовать в „Современнике“».[50] Предметом их беседы было и «Слово о полку Игореве», о котором поэт собирался писать.
В эти же дни Пушкин обсуждал смысл вступления к «Слову» с С. П. Шевыревым, который впоследствии так рассказывал о своих встречах с Пушкиным в мае 1836 г.: «„Слово о полку Игореве“ он помнил от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. <…> Я слышал лично от Пушкина об ею труде».[51]
Общаясь с московскими литераторами и учеными, Пушкин заказывал ил материалы для «Современника». М. С. Щепкина он побуждал писать воспоминания. 17 мая поэт подарил ему тетрадь, в которой своей рукой сделал заголовок: «Записки актера Щепкина».[52]
Нащокин познакомил Пушкина с Карлом Брюлловым. Брюллов показал ему свои эскизы. Пушкин пришел в восторг и воскликнул, что новая вещь будет выше «Последнею дня Помпеи». «Сделаю выше!», — отвечал ему Брюллов.[53]
Скульптор Витали решил лепить бюст поэта. Но Пушкин отказался ему позировать. Жене по этому поводу он написал: «Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности; я говорю: У меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим» (XVI, 116).
Пушкин не мог знать тогда, что Витали завершит свой замысел год спустя — совсем при других обстоятельствах.
Поэт провел в Москве около трех недель. Московское радушие и гостеприимство оказались целительными. Пушкин в Москве отдохнул душевно. Правда, он не успелдо конца уладить дела, связанные с распространением «Современника», хотя это и было едва ли не главной практической целью его поездки. Уезжая, Пушкин обещал Наталье Николаевне проявить «благородную! твердость» в переговорах с книгопродавцами (XVI, 111). Но судя по тому, как была организована продажа журнала в Москве, он не добился успеха в этих переговорах. По этому поводу В. Ф. Одоевский, оказавший поэту немалую помощь при издании журнала, очень точно сказал: «Пушкин не искусен в книжной торговле; это не его дело».[54]
Тем не менее поездка в Москву, не увенчавшаяся видимыми практическими результатами, оправдала надежды Пушкина. В эти дни, освободившись от всех житейских забот, он вновь обрел то состояние духа, которое ценил в жизни превыше всего. Он почувствовал близость вдохновения.
18 мая датировано последнее письмо поэта из Москвы. Через два дня он собирался выехать домой. Но накануне отъезда на Пушкина снова нахлынула тоска. Представляя себе, что ждет его в Петербурге, оп писал жене: «У меня <…> душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал полицейские выговоры и мне говорили: vous avez trompé[55] и тому подобное. Что же теперь со мною будет?». В этом же письме Пушкин сообщал: «Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи» (XVI, 117). Тягостные мысли о петербургской неволе томили и Пушкина. Именно это письмо заканчивается самым горьким признанием из всех, какие поэт когда-либо делал: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!..» (XVI, 117).
Несколько недель спустя в рабочей тетради поэта появится стихотворение «Не дорого ценю я громкие права…». Оно станет своеобразным итогом мучительных размышлений Пушкина о позиции художника, которому суждено жить и творить в жестокий век.
Это стихотворение, завершенное летом на Каменном острове, является важнейшей поэтической декларацией Пушкина последних лет. В нем поэт, выражая свой идеал духовной свободы, отстаивал право художника на независимость как от власти, так и от мнений толпы:
Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода: Зависеть от царя, зависеть от народа — Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам, И пред созданьями искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья. — Вот счастье! вот права… (III, 420)Позднее Александр Блок, перечитывая эти стихи Пушкина, скажет: «Эта свобода и есть счастье…».[56]
Но о счастье независимости Пушкин в своем стихотворении говорит как о некоем идеале, как о мечте, для него едва ли осуществимой.
5
Поэт вернулся в Петербург поздно ночью 23 мая, в тот самый день, когда жена родила ему дочь Наталью. Наутро он поздравил жену и подарил ей ожерелье, которое «привело ее в восхищение». Несколько дней Спустя он написал Павлу Воиновичу Нащокину: «Дай бог не сглазить, все идет хорошо!» (XVI, 121).
Пушкину многое нужно было уладить, прежде чем сесть за работу. По приезде на него сразу навалились срочные дела: журнальные, денежные, домашние. Все они требовали немедленного разрешения.
Множество хлопот предстояло в связи с выходом в свет второго тома «Современника»: встречи и переписка с авторами, сношения с цензурой и типографией, чтение корректур. По-видимому, по рекомендации Одоевского Пушкин привлек к сотрудничеству в «Современнике» А. А. Краевского. Поэт поручил ему корректуру второго номера и все сношения с типографией. Энергичный Краевский охотно взял на себя эти обязанности, рассчитывая со временем занять более видное положение в редакции: он лелеял мечту стать пайщиком и соиздателем «Современника». Пушкин пока об этом не догадывался.
Просмотрев подготовленные к печати материалы второго тома, издатель журнала остался доволен его содержанием. «Второй № „Современника“ очень хорош, и ты скажешь мне за него спасибо», — написал он Нащокину (XVI, 121). В это время Пушкин твердо верил в успех своего журнала. Он распорядился отпечатать второй том таким же большим тиражом, как и первый (2400 экземпляров). По словам Плетнева, поэт рассчитывал в 1836 г. получить не менее 25 000 рублей чистого дохода о г распродажи журнала.[57] Вместе с предполагавшимся переизданием «Онегина» и прозаических повестей это должно было обеспечить Пушкину необходимые средства для жизни в столице. Тогда, в мае — июне, Пушкин был окрылен надеждами.
Однако денег ни на издательские, ни на повседневные расходы у него не было, и Пушкин искал возможности сделать долгосрочный заем. Весь этот год поэт жил в кредит в надежде на будущие гонорары и доходы от «Современника». В Москве он просил Нащокина раздобыть для него денег и, вернувшись в Петербург, напоминал ему об этом и торопил: «…деньги, деньги! Нужно их до зареза» (XVI, 121).
1 июня поэт подписал два заемных письма — на 5000 и 3000 рублей сроком на полгода. Эти деньги дал ему взаймы под проценты его дальний родственник — отставной поручик князь H. H. Оболенский, известный игрок.
Наскоро уладив самые неотложные дела, Пушкин на какое-то время отстранил от себя насущные заботы. Уединившись в своем кабинете на даче, поэт погрузился в работу.
Лето в тот год выдалось на редкость ненастное. Дожди шли беспрестанно. Было ветрено, сыро и холодно, как в октябре. За весь июнь и июль едва ли выпало два-три солнечных дня. А. Пушкин втайне радовался ненастью. Он стал писать, и работа пошла успешно. Явилось вдохновение, которого он тщетно ожидал прошлой осенью.
Наталья Николаевна поправлялась. Дети были здоровы. И его Муза снова была с ним. «Дай бог не сглазить, все идет хорошо!».
Летом Пушкина в городе почти не видели. В обществе он не бывал. «Я в трауре и не езжу никуда», — отвечал он на все приглашения (XVI, 136). Под предлогом траура он не явился даже на петергофский праздник в честь дня рождения императрицы.
Поэт общался в это время лишь с немногими знакомыми и близкими друзьями. О встречах с Пушкиным летом 1836 г. до нас дошло всего несколько свидетельств. Среди них — любопытный рассказ Карла Брюллова о его визите к Пушкину на дачу. Как-то вечером, вскоре после своего приезда из Москвы, поэт зазвал художника к себе в гости. Они приехали на дачу поздно; детей уже уложили. Пушкин захотел показать их своему гостю, который был в его доме впервые. И он стал выносить к нему полусонных детей на руках по одному. Но Брюллов не оценил этого порыва поэта. Ему показалось, что все это «не шло» Пушкину. Карл Брюллов был убежден, что гении не созданы для семейной жизни.[58]
А для Пушкина его семья давно уже стала частью его собственного существования. Пушкин радовался детям и любил их каждого по-своему. Нащокину, с которым он был особенно близок душевно, поэт в январе 1836 г. написал: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться» (XVI, 73–74). Отношение к быту и семье как к низменной сфере жизни было ему глубоко чуждо. В его сокровенных записях для себя понятия «труды поэтические», «семья, любовь» (III, 941) стоят в одном ряду, обозначая главные ценности бытия.
«Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив», — писал Пушкин жене в ответ на высказанную ею обиду. «Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону, — продолжал он в том же письме. — Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости <…> Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным» (XV, 156). Это было сказано в одну из очень горьких минут, и сказано со всей искренностью.
По точному определению Ю. М. Лотмана, для Пушкина в эти годы его дом сделался своего рода «цитаделью личной независимости и человеческого достоинства».[59]
Рассказ К. Брюллова интересно сопоставить с тем откликом о Пушкине и его домашнем быте на даче, который оставил французский литератор Леве-Веймар, посетивший Россию летом 1836 г. Леве-Веймар прибыл в Петербург в июне, имея при себе рекомендательные письма от Проспера Мериме к С. А. Соболевскому, и был радушно принят в пушкинском кружке.
16 июня Пушки был у Вяземского на вечере, устроенном в честь парижского гостя.
На другой день поэт пригласил Леве-Веймара к себе на дачу. Приглашены были и друзья Пушкина. В тот вечер Пушкин принимал гостей сам, так как Наталья Николаевна еще не спускалась в гостиную. Леве-Веймар был очарован Пушкиным и глубоко тронут его гостеприимством. На французского гостя поэт произвел впечатление человека, счастливого своей семейной жизнью. «Счастье его было велико и достойно зависти», — напишет он впоследствии. Леве-Веймар нашел какие-то особенно теплые слова, характеризуя дом Пушкина. Он писал, что поэт жил на даче, на Каменном острове, «в своем веселом жилище с молодой семьей и книгами, окруженный всем, что он любил».[60]
Прием, устроенный поэтом для Леве-Веймара, был, кажется, единственным за все лето большим вечером у Пушкиных.
6
В июле — августе дружеские встречи тоже стали редкими. Почти все близкие и знакомые поэта на лето уехали из Петербурга. Теперь Пушкин появлялся в городе только по делам. Остававшийся в городской квартире поэта старик Никита метко высказался по поводу этих стремительных посещений Пушкина: «Если покажется, то как огонь из огнива» (XVI, 142).
Вот тогда-то, в дачном уединении, Пушкин стал писать, «как давно уж не писал» (XVI, 133). Ежедневно с утра он закрывался в своем кабинете, и никто из домашних не смел беспокоить его в это время.
«Настоящее место писателя есть его ученый кабинет <…> независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (XII, 81). Это было сказано Пушкиным в июле 1836 г. Тогда, в пору счастливого творческого подъема, ощущая всемогущество своего дара, он надеялся, что сумеет противостоять и мелочам жизни, и ударам судьбы.
Главный труд, которым поэт был занят летом 1836 г., был его исторический роман. Пушкин, как он сам однажды признался Далю, долго не мог «сладить» с этой вещью. Планы этого романа он обдумывал более трех лет. Но вот теперь дело, наконец, сдвинулось. Роман еще не имел названия, но манера повествования уже определилась, план прояснился, и все лица ожили в его воображении. Работа пошла, и Пушкин знал, что скоро доведет ее до конца.
Во время работы над историческим романом Пушкин, как это часто с ним бывало, обращался и к другим замыслам. На Каменном острове он написал более десяти статей для «Современника», в том числе и такие значительные по проблематике и по объему вещи, как «Вольтер», «Джон Теннер», «Мнение M. E. Лобанова о духе словесности…».
В летние месяцы 1836 г. был создан и знаменитый каменноостровский лирический цикл, которому суждено было стать последним и завершающим в поэзии Пушкина.
В июле поэт вновь обратился к рукописи «Медного всадника». Он хотел попробовать переработать самые «опасные» строки поэмы с тем, чтобы представить ее в общую цензуру. Увлекшись стилистической правкой, Пушкин переделал ряд стихов, но так и не сумел устранить из текста все крамольные места, вызвавшие три года тому назад неудовольствие царя.[61] Поэт не мог и не хотел исключить из поэмы сцену бунта Евгения и его угрозу, обращенную к Медному всаднику. Тем не менее Пушкин отдал исправленную рукопись писцу, а когда была готова писарская копия, внес в нее еще несколько мелких поправок — на этот раз сугубо цензурного характера. Поэт намерен был снова вступить в спор со своими цензорами; он готовил поэму к печати.
23 июля Пушкин поставил дату на последней странице черновой рукописи «Капитанской дочки». Это был знаменательный для него день. Ou одержал победу над всем тем, что мешало ему дышать и работать. Исторический роман, который так нелегко дался ему, был в основном завершен.
Известие о том, что Пушкин закончил новую большую вещь, сразу распространилась в кругу друзей поэта! 25 июля Александр Карамзин сообщил брату со слов Вяземского и Одоевского самую важную литературную новость последнего времени: «Пушкин собирается выпустить новый роман».[62]
Интенсивность творчества Пушкина в июне — июле 1836 г. поразительна. Давно у него не было такого лета. Этот высокий подъем, явившийся после мучительного для Пушкина творческого спада осени 1835 г., был стимулирован тем, что у поэта теперь появился «свой голос» — журнал, на который он возлагал большие надежды. «Современник» должен был для него стать и трибуной, которой Пушкин до сих пор был лишен, и тем органом, вокруг которого он надеялся объединить передовые силы русской литературы, чтобы противопоставить их все усиливающемуся «торговому» направлению.
Состояние тягостной неопределенности, томившее поэта прошлой осенью, сменилось счастливым чувством вновь обретенной творческой свободы. В этом состоянии полной внутренней раскованности он писал: «Пред силою законной Не гнуть ни совести, ни мысли непреклонной…» (III, 1032). Такова была выстраданная им жизненная позиция. Она давала ему опору в творчестве и в борьбе, но грозила многими бедами.
Все, что поэт успел сделать летом, предвещало новый, мощный взлет вдохновения в пору его осенних трудов. Предчувствуя это, Пушкин рвался в Михайловское. В Петербурге ему становилось все труднее работать. «Здесь у меня голова кругом идет, — писал он в середине июля, — думаю приехать в Михайловское, как скоро немножко устрою свои дела» (XVI, 139). Но уехать Пушкину не удалось.
7
Миг душевного покоя, отпущенный Пушкину, оказался недолгим. Заботы и тревоги, обрушившиеся на него, снова выбили поэта из колеи.
К концу июля стало понятно, что надежды, которые Пушкин возлагал на «Современник», не оправдались. Из числа отпечатанных экземпляров за истекшие месяцы было распродано лишь около 700–800 книжек каждого тома. Две трети тиража остались на складе. Это поставило Пушкина перед лицом финансовой катастрофы. За истекшие месяцы ему не удалось возместить даже издательские расходы. Между тем никаких денежных поступлений больше не предвиделось. Поэту пришлось прибегнуть к новым займам и просить об отсрочке прежних обязательств. Дело дошло до того, что Пушкин вынужден был обратиться к ростовщикам: он стал закладывать домашние вещи. В августе поэту пришел на помощь его приятель Соболевский. Уезжая за границу, он оставил Пушкину для заклада свое столовое серебро. На следующий день после отъезда Соболевского, 8 августа, поэт получил от ростовщика Шишкина 7000 рублей под залог серебра. Это на время дало Пушкину передышку.
Все эти хлопоты были мучительными. Они вывели поэта из душевного равновесия.
В недавно опубликованном июльском письме H. H. Пушкиной к брату есть строки, которые потрясают своей несомненной точностью. «Мы в таком бедственном положении, — признавалась Наталья Николаевна, — что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам, и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободной».[63]
Ни друзья, ни родственники поэта не понимали до конца, насколько затруднительно его положение. Родные со всех сторон теребили Пушкина в связи с предстоящим разделом Михайловского. Брат Лев в письмах из Тифлиса просил прислать ему деньги в счет будущего наследства. Он писал, что деньги нужны ему срочно и ждать он не может. Необоснованными денежными претензиями назойливо преследовал поэта его зять Павлищев. Все это становилось невыносимым. И как ни дорого было ему Михайловское, Пушкин, чтобы покончить со всем этим, решил объявить о его продаже. «Нынче осенью буду в Михайловском — вероятно, в последний раз…» (XVI, 154), — с горечью писал он в августе 1836 г.
Пушкин был настолько истерзан всем этим, что в письме к отцу написал с необычной для него откровенностью: «Я не в состоянии содержать всех; я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее» (XVI, 173, 394).
Родственники жены поэта тоже злоупотребляли его великодушием. Хотя Наталья Николаевна не получила никакого приданого, Пушкин никогда не напоминал Гончаровым об этом. Но права H. H. Пушкиной на причитавшуюся ей часть гончаровского наследства были бесспорными. После смерти деда ей должны были либо выделить ее долю сразу, либо выдавать ей ежегодное содержание. Летом 1836 г. Наталья Николаевна решилась наконец прямо и откровенно объясниться по этому поводу со старшим братом. Она написала ему подробное письмо, в котором просила Дмитрия Николаевича выдавать ей ежегодно сумму, равную той, которую получали ее сестры.
Выступая в нелегкой роли просительницы, жена поэта сумела сохранить достоинство. Из письма видно, что Наталья Николаевна была особенно озабочена тем, чтобы ее просьба не вызвала нареканий против ее мужа. Вот что она пишет в этом письме о Пушкине: «Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если и я со своей стороны постараюсь облегчить его положение <…> Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе».[64]
Все ее письмо, хотя оно и посвящено весьма щекотливым денежным расчетам, исполнено внутреннего такта и какой-то особенной, присущей этой женщине милой ласковости.
Просьба Натальи Николаевны была настолько справедливой, что брат не мог ответить ей иначе, как согласием. Однако он начал выплату лишь с октября 1836 г. При жизни мужа Наталья Николаевна успела только один раз получить от Д. Н. Гончарова деньги — 1120 рублей, что составляло четвертую часть назначенного ей годового содержания. Рядом с огромной суммой долга, накопившегося за последний тяжелый год, эта цифра кажется особенно скромной.
О том, каково было душевное состояние Пушкина в эти дни, позволяют догадываться отдельные дошедшие до нас свидетельства. По-видимому, в конце лета 1836 г. Пушкин пережил момент острого отчаяния и крушения всех своих надежд. Побывавший у поэта на даче Н. А. Муханов рассказывал 30 августа у Карамзиных, что он нашел Пушкина «ужасно упадшим духом».[65] Отзыв Муханова перекликается с уже известными нам строками из письма жены поэта.
Глубоко трагичны по мироощущению лирические произведения Пушкина, созданные в это время. 14 и 21 августа помечены два стихотворения, внутренне связанные между собой темой смерти и посмертной памяти: «Когда за городом задумчив я брожу…» и то, которое мы привыкли называть «Памятником».
По мнению М. П. Алексеева, сам поэт в момент создания стихотворения. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» рассматривал его «как своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины».[66]
В эти же дни на обороте листка, на котором записаны черновые строфы «Памятника», Пушкин набросал карандашом следующие строки:
«Пошли мне долгу жизнь и многие года!» Зевеса вот о чем и всюду и всегда Привыкли вы молить — но сколькими бедами Исполнен долг<ой> век! Во-первых, [как] рубцами, Лицо [морщинами покроется] — оно …………..превращено… (III, 429)Хотя мы знаем, что это фрагмент из начатого поэтом вольного перевода X сатиры Ювенала, строки эти, написанные одновременно с «Памятником», воспринимаются как знак того же душевного состояния, которое вызвало к жизни пушкинское прощальное стихотворение. «Здесь мы снова находим, хотя и недосказанную, навязчивую мысль о смерти и полную горечи насмешку над долголетием», — пишет М. П. Алексеев.[67]
И вместе с тем самый факт создания стихотворения «Я памятник себе воздвиг…» говорит о таком взлете вдохновения, который изнутри изживает трагическую коллизию, его породившую.
Как ни трудно складывались обстоятельства, и август и сентябрь 1836 г. прошли у Пушкина под знаком высокого творческого подъема. В сентябре он работал над беловой редакцией «Капитанской дочки». В конце месяца поэт отослал собственноручно переписанную им первую часть романа цензору П. А. Корсакову. Корсаков, у которого была репутация одного из самых образованных и доброжелательных цензоров, прислал Пушкину ответ на следующий день. Это было в высшей степени любезное письмо. П. А. Корсаков сообщал, что он только что прочел новое произведение Пушкина и готов хоть сейчас подписать его к печати. Первый читатель пушкинского романа высказался о нем с неподдельным восхищением: «С каким наслаждением я прочел его! или нет; не просто прочел — проглотил его! Нетерпеливо жду последующих глав» (XVI, 162). Это письмо было для поэта неожиданной радостью после всех злоключений с цензурой, которые ему пришлось пережить за этот год. Работу над беловым текстом романа Пушкин завершил три недели спустя. На последней странице рукописи он поставил дату: «19 окт. 1836». Так поэт отметил для себя 25-летие Лицея.
Рукописи Пушкина, помеченные этой датой, дают нам единственную в своем роде возможность увидеть, как работал поэт в ту осень.
19 октября Пушкин дописал заключительные страницы «Капитанской дочки». В этот же день он работал над стихотворением «Была пора: наш праздник молодой…». Приуроченное к лицейской годовщине, оно, как известно, осталось незавершенным. Днем Пушкин переписал набело те строфы, которые он успел закончить, с тем чтобы вечером прочесть их на встрече у М. Л. Яковлева.
Этой же датой помечено и известное письмо Пушкина к Чаадаеву, значение которого выходит далеко за пределы частной переписки. Оно было ответом на публикацию чаадаевского «Философического письма» в «Телескопе», вызвавшего как раз в те дни широкий общественный резонанс. Продолжая свой давний спор с Чаадаевым, Пушкин писал ему 19 октября: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться <…> Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератор — я раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».
Но о современном положении России он высказался с глубокой горечью, «…это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости к истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству, — писал Пушкин, — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, чтобы ваши [религиозные] исторические воззрения вам не повредили» (XVI, 172–173, 393).
Когда через несколько дней разнеслись слухи о правительственных репрессиях, которые обрушились на Чаадаева и издателя «Телескопа», Пушкин решил свое письмо не отсылать. Он сделал на нем внизу приписку: «Ворон ворону глаза не выклюнет».[68] Но поэт читал это письмо своим друзьям и знакомым, и оно получило широкое распространение в списках.
Рабочий день поэта 19 октября кончился рано. Около четырех часов дня Пушкин вышел из дому и направился к М. Л. Яковлеву на традиционную встречу лицеистов первого выпуска. Но этот короткий осенний день по размаху и значительности того, что поэт успел сделать, напоминает благословенные дни его самой плодоносной болдинской осени.
Все эти месяцы Пушкин много времени и сил отдавал своему журналу. Несмотря на разочарования и потери, поэт не охладел к «Современнику» и не считал, что дело проиграно. Пушкин ответил безоговорочным отказом на предложение о реорганизации журнала, с которым к нему обратились в начале августа Одоевский и Краевский (XVII, 74–75).
Решение, принятое поэтом, как нельзя лучше характеризует его отношение к своему журналу. Одоевский и Краевский предложили ему издавать «Современник» на паях, с тем, чтобы в ведении Пушкина осталась только литературная часты Разделы науки, критики и все прочие соиздатели хотели взять на себя, так же как сношения с типографией и книгопродавцами. Хотя издание журнала на паях избавило бы Пушкина от множества хлопот, он отверг этот проект. Поэт понимал, что после такой реорганизации «Современник» перестанет быть его голосом и потеряет свое направление.
Готовя к печати третий том, Пушкин стал на ходу исправлять промахи, допущенные им при издании первых номеров. Снизив тираж до 1200 экземпляров, издатель тем самым вдвое сократил типографские расходы. Почувствовав, что его журнал ориентирован на слишком узкий круг лиц, Пушкин поставил своей целью сделать «Современник» более интересным и занимательным для широкого круга образованных читателей. Начиная с третьего номера он стал уделять большее внимание публикации романов и повестей, т. е. тому отделу журнала, от которого зависел его успех. В третьем томе «Современника» Пушкин напечатал повесть Гоголя «Нос», в четвертом решил поместить свою «Капитанскую дочку», а в пятом рассчитывал опубликовать повесть Одоевского, который обещал ему для этого номера «Княжну Зизи» или «Сильфиду».
В третьем томе Пушкин поместил также ряд программных статей, написанных им специально для «Современника». Большая часть материалов этого номера принадлежала перу самого издателя.
Усилия Пушкина не были бесплодными. Осенью 1836 г. наметился перелом в читательских оценках журнала. Те же читатели, которые второй номер «Современника» находили бледным и скучным, совсем иначе отзывались о последующих номерах. Так, в письмах Карамзиных читаем: «Говорят, что третий том „Современника“ очень хорош…», «…все находят, что он лучше остальных и должен вернуть Пушкину его былую популярность».[69] Такого же мнения был и Анненков. Характеризуя пушкинский «Современник», он писал: «Третий том есть чуть ли не лучший том всего издания — по разнообразию и существенности своего содержания».[70] Что же касается четвертого тома, то все известные нам отклики на него полны восторгов по поводу «Капитанской дочки». Решение Пушкина опубликовать ее в журнале, безусловно, подняло престиж «Современника» у широкой публики, так что можно было рассчитывать на увеличение подписки в 1837 г.
Параллельно с этой поистине «неимоверной деятельностью», совершавшейся в тиши рабочего кабинета поэта, разворачивались события другого плана, за которыми с жадным вниманием следил весь великосветский Петербург.
8
Почти все лето — до августа — па островах, где жил Пушкин с семьей, было пусто и тихо. В июне — июле двор находился далеко: то в Царском Селе, то в Петергофе. Гвардия была на маневрах. Сестры Натальи Николаевны скучали и с нетерпением ожидали, когда начнутся летние балы на островах. «Наши острова еще мало оживлены из-за маневров, — писала 14 июля Екатерина Николаевна, — они кончаются четвертого, и тогда начнутся балы на водах и танцевальные вечера, а сейчас у нас только говорильные вечера, на них можно умереть со скуки…». Зато 1 августа Екатерина Гончарова в радостном возбуждении сообщила: «Завтра все полки вернутся в город, поэтому скоро начнутся наши балы. В четверг мы едем танцевать на воды».[71]
Кавалергардский полк после маневров разместился в Новой Деревне. Острова оживились. Начались балы в здании минеральных вод, расположенном неподалеку от каменноостровских дач.
Характерную сцену, происходившую в августе или в сентябре 1836 г., запечатлел в своих воспоминаниях один из современников поэта. Рассказывая о балах на минеральных водах, на которых любила бывать императрица, он писал: «Помню на одним из балов был и Александр Сергеевич Пушкин со своею красавицей женою, Натальей Николаевной. Супруги невольно останавливали взоры всех. Бал кончился. Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, по преимуществу из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в стороне, около другой колонны, стоял в задумчивости Александр Сергеевич, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре…».[72]
По всей вероятности, в этом кружке военной молодежи стоял в тот вечер и Дантес. В августе, после долгого перерыва, он вновь появился в поле зрения Пушкина. Дантес не виделся с женой поэта более четырех месяцев. Он успел за это время сменить фамилию и именовался уже бароном Георгом Геккерном. Теперь у него было «три отечества и два имени».[73] Но молодого авантюриста это не смущало. Он знал, что сделал еще один шаг по пути к успеху. Перед ним открылись двери дипломатических салонов и самых аристократических домов Петербурга, в которых был принят его приемный отец. Он прослыл богатым женихом. Вокруг его двойного имени возник некий романтический ореол, так как причины этого странного усыновления оставались неясными. Поговаривали даже, что он отпрыск королевской семьи; но возобладало мнение о том, что молодой человек — побочный сын посланника. Все это привлекло особое внимание к Дантесу.
«Молодой, красивый, дерзкий» Дантес[74] жаждал закрепить свой успех. Веселый, остроумный, галантный, он хотел и умел нравиться. На него были направлены многие женские взоры. Он же стремился во что бы то ни стало добиться внимания «самой очаровательной женщины Петербурга» — H. H. Пушкиной.
Теперь Дантес не делал из своей страсти никакой тайны. Победа над этой женщиной сделалась для него вопросом самолюбия.
В августе, когда кавалергарды расположились в Новой Деревне, совсем рядом с каменноостровскими дачами, поручик Геккерн получил возможность встречаться с женой поэта гораздо чаще, чем в городе. Пользуясь свободой дачных нравов, он виделся с нею не только на вечерах, но и днем, во время прогулок. Дантес бывал с визитами и на даче у Пушкиных. Есть сведения о том, что влюбленная в него Екатерина Гончарова старалась «учащать возможность встреч» с ним. Дантес, флиртовавший со многими дамами, оказывал и ей внимание, чтобы иметь повод быть подле ее сестры.
Настойчивость Дантеса и пылкость его признаний вскружили голову Наталье Николаевне. Она поверила, что им движет «великая и возвышенная страсть», и, будучи женщиной очень неискушенной, не сумела вовремя остановить его.
Все это было замечено. Об этом заговорили в обществе. По словам барона Фризенгофа, который впоследствии стал мужем Александрины, «это было ухаживание более афишированное, чем это принято в обществе».[75] Так же характеризует положение и графиня Д. Ф. Фикельмон в своем дневнике: «Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине».[76]
По свидетельству Данзаса, именно в это время, в августе — сентябре, в обществе начались толки о жене Пушкина и Дантесе. Данзас рассказывал: «После одного или двух балов на минеральных водах, где были г-жа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина».[77]
Осенью 1836 г. изменилась и тональность разговоров на эту тему в кругу близких Пушкину лиц. В их откликах теперь появляются тревожные интонации. Впервые они становятся заметны для нас в письме С. Н. Карамзиной от 19 сентября.
В своем письме Софья Николаевна подробно рассказывает о том, как были отпразднованы ее именины. В этот день в Царское Село к Карамзиным съехалось множество гостей. Перечисляя их, Софья Николаевна первым называет имя Пушкина: «Среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три — ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес…». Далее С. Н. Карамзина перечисляет еще целый ряд имен. Характерно, что называя остальных гостей, она прежде всего упоминает о Дантесе, настолько велик в семье Карамзиных интерес к нему.
Рассказывая о веселом праздничном вечере и танцах, С. Н. Карамзина пишет: «Получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен <…> Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий!»[78]
Чувствуется, что Софья Николаевна с пристальным вниманием следит за действующими лицами открывшейся ей драмы. От нее не ускользает ни один жест, ни один взгляд. Создается даже впечатление, что она сгущает краски, но так или иначе письмо С. Н. Карамзиной говорит о том, что тревога Пушкина за жену никогда не проявлялась так явственно для окружающих, как в эти дни.
С. Н. Карамзина не упустила ни одной подробности этого вечера, касающейся Пушкина. Она передает и свой мимолетный разговор с поэтом: «Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея» (все знали, что когда-то поэт был влюблен в юную Наталью Кочубей, которая потом вышла за графа Строганова, и что он навсегда сохранил к ней чувство почтительной нежности). «Как вдруг, — продолжает свой рассказ Софья Николаевна, — вижу — он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. „Ну, что же?“ — „Нет, не пойду, там уж сидит этот граф“. — „Какой граф?“. — „Д'Антес, Гекрен что ли!“».[79]
Пушкин не в силах сдержать своего раздражения против Дантеса. Его положение становится мучительным даже в этом дружественном ему кругу.
По-видимому, у Пушкина в это время возникали какие-то объяснения с женой. Но хотя поэт был глубоко встревожен создавшимся положением, он до поры до времени не принимал никаких решительных мер. Напротив, окружающим казалось, что Пушкин предоставил своей жене полную свободу. Он не запрещал ей видеться с Дантесам и, как вспоминала Д. Ф. Фикельмон, разрешил «своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него».[80]
При тех отношениях, которые у него сложились с женой, Пушкин был убежден, что она ничего от него не скроет. «Я <…> знал, насколько жена моя заслуживает уважения и доверия», — так он скажет об этом позднее (XVI, 396). «Его доверие к ней было безгранично…», — свидетельствует Д. Ф. Фикельмон. Собственно, так же охарактеризовал сложившуюся осенью ситуацию и П. А. Вяземский. Он полагал, что Пушкин не воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предотвратить последствия этого ухаживания, потому что был «уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов».[81]
12 сентября Пушкины вернулись с дачи в город и поселились «на Мойке близ Конюшенного мосту в доме кн<ягини> Волконской» (XVI, 173).
В сентябре — октябре светский сезон в Петербурге еще не начался. Но Дантес находил возможность постоянно видеться с H. H. Пушкиной на небольших вечерах, подобных тому, который описала в своем сентябрьском письме С. Н. Карамзина.
Об одном из таких вечеров, состоявшемся у Геккернов, мы узнаем из письма Александра Карамзина. По словам Карамзина, 29 сентября сестры Гончаровы, по всей вероятности вместе с Натальей Николаевной, были па музыкальном вечере в доме нидерландского посланника, где давал концерт талантливый скрипач Иосиф Арто, чьи гастроли в Петербурге имели шумный успех. О присутствии Пушкина на вечере А. Карамзин не упоминает. Судя по этому письму, светские отношения между семьей поэта и Геккернами еще поддерживались.
Именно эти осенние месяцы (сентябрь — октябрь) имела в виду Д. Ф. Фикельмон, когда писала в своем дневнике: «То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать проявления этой необузданной любви <…> Было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека и он был решителен в намерении довести ее до крайности».[82]
Пушкин не мог не чувствовать этого. Мы не знаем никаких подробностей, касающихся взаимоотношений в семье поэта в это время, но известно, что в конце октября Пушкин был в особенно тревожном состоянии духа. Подавленное настроение поэта было замечено его лицейскими друзьями во время встречи, состоявшейся 19 октября.[83]
Об этом же свидетельствует и письмо поэта к отцу, написанное 20 октября. В нем Пушкин с горечью сообщал, что он не смог уехать в Михайловское: «В деревне я бы много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью» (XVI, 173, 394).
По-видимому, в эти осенние месяцы во взаимоотношениях Пушкина с женой возникла напряженность, никогда дотоле не существовавшая. До нас дошли лишь смутные отголоски какого-то кризиса, имевшего место во второй половине октября.
Недавно стала известна запись о Дантесе, которую сделала в своем дневнике княжна Мария Барятинская. В двадцатых числах октября эта молодая особа из высокопоставленного аристократического семейства записала новость, которую обсуждали в их кругу: «Maman узнала через Тр<убецкого>, что его (Дантеса, — С. А.) отвергла госпожа Пушкина…».[84] Новость сообщил Александр Трубецкой — ближайший приятель поручика Геккерна по Кавалергардскому полку. Трубецкой, очевидно, услышал об этом от самого Жоржа Геккерна.
Видимо, Наталья Николаевна попыталась как-то изменить создавшуюся ситуацию, которая становилась опасной и для ее семейного мира, и для ее репутации. Можно полагать, что между нею и Дантесом состоялось еще какое-то объяснение, во время которого жена поэта дала отпор его назойливым домогательствам. По всей вероятности, именно в это время Дантесу было отказано от дома.
О том, что произошел какой-то кризис, свидетельствует и то, что как раз в эти дни в дело лично вмешался Геккерн-старший, который вообще сыграл во всей этой истории весьма неблаговидную роль. Пушкин позднее в своем обвинительном письме прямо назвал его сводником. Барон Геккерн немало содействовал тому, чтобы то, что было вначале в глазах самого Дантеса «возвышенной страстью», низвелось до уровня самой низкой интриги.
Встретив в двадцатых числах октября H. H. Пушкину на каком-то вечере, посланник позволил себе обратиться к ней с очень рискованными речами. Об этом разговоре нам известно из нескольких источников, и прежде всего из письма самого Пушкина. Александр Карамзин впоследствии сообщил, что это произошло в конце октября, во время болезни Дантеса: «Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он (Дантес, — С. А.) умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына…».[85] По словам Вяземского, Геккерн побуждал Наталью Николаевну «изменить своему долгу».[86] Об этом разговоре знала и А. Н. Гончарова.[87]
Каковы были непосредственные мотивы, толкнувшие Геккерна на этот шаг, сказать нелегко. По-видимому, он вел двойную игру. Геккерн выполнял поручение своего приемного сына, который сделал его своим конфидентом, и в то же время с тайным злорадством заставлял краснеть и трепетать от его намеков женщину, которую он ненавидел.
Молодая женщина не сумела дать отпор опытному интригану и, принужденная выслушивать его вкрадчивые речи, оказалась в очень неловком положении. В какую бы форму ни облек барон свои двусмысленные предложения, разговор этот, несомненно, глубоко задел Наталью Николаевну. Она чувствовала себя оскорбленной, но не посмела открыться мужу, так как понимала, что ее признание приведет к ужасному взрыву.
А несколько дней спустя жена поэта попала в еще более затруднительное и опасное положение, неожиданно для себя оказавшись наедине с Дантесом на квартире у Идалии Полетики.
Пушкин об этом ничего не знал.
1 ноября у Вяземских Пушкин читал «Капитанскую дочку». Чтение было приурочено к приезду Жуковского, который на воскресенье уехал из Царского Села в город. Для самого Пушкина это было такое же важное событие, как и для его слушателей: впервые после значительного перерыва поэт знакомил своих ближайших друзей с новой большой вещью. Присутствовавший на этом вечере старший сын Вяземских Павел потом вспоминал о «неизгладимом впечатлении», которое произвела на него «Капитанская дочка», прочитанная самим Пушкиным.[88]
2 ноября П. А. Вяземский в очередном письме в Москву сообщил о том, что в четвертом томе «Современника» будет опубликован новый роман Пушкина.
По всей вероятности, в тот же самый день произошел инцидент, который вплоть до настоящего времени остается одним из самых неясных эпизодов преддуэльной истории. На нем необходимо остановиться подробнее, ибо он до сих пор не получил точного истолкования.
НАКАНУНЕ 4 НОЯБРЯ
Как известно, существует целый ряд легенд, связанных с дуэльной историей Пушкина. Причем некоторые из них так прочно вошли в сознание многих поколений читателей, что воспринимаются всеми как события, действительно бывшие. Одна из таких легенд возникла на основе очень неясного слуха о свидании H. H. Пушкиной с Дантесом, состоявшемся на квартире Идалии Полетики.
Имя этой женщины не раз упоминается биографами поэта, но всегда с оттенком недоумения. И это неудивительно. Дошедшие до нас свидетельства о ее отношениях с Пушкиным настолько противоречивы, что связать их воедино как будто не представляется возможным. В истории взаимоотношений Полетики с Пушкиным есть какая-то загадка, которую пока не удалось прояснить.
В самом деле, мы знаем, что красавица Идалия была близкой приятельницей H. H. Пушкиной. Молодые женщины познакомились летом или осенью 1831 г., после переезда Пушкиных в Петербург. Побочная дочь графа Г. А. Строганова, бывшего в родстве с Н. И. Гончаровой, Идалия была принята в семье Пушкиных на правах родственницы. В письмах поэта к жене вплоть до 1836 г. встречаются упоминания об Идалии — и всегда в самом дружеском тоне. Так, в одном из болдинских писем 1833 г., посылая поклоны Вяземским и Карамзиным, Пушкин передал Идалии привет особо: «Полетике скажи, что за ее поцалуем явлюсь лично, а что-де на почте не принимают» (XV, 89).
И эта женщина, к которой он обращался так дружески-ласково, весело и шутливо, как оказалось, была его смертельным врагом.
Была? Или стала? Последнее представляется наиболее вероятным. О ненависти Идалии к Пушкину свидетельствуют неоспоримые факты. Но все известные нам сведения о переломе в отношениях между семьей Пушкина и Полетикой относятся к 1837 г. Чувства Полетики к Пушкину вполне откровенно выразились в тех нежных записочках, которые она посылала Дантесу, когда он находился под следствием. Очарованная Дантесом, Идалия и после совершившейся трагедии целиком его оправдывала. Год спустя после смерти Пушкина она с нескрываемым злорадством сообщала Геккернам из Петербурга: «Прекрасное рвение к распространению произведений покойного ужасно замедлилось. Вместо того чтобы принести пятьсот тысяч рублей, они не принесут и двухсот тысяч. Это всегда так бывает».[89] Мелкие и постыдные чувства владели ею. Но за этим стояло нечто большее: она и люди ее клана тешили себя надеждой, что слава поэта угаснет с его смертью.
С годами ненависть Полетики к Пушкину приобрела характер какого-то яростного озлобления против всего, что было связано с памятью о нем. На старости лет она даже не пыталась это скрыть. Узнав о том, что в Одессе, где она доживала свой век, сооружается памятник поэту, Идалия кричала, что поедет туда только для того, чтобы плюнуть на статую.[90]
Биографы недоумевали и недоумевают до сих пор: «В чем же загадка отношений Пушкина и этой женщины? <…> Откуда эта ненависть?».[91] «Причины этой ненависти нам неизвестны и непонятны», — так закончил в свое время обзор материалов о Пушкине и Полетике П. Е. Щеголев.[92]
Чтобы разобраться во всех этих неясных вопросах, обратимся к тому эпизоду, который всегда связывают с именем Идалии.
В биографии Пушкина давно уже утвердилась версия о том, что последним толчком к январской дуэли послужило свидание на квартире у Полетики. В этом был убежден и П. Е. Щеголев. Он считал, что свидание в кавалергардских казармах состоялось в январе и явилось непосредственным поводом к дуэли. В последнем издании его монографии по этому поводу скачано следующее: «Пушкин узнал о свидании <…> на другой же день из анонимного письма <…> Чаша терпения Пушкина была переполнена, и раздражению уже не могло быть положено предела. Оно стремительно вышло из границ. Пушкин решил — быть поединку».[93]
Точка зрения Щеголева принята в настоящее время почти всеми биографами поэта. Они не сходятся лишь в одном: в определении даты свидания. Одни называют 25 января, другие — 23-е, большинство же исследователей, не веря в возможность точной датировки, просто указывают, что это произошло за несколько дней до дуэли. Что же касается последовательности событий, то в этом отношении все единодушны: свидание — анонимное письмо — дуэль… Такова единая схема.
Как видим, сложилась концепция очень логичная, подкупающая своей сюжетной завершенностью. Все так ясно! Так понятно!
Но чем ближе мы знакомимся с материалами, особенно с теми, которые стали известны в последнее время, тем очевиднее становится, что эта ясность мнимая.
Сомнения в справедливости гипотезы, предложенной Щеголевым, выражались не раз.[94] Решительнее всего против нее выступила Анна Ахматова. По поводу этой версии о тайном свидании и новых анонимных письмах, будто бы спровоцировавших январскую дуэль, она писала: «Все это так легко придумать — все это так близко лежит, во всем этом нет и следа страшной неожиданности — верной спутницы истины».[95]
А. А. Ахматова усомнилась: да было ли это свидание вообще? И анонимные письма в январе — были ли они на самом деле? Не миф ли все это? Однако эти предположения не получили дальнейшего развития в ее работе. Видимо, полнее ознакомившись с источниками, она почувствовала, что не сможет убедительно обосновать свою точку зрения. Тем не менее для сомнений у Ахматовой были достаточно серьезные основания: она интуитивно почувствовала несовместимость общепринятого мнения с теми фактами, которые стали известны в последние десятилетия.
Новым поводом для сомнений послужили сведения, обнаруженные М. И. Яшиным в Военно-историческом архиве. А. П. Арапова, дочь Натальи Николаевны от брака с П. П. Ланским, в своих очерках, опубликованных в 1908 г., сообщив о свидании у Полетики, приписала Ланскому, будущему мужу Натальи Николаевны, роль активного участника интриги. Но, как установил М. И. Яшин, Ланского в январе 1837 г. вообще не было в Петербурге: с 19 октября 1836 по февраль 1837 г. он находился в служебной командировке в Малороссии.[96] В связи с этим Я. Л. Левкович высказала предположение о том, что это свидание, возможно, состоялось но в январе, а раньше, когда Ланской еще был в Петербурге. Не настаивая на своем предположении, Левкович тут же отмечает, что во всей этой истории очень много неясного и по сей день, и пишет: «Может быть, не стоит доискиваться, было это свидание или нет и когда оно могло быть, потому что главный источник трагедии 1837 года, как давно установлено, не в поведении Натальи Николаевны».[97]
Между тем сам Яшин считал, что все ясно, и уверенно называл точную дату свидания — 22 января 1837 г. На этой дате он настаивал и в последующих работах о дуэли, обосновывая свое предположение тем, что Дантес в этот день дежурил в полку, т. е. находился в кавалергардских казармах рядом с квартирой Полетики.[98] Правда, с той же степенью доказательности можно было бы назвать любой другой день, когда Дантес не дежурил и мог более свободно располагать своим временем. Отметим, кстати, что все попытки определить точную дату январского свидания базируются на столь же шатких основаниях.
Итак, теперь уже очевидно, что мы обратились к одному из тех преддуэльных эпизодов, которые часто называют «загадочными». Действительно, сейчас в этой истории все так запутано, что сомнению подвергаются не только отдельные подробности, но и датировка события и даже истинность самого факта.
Установим прежде всего, о чем же идет речь: о реальном факте или о некой легенде, достоверность которой проверить невозможно?
Вводя в биографию поэта эпизод, связанный с именем Идалии Полетики, Щеголев опирался главным образом на рассказ А. П. Араповой. Исследователь весьма критически относился к очеркам Араповой, но в данном случае счел возможным довериться ее сообщению о свидании у Полетики, полагая, что дочь не стала бы сочинять подобную напраслину о своей матери, если бы не была уверена, что все это происходило на самом деле. По сути дела, автор книги «Дуэль и смерть Пушкина» ввел в свое время в научный оборот лишь гипотезу, которую тогда еще нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Но с годами этот эпизод стал каноническим и прочно вошел в биографию Пушкина.
В настоящее время мы имеем возможность проверить рассказ Араповой. В ее архиве Л. П. Гроссман обнаружил интереснейший документ: письмо барона Густава Фризенгофа — мужа Александрины, сестры Натальи Николаевны, посвященное событиям 1836–1837 гг. Этот документ давно известен: он был опубликован в 1929 г.[99] Но значение его было оценено не в полной мере.
История этого письма такова. Зимой 1887 г. Арапова обратилась к своей тетке Александре Николаевне — единственной оставшейся в живых свидетельнице дуэльной истории — с просьбой рассказать обо всем, что она помнила. Арапова тогда уже начала собирать материалы и семейные воспоминания для задуманной ею книги. Подробное письмо Фризенгофа, записавшего рассказ жены, было ответом на эту просьбу.
Таким образом, в руках Араповой оказалось подлинное, заверенное подписью свидетельство одного из самых близких очевидцев преддуэльных событий. Однако она скрыла этот документ от пушкинистов и от читателей и, публикуя свои очерки ни разу не упомянула о нем, хотя неоднократно ссылалась даже на такие источники, как рассказы няни, гувернантки, прислуги. В письме Фризенгофа есть, в частности, упоминание и о свидании на квартире у Полетики. Но Арапова позволила себе весьма вольную интерпретацию этого эпизода. Излагая его, она дополнила сообщение Александры Николаевны вымышленными подробностями и в то же время опустила ряд деталей, о которых знала из письма.
Под пером Араповой рассказ о свидании превратился чуть ли не в главу из бульварного романа. Здесь была и невинная, доверчивая женщина — жертва… Был соблазнитель, вызвавший ее на роковое свидание письмом, в котором угрожал в случае отказа покончить жизнь самоубийством… Были посвященные в тайну наперсники: Идалия и ее возлюбленный П. П. Ланской. Последний, «чтобы предотвратить опасность», прогуливался около дома. Тем не менее, «несмотря на все принятые предосторожности», некие тайные враги все же узнали о свидании и немедленно известили о нем Пушкина анонимным письмом.[100]
Опровергнуть Арапову было некому: она опубликовала свое сочинение тогда, когда уже не было в живых ни Александры Николаевны, ни ее мужа.
Именно Арапова приурочила этот эпизод к последним январским дням. Она же создала и эту сюжетную схему: свидание — анонимное письмо — дуэль… В письме Фризенгофа нет ничего подобного. Все, что рассказано Араповой о свидании на квартире Полетики, нельзя считать достоверным. Следовательно, и интерпретация этого эпизода, данная в свое время П. Е. Щеголевым, тоже должна быть пересмотрена.
Придется начать все сначала. Итак, это свидание — было ли оно на самом деле? Или это сплетня, слух, легенда?
Да. Было на самом деле… На этот вопрос сейчас мы можем ответить с полной уверенностью. В настоящее время нам известны два свидетельства об этом эпизоде, которые, как мы убедимся, можно считать вполне достоверными: это сообщение Александрины, переданное ее мужем бароном Фризенгофом, и рассказ В. Ф. Вяземской, записанный П. И. Бартеневым. Обе они — и княгиня Вяземская, и А. Н. Гончарова — знали обо всем случившемся лучше, чем кто-либо другой из близких Пушкину людей. Но в данном случае важно еще и другое: по счастливому стечению обстоятельств мы имеем возможность удостовериться не только в их полной осведомленности, но и в точности их воспоминаний.
Вот что рассказала В. Ф. Вяземская: «Мадам N по настоянию Геккерна (Жоржа, — С. А.) пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней».[101]
Рассказ Вяземской П. И. Бартенев опубликовал в 1888 г. Это было первое сообщение в печати об инциденте на квартире у Полетики.[102] А письмо барона Фризенгофа датируется 14/26 марта 1887 г. И в этом особая ценность данного документа: свидетельство Александры Николаевны было записано до того, как в печати появились какие-либо упоминания о свидании Натальи Николаевны с Дантесом. В письме Фризенгофа об этом сказано следующее: «… ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колена, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала».[103]
Перед нами редчайший случай почти полного совпадения двух мемуарных свидетельств. Княгиня Вяземская и Александрина независимо друг от друга рассказали об этом свидании одно и то же. По-видимому, в памяти обеих женщин этот эпизод запечатлелся так отчетливо потому, что он был неким кульминационным моментом в развитии событий и повлек за собою тягчайшие последствия.
Обе они начинают свой рассказ совершенно одинаково, сообщая о том, что эта встреча наедине с Дантесом оказалась для H. H. Пушкиной полной неожиданностью, что она была подстроена Идалией (здесь налицо чуть ли не словесные совпадения). Для обеих женщин роль Идалии была очевидна, и они не могли ей простить ее вероломства до конца своих дней.
Воспоминания В. Ф. Вяземской здесь, как и всегда, отличаются живостью и конкретностью. В своих беседах с Бартеневым она была предельно откровенна и не стеснялась в выражениях. Барон и баронесса Фризенгоф в письме к племяннице более сдержанны. Но, по сути дела, оба документа почти идентичны и взаимно подкрепляют друг друга. Не приходится сомневаться в достоверности этих воспоминаний.
Существует еще один вариант рассказа В. Ф. Вяземской, переданный Бартеневым с дополнительными подробностями. По словам Вяземской, Наталья Николаевна приехала к ней однажды от Полетики «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса».[104] Эти живые, зримые детали вызывают полное доверие. По всей вероятности, Вера Федоровна очень точно передает реакцию Пушкиной: она была в негодовании и так взволнованна, что не в силах была промолчать и тут же рассказала Вяземской о случившемся. Вернувшись домой, она повторила свой рассказ Александрине. Мужу она не решилась в тот момент сообщить об этом, но через несколько дней описала сцену с пистолетом и ему (при каких обстоятельствах — мы скажем позднее).
Итак, можно считать установленным, что свидание на квартире у Полетики имело место на самом деле.
Но когда оно произошло? И какую роль сыграло в дальнейшем ходе событий?
Версия А. П. Араповой о том, что это было в январе, накануне дуэли, ничем не подтверждается. Напротив, вновь найденные документы только усиливают сомнения в достоверности такой датировки.
Материалы, которыми мы располагаем в настоящее время, свидетельствуют прежде всего о том, что никто из людей пушкинского круга не связывал инцидент на квартире у Полетики с последней дуэлью, хотя о нем знали многие. И Александра Николаевна, и Вяземская рассказывают об этом эпизоде как о чем-то, стоящем в ряду других событий, не приурочивая его к трагическому финалу. Характерно, что ни у той, ни у другой, когда они излагали эту историю, не возникло никаких ассоциаций, связанных с Екатериной. Конечно, это объясняется тем, что в тот момент Дантес еще не был женат.
Эти психологические догадки, расходящиеся с общепринятой точкой зрения, можно подтвердить достаточно вескими доказательствами. Обратимся с этой целью к тем двум свидетельствам, которые мы вправе считать вполне достоверными.
В рассказе В. Ф. Вяземской нет прямых указаний на то, когда произошел инцидент у Полетики. Лишь по некоторым косвенным деталям можно предположить, что дело происходило до 4 ноября.
А вот в письме Фризенгофа такие указания имеются, но биографы до сих пор не обращали на них внимания.
Когда в 1887 г. Арапова обратилась с письмом к своей тетке, ее просьба поставила супругов Фризенгофов в трудное положение. Несомненно, они понимали, что им предстоит подписаться под очень ответственным документом, и считали своим долгом сказать правду. Барон Фризенгоф очень сдержанно, изысканным старинным слогом передал рассказ своей жены. Ему удалось, даже сообщал о весьма щекотливых обстоятельствах, остаться в рамках «хорошего тона». Но столь же скрупулезно следил он и за тем, чтобы не исказить суть дела. Он всегда точно указывает, пишет ли со слов жены, выражает ли свое личное мнение или передает слухи, распространившиеся в свете. И, что для нас особенно важно, он ведет рассказ, насколько это возможно, в хронологической последовательности. Там, где Фризенгоф отступает от этого принципа, мы находим специальную оговорку: «Я забыл упомянуть в соответственном хронологическом месте…».[105]
В первой части своего сообщения барон Фризенгоф рассказывает об ухаживании Дантеса за H. H. Пушкиной, вызвавшем усиленные толки в обществе, а затем и анонимные письма. Он доводит изложение до ноябрьской дуэльной истории: «<Пушкин> отказал в своем доме Геккерну и кончил тем, что заявил: либо тот женится, либо будут драться». Далее следует своего рода отступление, носящее характер итогового примечания к предыдущему разделу, в котором речь шла о том, что происходило до 4 ноября. Его необходимо процитировать полностью.
«Жена моя сообщает мне, что она совершенно уверена в том, что во все это время Геккерн видел вашу мать исключительно в свете и что между ними не было ни встреч, ни переписки. Но в отношении обоих этих обстоятельств было все же по одному исключению.
Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрию вспоминает, что ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно.
Что же касается свидания, то ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колена, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас уехала».[106]
А затем Фризенгоф возвращается к тому, па чем он остановился: «Итак, замужество было решено…». И продолжает свой рассказ, по-прежнему строго соблюдая хронологический порядок. Он сообщает далее о переговорах, предшествовавших, официальной помолвке; о бракосочетании Дантеса; о положении, сложившемся в январе 1837 г.
Как видим, анализ этого документа позволяет нам достаточно точно определить место интересующего нас эпизода в цепи событий. Судя по хронологии изложения, свидание, спровоцированное Идалией Полетикой, состоялось до того, как разыгралась ноябрьская дуэльная история и начались переговоры о сватовстве Дантеса.
Это подтверждается и другими соображениями.
Обратим внимание на то, как авторы письма изображают сцену свидания. По словам Фризенгофа, Дантес на коленях заклинал H. H. Пушкину «о том же, что и его приемный отец» (т. е. оставить мужа и выйти за него). Конечно, Вяземская гораздо точнее передала обстоятельства этого свидания, Фризенгоф прибег к эвфемизмам, но для нас в данном случае важно учесть следующее: такая словесная формула оказалась возможной, потому что Александрина знала, что в тот момент, когда разыгралась эта сцена, Дантес еще не был помолвлен с Екатериной и был свободен.
Но это еще не все. В письме педантичного барона есть указания и для более точной датировки.
В своих воспоминаниях Александрина выделила два инцидента, особенно врезавшиеся ей в память. Оба они следовали один за другим. Сначала на каком-то вечере Геккерн-старший затеял с H. H. Пушкиной оскорбительный разговор (не может быть никакого сомнения в том, что это был именно разговор: посланник не мог вставать против себя такую улику, как собственноручное письмо подобного содержания). Вскоре после этого Дантес с помощью Полетики добился встречи с Натальей Николаевной наедине.
Нам известно, что этот разговор посланника с женой поэта состоялся в октябре во время болезни Дантеса. Об этом совершенно определенно говорит в своем письме Александр Карамзин. С болезнью Дантеса соотносит вмешательство посланника и Пушкин в своих письмах к Геккерну (XVI, 190 и 222, 397 и 407). В делах Кавалергардского полка зафиксированы точные даты: поручик Геккерн числился больным с 19 по 27 октября.[107]
Сопоставив все эти свидетельства, можно датировать свидание у Полетики с точностью до нескольких дней: оно произошло между 28 октября и 3 ноября, т. е. после того как Дантес стал выходить из дома, но до появления анонимных писем.
Итак, инцидент на квартире у Полетики имел место на самом деле, но не в январе, а накануне 4 ноября. Уточнение этой даты бросает новый свет на многие факты преддуэльной истории, остававшиеся до сих пор не вполне ясными.
Теперь, когда мы определили истинную последовательность событий, становятся понятными прежде неясные недомолвки в пушкинских письмах к Геккерну и в письме Александра Карамзина от 13 марта 1837 г. В последнем письме, недавно введенном в научный оборот, содержатся ценнейшие по своей точности сведения, в том числе и существенные подробности относительно интересующего нас эпизода. Вот что пишет Карамзин о событиях тех дней: «Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились эти анонимные письма <…> За этим последовала исповедь госпожи Пушкиной своему мужу, вызов…».[108]
В своем письме Александр Карамзин сообщает о том, что в какой-то момент произошел перелом во взаимоотношениях Натальи Николаевны и Дантеса. Сам того не замечая, он даже назвал точную дату. В самом деле, вчитаемся внимательно в этот текст: «… два дня спустя…». Но после чего? А. Карамзин, несомненно, знал о каком-то событии, имевшем место 2 ноября, но не счел себя вправе упоминать о нем в письме.
Видимо, 2 ноября случилось нечто из ряда вон выходящее, так как эту же дату с особым подтекстом называет и Пушкин в своем ноябрьском письме к Геккерну. Как известно, это письмо Пушкин не отправил по назначению, он его потом разорвал, и лишь сто лет спустя оно было прочитано и реконструировано П. В. Измайловым и Б. В. Казанским по уцелевшим клочкам.
Обратимся к сохранившимся обрывкам пушкинского черновика. Для нас сейчас важнее всего прочесть первоначальный текст, то, что потом было вычеркнуто Пушкиным, так как именно зачеркнутые строки приоткрывают тайну 2 ноября. Вот как выглядит один из уцелевших фрагментов этого письма:
«2-го ноября у вас был [от] с вашим сыном [новость <…> доставило) большое удовольствие. Он сказал вам] [после одного] вследствие одного разговора <…>ешен, [что моя жена опаса<ется>] анонимное письмо [<……> что она от этого теряет голову] <…..> нанести решительный удар <…..> <со>ставленное вами и <…..> <экзем>пляра [ано<нимного> письма] <…..> были разосланы <…..> было сфабриковано с <…..>».[109]
Основной смысл этого фрагмента сейчас не вызывает сомнений. Пушкин утверждает, что анонимные письма — дело рук господ Геккернов и что замысел этого «решительного удара» возник у них 2 ноября после какого-то известия, сообщенного Дантесом. Но что произошло 2 ноября, о чем мог рассказать Дантес, — все это оставалось до сих пор непонятным. Теперь, по-видимому, это перестает быть загадкой.
Сохранившийся фрагмент письма свидетельствует прежде всего о том, что дело эго касалось Натальи Николаевны. Поэтому Пушкин не хотел прямо говорить о том, что именно случилось в тот день, и вообще стремился не упоминать ее имени в этом письме.
Из черновика видно, как мучительно ищет он подходящую словесную формулу для обозначения происшедшего. В конце концов незачеркнутым остается: «вследствие одного разговора…». Все упоминания о жене, которые в первый момент непроизвольно вырвались у него, Пушкин затем тщательно вычеркивает («моя жена опасается…», «она от этого теряет голову…»).
Если сопоставить эти первоначально легшие на бумагу строки с тем, что рассказывает Александр Карамзин о событиях тех дней, становится очевидным, что 2 ноября, как уже говорилось, оказалось переломным моментом во взаимоотношениях Натальи Николаевны с Дантесом. До этого дня ее умоляли, заклинали и т. п. Но внезапно все изменилось: Геккерны стали грозить ей местью… Она оказалась в ужасном положении… опасалась гнева мужа… теряла голову…
Естественно предположить, что роли изменились именно после свидания у Полетики, обманувшего надежды Дантеса. По всей вероятности, оно и состоялось в этот день — 2 ноября. Вот тогда-то жена поэта и оказалась в зависимости от Геккернов. Ей стали грозить оглаской происшедшего, тем, что она все равно будет обесчещена в глазах мужа и общества.
Не забудем: анонимные письма появились два дня спустя после того, как H. H. Пушкина услышала угрозы в свой адрес. Их появление, несомненно, связано с предшествующими событиями.
Теперь, когда мы знаем, что предшествовало появлению анонимных писем, становится очевидным, что жена поэта оказалась жертвой низкой интриги. Оскорбительные предложения посланника, обращенные к ней; подстроенное при содействии Полетики свидание; последовавшие затем анонимные письма — все это, по-видимому, звенья одной цепи. После того как H. H. Пушкина попыталась положить конец домогательствам Дантеса, им были пущены в ход все средства, в том числе и самые недостойные. «Адские сети, адские козни!», — скажет обо всем этом позднее Вяземский.[110]
Соучастницей этих козней была и Идалия Полетика. Когда Пушкин узнал обо всем, вероломство Идалии, очевидно, его особенно потрясло: ведь все эти годы он принимал ее у себя как друга дома. Можно не сомневаться, что Пушкин нашел в эти дни случай выразить ей свои чувства без обиняков. Как и когда? Мы не знаем. Идалия предпочла об этом промолчать. Но она возненавидела Пушкина и сделалась его смертельным врагом.
Накануне январской дуэли Идалия была в числе тех гонителей поэта, которые распространяли о нем и его жене порочащие их слухи. Дымовая завеса сплетни помогала ей скрыть собственную неблаговидную роль в этой истории. После гибели Пушкина Полетика, не таясь, выражала свои симпатии к убийце поэта.
Совершившийся через несколько лет новый, неожиданный поворот судьбы, по всей вероятности, во сто крат усилил тайную недоброжелательность Идалии к Наталье Николаевне и ее ненависть ко всему, что было связано с именем Пушкина. В 1844 г. вдова поэта стала женой П. П. Ланского, который ранее был возлюбленным Идалии. По этому поводу М. А. Корф сделал следующую многозначительную запись в своем дневнике: «После семи лет вдовства вдова Пушкина выходит за генерала Ланского <…> Ланской был прежде флигель-адъютантом в Кавалергардском полку и недавно произведен в генералы. Злоязычная молва утверждала, что он жил в очень близкой связи с женою другого кавалергардского полковника Полетики. Теперь говорят, что он бросил политику и обратился к поэзии».[111]
Так разрешается загадка взаимоотношений И. Полетики с Пушкиным и его семьей.
Близкие Пушкину люди никогда не могли простить Полетике содеянного ею зла. Из ее собственных писем известно, что старая тетка Натальи Николаевны Е. И. Загряжская при встречах с Идалией не могла скрыть своего негодования («…она скрежещет зубами, когда должна здороваться со мною», — читаем в письме Полетики, написанном осенью 1838 г.).[112] Е. Н. Мещерская (дочь H. M. Карамзина), увидев Идалию после смерти Пушкина, устроила ей «бурную сцену», повторяя: «Теперь вы довольны!!».[113] Наталья Николаевна никогда больше не переступала порога ее дома.[114]
АНОНИМНЫЕ ПИСЬМА
Утром 4 ноября, когда в руках у Пушкина оказался листок с издевательскими намеками в адрес его жены, у него состоялось объяснение с Натальей Николаевной. Скрывать далее правду было невозможно, и Наталья Николаевна рассказала мужу обо всем, что происходило в последние дни. Только тогда Пушкин узнал о тех преследованиях, которым она подверглась. Зная ее, Пушкин поверил ей безусловно. Он стал ее защитником, а не обвинителем. Вяземский позднее писал об этом решающем объяснении: «Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала».[115]
По-видимому, мысль о поединке возникла у него тотчас же после разговора с женой. Он жаждал отмщения, а вина Дантеса не вызывала сомнений. Вот почему он в тот же день направил вызов на его имя.
Но это было только началом. Пушкин хотел во что бы то ни стало разоблачить анонима. Он должен был знать своего обидчика в лицо. Можно себе представить, каково было его бешенство, когда до него стали доходить сведения о других экземплярах пасквиля, направленных по разным адресам.
Пушкин занялся розысками и очень скоро пришел к заключению, что интрига с анонимными письмами организована Геккернами. Он был настолько убежден в этом, что в ноябре прямо высказал свое обвинение в письме к барону Геккерну, а в январе, накануне дуэли, сделал официальное заявление об этом своим секундантам.
Попытаемся понять, что привело поэта к такому убеждению.
1
Уже через несколько дней Пушкину удалось точно выяснить, сколько экземпляров пасквиля было распространено 4 ноября, и это многое прояснило. «Я занялся розысками, — писал поэт 21 ноября в письме к Бенкендорфу. — Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом» (XVI, 191, 397).
В пушкинском кругу было известно о семи адресатах пасквиля. Его получили сам Пушкин, Вяземские, Карамзины, Виельгорский, В. А. Соллогуб (на имя своей теть л А. И. Васильчиковой, в чьем доме он жил),[116] братья Россеты и Е. М. Хитрово.[117] К тому времени, когда Пушки л счел нужным обратиться к Бенкендорфу, он твердо знал, что письма были разосланы только по этим адресам. В своем официальном письме поэт пишет: «семь или восемь», так как хочет быть предельно точным. Он допускает, что какой-то экземпляр пасквиля мог остаться неучтенным. Но вот что важно: Пушкин уверенно называет число экземпляров, хотя мог бы сказать: несколько, многие… Значит, он был убежден, что распространение пасквиля ограничилось именно этим кругом лиц.
Время показало, что Пушкин был прав. Многолетние разыскания биографов не прибавили к перечисленным семи адресатам ни одного нового.[118]
В этом перечне из семи имен есть одна поразительная особенность, на которую впервые указала Анна Ахматова. «Все дипломы были посланы друзьям Пушкина, а не врагам», — отметила она.[119] Никто из биографов раньше не обращал на это внимания. Щеголев даже не дал в своей книге точного перечня лиц, получивших пасквили, так мало значения придавал он этим подробностям.
Между тем теперь становится очевидным, что круг адресатов не был случайным. Современники это прекрасно понимали. Так, А. И. Тургенев, упомянув об анонимных письмах, тут же отметил, что они были посланы «Пушкину и его приятелям».[120]
Но и это определение нуждается в уточнении. Обращает на себя внимание следующее: в списке адресатов нет очень многих близких Пушкину людей, таких, например, как его литературные соратники Плетнев или Одоевский. Нет также никого из его лицейских товарищей или знакомых из мира науки или искусства. Создается впечатление, что письма были разосланы не вообще друзьям и знакомым поэта — они метили в определенный узкий круг людей. Этот круг совершенно твердо, без каких бы то ни было колебаний, определил Соллогуб в своих записках, но его свидетельство осталось незамеченным. Соллогуб писал: «…письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка».[121]
Теперь, когда стали известны письма Карамзиных за 1836 г., это становится особенно наглядным. Оказывается, все, кто получил 4 ноября анонимные письма, были завсегдатаями этого дома. Вяземские связаны с этой семьей теснейшими родственными узами; Аркадий Россет — самый близкий друг Александра Карамзина, они встречаются ежедневно; Владимир Соллогуб — соученик братьев Карамзиных по Дерятскому университету, принятый в этом доме как родной, Михаил Юрьевич Виельгорский связан многолетними дружескими отношениями с Вяземскими и Карамзиными.[122]
Радушный дом Карамзиных, с его прочно сложившимися семейными и дружескими связями, в последние годы стал для Пушкина самым теплым и самым близким домом в столице. Поэт глубоко почитал хозяйку этого дома Екатерину Андреевну Карамзину и со свойственным ему добросердечием относился к карамзинской молодежи, подраставшей и взрослевшей у него на глазах. В Карамзинском кругу осенью и зимой 1836 г. Пушкин с женой я свояченицами бывал постоянно. Все они, принадлежавшие к этому тесному дружескому и родственному кружку, встречались чуть ли не каждый день у Карамзиных, или Вяземских, или в гостиной у Е. Н. Мещерской — замужней дочери историографа («Если мы не на балу или в театре, мы отправляемся в один из этих домов», — читаем в одном из писем Е. Н. Гончаровой[123]).
В петербургских письмах Карамзиных чаще всего звучат эти имена: Вяземские, Россеты, Соллогуб, Виельгорский, Пушкины, Гончаровы, а с весны 1836 г. столь же часто начинает мелькать еще одно имя — Дантес. С этого времени он становится постоянным гостем в салоне Карамзиных. С. Н. Карамзина в своих письмах к брату Андрею никогда не забывает упомянуть о нем. Так, 5 июня она пишет: «Наш образ жизни <…> все тот же, по вечерам у нас бывают гости, Дантес — почти ежедневно <…> веселый, забавный, как никогда».[124] И 3 ноября, после возвращения с дачи, Софья Николаевна с той же безмятежностью сообщает: «У нас за чаем всегда бывает несколько человек, в их числе Дантес, он очень забавен».[125]
Разительное сходство перечня имен постоянных посетителей карамзинского салона со списком лиц, получивших анонимные письма, бросается в глаза. Такое совпадение не может быть случайным. Трудно себе представить, Чтобы кому-то, не связанному с узким карамзинским кружком, пришло в голову разослать пасквиль всем этим лицам и только им. Если бы дело было затеяно кем-то из великосветских шалопаев или одним из могущественных врагов поэта, круг адресатов, несомненно, был бы иным.
Все это говорит о том, что организатор интриги с анонимными письмами был как-то связан с карамзинским салоном. Пушкин, по-видимому, уверился в этом, когда убедился, что все экземпляры пасквиля получили распространение только в карамзинском кружке. Это дало весомое подтверждение его подозрениям. Ведь Пушкин знал, кто в этом кругу грозил его жене местью за два дня до появления анонимных писем. И, конечно, не случайно Пушкин в ноябре избрал своими секундантами В. Соллогуба и К. Россета: дело должно было завершиться в присутствии свидетелей из числа завсегдатаев Карамзинского дома.
Заслуживает внимания и следующее немаловажное обстоятельство. Анонимное письмо, полученное Пушкиным, не было специально сочиненным пасквилем, направленным против определенного лица. За исключением одной приписки, текст этого шутовскою диплома, извещающего о принятии в члены «Ордена рогоносцев», представляет собою нечто совершенно безликое: это своего рода готовое клише, куда могли быть вставлены любые имена.
Из воспоминаний Соллогуба нам известно, что в 1836 г. кто-то из иностранных дипломатов привез в Петербург из Вены печатные образцы подобных шутовских «дипломов». Секретарь французского посольства д'Аршиак, встретившись с Соллогубом после ноябрьской дуэльной истории, показал ему несколько подобных дипломов «на разные нелепые звания», среди которых находился печатный образец письма, присланного Пушкину. «Таким образом, — пишет Соллогуб, — гнусный шутник, причинивший ему смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал».[126]
Соллогуба поразил самый факт существования печатного образца, и он, не останавливаясь на мелких разночтениях, характеризует оба текста как тождественные. Но в экземплярах, разосланных 4 ноября, несомненно, есть одна индивидуальная примета. «Гнусный шутник», списывая с безликого образца текст, который можно было адресовать любому обманутому мужу, сделал при этом одну приписку от себя. Он назвал поэта не только заместителем Великого магистра Ордена рогоносцев, но и историографом ордена. Этого слова, конечно, не было в печатном бланке. Оно имеет совершенно определенный прицел и могло быть адресовано в Петербурге только одному человеку — Пушкину. Слово «историограф», вне всякого сомнения, было внесено в текст составителем пасквиля.
Итак, вот единственный «личный» след, оставленный в анонимном письме его отправителем. И этот след ведет нас все туда же — в карамзинский кружок. Самая мысль о подобной приписке могла возникнуть у тою, кто был как-то причастен к карамзинскому дому, с его атмосферой культа покойного историографа. И лишь один человек в том кругу был способен сделать предметом издевательской шутки это окруженное всеобщим уважением звание.
Можно думать, что самый характер текста анонимного пасквиля позволил Пушкину о многом догадаться. О существования печатных образцов «дипломов» поэт мог узнать в процессе предпринятых им розысков. Возможно, об этом ему рассказал Владимир Соллогуб, пораженный тем, что сообщил д'Аршиак (будучи секундантом, Соллогуб оказался в числе тех немногих людей, которые осмеливались разговаривать с Пушкиным об анонимных письмах).
Сведения, которые Пушкин черпал из разных источников, так или иначе подтверждали его догадки. Многое из того, что он узнал в те дни, нам неизвестно и поныне. Достоверно известно лишь, что относительно сорта бумаги Пушкин получил консультацию у своего лицейского товарища М. Л. Яковлева, который заверил его, что это бумага нерусского производства, облагаемая высокой пошлиной, и, скорее всего, принадлежит кому-то из иностранных дипломатов.[127]
Когда Пушкин писал Бенкендорфу, что он догадался о составителе пасквиля «по виду бумаги, но слогу письма, по тому, как оно было составлено» (XVI, 397), он делал это заявление с полной ответственностью за свои слова. Но в официальном письме поэт мог упомянуть только о внешних приметах пасквиля, указывающих на виновных. О главном он вынужден был умолчать. Для самого Пушкина главным основанием для обвинений против Геккернов послужило знание мотивов.
Уже 4 ноября Пушкин пришел к заключению, что анонимный пасквиль был местью Наталье Николаевне. После объяснения с женой он знал об интриге, которая плелась против нее, знал о несостоявшемся свидании и уязвленном самолюбии Жоржа Геккерна и, наконец, об угрозах, которые услышала его жена от кого-то из Геккернов 2 ноября.
Все вместе взятое — момент появления пасквиля, круг адресатов и самый характер анонимного письма — указывало на истинных виновников этого грязного дела. Однако о самых веских доказательствах, подтверждающих вину Геккернов, Пушкин не сообщил никому.
Он умолчал о главном и в письме к Бенкендорфу, хотя полностью отдавал себе отчет в том, что те немногие аргументы, которые он привел, не могут быть признаны серьезными доказательствами для обвинения посланника. «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, — писал Пушкин, — и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю» (XVI, 192, 398). В черновике было: «…ни вручить вам писем… ни вводить в большие подробности» (XVI, 266, 425).
Друзьям он тоже открыл не все. Вернее, именно им en не хотел сообщать эти подробности, чтобы не поколебалось их уважение к его жене. Вот почему друзья поэта считали его подозрения против Геккернов плодом разгоряченного воображения. «Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым», — писал в феврале 1837 г. Вяземский.[128]
2
«До самой смерти…». Даже ближайшие друзья Пушкина поверили ему только после его гибели, когда стало явным то, что он раньше таил ото всех.
Убежденность в виновности Геккернов сложилась в пушкинском кругу далеко не сразу. 29 января, в день смерти Пушкина, А. И. Тургенев писал о Жорже Геккерне: «Но несчастный спасшийся — не несчастнее ли?».[129] Карамзины, оплакивая поэта, испытывали сочувствие и к Дантесу и выражали надежду, что он не будет сурово наказан. Вяземский в своих первых сообщениях о январской трагедии — в письмах от 2, 5, 6 февраля говорил о «роковом предопределении, которое стремило Пушкина к погибели». 5 февраля в подробном письме к А. Я. Булгакову, предназначенном для оповещения москвичей о случившемся, Вяземский писал: «О том, что было причиною этой кровавой и страшной развязки, говорить нечего. Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих <…> Пушкина в гроб положили и зарезали жену его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безыменные письма…».[130]
Но начиная с 10 февраля тон писем Вяземского и самая суть его сообщений меняются. Вместо общих слов о людской злобе и светской клевете в его письмах появляется совершенно определенно высказанное обвинение в адрес Геккернов. «Чем более думаешь об этой потере, — пишет Вяземский 10 февраля, — чем больше проведываешь обстоятельства, доныне бывшие в неизвестности и которые время начинает раскрывать понемногу, тем более сердце обливается кровью и слезами. Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и жены его <…> Супружеское счастье и согласие Пушкиных было целью развратнейших и коварнейших покушений двух людей, готовых на все, чтобы опозорить Пушкину».[131] Два главных виновника не названы по имени, но не может быть никакого сомнения в том, что речь идет о Геккернах.
В аналогичном по содержанию письме к О. А. Долгоруковой, написанном уже после отъезда посланника и его сына из Петербурга, Вяземский прямо и недвусмысленно обвиняет Геккернов и сожалеет, что их вину юридически нельзя доказать. «Чтобы объяснить поведение Пушкина, — пишет он, — нужно бросить суровые обвинения против других лиц, замешанных в этой истории. Эти обвинения не могут быть обоснованы положительными фактами: моральное убеждение в виновности двух актеров этой драмы, только что покинувших Россию, глубоко и сильно, но юридические доказательства отсутствуют».[132]
Даже в официальном письме к великому князю Михаилу Павловичу, отправленном 14 февраля, Вяземский позволил себе намекнуть на некие обстоятельства, которые теперь сделали в его глазах вероятным предположение Пушкина о причастности барона Геккерна к анонимному пасквилю. По словам Вяземского, неожиданный случай дал этому предположению «некоторую долю вероятности». «Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, — заключал он, — то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской».[133]
Совершенно очевидно, что 9–10 февраля Вяземский узнал о преддуэльных событиях нечто такое, что изменило его отношение к Геккернам и заставило принять версию Пушкина. Что же это за обстоятельства, которые стали понемногу приоткрываться в феврале 1837 г. и о которых Вяземский упорно не желает ничего сообщить в письмах?
По всей вероятности, ближайшие друзья поэта услышали об этих неизвестных им подробностях дела от самой H. H. Пушкиной. В те дни вдова поэта, опомнившись от первого ужасного потрясения, рассказала кому-то из самых близких людей о том, что раньше знал, с ее слои, один только Пушкин. Очевидно, она заговорила с Жуковским, к которому обычно обращалась в самых трудных случаях. О каких-то подробностях Жуковскому сообщила Александрина (пометы о ее рассказах содержатся в его конспективных заметках). От Жуковского об этом мог узнать и Вяземский.
Вот почему в своих февральских письмах Вяземский так глухо и неясно говорит о том, что послужило основанием для подозрений против Геккернов. Он был предельно сдержан и осторожен по той же причине, что и Пушкин в своих обвинительных письмах: Вяземский не хотел компрометировать вдову поэта.
Это особенно чувствуется в его письмах к Э. К. Мусиной-Пушкиной. 16 февраля он писал ей: «Пушкин и его жена попали в гнусную западню, их погубили <…> Когда-нибудь я расскажу вам подробно всю эту мерзость <…> Вы должны довериться мне, вы не знаете всех данных, не знаете всех доводов, на которые опирается мое суждение; вас должна убедить моя уверенность, ее вы должны принять». То, о чем молчит Вяземский, — уже не тайна для близких людей, но это не должно стать достоянием гласности, об этом нельзя сообщать в письме.
Вяземский предвидит, что его могут счесть пристрастным, и заранее возражает: «В Пушкине я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности <…> Однако, будь в этом ужасном деле не на его стороне право, я в том сознался бы первый. Но во всем его поведении было одно благородство, великодушие, деликатность. Если бы на другой стороне был только порыв страсти или хотя бы честное ухаживание, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника. В этом отношении я не ригорист. Всякому греху — милосердие, но не всякой низости!».[134]
Характерно, что во всех этих письмах Вяземский говорит не о поединке, а о том, что предшествовало дуэли и что сделало ее неизбежной. Суровые обвинения, высказанные Вяземским в адрес Дантеса, выражали мнение всего пушкинского круга. В эти же дни Жуковский в письме к Бенкендорфу с необычной для него резкостью писал о поведении Дантеса: «…с другой стороны, напротив, был и ветреный, и злонамеренный разврат».[135] Вникнув в ранее неизвестные им обстоятельства дела, друзья Пушкина теперь сочли вполне вероятным и предположение о причастности Геккернов к анонимному пасквилю.
О том, что эта версия была принята в пушкинском кругу, свидетельствует и письмо А. Н. Карамзина. В своем подробном рассказе о преддуэльных событиях он сообщил, в частности, что сочинителем пасквиля теперь считают барона Геккерна: «… люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!».[136]
То, о чем в письмах 1837 г. говорилось очень осторожно, в 1842 г. прямо и откровенно высказал в своих «Памятных записках» H. M. Смирнов — муж «черноокой Россети». Подытоживая мнения, получившие распространение в этом кругу, он писал: «Подозрения его (Пушкина, — С. А.) н многих его приятелей падали на барона Геккерна <…> Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем <…> Подозрение падало также на двух молодых людей — кн. Петра Долгорукова и кн. Гагарина; особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккерном и следовали его примеру, распуская сплетни <…> Впрочем, участие <…>, им (Гагариным, — С. А.) принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерн был их сочинитель. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства».[137]
В 1850-е годы П. В. Анненков — со слов друзей Пушкина — сделал такую запись для себя: «Геккерен был педераст, ревновал Дантеса и потому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные».[138]
Значит, предположение о виновности барона Геккерна, возникшее в кругу друзей поэта в феврале 1837 г., оказалось очень устойчивым. Оно прочно вошло в сознание этих людей.
Не ошибался H. M. Смирнов и относительно позиции властей. Недавно опубликованные документы из архива П. И. Миллера лишний раз подтверждают это. Секретарь графа Бенкендорфа Павел Иванович Миллер совершенно уверенно приписывает авторство пасквиля посланнику. В его записке, хранившейся вместе с пушкинскими автографами, сказано: «Барон Геккерн написал <…> несколько анонимных писем, которые разослал двум-трем знакомым Пушкина. — Бумага, формат, почерк руки, чернила этих инеем были совершенно одинаковы».[139]
«Неоспоримыми доказательствами», однако, III отделение не располагало. Мы можем говорить лишь о мнении властей, сложившемся под влиянием писем Пушкина и других фактов и слухов, скомпрометировавших посланника.
Подведем некоторые итоги. Как мы убедились, в настоящее время неизвестны никакие бесспорные документальные доказательства, подтверждающие причастность Геккернов к анонимным письмам Но нам удалось выяснить, на чем основывал Пушкин свою убежденность в том, что пасквиль — дело их рук. И оказалось, что мнение Пушкина отнюдь не было плодом «болезненной подозрительности и гнева»,[140] как утверждали ранее некоторые биографы. Пушкин позволил себе официально обвинить Геккернов, потому что у него для этого были достаточно серьезные основания, настолько серьезные, что его друзья, поначалу считавшие это предположение недопустимым, узнав о них, тоже прониклись этой уверенностью.
И сейчас, по прошествии стольких лет, чем больше проясняется фактическая сторона дела, тем более весомым представляется обвинение, выдвинутое Пушкиным.
До сих пор были совершенно непонятны побуждения, которые могли толкнуть Геккернов на этот шаг. Широко распространившаяся легенда о «великой любви» Дантеса оказалась неким психологическим барьером, который в свое время помешал увидеть события в истинном свете. Когда появились анонимные письма, никому и в голову не пришло, что Геккерны могли иметь к ним отношение, так как все в петербургском обществе, начиная с императрицы и кончая наивными юношами из карамзинского кружка, находились под обаянном этой легенды. Влияние ее сказывается и по сей день.
Решительный шаг к пересмотру этой давнишней легенды сделала Анна Ахматова. Она проницательнее всех оценила отношение Дантеса к Н. H. Пушкиной и очень точно подметила, как менялись его чувства в течение года. «Дантес <…> был влюблен в нее с января 86 г. до осени», — писала она. «Когда же выяснилось, что она (любовь, — С. А.) грозит гибелью карьеры, он быстро отрезвел, стал осторожным <…> по требованию посланника написал письмо, где отказывается от нее, а под конец, вероятно, и возненавидел…».[141]
О том, как велико было раздражение Дантеса против той, которой он еще недавно обещал рыцарскую верность, свидетельствует разговор, переданный Соллогубом. В самый разгар переговоров о ноябрьской дуэли Дантес сказал Соллогубу о H. H. Пушкиной: «C'est une mijaurée».[142] И сказано это было секунданту Пушкина! Даже в разговоре с ним Дантес не смог скрыть своих чувств.
Кризис в отношениях Дантеса и H. H. Пушкиной произошел, как мы знаем, накануне 4 ноября, когда он был вновь отвергнут женой поэта. Свидание, окончившееся для него так бесславно, тем более его уязвило, что он привык к легким победам и был уверен в успехе. После инцидента на квартире у Полетики у него и возник этот план «отмщения».
Задуманный Дантесом ход был вполне в духе нравов золотой молодежи того времени. Подобные случаи мщения женщине, обманувшей надежды возлюбленного, зафиксированы в мемуарах, дневниках и других документах эпохи. Напомним хотя бы о громком великосветском скандале, учиненном в 1839 г. Львом Гагариным, который позволил себе в театре при полном стечении народа нанести публичное оскорбление графине А. К. Воронцовой-Дашковой.[143]
В те же годы мотив отмщения становится популярным и в литературе — в произведениях, отображавших нравы светского общества. Этот мотив, в частности, намечен в незавершенной повести Лермонтова «Княгиня Лиговская»; звучит он и в шутливой поэме «Монго», где, говоря о страданиях отвергнутого поклонника, поэт пишет: «И загорелся пламень мщенья в груди измученной его…». Обе вещи датируются 1836 г.
В этой связи стоит упомянуть о повести Бальзака «Второй эпизод из истории тринадцати». Она вышла в свет в 1834 г., и о ней в те годы много говорили в парижских и в петербургских гостиных. Главной пружиной развития действия в этой повести был мотив мщения (герой при содействии известного светского «льва» затевает расчетливо продуманную интригу против женщины, слывшей неприступной, с тем, чтобы пробудить в ней страсть и затем отомстить за проявленное ею пренебрежение). Хотя эта повесть (она потом вошла в собрание сочинений писателя под названием «Герцогиня де Ланже») изобилует неправдоподобными приключениями, в ней запечатлена нравственная атмосфера времени, и она в какой-то мере может служить ключом к пониманию тактики, избранной Дантесом, так как его поведение целиком укладывается в рамки известных в то время стереотипов.
По-видимому, затеяв интригу с анонимными письмами, которые должны были опорочить H. H. Пушкину в кругу самых близких поэту людей, Дантес рассчитывал, что оскорбленный муж обратит свой гнев и ярость прежде всего против жены. В оправдательном письме посланника, адресованном графу Нессельроде, есть фрагмент, который может служить подтверждением нашей догадки. Опровергая слухи о причастности Дантеса к анонимным письмам, Геккерн в своем письме спрашивает с возмущением: «Мой сын, значит, тоже мог бы быть автором этих писем? Спрошу еще раз: с какой целью? Разве для того, чтобы добиться большего успеха у г-жи Пушкиной, для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света отвергнутой мужем?».[144] Геккерн решительно отвергает возможность подобных предположений, апеллируя к общественному мнению. Он ссылается на то, что рыцарский характер отношений его сына к госпоже Пушкиной всем известен.
Но не проговорился ли невольно барон Геккерн в этом письме? Оказывается, с точки зрения Геккернов, такая ситуация была возможной. По их мнению, H. H. Пушкина после появления анонимных писем могла быть отвергнута мужем, опозорена в глазах света, и это должно было толкнуть ее на сближение с Дантесом.
О чем-то подобном догадывался и Пушкин, насколько можно судить об этом по уцелевшим строчкам его ноябрьского обвинительного письма к Геккерну. Вспомним: «моя жена опаса<ется> <…> она теряет голову <…> нанести удар, который вам казался окончательным. Анонимное письмо было составлено вами».[145] Расчет был на то, чтобы сломить сопротивление Натальи Николаевны в тот момент, когда она оказалась в трудном положении. Дантес мог надеяться, что скандал приведет H. H. Пушкину к разрыву с мужем или по крайней мере лишит ее его защиты и поддержки. У барона Геккерна могли быть при этом и свои особые мотивы. Возможно, он рассчитывал, что анонимные письма так или иначе приведут, наконец, к развязке этот затянувшийся роман Дантеса.
Нужно также учесть, что с точки зрения тех, кто затеял интригу с письмами, этот способ отмщения представлялся самым безопасным. Тот, кто действовал под маской анонима, практически всегда оставался безнаказанным. Из-за анонимных писем не стрелялись. Нам неизвестно ни одного такого случая в русской дуэльной практике. Отмечая необычный характер поединка Пушкина с Дантесом, В. А. Муханов записал 2 февраля 1837 г. в своем дневнике: «… анонимный пасквиль не составляет оскорбления, делающего поединок неизбежным».[146] Сам Пушкин в первый момент после получения письма сказал почти то же самое о неизвестном ему оскорбителе: «Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое…».
Организаторы интриги с анонимными письмами действовали очень предусмотрительно и осторожно. Как мы знаем, бесспорных доказательств их преступления, несмотря на все усилия Пушкина и его друзей, так и не удалось обнаружить. Однако при всех принятых мерах предосторожности барон Геккерн (если это был он) не рассчитал одного: с каким противником ему придется иметь дело. Вот почему он не сумел предугадать, что скандал обернется против него.
3
В деле с анонимными письмами, даже если принять предлагаемую гипотезу, все равно остается очень много темного и неясного. Не может быть сомнений в том, что у Геккернов был соучастник — тот, кто переписывал пасквили. Пушкин знал почерки посланника и его приемного сына и не сомневался в том, что письма были переписаны другой рукой. Поэтому в своих обвинениях он ни разу не сослался на сходство почерков.
Установить, кто был непосредственным исполнителем этого подлого дела, пока не представляется возможным. У Пушкина на этот счет не было никаких определенных подозрений. Розыски, которые попыталось провести в феврале 1837 г. III отделение, не дали результатов. Известно, что в пушкинском кругу в связи с анонимными письмами было названо два имени — И. С. Гагарина и П. В. Долгорукова. С течением времени подозрения, касающиеся Гагарина, как будто отпали, но мнение о виновности Долгорукова прочно утвердилось.[147] Оно было подтверждено авторитетными свидетельствами, собранными Щеголевым, и данными графологической экспертизы, состоявшейся в 1927 г.
Однако новейшие разыскания показали, что эта версия, давно ставшая хрестоматийной, тоже нуждается в проверке и пересмотре.
Чтобы иметь возможность оценить достоверность версии, прочно вошедшей в наше сознание, необходимо вернуться к ее истокам и попытаться выяснить, когда и при каких обстоятельствах были впервые высказаны эти подозрения.
Дошедшие до нас воспоминания позволяют установить, что первыми назвали имена Гагарина и Долгорукова братья Россеты. Эти имена были произнесены еще в ноябре, вскоре после появления пасквиля. Глубоко пораженные тем, что кто-то решил замешать их в такое дело, Россеты сразу же стали выяснять, кто этот злоумышленник. Иными словами, они начали свое «следствие».
К. О. Россета особенно поразил адрес на письме, направленном на его имя. Он отличался такой точностью и такими подробностями, какие могли быть известны лишь кому-то из числа близких знакомых, из тех, кто часто бывал в их доме. H. M. Смирнов, со слов Клементия Россета, позднее записал, что на конверте был не только указан дом, но и «куда повернуть, взойдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры».[148] Соллогуб, сам видевший этот конверт, воспроизводит текст адреса более точно в своей записке, составленной для Анненкова: «Клементию Осиповичу Россети. В доме Занфтлебена, на левую руку, в третий этаж».[149] Действительно, адрес точный и подробный. Он мог быть надписан либо человеком, бывавшим на квартире у Россетов, либо кем-то, кто состоял с ними в переписке.
Вот это и послужило первым толчком для подозрений против двух приятелей — Гагарина и Долгорукова, живших в то время вместе на одной квартире. Передавая рассказ К. Россета, Смирнов далее пишет по поводу пресловутого адреса: «Сии подробности <…> могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано…».[150]
Клементий Россет сразу же решил проверить свои подозрения. 5 ноября он пришел к Долгорукову и Гагарину и показал им полученный накануне экземпляр пасквиля. Между ними завязался разговор, о котором впоследствии рассказал И. С. Гагарин в своем оправдательном письме, опубликованном в газете «Биржевые ведомости» за 1865 г.: «Мы толковали, кто мог написать пасквиль, с какой целью, какие могут быть от этого последствия. Подробностей этого разговора я теперь припомнить не могу; одно только знаю, что паши подозрения ни на ком не остановились и мы остались в неведении».[151] Видимо, К. О. Россет пытался определить по реакции своих собеседников справедливость закравшихся подозрений. Но ему не удалось ничего прояснить (если бы появились какие-то подтверждения, А. Россет сообщил бы о них Бартеневу, когда тот записывал его рассказ об анонимных письмах).
После гибели Пушкина его друзья, движимые вполне понятными чувствами, стали с особенной настойчивостью доискиваться, кто же был составителем анонимных писем. Мнение Пушкина, как мы знаем, не сразу утвердилось в этом кругу. И высказанное однажды предположение вновь всплыло в те трагические дни: имена Гагарина и Долгорукова были названы снова. Судя по дневнику А. И. Тургенева, 30 и 31 января у Карамзиных говорили об Иване Гагарине. Почему-то подозрение в первую, очередь падало на пего. Почему? Нам неясно. Никаких доказательств не существовало, были только сомнения на этот счет и потому решили наблюдать за Гагариным в церкви: подойдет ли он к гробу и как будет вести себя при последнем прощании. По словам Гагарина, А. И. Тургенев сам рассказывал ему, что 1 февраля он с него глаз не спускал в Конюшенной церкви, после чего подозрения его рассеялись.
Время показало, что друзья Пушкина в большинстве своем не верили этим подозрениям о Гагарине. А. И. Тургенев дружески общался с И. С. Гагариным в течение многих лет. Соболевский, специально беседовавший с Гагариным на эту тему, решительно его оправдал. Вяземский, который лучше других знал, когда зародились эти подозрения, не считал возможным предъявлять обвинения ни Гагарину, ни Долгорукову. Но подозрения в свое время были высказаны вслух, они обсуждались довольно широко, и след их остался в сознании многих людей. Когда после смерти Пушкина в обществе открыто заговорили о пороке, связывающем Геккерна и его так называемого сына, тогда напомнили, что князь П. В. Долгоруков из той же компании. Это и послужило психологическим обоснованием для подкрепления ранее возникших подозрений. Па это намекал H. M. Смирнов в своих записках 1842 г., утверждая, что оба князя (Долгоруков и Гагарин) «были дружны с Геккерном». П. А. Вяземский так говорил об этом впоследствии Бартеневу: «Старик барон Геккерн был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части; в числе их находились князь Петр Долгоруков и граф Л. С<оллогуб>».[152]
В печати имена подозреваемых были впервые названы в 1863 г. А. Н. Аммосовым, который записал и издал отдельной брошюрой устные рассказы Данзаса о дуэли Пушкина. В записи Аммосова слова Данзаса были переданы так: «После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина; теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым».[153] К тому времени, когда было сделано это заявление, П. В. Долгоруков успел приобрести известность как автор замечательных трудов по русской генеалогии и как злобный пасквилянт. Обвинение против Долгорукова было поддержано множеством оскорбленных и обиженных им людей, но никаких доказательств его соучастия в деле с анонимными письмами никто так и не привел. Когда имя Долгорукова было названо в печати, Вяземский записал по этому поводу: «Это еще не доказано, хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность».[154]
Все дальнейшие изыскания биографов, собравших весьма красноречивый материал о неблаговидных поступках князя, свидетельствуют лишь о его отвратительном характере и о том, что многие считали его способным на эту гнусность. Обобщая все эти материалы, Щеголев писал, что исследователь не вправе делать выводы о роли Долгорукова только на основании темных слухов. Он позволил себе обнародовать свои обвинения лишь тогда, когда получил заключение графологической экспертизы, выполненной по его просьбе. Судебный эксперт А. А. Сальков, исследовавший почерки И. С. Гагарина, П. В. Долгорукова и неизвестного, чьей рукой были переписаны 3 ноября анонимные письма, вынес тогда категорическое заключение о том, что «пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым».[155]
Доверие к графологам было так велико, что после опубликования результатов экспертизы вина Долгорукова представлялась вполне доказанной.
Однако новейшая экспертиза, осуществленная в 1974 г., столь же категорически опровергла выводы А. Салькова. Исследование почерка неизвестного, переписавшего «дипломы», и сопоставление его с почерком П. В. Долгорукова и И. С. Гагарина, проведенное на современном научном уровне, выявили устойчивые различия между ними. По мнению экспертов, эти различия отражают систему движений пишущего и «образуют совокупности, достаточные для вывода о том, что тексты двух „дипломов рогоносца“ и адрес „Графу Виельгорскому“ выполнены не Долгоруковым и Гагариным, а иным лицом».[156]
Опыт двух экспертиз свидетельствует, по крайней мере, об одном: никакими доказательствами, подтверждающими соучастие Долгорукова или Гагарина, мы в настоящее время не располагаем. И это означает также, что единственный аргумент, который Щеголев в свое время расценил как бесспорный и на основе которого он построил свою версию, оказался несостоятельным. А так как за истекшие десятилетия не было выдвинуто ни одного сколько-нибудь убедительного объяснения относительно мотивов, которые могли бы толкнуть Долгорукова на соучастие в деле с анонимными письмами, эту версию следует отклонить как недостоверную.[157]
В настоящее время у нас недостаточно данных для того, чтобы решать вопрос о том, кто переписывал пасквили. Возможно, это не был «человек из общества», а кто-то, чьи услуги были оплачены. Отметим, кстати, что Пушкина непосредственный исполнитель этого грязного дела не интересовал. Убедившись, что Геккерны были организаторами интриги, Пушкин не доискивался до остальных подробностей.
В заключение вернемся еще раз к истокам этой версии. К. Россет и его братья были совершенно правы, когда стали искать виновного среди близких знакомых. Но они сразу слишком сузили круг своих поисков, обратив внимание только па тех, кто этой осенью бывал у них в доме. Между тем точный адрес Россетов знали не только их приятели. Он был известен и в тех высокопоставленных семействах, куда молодых Россетов приглашали на вечера и балы. Хотя братья не имели состояния, они были в числе тех, кто удостаивался приглашения в Аничков дворец и во многие фешенебельные дома столицы. Такие приглашения, как правило, рассылались в письменном виде, так что почтовый адрес братьев Pocсети был зафиксирован в реестрах целого ряда аристократических домов Петербурга.
Собственно, на письме, которое получили Россети, был указан обычный петербургский адрес того времени: он оказался более обстоятельным, чем у других лиц, получивших анонимные пасквили, так как братья занимали скромную квартиру, находившуюся во дворе большого доходного дома, и чтобы письмоносец ее разыскал, необходимы были более подробные указания («на левую руку, в третий этаж…»). В остальных случаях указывали лишь имя владельца дома, и этого было достаточно. На единственном сохранившемся до наших дней конверте адрес надписан так: «Графу Михаиле Юрьевичу Вельгорскому. На Михайловской площади. Дом графа Кутузова».
И в том, и в другом случае указаны типовые петербургские адреса, но в этих надписях на конвертах есть одна поразительная особенность. Обе чрезвычайно трудные для правописания фамилии, которые даже близкие люди писали и произносили по-разному, здесь переданы на удивление правильно, так, как их писали в официальных документах. Напомню для сравнения, что А. И. Тургенев писал «Велгурский», Жуковский и А. Карамзин — «Вьельгорский», Пушкин — «Вельгорский» (т. е. так, как эта фамилия звучала по-русски). А граф Бенкендорф, упомянув об А. Россете, записал его фамилию как «Rosetti», погрешив тем самым не только против правописания, но исказив самое звучание фамилии.
На этом фоне скрупулезная точность в передаче таких редких и трудных фамилий на конвертах с пасквилями, по всей вероятности, может иметь лишь одно объяснение: их списывали с «реестра» — со списка, по которому рассылались приглашения. В таких списках имена, титулы, придворные звания обычно фиксировались с большой тщательностью.
Если принять версию Пушкина и считать, что письма исходили от Геккернов, то становится объяснимой и точность надписей на конвертах. Посланник давно жил в Петербурге; как лицо официальное, он устраивал у себя вечера и приемы, на которые рассылал письменные приглашения. Значит, у него был список лиц, которых он обычно принимал, и их адреса. Кстати, примерно за месяц до истории с анонимными письмами, 29 сентября 1836 г., в доме нидерландского посланника, как мы уже упоминали, состоялся музыкальный вечер, на котором среди прочих присутствовали Александр Карамзин, Вяземские, Гончаровы (по-видимому, и H. H. Пушкина), Д. Ф. Фикельмон, Е. М. Хитрово.[158] Надо думать, что на музыкальный вечер был приглашен и такой ценитель, как М. Ю. Виельгорский. Значит, все эти имена были в списке барона Геккерна, так же как и точные адреса этих лиц.
Итак, если опираться на материалы, доступные нам в настоящее время, следует считать наиболее вероятным, что анонимные письма исходили от Геккернов и были переписаны и распространены с помощью каких-то соучастников. Судя по тому, что нам теперь известно, Пушкин был вправе бросить в лицо Геккерну это обвинение. Он сделал это впервые 21 ноября в письмах, обращенных к самому посланнику и к графу Бенкендорфу.
В письме к Геккерну Пушкин заявил: «Но вы, барон, вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением этого юнца руководили вы <…>. Вы решили нанести удар, который вам казался окончательным. Анонимное письмо было составлено вами».[159]
Это обвинение было открыто высказано и в письме к Бенкендорфу, «…я убедился, — писал Пушкин, — что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества» (XVI, 398).
В ноябре Пушкин согласился не давать хода этому грязному делу, но остался при своем убеждении. По свидетельству Вяземского, Пушкин так «и умер с этой уверенностью». И 27 января, накануне поединка, он официально повторил секунданту противника свои обвинения. Это было сказано д'Аршиаку в присутствии Данзаса, который и сообщил о заявлении Пушкина в своих показаниях, данных следственной комиссии. И, судя но всему, что нам теперь известно, Пушкин был прав.[160]
ВЫЗОВ ПУШКИНА
4 ноября вечером Пушкин отправил по городской почте вызов на имя барона Жоржа Геккерна.[161] Этот письменный вызов видел Соллогуб у д'Аршиака, когда секунданты 17 ноября встретились для переговоров.[162]
Точный текст пушкинского письма нам неизвестен, но общий характер его ясен из дальнейших переговоров. То был вызов — предельно лаконичный, корректный, без объяснения причин, как тот в «Онегине» — «… благородный, короткий вызов, иль картель». Пушкин действовал в духе рыцарских дуэльных традиций времен своей молодости и, с того момента как он принял решение о поединке, не позволял себе никаких публичных выпадов в адрес противника.
Письмо Пушкина было доставлено в дом нидерландского посланника 5 ноября около девяти часов утра. В это время Дантес был на дежурстве в полку. Он должен был вернуться в первом часу дня. Письмо Пушкина попало в руки барону Геккерну-старшему, и он распечатал его, не дожидаясь возвращения молодого человека. При всей короткости их отношений этот факт обращает на себя внимание. Чтобы распечатать чужое письмо, нужно было иметь достаточно серьезный повод. Получив письмо Пушкина, барон почему-то не смог сдержать нетерпения.
Геккерн-младший в эти дни тоже, по-видимому, нервничал и не владел собой. 4 ноября во время инспекторского смотра Кавалергардского полка он так нерадиво исполнял свои обязанности командира взвода, что это было отмечено в приказе генерал-майора Гринвальда. По приказу полкового командира поручик Георг Геккерн был наряжен на пять дежурств вне очереди.[163] Дантес не раз получал взыскания на службе, но обращает на себя внимание тот факт, что в этот ответственный для полка день из всех кавалергардских офицеров такое строгое взыскание получил оп один.
Создается впечатление, что 4 и 5 ноября посланник и его приемный сын были в необычном возбуждении. Они несомненно ожидали какого-то ответного хода со стороны Пушкина.
Однако вызов поэта, о котором барон Геккерн узнал первым, оказался для них обоих непредвиденным ударом. Предстоящая дуэль, чем бы она ни кончилась, означала для Геккернов полный крах их карьеры в России. Спасение было в одном: нужно было во что бы то ни стало предотвратить поединок. Опытный дипломат, искушенный в ведении интриг всякого рода, Геккерн решил прежде всего добиться отсрочки поединка, чтобы выиграть время.
Наметив план действий, барон отправился на Мойку с официальным визитом. Посланник объяснил Пушкину, что он по ошибке распечатал письмо, адресованное сыну, и теперь принимает от его имени вызов, так как Жорж Геккерн находится на дежурстве в полку. В связи с этим барон просил отсрочки на 24 часа.
Пушкин дал согласие на отсрочку.
По истечении 24 часов, 6 ноября, примерно в то же время, что и накануне, Геккерн снова появился на Мойке. Посланник рассчитал время очень точно и выехал из дому тогда, когда Дантес отправился в полк на свое внеочередное дежурство, куда он должен был явиться к 12 часам. Это и дало Геккерну формальный повод вести переговоры вместо своего приемного сына.
На этот раз разговор затянулся. Барон умолял Пушкина о новой отсрочке, более длительной (у него уже созрел некий замысел, для осуществления которого требовалось время). Геккерн твердил о своих отеческих чувствах, о том, что считает своим долгом предотвратить несчастье. В этих переговорах барон с самого начала выступил не в качестве доверенного лица Дантеса, а в роли убитого горем отца. По свидетельству Вяземского, который сообщил это со слов Пушкина, Геккерн говорил «со слезами на глазах».[164] Во время своего вторичного визита он уверял Пушкина, что ничего не сказал сыну о вызове. Это была явная ложь. Дантес вернулся с дежурства 5 ноября днем, встретился дома с Геккерном и, конечно, уже все знал. Но посланник пока решил вести дело сам; ни на секунданта, ни на Дантеса он не считал возможным положиться, и поэтому ему необходимо было сделать вид, что молодой человек еще ничего не знает.
Пушкин понимал, что Геккерн лжет. Тем не менее он и на этот раз пошел навстречу пожеланиям противной стороны и дал согласие на новую отсрочку — продолжительностью в две недели.
В обществе никто не подозревал о предстоящей дуэли. Не догадывались о ней даже в кружке карамзинской молодежи. В. А. Соллогуб рассказывает: «Я продолжал затем гулять по обыкновению с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма <…> Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека».[165] Это очень важное свидетельство. Пушкин в эти дни уже уверился, что анонимные письма исходят от Геккернов, но, не позволял себе и намека на это даже в разговорах с теми, кто получил пасквили.
Между тем в семье поэта все было напряжено до предела. 5 ноября о предстоящей дуэли узнала H. H. Пушкина. По-видимому, она догадалась обо всем после неожиданного визита Геккерна к мужу. Возможно, сам барон рассказал ей о вызове. Известно, что в эти дни он разговаривал с Натальей Николаевной и даже побуждал ее написать письмо Дантесу, в котором она умоляла бы его не драться с мужем. По словам Вяземского, жена поэта «с негодованием отвергла это низкое предложение».[166]
Осознав весь ужас случившегося, Наталья Николаевна решила прибегнуть к помощи самого надежного друга и советчика — Жуковского. С ним, однако, нелегко было снестись: Жуковский жил в это время в Царском Селе. Не осмелившись сообщать о таком деле в письме, она прежде всего послала за братом Иваном Николаевичем, который в эти дни тоже находился в Царском, где размещался его полк. К вечеру И. Н. Гончаров прискакал в Петербург и встретился с сестрой. Она рассказала ему о том, что произошло, и просила брата известить обо всем Жуковского. Вернувшись в Царское, И. Н. Гончаров рано утром 6 ноября разыскал Жуковского и сообщил ему обо всем.
Жуковский немедленно выехал в Петербург. Он появился на Мойке около полудня, за несколько минут до прихода Геккерна. Вмешательство Жуковского, несомненно, оказало решающее влияние на ход событий.
А поручику Гончарову пришлось поплатиться за свою поездку в Петербург служебными неприятностями. Он отлучился из расположения полка в тот момент, когда лейб-гусары готовились к своему храмовому празднику (6 ноября был день св. Павла Исповедника — покровителя гусарского полка). В этот один из самых торжественных для полка дней на смотре должны были присутствовать император, наследник и высшие сановники государства, а к четырем часам офицеры полка были приглашены на парадный обед в Александровский дворец. И вот как раз накануне такого дня поручик Гончаров отлучился из Царского Села, а наутро появился в расположении полка с опозданием. Видимо, хлопоты по делу сестры и Пушкина оказались для И. Н. Гончарова важнее всего прочего, раз он в такой день решился пренебречь служебными обязанностями. Из недавно опубликованного письма Екатерины Гончаровой стало известно, что Иван Николаевич 7 ноября был посажен под арест, хотя до этого полковой командир был «им чрезвычайно доволен».[167]
О том, как развивались события дальше, мы знаем из «Конспективных заметок» Жуковского, который очень точно зафиксировал ход ноябрьской дуэльной истории с 6 но 10 ноября. Эти записи были сделаны тогда же, по горячим следам, — скорее всего 10 или 11 ноября. Для Жуковского это была своеобразная памятка. Он стремился запечатлеть ход событий так, чтобы ничего не упустить и не забыть. Точность «Конспективных заметок» неоднократно подтверждалась при критическом сопоставлении их с другими свидетельствами. Этот важнейший биографический документ впервые был изучен П. Е. Щеголевым и положен им в основу его исследования о дуэли Пушкина.[168] В настоящее время, в связи с выяснением новых обстоятельств, записи Жуковского требуют дополнительных комментариев.
Под датой «6 ноября» в своих «Конспективных заметках» Жуковский записал: «Гончаров у меня. Моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. Остаток дня у Вьельгорского и Вяземского. Вечером письмо Загряжской».[169]
Судя по этим заметкам, Жуковский приехал в Петербург около полудня. Его разговор с Пушкиным, едва начавшись, прервался из-за визита Геккерна. Жуковский счел необходимым удалиться и вернулся к Пушкину через некоторое время — уже после ухода посланника.
В своей памятке Жуковский достаточно определенно называет отрезки времени: днем он был у Пушкина, остаток дня провел у Вяземского и Виельгорского; вечером (по возвращении домой) получил письмо от Загряжской, которая просила его завтра утром быть у нее. Эта запись, сделанная вполне разборчиво, ни у кого из исследователей не вызывала сомнения до тех пор, пока ее не подверг пересмотру М. И. Яшин.
Обратившись к камер-фурьерским журналам, Яшин обнаружил в них помету, явно противоречащую тому, о чем пишет Жуковский. Судя по записи в журнале, 6 ноября воспитатель наследника весь день, по крайней мере до шести часов вечера, находился в Царском Селе. Дежурный камер-фурьер, отмечая в журнале все торжественные моменты праздника лейб-гвардии Гусарского полка, на котором присутствовали император и двор, записал, в частности, что в «пять минут пятого часа пополудни» государь и все приглашенные проследовали к обеденному столу в овальную залу Александровского дворца, где были накрыты столы на 90 персон. В числе обедавших поименован и В. А. Жуковский.[170]
М. И. Яшин, обнаруживший эту запись, доверился ей вполне. Он пришел к выводу, что Жуковский 6 ноября выехал в Петербург лишь в седьмом часу вечера, по окончании парадного обеда. Вместо того чтобы объяснить выявившееся противоречие, Яшин стал «подгонять» текст заметок Жуковского к тому представлению о событиях, в которое он поверил. Так, вместо фразы: «Вечером письмо Загряжской» — Яшин предлагает читать: «Возврат. Письмо Загряжской» — и разъясняет смысл этой странной строчки следующим образом: «По возвращении к Пушкину Жуковский получил письмо от тетки Гончаровых Загряжской».[171] Таким путем Яшину удалось устранить из текста мешавшее ему слово «вечером», которое четко определяло последовательность событий во времени. После чего слова «остаток дня» уже стало возможно трактовать не в их прямом смысле, а как указание на последние вечерние часы суток. Все это понадобилось для того, чтобы убедить читателей, что события, зафиксированные Жуковским под датой «6 ноября», происходили поздно вечером — после 9 часов.
Смещение событий во времени привело затем исследователя к целой цепи фактических ошибок.
Рукопись Жуковского не дает оснований для такого пересмотра записи, и в последнем издании «Конспективных заметок» Я. Л. Левкович восстановила бесспорно читаемый, так сказать «канонический», текст, относящийся к 6 ноября.[172] Однако противоречие между этой записью и пометой в камер-фурьерском журнале так и осталось и непроясненным.
Чем же все-таки объяснить это несоответствие?
Камер-фурьерский журнал, в котором ежедневно регистрировались все официальные события, происходившие при дворе, бесспорно, является надежным историческим источником. Он заполнялся в течение дня, так что вероятность ошибок в этих записях очень невелика, и факты, зафиксированные в нем, как правило, не вызывают сомнения. Но из правила есть исключения. Во время многолюдных придворных балов, праздников и различных дворцовых церемоний было трудно учесть всех присутствующих, и дежурные камер-фурьеры для удобства обычно пользовались списком приглашенных. В те дни, когда во дворце бывало до сотни гостей (а случалось, что их бывало и несколько сот человек), камер-фурьеры помечали в журнале прежде всего присутствие высочайших особ и приближенных к ним лиц, а все остальные имена списывали с листа, по которому рассылались приглашения. Сохранилось несколько таких списков, они так и остались вложенными между страницами камер-фурьерских журналов. Иногда рядом с именем того или иного лица, отмеченного в журнале в качестве присутствующего, можно видеть помету «Не был», сделанную позже.[173] Это прямое свидетельство того, что имена заносились в журнал со списка приглашенных.
Так же была сделана и запись за 6 ноября. В списке лиц, присутствовавших на обеде, сначала поименованы высочайшие особы, затем те, кто сидел по правую и левую руку от государя и государыни и, наконец, особы, сидевшие «за прочими столами». В их числе и назван Жуковский. Эти несколько десятков фамилий, конечно, списывались с листа. Жуковский уехал еще утром, по дежурный камер-фурьер, имея перед глазами список приглашенных, не заметил его отсутствия в зале.
Сопоставляя эти два противоречащих друг другу источника, мы должны отдать безусловное предпочтение личному свидетельству Жуковского о том, что он приехал в Петербург в середине дня. Уточнить время помогает помета Жуковского о появлении Геккерна на Мойке почти одновременно с ним (т. е. оба они подъехали примерно около полудня; Жуковский на несколько минут раньше).
В записи Жуковского нет никаких подробностей, касающихся этой первой встречи ею с Пушкиным. Мы ничего не знаем о состоявшемся между ними разговоре. Но последующий ход событий убеждает нас в том, что Пушкин даже Жуковскому не рассказал о преследованиях, которым подверглась его жена, и о том, что она не сумела вовремя дать им отпор. Это было его семейное, интимное дело, в которое он никого не хотел посвящать.
Одно несомненно: когда Жуковский после ухода Геккерна узнал о двухнедельной отсрочке, он, конечно, воздержался от поспешных советов. Наивно было бы думать, что в тот момент он мог решиться уговаривать Пушкина отказаться от вызова. Вызов был принят Жоржем Геккерном, и теперь только чрезвычайные обстоятельства могли побудить Пушкина взять его назад. Жуковскому предстояло отыскать такой способ примирения противников, при котором бы чести поэта не был нанесен урон. Надежда была на двухнедельную отсрочку и на то, что Геккерны, судя по поведению посланника, тоже стремились к мирному исходу.
От Пушкина Жуковский направился к Виельгорскому, который жил рядом, на Михайловской площади, а затем — к Вяземским. Ему необходимо было посоветоваться с ближайшими друзьями. Жуковский летом уезжал в отпуск, потом находился почти безвыездно в Царском Селе. Он многого не знал.
После ухода Жуковского Пушкин, оставшись наедине с самим собою впервые за эти дни получил передышку.
Уже третьи сутки он жил в немыслимом напряжении. 4 ноября появились анонимные письма. Поединок мог состояться 5-го, затем переговоры о нем были отложены до 6-го. Теперь, когда решился вопрос об отсрочке, Пушкин получил, наконец, возможность обдумать свое положение.
Ему нужно было привести в порядок свои дела. Пушкин понимал, на что идет. Чем бы ни кончилась дуэль, он знал: она разрушит то неустойчивое равновесие сил, которое сложилось в последние годы в его отношениях с правительством. Поединок, даже в случае благополучного исхода, грозил навлечь на него гонения и немилости.
Пушкин должен был приготовиться и к тому, и к другому возможному исходу. А значит, чувствовать себя независимым от власти, не быть обязанным благодарностью царю.
Больше всего Пушкина тяготил и связывал долг казне в сумме 45 000 рублей, который царь разрешил ему погашать за счет годового жалованья.[174] «Я не должен был <…> опутать себя денежными обязательствами», — признавался он еще два года назад (XV, 156). Это то, чего он не мог себе простить. 11 вот в у гот момент, в преддверии всего, что могло произойти, Пушкин решился на отчаянный шаг. Он сделал попытку расплатиться с правительством сразу и сполна, предоставив казне в счет оплаты свое нижегородское имение (т. е. ту часть Болдина, которую С. Л. Пушкин выделил ему в 1830 г.). При других обстоятельствах Пушкин не пошел бы па это, ведь тем самым он лишал своих детей единственной недвижимости, которая ему принадлежала. Но в той крайности, в которой он очутился, ему показалось, что он нашел способ разрубить гордиев узел и обеспечить себе свободу действий в отношениях с правительством.
Вот почему 6 ноября поэт написал министру финансов Е. Ф. Канкрину официальное письмо, в котором просил разрешения погасить свой долг за счет передачи в казну нижегородского имения (XVI, 182–183). Попытка Пушкина договориться с правительством о таком беспрецедентном способе уплаты долга была поистине актом отчаяния. В тот момент — ради спасения чести — он был готов отдать и свою жизнь, и наследственное имущество своих детей.[175]
Впоследствии в биографической литературе письмо Пушкина к Канкрину получило неточное истолкование. С тех пор как было высказано предположение о том, что в анонимном пасквиле содержится намек на царя, письмо, направленное поэтом министру финансов, стали рассматривать в свете этой гипотезы.[176] Версия о намеке «по царской линии», якобы содержащемся в пасквиле, прочно утвердилась в биографии Пушкина с конца 1920-х годов. Ссылки на нее мы находим и в новейших изданиях. Так, в комментариях, к «Письмам последних лет» обращение Пушкина к Канкрину мотивируется следующим образом: «Просьба Пушкина вызвана тем двусмысленным положением, в котором он оказался в связи с распространением анонимного пасквиля, намекавшего на близость Николая I к Наталии Николаевне <…> Письмо является свидетельством стремления Пушкина в те дни освободиться от зависимости по отношению к казне, т. е. к Николаю I».[177]
Однако опубликованные в последние десятилетия свидетельства современников требуют пересмотра и этой версии.
В 1930-е годы, когда мнение о намеке «по царской линии» получило всеобщее распространение, еще не были известны письма Карамзиных, дневник Д. Ф. Фикельмон, письма С. А. Бобринской, письма и дневниковые записи императрицы и целый ряд других важных откликов на преддуэльную ситуацию. Между тем все эти материалы, с которыми не был знаком П. Е. Щеголев, неопровержимо свидетельствуют о том, что в ноябре 1836 г. и в свете, и при дворе анонимный пасквиль восприняли как намек на Дантеса, и только на него. Никаких слухов о связи царя с женой поэта в это время не существовало. Для этого, впрочем, и не было никаких оснований.
Как очень точно отметила в своих записках графиня Фикельмон, «большой свет видел все». Действительно, в петербургском обществе все знали, что отношения государя с H. H. Пушкиной не выходят за рамки самого строгого этикета. Несколько комплиментов, сказанных в большой зале или во время торжественного приема, приглашение на танец в Аничковом дворце — вот все, чем ограничивались знаки внимания царя к жене поэта, хотя и было известно, что он к ней весьма расположен. А в 1836 г. обстоятельства сложились так, что H. H. Пушкина вообще ни разу не виделась с царем с марта, когда она перестала выезжать, и вплоть до первого бала нового зимнего сезона, состоявшегося 15 ноября в Аничковом дворце. И это тоже знали все.
Нам известно, что в первые годы своей семейной жизни Пушкин, зная нравы двора, с тревогой следил за тем, как складываются отношения его жены с царской семьей. Он постоянно руководил ею, оберегая молодую женщину от ложных шагов. В письмах тех лет часто встречается предостерегающая интонация («Не кокетничай с ц<арем>…» — XV, 87). Отзвук этой тревоги чувствуется и в рассказе Пушкина, записанном П. И. Бартеневым со слов Нащокина: «Сам Пушкин говорил Нащокину, что <царь>, как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. Сам Пушкин сообщал Шишкину свою совершенную уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны».[178] Нащокин, вспоминая рассказ Пушкина двадцать лет спустя, конечно, не мог передать его вполне точно, но какие-то реальные факты лежат в его основе.
Со временем Наталья Николаевна обрела нужный тон. Уроки мужа не прошли для нее даром.
В 1836 г. о красоте и успехах H. H. Пушкиной много говорили в обеих столицах, но добродетель ее при этом не подвергалась сомнению. Характерны в этом смысле майские письма Пушкина, в которых он шутливо пересказывал жене московские слухи. «Что Москва говорит о П.<етер>Б.<урге>, — писал Пушкин 6 мая, — так это умора <…> И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако же видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостию, что он завел себе в утешение царем из театральных воспитанниц. Не хорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола» (XVI, 112–113). Если считать, как полагают все комментаторы, что «кто-то» — это сам государь, то нельзя не отметить, что даже в анекдотах такого рода речь шла прежде всею о неприступности H. H. Пушкиной.
Репутация жены поэта была безупречной до тех пор, пока осенью 1836 г. не начались разговоры о назойливом ухаживании за ней Дантеса. Поэтому, когда стало известно о появлении анонимных писем, в обществе их сразу связали с именем молодого Геккерна. Никаких других догадок но этому поводу в то время не возникало.
Напомним, что точного содержания пасквиля тогда почти никто не знал. Правительству и царской семье текст шутовского диплома стал известен лишь после смерти поэта. В высшем свете многие были уверены, что в пасквиле было прямо названо имя Дантеса. Так думали даже те, кто стоял ближе других к Пушкину. Графиня Фикельмон в своем дневнике писала, что в анонимных письмах имена Натальи Николаевны и Дантеса «были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией».[179] По поводу анонимных писем в 1836 г. возникали самые фантастические домыслы. А. Н. Вульф, например, писала о том, что Пушкин «получил по городской почте диплом с золотыми рогами…».[180] Но среди откликов того времени нет ни одного, в котором бы речь шла о намеке на царя.
Те немногие, кому было хорошо известно точное содержание пасквиля, восприняли упомянутое там имя Д. Л. Нарышкина в качестве некоего оскорбительного символа, как имя самого знаменитого в ту пору рогоносца. Б этом смысле упоминает это имя А. И. Тургенев в письме, написанном после январской трагедии: «Еще е Москве слышал я, что Пушкин и его приятели получили анонимное письмо, в коем говорили, что он после Нарышкина первый рогоносец…».[181] Никто из тех, кто знал точный текст пасквиля, ни разу не высказал догадки о том, что в нем есть намек на царя. Вряд ли Вяземский осмелился бы послать копию пасквиля великому князю Михаилу Павловичу, если бы он предполагал что-либо подобное.[182]
В то время и при дворе, и в свете, и в кругу друзей Пушкина появление анонимных писем связывали только с именем Дантеса.[183]
Письмо к Канкрину оказалось единственным дошедшим до нас свидетельством о том, какие шаги предпринял Пушкин 6 ноября. Больше никаких сведений об этом не сохранилось.
7 ноября с утра Жуковский начал свои хлопоты но делу Пушкина. Рано утром он побывал у Екатерины Ивановны Загряжской, а затем отправился в нидерландское посольство. Жуковскому было известно, что за отсутствием секундантов посланник взял на себя роль неофициального доверенного лица, и друг Пушкина собирался к нему явиться с такой же неофициальной миссией. Понимая, что Геккерн тоже заинтересован в примирении сторон, Жуковский рассчитывал найти в нем союзника. Видимо, он надеялся с его помощью получить от Дантеса какие-то заверения, которые бы дали основание добиваться благополучного разрешения конфликта.[184]
Но когда Жуковский приехал к Геккерну, разговор с посланником принял совершенно неожиданный оборот. Барон заранее подготовился к такому визиту. К этому времени у Геккерна уже был готов тщательно разработанный план, который он, безусловно, успел согласовать с Дантесом. Разговор с другом Пушкина Геккерн провел как искусный дипломат. Ему удалось вызвать доверие Жуковского и убедить его в своей искренности.[185]
Вяземский потом не без язвительности заметил, что Геккерн сумел «разжалобить» Жуковского.[186] Посланник сразу же перешел на неофициальный тон. Взывая к сочувствию собеседника, он рассказал Жуковскому о том ужасном положении, в которое поставил его и сына вызов Пушкина, и открыл ему то, что до сих пор будто бы было семейной тайной. По словам барона, его приемный сын давно уже был влюблен в мадемуазель Гончарову, сестру госпожи Пушкиной. Посланник сообщил, что сын умолял его дать согласие на брак с ней, однако он раньше ему отказывал, «находя этот брак неподходящим», но «теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он наконец дал согласие».[187]
То, что услышал Жуковский, ошеломило его. Ничего подобного он не мог предвидеть. В своих «Конспективных заметках» под датой «7 ноября» он записал следующее: «Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну (Меs antécédents.[188] Незнание совершенное прежде бывшего). Открытия Геккерна. О любви сына к Катерине (мои ошибка насчет имени). Открытие о родстве, о предполагаемой свадьбе. — Мое слово. — Мысль [дуэль] все остановить…».[189]
Запись выдает, насколько Жуковский был поражен. Оказывается, заранее разработанные им планы примирения («Mes antécédents» — как их обозначил Жуковский в своей памятке) были ни к чему, так как он не знал совершенно о главном: о романе Дантеса с Екатериной. Сообщение Геккерна оказалось для Жуковского такой неожиданностью, что он в первый момент не понял, о которой из сестер идет речь. Услышав о мадемуазель Гончаровой, он предположил, что Дантес влюблен в Александрину («моя ошибка насчет имени», — записал он).
Из всего этого следовало, что вызов Пушкина — плод недоразумения и, собственно, никакого реального повода для поединка не существует. Все это давало надежду на спасение, и в ответ на «откровения» Жуковский с радостью и огромным облегчением сделал шаг навстречу Геккерну («Мое слово. Мысль <…> все остановить», — читаем мы в его заметках).
Посланник вел этот диалог так искусно, что главное слово о возможности «остановить дуэль» было сказано не им, а представителем противной стороны. В ответ на это барон объяснил Жуковскому, что теперь, когда Жорж Геккерн принял вызов Пушкина, он не может просить руки девицы Гончаровой, так как это сватовство сочтут лишь «предлогом для избежания дуэли».[190] Вот если Пушкин сам возьмет назад свой вызов, молодой человек тотчас сделает предложение Екатерине Гончаровой, и тогда чести ни того, ни другого не будет нанесено никакого урона. После свадьбы Пушкин и Геккерн станут родственниками и тем самым вообще все уладится.
Судя по дальнейшему ходу событий, Жуковский в тот момент настолько доверился Геккерну, что признал его доводы основательными. С этим он и поехал на Мойку. Жуковский надеялся, что Пушкин, узнав обо всем, пойдет на примирение.
Как известно, Жуковского постигло сильнейшее разочарование. О том, что было дальше, в его заметках сказано так: «Возвращение к Пушкину. Les révélitions.[191] Его бешенство. Свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским…».[192]
До сих пор Пушкин вел себя вполне корректно по отношению к противнику. Но то, о чем рассказал Жуковский, вывело его из себя. Он не поверил ни единому слову барона Геккерна. Этой недостойной уловкой, предпринятой, чтобы избежать дуэли, оба его врага окончательно разоблачили себя. Теперь обнажилась вся низость интриги, затеянной Геккернами против его жены. Оказывается, достаточно было пригрозить Дантесу поединком, чтобы он отрекся от своей «великой любви». Неудивительно, что попытки Жуковского убедить Пушкина в том, что Дантес давно влюблен в Екатерину, привели поэта в бешенство.
Жуковский был обескуражен реакцией Пушкина. Не зная всех обстоятельств дела, он увидел в этом взрыве негодования лишь кипение необузданных страстей.
В этот критический момент, как не раз уже бывало, между Пушкиным и его друзьями возникла некая дистанция отчуждения и непонимания, которая день ото дня становилась ощутимее. Друзья старались ему помочь, но не постигали ни мотивов его поведения, ни его душевного состояния. Только после гибели Пушкина они узнали о том, что в те дни мучило его больше всего. Тогда у самых близких из них наступило прозрение. Вяземский с несвойственной ему беспощадностью самоосуждения в момент такого прозрения сказал: «Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти».[193]
Вечером 7 ноября Жуковский снова встретился с Геккерном и, видимо, дал ему понять, что Пушкин не вериг в серьезность намерений Дантеса относительно Екатерины Гончаровой.
Здесь нам снова приходится прервать ход нашего рассказа и сделать отступление с тем, чтобы разобраться в крайне запутанной истории с помолвкой Дантеса. Иначе нам будет непонятен смысл последовавших после 7 ноября десятидневных переговоров между Геккернами и Пушкиным.
НЕОЖИДАННОЕ СВАТОВСТВО
В свое время известие о том, что Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой, вызвало всеобщее изумление. Эта новость стала чуть ли не главной сенсацией зимнего сезона 1836–1837 гг. Ее обсуждали во всех гостиных столицы и даже во дворце. Через несколько дней после объявления помолвки графиня С. А. Бобринская, которая играла в те годы весьма заметную роль при дворе, писала мужу: «Никогда еще, с тех пор как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощают всех и будоражит стоустую молву <…> Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина».[194]
В эти же дни императрица Александра Федоровна, будучи не в силах сдержать нетерпение, отослала записку одной из своих фрейлин — Екатерине Федоровне Тизенгаузен, дочери Елизаветы Михайловны Хитрово: «Мне бы хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса».[195]
Но и те, кто стоял ближе других к жениху и невесте, были поражены не менее остальных. «У нас тут свадьба, о которой ты, конечно, не догадался бы <…> Прямо невероятно, я имею в виду эту свадьбу», — читаем мы в письме Е. А. Карамзиной к сыну от 20 ноября.[196] Братья Карамзины, бывшие в приятельских отношениях с Дантесом, пытались понять, чем вызвано это решение, но не могли найти ему объяснения. «Я не могу прийти в себя от свадьбы, о которой мне сообщает Софи! — писал своим родным Андрей Карамзин. — И когда я думаю об этом, я, как Катрин Гончарова, спрашиваю себя, не во сне ли Дантес совершил этот поступок».[197]
И во всех этих откликах, начиная с записочек императрицы и вплоть до грубоватых и откровенно насмешливых писем молодых офицеров, сквозит одно и то же чувство — недоумение. «Странная», «невероятная» свадьба… Иначе о ней не говорят.
О причинах этого всеобщего недоумения яснее всего высказалась сестра поэта Ольга Сергеевна Павлищева в письме к отцу. По ее словам, эта новость удивила всех «не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из самых модных мужчин <…> женится на м-ль Гончаровой, — она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана, — но потому, что его страсть к Натали не была ни для кого тайной».[198]
Здесь все сказано достаточно деликатно, но вполне откровенно. В свете все были поражены прежде всего странной развязкой романа Дантеса, который стал в последнее время предметом внимания петербургского общества. А так как в обществе не было известно о вызове Пушкина, то стали подозревать, что за неожиданным сватовством стоит какая-то тайна.
Как только в обществе узнали о предполагаемой свадьбе, посыпались догадки и предположения, стали распространяться самые нелепые слухи. Тема эта надолго стала главной среди городских сплетен. «Она была бы неисчерпаемой, если бы я принялась пересказывать тебе все, что говорят», — пишет С. П. Карамзина брату в одном из декабрьских писем и при этом добавляет: «Но <…> никто ничего не знает».[199]
Уяснить себе мотивы поведения Дантеса трудно было даже тем, кто был с ним близок, так как Геккерны, старший и младший, в первый же момент пустили в оборот ложную версию, чтобы оправдаться в глазах света. Барон Геккерн во время переговоров с В. А. Жуковским и Е. И. Загряжской настойчиво подчеркивал, что намерение жениться на м-ль Гончаровой у его приемного сына возникло задолго до вызова Пушкина. Этой версии Геккерны придавали исключительное значение. Накануне решающего разговора Екатерины Ивановны Загряжской с Пушкиным посланник написал ей специальное письмо с подробными инструкциями на сей счет: «… я <…> забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня, что намерение, которым вы заняты о К. (Катрин Гончаровой, — С. А.) и моем сыне, существует уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли».[200] Вслед за Геккерном Жуковский и Загряжская, действуя с самыми благими намерениями, наперебой убеждали Пушкина и всех окружающих, что мысль об этом браке существовала до 4 ноября. То же сообщили Геккерны секундантам.
Таким образом, даже непосредственные свидетели событий могли лишь догадываться о реальной подоплеке дела, а знали правду только двое: сам жених и его приемный отец.
Неудивительно, что 6 января 1837 г., накануне венчания молодых, Софья Николаевна Карамзина все так же недоумевала: «Все это по-прежнему очень странно и необъяснимо; Дантес не мог почувствовать увлечения, и вид у него совсем не влюбленный».[201]
Впоследствии, когда друзья Пушкина пытались понять и оценить мотивы поведения Жоржа Геккерна, они не могли прийти к однозначному выводу. Подытоживая мнения, существовавшие в пушкинском кругу, H. M. Смирнов в своих «Памятных записках» в 1842 г. писал: «Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которой он не мог любить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света; или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли — это неизвестно».[202]
Для биографов женитьба Дантеса оказалась такой же загадкой, как для современников. И казалось, что по прошестствии столь длительного времени найти к ней ключ уже невозможно. А так как все было очень неясно, вокруг этой биографической загадки одна за другой стали возникать гипотезы, поражающие своей сенсационностью.
П. Е. Щеголев, скрупулезно изучивший все доступные ему материалы дуэльной истории, высказался по этому поводу очень осторожно. Чувствуя противоречия в известных ему данных, он ограничился общим замечанием о том, что «решение Дантеса, как а большинство человеческих решений, не является следствием одного какого-нибудь мотива, а есть результат взаимодействия мотивов».[203] Во всем этом неясном деле для Щеголева бесспорным было лишь то, что «проект сватовства Дантеса к Катерине Гончаровой существовал до вызова».[204] Этот факт исследователь считал документально доказанным.
Щеголев пришел к такому выводу на основании свидетельства, в котором, действительно, трудно было усомниться. Речь идет о письме Ольги Сергеевны Павлищевой к отцу от 15 ноября 1836 г. В этом письме, которое сестра поэта писала Сергею Львовичу Пушкину из Варшавы в Москву, есть такие строки: «Вы мне сообщаете новость о свадьбе м-ль Гончаровой, а я расскажу вам то же самое о ее кузине м-ль Голынской».[205] Судя по контексту, Ольга Сергеевна отвечала отцу на недавно полученное письмо. Если учесть, что письма из Москвы в Варшаву шли более двух недель, то, значит, Сергей Львович еще в октябре знал о предполагаемой свадьбе Екатерины Гончаровой. «По крайней мере, во второй половине октября в Москву уже дошли слухи о возможной женитьбе Дантеса», — говорит П. Е. Щеголев.[206]
В течение десятилетий почти никто не оспаривал мнения Щеголева. Полностью присоединяются к нему и комментаторы новейших академических изданий. Но в последнее время, в связи с появлением новых материалов о дуэли, становится все более очевидным, что сообщение Ольги Сергеевны явно не увязывается с другими известными нам фактами. Это несоответствие особенно заметно при сопоставлении с письмами Карамзиных. Судя по письму О. С. Павлищевой, в Москве уже в октябре говорили о свадьбе Екатерины Гончаровой, а переписка Карамзиных свидетельствует о том, что в Петербурге самые близкие Пушкину люди до 17 ноября об этом ничего не подозревали и для них известие о помолвке Дантеса оказалось совершенно неожиданной новостью.
Какую-то неточность в истолковании письма Ольги Сергеевны ощущали исследователи, которые после П. Е. Щеголева занимались преддуэльной историей. Так как имя жениха в этом письме не было названо. Б. В. Казанский предположил, что речь шла о свадьбе Екатерины Гончаровой, но не с Дантесом. М. И. Яшин, удостоверившись по рукописи, что на этом письме Ольга Сергеевна не поставила даты, объяснил все противоречия просто: он решил, что письмо неправильно датировано его публикаторами и что на самом деле оно написано позднее.[207] Однако Яшин ошибся. Дата интересующего нас сообщения вполне точно определяется из другого письма О. С. Павлищевой — от 24 декабря 1836 г.[208]
Но ощущение неточности в документе, на который опирался Щеголев, тем не менее остается. Откуда взялась уверенность, что Сергей Львович имел в виду Екатерину Гончарову? В письме Ольги Сергеевны ни жених, ни невеста по имени не названы. Написанная по-французски фамилия Gontcharoff не имеет родового окончания, а слово mademoiselle дано в сокращении (mlle), как это было тогда принято. Значит, в первую очередь нужно было проверить, насколько отчетливо читается это mlle в подлиннике.
При проверке оказалось, что в письме Ольги Сергеевны от 15 ноября читается следующее: «Vous me donnez des nouvelles du mariage de mr Gontcharoff, et moi, je vous en donnerai celles de sa cousine mlle Golinsky; rappelez-vous ci-devant promise de mr Pogodine…».[209] По фотокопии видно, что Ольга Сергеевна пишет слово mr с одной буквой сверху над чертой, а в слове mlle выписывает сверху три буквы — «lle». В других письмах этих лет сохраняется такое же начертание.[210]
Следовательно, С. Л. Пушкин в середине октября 1836 г. сообщал своей дочери новости об очередной московской свадьбе. Речь шла об их родственнике через Наталью Николаевну — Сергее Николаевиче Гончарове. Примерно тогда же о свадьбе Сергея Николаевича писал Пушкину из Москвы П. В. Нащокин: «Брат же твой, т. е. по жене, — Сергей, — женится на баронессе Шенк; был сей час у меня — и объявил мне — звал меня к себе. Завтра увижу я новую бел серу Натальи Николаевны и тогда отпишу — как я ее нашел. Покуда скажу тебе, что, по словам Сергея Николаевича, у нее приданого не было — и не будет. Теща твоя извещена им же, но ответу еще не имеется» (XVI, 181).
Вот о какой свадьбе у Гончаровых говорили в Москве в октябре 1836 г.! Как раз в это время С. Н. Гончаров представлял свою невесту друзьям и знакомым и вскоре, не дождавшись разрешения матери, обвенчался с ней.
В конце октября С. Л. Пушкин сообщил дочери какие-то дополнительные подробности об этой свадьбе, потому что, отвечая ему 3 декабря, Ольга Сергеевна вновь возвращается к этой теме, называя теперь жениха и невесту по имени: «Serge Gontcharoff» и «mlle Chenk».[211]
Имя Екатерины Гончаровой в этих письмах не упоминается до 24 декабря, когда Ольга Сергеевна написала отцу о ее помолвке с Дантесом и о слухах, которые дошли в Варшаву из Петербурга по этому поводу. Отклик сестры поэта на это известие совсем не похож по тону на те ее письма, в которых она писала о женитьбе С. Н. Гончарова. По письму О. С. Павлищевой от 24 декабря 1836 г. чувствуется, что она глубоко поражена и даже встревожена новостями из Петербурга. «Поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места».[212]
Неточность в публикации письма О. С. Павлищевой привела П. Е. Щеголева к ошибочному истолкованию важного эпизода дуэльной истории. И в дальнейшем биографы, выдвигая различные объяснения странного брака Дантеса, исходили из того, что дело это началось задолго до 4 ноября. Так возникло несколько увлекательных, но неубедительных гипотез.
Самая сенсационная из них принадлежит Л. П. Гроссману. На основании семейной переписки Геккернов и Гончаровых он пришел к выводу, что все это дело объясняется очень просто. «Семейные письма Геккернов — Гончаровых явственно свидетельствуют, — утверждал исследователь, — что через три месяца после свадьбы — в апреле 1837 года — Екатерина Николаевна Гончарова родила своего первого ребенка». Следовательно, «непонятная для многих женитьба блестящего кавалергарда на бесприданнице Гончаровой, — писал Гроссман. — восходит не к дуэльной истории, а к романтическим обстоятельствам лета 1836 года, заставившим Дантеса уже в начале осени действовать как подобает „честному человеку“».[213]
Мнение Гроссмана не раз оспаривалось, но тем не менее гипотеза эта почти полстолетия имела широкое распространение. Ее приняли многие авторитетные исследователи, на нее есть ссылки и в работах последнего времени. Поэтому необходимо подробнее остановиться на анализе этой версии.
Л. П. Гроссман, предлагая свое объяснение женитьбы Дантеса, опирался на документ, который вызвал позднее много споров. Речь идет о письме Натальи Ивановны Гончаровой к старшей дочери Екатерине Николаевне от 15 мая 1837 г. В этом письме, адресованном баронессе Геккерн в Сульц, Н. И. Гончарова расспрашивала среди прочего и о своей внучке: «Ты говоришь в последнем письме о твоей поездке в Париж; кому поручишь ты надзор за малюткой па время твоего отсутствия? Останется ли она в верных руках? Твоя разлука с ней должна быть тебе тягостна».[214] Наталья Ивановна пишет здесь о маленькой Матильде-Евгении, первой дочери супругов Геккернов, которая, по официальным данным, родилась 19 октября 1837 г.[215] Л. П. Гроссман полагал, что в метрическом свидетельстве была поставлена фиктивная дата, ибо письмо Н. И. Гончаровой доказывало, как он считал, что девочка родилась не позднее апреля 1837 г.
Мнение Гроссмана было в свое время оспорено Б. В. Казанским, который высказал предположение, что в письме допущена описка в дате и что оно относится к 1838 г.[216] Аргументацию Казанского повторил в 1936 г. М. И. Яшин.[217]
Действительно, судя по содержанию письма, его скорее всего нужно отнести к 1838 к: оно свидетельствует об установившейся регулярной переписке. Однако предположение об описке в дате, высказанное давно, не было подтверждено документально, а гипотеза Гроссмана продолжала сосуществовать на равных правах с новой версией. На мнение Гроссмана ссылалась в одной из своих последних работ Т. Г. Цявловская.[218]
Чтобы покончить с путаницей, необходимо было точно датировать это письмо Н. И. Гончаровой, которому Гроссман придал столь серьезное значение.
Проверить дату по рукописи не удалось, так как письмо эго было опубликовано Щеголевым по машинописной копии, полученной им из архива Геккернов при содействии профессора Мазона.[219] Тем не менее установить точную дату письма оказалось возможным. Дело в том, что Н. И. Гончарова упоминала в нем о недавно состоявшейся свадьбе своего среднего сына — Ивана Николаевича. Она писала: «Свадьба состоялась 27 числа прошлого месяца».[220] В настоящее время благодаря публикации ряда документов из архива Гончаровых установлено, что бракосочетание И. Н. Гончарова состоялось 27 апреля 1838 г.[221] Значит, письмо Натальи Ивановны Гончаровой, написанное вскоре после этого семейного события, следует датировать 15 мая 1838 г.
Одновременно в составе бума! П. Е. Щеголева мною было найдено ранее не публиковавшееся письмо Н. И. Гончаровой от 16 ноября 1837 г., адресованное Жоржу Геккерну. В этом письме Н. И. Гончарова поздравляла дочь и зятя с рождением их первого ребенка. Оно было написано в ответ на только что полученное из Сульца сообщение о рождении девочки.[222]
Материалы семейной переписки, как видим, полностью подтверждают официальную дату рождения девочки. Матильда-Евгения действительно родилась в Сульце 19 октября 1837 г. Следовательно, предположение Л. П. Гроссмана о причинах сватовства Дантеса было основано на недоразумении. Ошибочность этой версии теперь доказана неопровержимо.
Последняя по времени гипотеза о женитьбе Дантеса была выдвинута М. И. Яшиным. Он утверждал, что Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой но настоя тельному требованию Николая I.[223] Эту гипотезу нельзя считать научно обоснованной. Она убедительно опровергнута Я. Л. Левкович.[224]
Ошибки, на первый взгляд ничтожные, в публикации и истолковании двух писем породили длинный ряд недоразумений. Теперь, когда стала очевидной ошибочность версий, уводивших нас в сторону от истины, дело значительно прояснилось. В настоящее время мы можем с полной уверенностью утверждать, что никаких слухов и предположений о возможной женитьбе Жоржа Геккерна на Екатерине Гончаровой в петербургском обществе до 4 ноября не существовало. Именно поэтому известие о помолвке восприняли как из ряда вон выходящую новость и в большом свете, и в кружке карамзинской молодежи, где Дантес бывал осенью 1836 г. чуть ли не каждый вечер.
В тесном карамзинском кружке все знали о том, что Екатерина влюблена и что Дантес флиртует с ней для отвода глаз. Вспомним письмо С. Н. Карамзиной: Дантес «продолжает все те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов все же танцевал мазурку».[225] Совершенно откровенно об этом рассказала впоследствии А. Н. Гончарова в письме к племяннице: «Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за <…> вашей теткой Катериной; он хотел сделать из нее ширму, за которой он достиг бы своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство».[226] В этом кругу все уже догадались о чувствах Екатерины, но никому не приходило в голову, что у Дантеса могут быть серьезные намерения по отношению к ней.
Для самой Екатерины Гончаровой поворот событий оказался настолько неожиданным, что она, по ее собственному признанию, в первые дни «не смела поверить, что все это не сон».[227]
Проект этого сватовства возник у Геккернов только после вызова Пушкина и впервые был предан огласке утром 7 ноября во время визита Жуковского к нидерландскому посланнику. И сейчас уже есть возможность, опираясь на все известные нам материалы, объяснить позицию Дантеса и мотивы его странной женитьбы.
Как показывают факты, на самом деле все обстояло значительно прозаичнее, чем предполагали дамы и барышни, видевшие в Дантесе героя неистового любовного романа à la Balzac. Молодой Геккерн не был романтиком. Он был, как очень точно выразился П. П. Вяземский, «человек практический», «приехавший в Россию сделать карьеру».[228]
До сих пор ему сказочно везло. Покровительство Геккерна, а затем и официальное усыновление по королевскому акту (с присвоением имели, титула и права наследования) дали ему все: дом, средства, блестящее положение в обществе и великолепные перспективы карьеры в чужой стране, где он только что начал службу. Он приехал в Россию почти без гроша в кармане, а через год — полтора приобрел репутацию завидного жениха, имеющею хорошее состояние. Ходили слухи о том, что он побочный сын нидерландского короля, что у него около 70 000 рублей ренты. Слухи были ложными, но возникли они не случайно и открывали возможность выгодной женитьбы.
Всем этим он был обязан своему приемному отцу барону Геккерну. И вот теперь пришло его время платить по счету.
Вызов Пушкина оказался одинаково опасен для них обоих. Чем бы ни кончился для Дантеса поединок с первым русским поэтом, для него, иностранца, он означал крушение лучших его надежд. Дантес не был трусом и не боялся выйти к барьеру. Он был уверен в себе и рассчитывал на удачу. В. А. Соллогуб вспоминает о своем разговоре с Дантесом в эти дни: «Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать что хотят: на Кавказ, в крепость — куда угодно».[229] Вот, оказывается, чему были посвящены его помыслы накануне дуэли! Он невольно проговорился: мера ответственности — вот что больше всего занимало его в это время. Дантес боялся не поединка, а его последствий. То, что он будет стрелять в Пушкина, для него попросту не имело значения.
Неизвестно, как бы поступил Дантес, если бы ему самому пришлось принимать решение. Но на сей раз все решал барон Геккерн, и молодой человек вынужден был уступить и подчиниться.
П. А. Вяземский, самый проницательный из всех свидетелей событий, впоследствии писал: «Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерн решился на этот отчаянный поступок (речь идет о сватовстве Дантеса, — С. А.), лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву».[230]
Действительно, сам Дантес вряд ли додумался бы до такого хода. В том хорошо продуманном плане, который был составлен для предотвращения дуэли, чувствуется почерк умного, опытного дипломата.
Для барона Геккерна в этот момент было поставлено на карту все, чем он дорожил в жизни. Посланник понимал, что дуэль его приемного сына с Пушкиным может привести к краху его собственной дипломатической карьеры. Он все рассчитал заранее и почувствовал, что под угрозой находится самое его пребывание в России. Потеря такого дипломатического поста, кроме всего прочего, нанесла бы ему и очень существенный материальный урон. И, конечно же, Геккерн испугался за Жоржа. Он боялся потерять его. Посланник предвидел, что при любом исходе поединка разлука будет неизбежной. В первые сутки после вызова Геккерн был в таком смятении, что не мог скрыть своих чувств даже в разговоре с друзьями Пушкина. Встретив на Невском Вяземского, Геккерн стал ему говорить о своем горестном положении, о том, что ему придется расстаться со своим питомцем, «потому что во всяком случае, кто из них ни убьет друг друга, разлука несомненна».[231]
Предстоящая дуэль была для барона Геккерна подлинной катастрофой. Когда он признался, что «видит все здание своих надежд разрушенным до основания»,[232] — это не было преувеличением. Пытаясь предотвратить поединок, Геккерн-старший проявил чудеса дипломатической изворотливости, и ему удалось найти выход из положения. Женитьба на Екатерине Гончаровой спасала все. Она позволяла Дантесу избежать дуэли, не будучи обесчещенным в глазах общества.
Вероятно, сам Дантес в те ноябрьские дни предпочел бы выйти к барьеру, но он вынужден был считаться с соображениями более важными, чем те, которые ему диктовали самолюбие, тщеславие, оскорбленная гордость. Он был «человек практический» и уступил настояниям своего приемного отца.
Очевидно, все это было обговорено и решено между ними 5 ноября, когда поручик Геккерн вернулся домой после суточного дежурства в полку. Правда, есть основания думать, что в тот вечер Жорж Геккерн все же предпринял еще одну попытку выпутаться из этой истории с меньшими для себя потерями. 5 ноября он нанес визит Барятинским.
Как известно, незадолго до этого через своих друзей кавалергардов он пытался разузнать, будет ли принято его предложение, если он посватается к княжне Марии Барятинской. Княжна Барятинская была очень молода, хороша собой и по положению своей семьи в обществе могла рассчитывать на самую блестящую партию. Она была глубоко задета слухами о том, что молодой Геккерн собирается к ней посвататься, потому что «его отвергла госпожа Пушкина». В своем дневнике рассерженная барышня записала: «Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить».[233] Вероятно, до Геккерна в какой-то форме дошел этот заносчивый ответ молодой девушки, так как никакого объяснения не последовало. Но 5 ноября, возможно, он все-таки решил попытать счастья. Раз женитьба становилась неизбежной, брак с княжной Барятинской был для него гораздо заманчивее.
Судя по записям в дневнике Марии Барятинской, 5 ноября она приняла самонадеянного кавалергарда холодно.[234] Видимо, ни о каком объяснении не могло быть и речи. И Жорж Геккерн представил своему приемному отцу все полномочия для ведения переговоров относительно брака с Екатериной Гончаровой.
6 ноября с утра поручик вновь отправился на суточное дежурство в полк. 7-го после развода он должен был быть в манеже на учениях[235] и освободился только после четырех часов дня.
В его отсутствие 7 ноября утром барон Геккерн начал действовать согласно разработанному ими плану. Вот тогда-то впервые и зашла речь о возможной женитьбе Дантеса на м-ль Гончаровой.
7-го вечером Жорж Геккерн впервые принял личное участие в переговорах. Жуковский отметил это в своих «Конспективных заметках»: «Свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского».[236] Молодой человек вместе с посланником явился к Виельгорскому, видимо, чтобы засвидетельствовать свою готовность действовать как подобает человеку чести. Судя по записи Жуковского, никакой активной роли в состоявшемся разговоре он не играл, предоставив барону Геккерну вести все дело.
ПЕРЕГОВОРЫ
7 ноября, в первый же день переговоров, Жуковский оказался в очень затруднительном положении. Утром, услышав от Геккерна о предполагаемом сватовстве, он сам взял на себя миссию миротворца и посредника, уверенный, что она увенчается успехом. Но после разговора с Пушкиным Жуковский вынужден был дать понять посланнику, что поэт не верит в серьезность намерений Дантеса.
Вторичное свидание Жуковского с Геккерном состоялось вечером 7 ноября в доме Виельгорских. Встретившись с посланником, друг Пушкина сообщил ему о возникших затруднениях. И тогда барон сделал еще один встречный шаг: он согласился объявить обо всем старшей родственнице сестер Гончаровых — фрейлине Е. И. Загряжской. Решено было, что Геккерн завтра же нанесет ей визит.
Договариваясь об этом визите, посланник позаботился о полном соблюдении всех формальностей. В своих письмах он настойчиво подчеркивал, что явился к Загряжской по ее приглашению («Когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить…», — писал он Екатерине Ивановне).[237]
Встреча, состоявшаяся 8 ноября, носила характер негласных семейных переговоров. Явившись к Загряжской, посланник повторил ей то же самое, что он рассказал накануне Жуковскому, и объявил, что дает свое согласие на этот брак. Однако барон тут же предупредил, что формальное предложение его сын сможет сделать только после дуэли или в случае отказа Пушкина от вызова.
Таким образом, о намерении Дантеса жениться было сообщено ближайшей родственнице Екатерины Гончаровой, заменявшей ей в Петербурге мать. И хотя Геккерн потребовал строжайшего соблюдения тайны, Жуковский полагал, что все это должно было убедить Пушкина в серьезности брачных планов молодого Геккерна.
Когда Жуковский 8 ноября пришел к Пушкину, он застал его в ином состоянии духа, чем накануне. На этот раз Пушкин проявил больше терпения, и у Жуковского появилась надежда на возможность мирного исхода. В своих «Конспективных заметках» он записал: «Я у Пушкина. Большее спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях».[238]
Мы можем только догадываться о том, что стоит за этими горькими словами: «Его слезы…». По-видимому, состояние, в котором Жуковский застал Пушкина, объясняется во многом тем, что происходило в это время в семье поэта. Пушкин, конечно, рассказал накануне жене о предполагаемом сватовстве Дантеса. Наталья Николаевна была безмерно поражена этим известием. Она не могла понять, что произошло. Она даже у мужа спрашивала о возможности такой перемены в сердце молодого человека. Между сестрами возникла напряженность. Через несколько дней С. Н. Карамзина напишет: «Натали нервна, замкнута, и, когда говорит о замужестве сестры, голос у нее прерывается».[239] И это, вероятно, было для Пушкина самым мучительным: видеть, как сильно волнуют его жену отношения с Дантесом.
А для старшей мадемуазель Гончаровой трагическая ситуация, сложившаяся в семье ее сестры, обернулась неожиданной, почти невероятной удачей. Перед ней забрезжила надежда на счастье, о котором до тех пор она не смела и мечтать. И с того момента, как Екатерина узнала о разговоре Геккерна с Жуковским, все ее помыслы свелись к одной-единственной цели — к тому, чтобы этот брак совершился. Все, чем она жила прежде, отныне потеряло для нее значение. Еще недавно она писала: «Я <…> не знаю, как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что они делают для нас…».[240] Теперь же она видела в них лишь людей из враждебного стана, тех, кто может помешать ее счастью. Соображения о собственной чести и о благополучии того дома, которому она так была обязана, отступили на задний план перед обольстившей ее надеждой — стать женой Жоржа Геккерна.
Материалы, которыми мы располагаем, оставляют в тени многие события тех дней. Со слов самого Пушкина известно, что после появления анонимных писем он занялся розысками. Поэт хотел изобличить негодяя, скрывшегося под маской анонима. Лишь отдельные моменты этих розысков запечатлены в дошедших до нас мемуарах. Так, мы знаем, что 8 ноября вечером, будучи на именинах у М. Л. Яковлева, Пушкин выяснил, что бумага, на которой были написаны анонимные письма, иностранного производства, а так как она облагалась высокой пошлиной, Яковлев уверенно заявил, что она могла быть привезена в Петербург только кем-то из дипломатов.[241] Сведения, полученные от Яковлева, директора типографии, профессионального знатока бумаги, подтверждали подозрения Пушкина о Геккернах.
Очевидно, в те же дни Наталья Николаевна рассказала мужу о том, что барон Геккерн уговаривал eе написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с мужем. Посланник moi обратиться с таким предложением к жене поэта лишь в самые первые дни после вызова, когда еще не была пущена в ход версия о сватовстве. Наталья Николаевна, видимо, не хотела говорить Пушкину об этой низости Геккернов, но когда она услышала о том, что Дантес решил посвататься к Екатерине, она не выдержала и все рассказала мужу.
Вен, что Пушкин узнавал в те дни, укрепляло его решимость драться во что бы то ни стало.
Жуковский же в это самое время прилагал все усилия, чтобы предотвратить дуэль. 9 ноября он весь день посвятил хлопотам по делу Пушкина. Около полудня Жуковский встретился с Геккерном и продолжил с ним переговоры. В своих заметках он пишет об этом так: «9 <ноября>. Les révélations de Heckern.[242] — Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания».
Свою запись о переговорах, происходивших 9 ноября, Жуковский начинает с французской фразы «Les révélations de Heckern», обозначая тем самым, что посланник и 9 ноября говорил все о том же: что его приемный сын влюблен в Катрин, что он женится на ней, что для дуэли пет решительно никаких оснований, но друзья должны образумить Пушкина, ибо иска Пушкин не возьмет назад своего вызова, его сын не сможет сделать предложение. В ответ па эти излияния Геккерна Жуковский сказал, что он готов взять на себя роль посредника. Они сошлись па том, что нужно устроить свидание Пушкина с Дантесом в присутствии третьего лица, с тем чтобы обе стороны выслушали друг друга и покончили дело миром.
Около часу дня поручик Геккерн вернулся с дежурства. Состоялся разговор втроем. После того как все было оговорено, посланник вручил Жуковскому письмо, в котором содержалась официальная просьба о посредничестве.
Судя по этому письму, Геккерны хотели, чтобы во время свидания противников Пушкин мотивировал свой вызов, т. е. высказал бы свои претензии Дантесу. В ответ на это молодой человек в присутствии посредника должен был оправдаться, заявив, что все его поведение объясняется его чувствами к сестре госпожи Пушкиной. Предполагалось, что после этого Пушкин откажется от вызова, состоится примирение, и оба противника расстанутся, обменявшись заверениями во взаимном уважении.
Как видим, и на этом этапе переговоров барон Геккерн снова захватил инициативу в свои руки, а Жуковский принял план, подсказанный бароном.
Для Пушкина согласие на такое свидание было бы равносильно признанию, что он кругом неправ. Доказать ему это в присутствии его противника должен был Жуковский. Такова была роль «беспристрастного свидетеля», отведенная ему в этой сцене Геккерном. Посланник в своем письме выражал надежду, что Жуковский сумеет «со всем авторитетом полного беспристрастия оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу», и сможет «открыть глаза» Пушкину.
На этом письме Геккерна необходимо остановиться подробнее. Оно является своего рода шедевром дипломатической казуистики. Письмо пестрит фразами о благородстве, чести, долге, но при этом факты, которые могли бы бросить тень на репутацию посланника, оказываются не названными и как бы не имевшими места. В частности, барон, излагая ход дуэльной истории, умолчал о том, что он распечатал письмо с вызовом, адресованное его сыну; не упомянул он и о том, что дважды просил об отсрочке поединка. Так Геккерн создавал свою версию дуэльной истории.
Жуковский в тот момент недооценил значение документа, составленного посланником. Он принял из рук Геккерна это письмо, оставив без возражений даже явную фальсификацию фактов. Жуковский был одержим одной идеей: спасти Пушкина от гибельной дуэли, и эта бумага была для него лишь формальным поводом для переговоров о свидании и примирении противников.
Можно себе представить, как был возмущен Пушкин, когда он ознакомился с письмом посланника. Поэт готов был выйти на поединок, чтобы очиститься от нанесенных ему оскорблений — пусть ценой жизни. Вместо этого ему предлагали принять участие в недостойной комедии, целью которой было оправдание Дантеса. Даже если бы Пушкин стремился в тот момент к мирному исходу, он не мог согласиться на примирение, обставленное таким образом.
Для Пушкина речь шла о чести, для Геккернов — о соблюдении светских приличий.
Поэт решительно отказался от встречи с Дантесом. Он и слышать не хотел о переговорах, посредничестве, примирении. Жуковский ушел от Пушкина, ничего не добившись. Но он никак не мог поверить, что примирение, совсем было слаженное, не состоится. Жуковский зашел к М. Ю. Виельгорскому, к советам которого он не раз уже прибегал в эти дни, и от него отослал Пушкину следующую записку: «Я не могу еще решиться почитать наше дело копченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради бога, одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа. Я теперь у Вьельгорского, у которого обедаю» (XVI, 183).
Вот тут-то Пушкин вышел из себя. Жуковский его, Пушкина, называет виновником в этом деле и его обвиняет в посрамлении жены! Получив записку, поэт догадался, что и Виельгорский уже посвящен в его тайну. Пушкин стал опасаться, что слух о предстоящей дуэли распространится и в дело вмешаются власти.
Он тут же направился на Михайловскую площадь к Виельгорским. Между Пушкиным и Жуковским в этот день состоялся еще один очень бурный разговор. Пушкин в сердцах сказал Жуковскому, что в его дело, кажется, скоро вмешаются жандармы. Он дал себе волю и, наконец, высказался откровенно о Геккернах. Пушкин прямо назвал младшего Геккерна трусом и обвинил его в желании ускользнуть от поединка. Жуковский пытался разубедить поэта, но, видимо, безуспешно. В письме, написанном ночью после этого разговора, Жуковский заверял Пушкина: «Молодой Геккерн <…> также готов драться с тобою, как и ты с ним, и <…> так же боится, чтобы тайна не была нарушена» (XVI, 185).
Как ни мучило Жуковского все это дело, он вынужден был прервать разговор с Пушкиным, ибо служебные обязанности призывали его во дворец: вместе с наследником он был приглашен в этот день к вечернему столу императрицы.[243] Жуковский вернулся из Аничкова дворца после полуночи. Ночью или на рассвете 10 ноября он написал Пушкину большое письмо (XVI, 184–185). К этому времени Жуковский уже понял, что план, разработанный им совместно с Геккерном, оказался неудачным. Ему стало ясно, что встреча, о которой он хлопотал, не привела бы к добру. Своим письмом Жуковский хотел хоть как-то смягчить раздражение Пушкина против Дантеса и сделать возможными дальнейшие переговоры. Ему горько было сознавать, что его вмешательство не дало результатов. Сообщая Пушкину о том, что он отказывается от посредничества, Жуковский писал: «Этим свидетельством роля, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается. Прости. Ж.» (XVI, 185).
Утром 10 ноября к Жуковскому заехал Дантес (видимо, об этом было условлено заранее). Через него Жуковский передал посланнику свой официальный письменный отказ от посредничества. Тогда же он возвратил барону Геккерну его письмо от 9 ноября. Все это зафиксировано в его «Конспективных заметках»: «10 <ноября>. Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерну Его ответ. Мог> свидание с Пушкиным»
10 ноября Жуковский увиделся с Пушкиным утром или днем. Никакие подробности, относящиеся к этой встрече, нам неизвестны. Но какой-то отзвук этого разговора, возможно, содержится в недатированной записке Жуковского, написанной, по-видимому, 11 ноября: «Хоть ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет — не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем. — Я приду к тебе между ½ 12 и часом; обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор и что теперь решено. Но ведь тебе, может быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак приду. Дождись меня пожалоста. И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам обоим. Ж.» (XVI, 189).
Жуковский обещает больше не упоминать о переговорах с Геккернами, но он хочет тать понять Пушкину, что в любую минуту готов прийти ему на помощь.
Решение Пушкина драться во что бы то ни стало привело в отчаяние его близких. В те дни никто из них не понимал, чем оно было вызвано. Жуковский, Виельгорский и все те, кто был посвящен в тайну вызова, искренне недоумевали, почему Пушкин не принял мира, предложенного ему, как им казалось, на самых выгодных условиях. В одном из ноябрьских писем Жуковский писал Пушкину по поводу предстоящего оглашения помолвки Дантеса: «Это открытие будет в то же время и репарацией) того, что было сделано против твоей чести перед светом» (XVI, 186). Общее мнение выразил позднее Владимир Соллогуб, рассказывая в своих воспоминаниях о ноябрьской дуэльной истории: «Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел».[244]
Однако теперь, когда многие обстоятельства прояснились, становится понятным, что в тот момент только Пушкин сумел правильно оценить тактику Геккернов, и, как мы убедимся, именно благодаря твердости занятой им позиции он смог одержать верх над своими противниками.
Итак, 10 ноября переговоры были прерваны. Встретившись с Владимиром Соллогубом, Пушкин заручился его обещанием выступить, если понадобится, в роли секунданта. Однако близкие Пушкина и его друзья не могли смириться с этим. Они продолжали изыскивать способы к предотвращению дуэли.
* * *
Восстановить точно последовательность дальнейших событий очень нелегко, так как наш самый надежный источник — памятный листок с подробными записями Жуковского до дням — обрывается на дате «10 ноября». О том, что происходило с 11 по 17 ноября, Жуковский сделал несколько лаконичных заметок, отметив в них лишь то, чему он сам был свидетель. Причем эти записи были сделаны позднее — очевидно, в конце января 1837 г. Смысл заметок Жуковского в основном был прояснен П. Е. Щеголевым, но многое в них еще требует уточнений.
Остановимся сначала на заметках, относящихся к 11–14 ноября:
«После того как я отказался.
Присылка за мною Е. И. Что Пушк<ин> сказал Александрине.
Мое посещение Геккерна.
Его требование письма
Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает [слухи] о сватовстве.
Свидание Пушкину с Геккерном у Е. И.».
10 ноября в семье поэта узнали, что Пушкин отказался о г объяснения с Дантесом Е. И. Загряжская, по всей вероятности, пригласила к себе Жуковского на следующий день — 11 ноября. Она передала ему то, что ей рассказала Александрина. Запись Жуковского: «Что Пушк<ин> сказал Александрине» — долгое время казалась настолько неясной, что комментаторы даже воздерживались от каких-либо предположений. Щеголев по этому поводу писал следующее: «Слова Пушкина Александрине, очевидно, заключали в себе что-то значительное, но что именно, сказать мы сейчас не можем, да и вряд ли будем иметь возможность».[245]
Однако в настоящее время, когда многое прояснилось, мы можем с достаточной долей уверенности прокомментировать эту запись. В ней, конечно, не следует искать никакого «тайного» подтекста. Все дело в том, что Александрина в те дни могла спокойнее, чем кто-либо иной в доме, говорить с Пушкиным о предполагаемом браке Дантеса. И от Пушкина она, видимо, услышала то, что он потом говорил по этому поводу всем. Вероятнее всего, он сказал Александрине, что все это обман, затеянный для того, чтобы избежать дуэли, что брак этот не состоится, а Екатерину слухи о сватовстве только ославят в свете, и репутация сестер еще больше пострадает. Судя по всему, Александрина в тот момент сумела лучше всех остальных понять Пушкина. По-видимому, она разделяла его недоверие к Геккернам.[246]
Нужно иметь в виду, что у Пушкина были все основания для подобных опасений. Расторжение помолвки в те времена не было делом таким уж необычным, а в данном случае речь шла даже не о формальном предложении, а о тайных переговорах, не вышедших за пределы семейного круга. Пушкин уже успел убедиться в беспринципности и непорядочности Геккернов, он знал, что этот брак для них невыгоден, и, конечно, не верил, что Дантес влюблен в Екатерину. Поэт был убежден, что свадьба не состоится и что молодой авантюрист с помощью своих высоких покровителей сумеет выйти сухим из воды.
Характерно, что несколько дней спустя с таким же недоверием отнеслись к известию о помолвке Дантеса в самых высокопоставленных кругах петербургского общества Когда графиня Бобринская узнала, что Дантес сделал предложение старшей мадемуазель Гончаровой, она написала мужу: «Это брак, решенный сегодня, какой навряд ли состоится завтра…».[247]
В «Конспективных заметках» Жуковского после записи: «Что Пушк.<ин> сказал Александрине» — следует: «Мое посещение Геккерна»; следовательно, сообщение А. Н. Гончаровой дало толчок дальнейшему движению переговоров. Можно думать, что оно натолкнуло Жуковского и Загряжскую на мысль о необходимости более веских гарантий со стороны посланника Они поняли, что только на этих условиях им удастся склонить Пушкина к переговорам.
Итак, 11 или 12 ноября В. А. Жуковский, по-видимому, еще раз встретился с посланником Но теперь соотношение сторон изменилось: Жуковский взял инициативу в свои руки, а Геккерн вынужден был пойти на новые уступки Барон уже успел убедиться, что Пушкин разгадал его игру и без серьезных гарантий на переговоры не пойдет.
Во время этой встречи Жуковский предложил Геккерну официально объявить самому Пушкину, что его приемный сын собирается жениться на Екатерине Гончаровой и что он, посланник, дает согласие на этот брак. Со своей стороны, Жуковский обещал, что все посвященные в дело лица будут хранить в тайне историю с вызовом. Он писал об этом Пушкину: «Я дал ему совет поступить так <…> основываясь на том, что если тайна сохранится, то никакого бесчестия не падет на его сына» (XVI, 185). Таким образом, в форме совета Жуковский высказал очень существенное требование: поручиться перед Пушкиным своим словом посланника, что эта свадьба состоится.
Геккерн вынужден был последовать совету Жуковского Однако посланник, в свою очередь, потребовал гарантий: он заявил, что Пушкин должен подтвердить отказ от вызова официальным письмом.
Перелом в ходе ноябрьской дуэльной истории произошел 12 ноября. В этот день Пушкин дал согласие на встречу с бароном Геккерном. Вся семья взывала к его великодушию, умоляя не мешать счастью Екатерины, и Пушкин уступил. О том, что это произошло 12-го, мы внаем из письма, которое Геккерн написал Е. И. Загряжской рано утром 13 ноября.[248] Барон начал это письмо так: «После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вчера вечером, что забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня, что намерение, которым вы заняты о К.<атрин> и моем сыне, существует уже давно…». Значит, накануне вечером Геккерну стало известно, что Пушкин согласился начать переговоры.
Письмо это свидетельствует также и о том, что, идя на уступки, посланник продолжал твердо отстаивать свою версию о давно возникшем намерении Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. Этому пункту он придавал особенное значение. Барон понимал: если в обществе распространится слух о том, что предложение было сделано после вызова, Дантес окажется в смешном и постыдном положении и тогда весь этот план, разработанный для предотвращения дуэли, обернется против самих Геккернов.
Неизвестно, поверила ли Загряжская объяснениям барона. Уяснить себе истинное положение дел в те дни было нелегко даже близким людям, тем более что Екатерина, очевидно, поддержала версию Геккернов.
13 ноября днем, как было условлено, поэт встретился с Е. И. Загряжской. Загряжская заверила Пушкина, что о помолвке будет объявлено тотчас же по окончании дела, что посланник готов в том лично поручиться своим словом, но требует полного соблюдения тайны. Пушкин дал согласие на свидание с Геккерном. Встреча, во время которой обе стороны должны были сказать решающее слово, была назначена на следующий день.
После разговора с Загряжской Пушкин зашел к Карамзиным. Это было днем. В гостиной он застал только Екатерину Андреевну и Софью Николаевну. Видимо, дамы стали его расспрашивать, и вот впервые за истекшие десять дней поэт заговорил с ними откровенно о том, что произошло. До сих пор никто в доме Карамзиных не знал о предстоящей дуэли. Теперь, когда Пушкин решил отказаться от поединка, он рассказал Екатерине Андреевне и присутствовавшей тут же Софи о своем вызове и обо всех маневрах, предпринятых Геккернами. Пушкин искал понимания и надеялся, что Карамзины, когда узнают правду, поймут его лучше. Эта же надежда толкнула его на другой день к Вере Федоровне Вяземской, с которой он издавна привык быть откровенным.
Пушкин не считал, что он должен хранить дело в тайне даже от самых близких людей. Ему было важно, чтобы именно в этом кругу, где вся молодежь была дружески расположена к Дантесу, знали, каков он на самом деле.
Вечером 13 ноября к Карамзиным заехал Жуковский. Узнав о состоявшемся днем разговоре, он пришел в ужас. Жуковский испугался, что все опять разладится. Он заклинал обеих женщин не рассказывать о вызове ни одной живой душе, объяснив, что Пушкину с Дантесом «непременно надо будет драться, если тайна теперь или даже и после откроется» (XVI, 186).
На рассвете 14 ноября Жуковский написал Пушкину еще одно большое письмо.[249] Оно было полно укоризн и беспокойства: «Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. За чем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне? Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом…» (XVI, 185). Жуковский настоятельно требовал от друга сохранения тайны вызова: «Итак, требую от тебя уже собственно для себя, чтобы эта тайна у вас умерла навсегда <…> Не могу же я согласиться принять участие в посрамлении человека, которого честь пропадет, если тайна будет открыта. А эта тайна хранится теперь между нами, нам ее должно и беречь. Прошу тебя в этом случае беречь и мою совесть <…> Итак, требую тайны теперь и после» (XVI, 186).
Жуковский тогда не знал о Геккернах то, что о них знал Пушкин. Оберегая репутацию жены, Пушкин даже ему не рассказал о тех преследованиях, которым подверглась Наталья Николаевна накануне 4 ноября. Жуковский был убежден, что противники поэта ведут себя безупречно не на словах, а на самом деле.
Это письмо Жуковский отослал на Мойку рано утром, сделав внизу приписку: «Я увижусь с тобою перед обедом. Дождись меня. Ж.» (XVI, 186). Видимо, перед решающей встречей поэта с Геккерном Жуковский хотел еще раз лично предостеречь Пушкина.
Официальная встреча Пушкина с Геккерном состялась 14 ноября на квартире у Е. И. Загряжской. Мы можем судить о результатах этого свидания по отдельным упоминаниям о нем в переписке тех дней.
По-видимому, во время этой встречи посланник подтвердил сообщение Загряжской о согласии обеих семей на брак Жоржа Геккерна с Екатериной Гончаровой. Пушкин заявил, что ввиду этого просит рассматривать ею вызов как не имевший места. Геккерн потребовал, чтобы полт письменно подтвердил свое словесное заявление.
Эта встреча по сути и по форме разительно отличалась от той, которую ранее пытался устроить Геккерн. Тогда речь шла о личном объяснении Пушкина с Дантесом, которое, по плану барона, должно было завершиться примирением противников и обменом любезностями с обеих сторон.
Во время свидания у Загряжской Пушкин ни в какие объяснения по поводу отношений Дантеса с Натальей Николаевной не вступал. Самая распространенная фраза, которую он высказал в период ноябрьских переговоров по этому поводу, была: «За то, что он вел себя по отношению к моей жене так, как мне не подобает допускать».[250] По всей вероятности, Пушкин и 14 ноября ограничился лишь предельно лаконичным заявлением, позволившим привести дело к мирному исходу.
Барон Геккерн, по-видимому, и на этот раз был гораздо многословнее Пушкина. Он, разумеется, не преминул воспользоваться возможностью лично сказать ему то, что он повторял в эти дни всем: что его приемный сын — человек чести, что Жорж Геккерн всегда готов исполнить свой долг благородного человека… Прозвучали, вероятно, и сентенции о священных обязанностях отца, знакомые нам по письму барона к Жуковскому.
В момент переговоров Пушкин сумел сохранить самообладание; он остался верен тому обещанию, которое дал накануне Е. И. Загряжской. Его раздражение безудержно прорвалось несколькими часами позднее в разговоре с В. Ф. Вяземской.
Об этом разговоре, из-за которого чуть было не сорвалось примирение противников, мы знаем из письма Жуковского. 16 ноября рано утром Жуковский отправил Пушкину письмо, которое начиналось со следующего заявления:
«Вот что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: „Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского[251] — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать“, — и тому подобное.
Все это очень хорошо, особливо после обещания, данного тобою Геккерну в присутствии твоей тетушки (которая мне о том сказывала), что все происшедшее останется тайною» (XVI, 186, 395).
И далее Жуковский с горечью говорит о том, что он вынужден отказаться от участия в деле примирения, раз Пушкин решил нарушить свое обещание и намерен предать дело огласке.
Разговор поэта с княгиней Вяземской открывает для нас очень существенную сторону дела. Вернее было бы сказать: чуть-чуть приоткрывает. Случилось так, что лишь однажды за все эти дни до нас дошел голос самого Пушкина. Если бы этот разговор не был зафиксирован Жуковским, мы вообще ничего не знали бы о душевном состоянии поэта в тот момент, когда переговоры, казалось, подходили к успешному завершению.
После свидания с Геккерном, во время которого Пушкин был принужден выслушивать разглагольствования барона о благородстве его приемного сына, поэт был почти в исступлении. Ему необходимо было выговориться и услышать дружеский голос. И тогда Пушкин бросился к В. Ф. Вяземской, с которой у него давно установились доверительные отношения. Бартенев впоследствии со слов Веры Федоровны записал: «С княгинею он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Геккерна».[252] Так и в тот день Пушкин, верно, прибежал к ней, испытывая потребность в дружеском участии. Ей первой он открылся и рассказал о своих подозрениях против Геккернов («Я знаю автора анонимных писем!»). Вот тогда-то у него и вырвались эти слова о мщении. Пушкин был вне себя и заговорил о том, о чем не должен был говорить.
Мысль о мщении возникла у Пушкина гораздо раньше: в те дни, когда он уверился в своих подозрениях. Сопоставление того, что он задумал, с «громкими подвигами» Александра Раевского говорит о том, что речь шла о публичной дискредитации Геккерна, о каком-то громком скандале, который должен был опозорить посланника в глазах правительства и общества. В ответ на удар, нанесенный под маской анонима, поэт намерен был выступить с обвинениями против посланника открыто.
Но разговор с княгиней Вяземской состоялся после свидания с Геккерном. Значит, решившись отказаться от поединка с Дантесом, Пушкин продолжал вынашивать свой план мщения. Дальнейшие события показали, что все это были не пустые угрозы, а выстраданный и обдуманный план.
Внутреннее отношение Пушкина к тому, что происходило, станет нам понятнее, если мы вспомним, что сказал поэт той же Вяземской накануне январской дуэли. Он напомнил ей тогда об этом самом разговоре, состоявшемся 14 ноября: «Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом — дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет».[253]
Поведение Пушкина не было последовательным. Вероятно, личная встреча с бароном довела в тот день его раздражение до предела. В нем все клокотало. Пушкин не мог смириться с тем, что его оскорбитель останется безнаказанным. Обещание хранить в тайне историю несостоявшегося поединка для самого Пушкина не означало, что он не вправе разоблачить гнусную роль Геккерна-старшего.
Отдавал ли себе поэт отчет в том, что публичное разоблачение посланника так или иначе приведет его снова к барьеру? По-видимому, во время ноябрьских переговоров он не раз бывал в таком состоянии, когда самый решительный исход был для него и самым желанным.
* * *
Между тем близкие Пушкина полагали, что дело уже уладилось. Напряжение в доме чуть разрядилось.
Екатерина, узнав о формально высказанном бароном согласии на брак, считала себя невестой и готовилась показаться в белом платье на большом вечере у Фикельмонов, назначенном на 16 ноября.
На 15 ноября Наталья Николаевна была приглашена на бал в Аничков дворец. Этот вечер в Аничковом, где она должна была появиться в избранном великосветском кругу впервые после истории с анонимными письмами, был, конечно, для жены поэта трудным испытанием. Как выясняется, Наталья Николаевна не сразу решилась принять приглашение, хотя не явиться на вечер, которым царская чета открывала зимний сезон, значило вызвать неудовольствие императрицы.
Некоторый свет на события этого дня, о которых до недавнего времени мы вообще ничего не знали, проливает одна забытая биографами записка Жуковского, обращенная к Наталье Николаевне (она была опубликована в 1889 г. П. И. Бартеневым без точной даты).
Жуковский писал: «Разве Пушкин не читал письма моего? Я, кажется, ясно написал ему о нынешнем бале, почему он не зван и почему вам непременно надобно поехать. Императрица сама сказала мне, что не звала мужа вашего оттого, что он сам ей объявил, что носит траур и отпускает всюду жену одну; сна прибавила, что начнет приглашать его, коль скоро он снимет траур. Вам надобно быть непременно. Почему вам Пушкин не сказал об этом, не знаю; может быть, он не удостоил прочитать письмо мое».[254]
Бартенев датировал эту записку 1836 г., так как в ней упоминается о трауре, который Пушкин носил после смерти матери. Сегодня в нашем распоряжении достаточно данных, чтобы датировать ее более точно.
В письме Жуковского речь идет о придворном бале, па который список приглашенных составлялся с ведома императрицы. Между тем известно, что после смерти свекрови H. H. Пушкина долгое время никуда не выезжала. С конца марта до начала ноября она не была ни на одном балу ни в Аничковом дворце, ни в летних царских резиденциях. Впервые после очень длительного перерыва жена поэта была приглашена во дворец 15 ноября — на первый бал зимнего сезона. Как раз в этот день и по поводу этого бала Жуковский и написал интересующую нас записку — очевидно, в ответ на письмо Натальи Николаевны.[255]
Эта записка многое проясняет.
Нам было известно, что 15 ноября H. H. Пушкина появилась на балу одна — без мужа. Было непонятно: почему так случилось? Высказывалось предположение, что Пушкин отпустил жену одну, чтобы выразить свое пренебрежение к светским толкам. Теперь выясняется, что все было проще и трагичнее. Пушкин не получил приглашения и поэтому не мог сопровождать жену. Наталья Николаевна колебалась и не знала, как ей быть. Она решила обратиться за советом к Жуковскому.
В ответ на ее сомнения Жуковский написал: «Вам надобно быть непременно!». Слово «непременно» он повторил дважды и даже подчеркнул его в тексте. Жуковский знал, какое значение императрица придает этому первому балу сезона (в письме к графине Бобринской Александра Федоровна писала: «Я так боялась, что этот бал не удастся <…> но все шло лучше, чем я могла думать»).[256] Зная настроение во дворце, Жуковский понимал, что отсутствие H. H. Пушкиной в этот вечер будет принято весьма неблагосклонно и подаст новый повод к пересудам о ней в высшем кругу.
Совет Жуковского был принят. 15 ноября Пушкин отпустил Наталью Николаевну на бал одну, и она, по-видимому, сумела выдержать испытание.
Императрица, описывая этот бал, называет ее имя первым среди красавиц, блиставших в этот вечер: «Пушкина казалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье. — Но не было той сладостной поэзии, как на Елагином».[257] Судя по этому отклику, Наталья Николаевна держалась хорошо и не подала повода к сплетням. Ее сдержанность даже чем-то разочаровала государыню. «Но не было той сладостной поэзии, как на Елагином…». Не намек ли это на отношения H. H. Пушкиной с Дантесом? Ведь именно после августовских балов на островах и распространился слух об открытом ухаживании молодого Геккерна за женой поэта. Императрица бывала на этих балах, и, конечно, это не укрылось от ее внимания.
Имя жены поэта не случайно стоит в ее письме на нервом месте. Красавица Пушкина вызывала в этот момент особый интерес в интимном кружке императрицы; все взоры были прикованы к ней. До сих пор ее репутация была безупречной, и теперь все жадно следили за тем, как будут развиваться события. Сюда же проникли слухи об анонимных письмах. Возможно, через Барятинских и Трубецких в этом кругу было известно, что госпожа Пушкина «отвергла» Дантеса. Отсюда, может быть, и нотка сожаления об исчезновении «сладостной поэзии» влюбленности, распространявшейся вокруг нее.
Бал в Аничковом дворце закончился во втором часу ночи. И вот в такой поздний час Жуковский, возвращаясь домой, заехал к Вяземским. Необычный визит был вызван тем, что Жуковскому стало что-то известно о разговоре Пушкина с В. Ф. Вяземской. Он заехал, чтобы узнать обо всем подробнее.
Уже было решено, что утром Жуковский передаст барону Геккерну письмо Пушкина с отказом от поединка. То, что он услышал от Вяземских, привело его в отчаяние. Вернувшись домой, Жуковский пишет Пушкину, что он не может взять на себя роль посредника после того, что он узнал.
«Но скажи мне, — писал Жуковский, — какую роль во всем этом я играю теперь и какую должен буду играть после перед добрыми людьми, как скоро все тобою самим обнаружится и как скоро узнают, что и моего тут меду капля есть? И каким именем и добрые люди, и Геккерн, и сам ты наградите меня, если, зная предварительно о том, что ты намерен сделать, приму от тебя письмо, назначенное Геккерну, и, сообщая его по принадлежности, засвидетельствую, что все между вами <…> кончено, что тайна сохранится и что каждого честь останется неприкосновенна? Хорошо, что ты сам обо всем высказал в что все это мой добрый гений довел до меня заблаговременно» (XVI, 186).
Письмо было написано утром 16 ноября, ибо о своем ночном визите Жуковский говорит: «Вчера ввечеру после бала заехал я к Вяземскому…» (XVI, 186). Надписав весьма лаконичный адрес: «Александру Сергеевичу Пушкину», Василий Андреевич велел своему слуге тотчас же отнести письмо на Мойку, в дом Волконских.
О том, что произошло далее, мы можем только строить предположения. Очевидно, Пушкин и Жуковский вскоре увиделись. Надо полагать, что Жуковский добился от Пушкина каких-то заверений, которые его несколько успокоили, так как письмо поэта с отказом от вызова было все-таки передано Геккернам.
В бумагах Жуковского сохранилась копия этого письма Пушкина.[258] Вот его текст в переводе с французского: «Господин барон Геккерн оказал мне честь принять вызов на дуэль его сына г-на б.<арона> Ж. Геккерна. Узнав случайно? по слухам? что г-н Ж. Геккерн решил просить руки моей свояченицы мадемуазель К. Гончаровой, я прошу г-на барона Геккерна-отца соблаговолить рассматривать мой вызов как не бывший» (XVI, 232–233, 410).
Итак, 16 ноября, в первой половине дня, посланник получил письмо, в котором Пушкин мотивировал свой отказ от вызова тем, что случайно, по слухам узнал о намерении Ж. Геккерна просить руки мадемуазель Гончаровой.
И вот в тот момент, когда Пушкин и Жуковский считали дело оконченным, все снова повернулось вспять. Та мотивировка отказа от вызова, которая содержалась в письме Пушкина, была неприемлемой для Геккернов. Она обнажала подоплеку дела, которую им непременно хотелось скрыть. Геккерны решили добиваться от Пушкина другого письма.
Дантес уполномочил молодого атташе французского посольства виконта д'Аршиака явиться к Пушкину в качестве секунданта. Он вручил д'Аршиаку для передачи поэту следующее письмо: «Милостивый государь. Барон де Г.<еккерн> только что сообщил мне, что он был уполномочен г. <…>[259] уведомить меня, что все те основания, по каким вы вызвали меня, перестали существовать и что поэтому я могу рассматривать это ваше действие как не имевшее места.
Когда вы вызвали меня, не сообщая причин, я без колебания принял вызов, так как честь обязывала меня к этому; ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерения, ибо я никому не поручал давать вам объяснения, которые я предполагал дать вам лично. — Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга. Жорж де Геккерн» (XVI, 187, 395).
Это задиристое письмо Дантес скорее всего писал в присутствии виконта д'Аршиака, но в отсутствие барона Геккерна. Дантес как будто бы хотел засвидетельствовать, что переговоры, которые вел до сих пор его приемный отец, шли без его ведома, тогда как он сам, напротив, готов выйти к барьеру. Одновременно Дантес поручил д'Аршиаку передать Пушкину словесно, что ввиду окончания двухнедельной отстрочки он «готов к его услугам».[260]
Во всем этом было много бравады. После двенадцатидневных переговоров, которые велись за его спиной, Дантес впервые получил возможность лично говорить со своим противником. Больше всего ему хотелось дать понять и Пушкину, и секунданту, что он не трус. Но молодой человек недооценил всей серьезности положения. Он все-таки плохо понимал, с кем имеет дело. Отсылая Пушкину свое письмо, он при этом рассчитывал на то, что секунданты продолжат начатые бароном Геккерном переговоры. Дантес даже подготовил проект письма, которое он желал бы получить от Пушкина.
В архиве Геккернов сохранился черновик этого предполагаемого письма: «Ввиду того, что г. барон Жорж де Геккерн принял вызов на дуэль, доставленный ему при посредстве барона де Геккерна, я прошу г-на Ж. де Г. соблаговолить рассматривать этот вызов как не бывший, убедившись случайно, по слухам, что мотивы, которыми руководствовался в своем поведении господин Ж. де Г., не были оскорбительны для моей чести, единственная причина, по которой я счел себя вынужденным сделать вызов».
В проекте отказа от вызова, который Дантес хотел предложить Пушкину, отсутствует упоминание о сватовстве. Совершая недостойный поступок, Дантес желал одного: чтобы об этом не говорилось вслух.
На том же листке, сохранившемся в архиве Геккернов, копия с которого была получена П. Е. Щеголевым, рукою Дантеса сделана следующая заметка (вероятно, своего рода инструкция для секунданта): «Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к м-ль де Г. Вот мои соображения, и я думаю, что г. де Пушкин их поймет. По тому, как поставлен вопрос в письме, можно было бы сделать из этого вывод, что дело обстояло так: „Жениться или драться“. Так как честь моя запрещает мне принимать условия, то эта фраза о сватовстве поставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение.
Я еще настаивал бы, чтобы доказать, что такой мотив брака не может найти места в письме, ибо я определенно решил сделать это предложение после дуэли, если только судьба была бы ко мне благоприятна. Необходимо, следовательно, точно констатировать, что я сделаю предложение м-ль Екатерине не в качестве сатисфакции или для улаживания дела, а только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это решено по моей собственной воле!».
Как видим, Дантес исходил из того, что переговоры будут продолжены. Поэтому он уделил такое внимание разработке указаний для своего секунданта и даже подготовил проект письма, которое следовало получить от Пушкина в знак окончания дела. Дантес, видимо, в глубине души считал, что все уже решено и речь идет лишь о соблюдении формальностей.
О реакции Пушкина на ход, сделанный Дантесом, можно судить по лаконичной записи Жуковского: «Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль…».
Похоже, что у д'Аршиака не было возможности пустить в ход всю ту аргументацию, которая была для этого случая подготовлена. Пушкин не стал с ним объясняться. Прочитав письмо Дантеса, он сказал виконту, что завтра пришлет к нему своего секунданта, чтобы обговорить место и время поединка.
После визита к Пушкину д'Аршиак понял, что дело предстоит нешуточное. Он вернулся в нидерландское посольство, где беседовал не только с Дантесом, но и с посланником. Барон к этому времени снова взял дело в свои руки. Его приемный сын, очевидно, обещал ему не предпринимать больше никаких самостоятельных шагов, так как вечером, встретившись на рауте у Фикельмонов с Соллогубом, Жорж Геккерн не стал говорить с ним о дуэли, а отослал его вести этот разговор либо с д'Аршиаком, либо с посланником. Д'Аршиак, как увидим, тоже получил от барона очень четкие инструкции.
На 16 ноября Пушкины были приглашены к Карамзиным на торжественный обед в честь дня рождения Екатерины Андреевны. Съезжались к обеду в пятом часу дня. Было много гостей. «В день моего рождений, — писала Е. А. Карамзина старшему сыну, — был устроен, как всегда, большой праздник, до крайности сумбурный, потому что собрались самые разнообразные личности».[261]
За столом во время общего веселого разговора Пушкин вдруг нагнулся к сидевшему рядом с ним Владимиру Соллогубу и сказал ему скороговоркой: «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». «Потом он продолжал шутить и разговаривать как бы ни в чем не бывало, — вспоминал Соллогуб. — Я остолбенел, но возражать не решился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений».[262]
Вечером в великолепном особняке австрийского посольства состоялся большой раут. Там был двор, все иностранные дипломаты, находившиеся тогда в Петербурге, и весь большой свет. В тот вечер все дамы были в черных платьях из-за траура, объявленного при дворе по случаю смерти Карла X, и в этом однообразии была своя красота, как отметила С. Н. Карамзина. «Одна Катерина Николаевна Гончарова <…> отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес-Геккерн», — рассказывал впоследствии Соллогуб.[263]
На раут съезжались поздно. Карамзины приехали после 11 часов вечера. Пушкин явился еще позднее. На лестнице он столкнулся с д'Аршиаком и сказал ему несколько слов. Как рассказывал Соллогуб, Пушкин сказал виконту приблизительно следующее: «Вы, французы, вы очень любезны. Все вы знаете латынь, но когда вы стреляетесь, вы становитесь в 30 шагах. У нас, русских, иначе: чем меньше объяснений, тем поединок беспощаднее».[264]
Когда Пушкин вошел в залу, он «казался очень встревожен». Приблизившись к Екатерине Николаевне, Пушкин запретил ей «говорить с Дантесом», а самому Дантесу успел сказать «несколько более чем грубых слов».[265] По свидетельству Соллогуба, на Пушкине лица не было.
Пушкин был измучен до предела и начинал терять самообладание. Бестактное поведение Екатерины Гончаровой на рауте, ее белое платье и демонстративное любезничанье с молодым Геккерном до того, как помолвка была официально объявлена, — все это окончательно вывело его из себя. Пушкин вскоре уехал и, вероятно, увез с собою сестер Гончаровых.
Наталья Николаевна на рауте не присутствовала. Очевидно, через Александрину она передала Жуковскому записку. В его заметках об этом сказано так: «Записка Н. Н. ко мне и мой совет. Это было на рауте Фикельмона». Скорее всего, Наталья Николаевна по настроению мужа поняла, что дело опять приняло плохой оборот. Какой совет дал Жуковский жене поэта? Попытался ли он сам еще раз вмешаться? Об этом нам ничего неизвестно.
* * *
О том, как развивались события 17 ноября, мы знаем из подробного рассказа секунданта Пушкина В. А. Соллогуба.
Первоначально В. А. Соллогуб записал свой рассказ о ноябрьской дуэльной истории в 1852–1854 гг. по просьбе П. В. Анненкова. В 1865 г. он опубликовал свои воспоминания в более полном и литературно обработанном виде в «Русском архиве». Записка, предназначавшаяся для Анненкова, отличается гораздо большей точностью и непосредственностью в передаче фактов. Чтобы восстановить ход событий с наибольшей достоверностью, мы будем опираться в основном на те свидетельства, которые содержатся в самой ранней редакции воспоминаний Соллогуба.[266]
Как рассказывает Соллогуб в своей «Записке», 17 ноября он поехал прежде всего в нидерландское посольство к Дантесу, хотя Пушкин поручил ему обратиться прямо к д'Аршиаку. К Пушкину Соллогуб боялся подступиться, с д'Аршиаком не был знаком; у Дантеса ему, видимо, удобнее было разузнать подробности дела. «Во вторник, 17 ноября, — пишет Соллогуб, — я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всем на д'Аршиака…».[267]
Дантес не хотел иметь дела с секундантом Пушкина. Тот вчерашний порыв, который побудил его действовать самостоятельно, уже угас. Благоразумие одержало верх. Теперь он полностью подчинился требованиям своего приемного отца, который жаждал избежать скандала любой ценой.
В разговоре с Соллогубом Дантес держался осторожно, боясь проронить лишнее слово. В конце концов он объяснил, что собирается жениться на Екатерине Гончаровой. «Пушкин взял назад свой вызов, но я не хочу, чтобы дело выглядело так, будто я женюсь, чтобы избежать поединка. К тому же я не хочу, чтобы при этом произносилось имя женщины. Вот уж год как старик не хочет разрешить мне жениться».[268] Такова была версия Дантеса, предназначенная для его молодых приятелей из карамзинского кружка. Все это на словах выглядело очень благородно. Дантес выступал в роли защитника женской чести. Его позиция, как мы увидим из дальнейшего, явно импонировала молодому секунданту Пушкина.
Все, что услышал Соллогуб, поразило его. Впоследствии он так передавал свои впечатления: «Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не видал, и только тут я понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса…».[269] Владимир Соллогуб вышел от Дантеса, едва ли не убежденный в его правоте, и поехал к Пушкину, надеясь, что ему удастся его переубедить.
Когда Соллогуб приехал на Мойку, Пушкин с первых же слов своего секунданта понял, что тот нарушил его инструкции и вступил в какие-то объяснения с Дантесом. Он был крайне раздражен этим. Пушкин потребовал, чтобы Соллогуб тотчас же отправился к д'Аршиаку и договорился с ним об условиях поединка, не вступая при этом ни в какие переговоры. Поэт закончил разговор словами: «Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого». «Он был в ужасном порыве страсти», — пишет Соллогуб.[270]
После визита Соллогуба Пушкин усомнился, сумеет ли молодой человек должным образом выполнить его поручение. Видимо, в тот момент поэт пришел к выводу, что ему может понадобиться другой секундант.
Соллогуб, выполняя требование Пушкина, поехал к д'Аршиаку. Секундант Дантеса ознакомил Соллогуба с дуэльными документами, среди которых были письменный вызов Пушкина, записка барона Геккерна о двухнедельной отсрочке и «собственноручная записка Пушкина, в которой он объявлял, что берет назад свой вызов на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке К. Н. Гончаровой».[271]
По поводу этого письма с отказом и состоялось объяснение между секундантами, Д'Аршиак настаивал, чтобы Пушкин отказался от вызова без всяких объяснений: «Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастье».[272] Соллогуб, обескураженный только что состоявшимся разговором с Пушкиным, не мог предложить никакого компромиссного решения. В первоначальном тексте его записки проскользнуло признание: «Я говорил, что на Пушкина надо глядеть как на больного, а потому можно несколько мелочей оставить в стороне»![273]
Между тем д'Аршиак, получивший определенные инструкции, вместо того чтобы заняться составлением протокола об условиях дуэли, предложил сделать перерыв в переговорах и встретиться снова в 3 часа дня. Судя по всему, он рассчитывал, что Соллогуб за эго время передаст Пушкину его предложения. Сам д'Аршиак, очевидно, хотел использовать это время для того, чтобы еще раз обсудить дело с Геккернами. Соллогуб, однако, не осмелился явиться к Пушкину до того, как будут выработаны условия поединка.
Поэт в течение нескольких часов не получал от своего секунданта никаких известий. В четвертом часу дня он вышел ненадолго из дому, направился к Клементию Россету и предложил ему быть секундантом в его деле с Дантесом.
Рассказ об этом, со слов Аркадия Россета, записал потом Бартенев: «Осенью 1836 года Пушкин пришел к Клементию Осиповичу Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов вначале стараться о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно; но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать…».[274]
Пушкину нужно было иметь Клементия Россета под рукой на случай, если Соллогуб не справится с возложенным на него поручением. Поэтому он увел его с собой.
А в это время Владимир Соллогуб вел переговоры в нидерландском посольстве, куда он приехал, как было условлено, к трем часам.
Секунданты совещались в присутствии Дантеса, который находился тут же, но ни во что не вмешивался, предоставив вести все дело д'Аршиаку. Об условиях дуэли договориться не представляло труда. Поединок был назначен на 21 ноября. Стреляться должны были на Парголовской дороге в 8 часов утра, в десяти шагах.
Но главным предметом разговора было не это. Секунданты пытались найти такой способ примирения, который устроил бы обе стороны. «Никогда в жизнь свою я не ломал так голову», — рассказывает Соллогуб. Наконец, после долгого разговора с д'Аршиаком, Соллогуб написал Пушкину следующее письмо:
«Я был, согласно вашему желанию, у г-на д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, ибо в пятницу мне никак нельзя будет освободиться, в стороне Парголова, рано поутру, на дистанции в 10 шагов. Г-н д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерн окончательно решил объявить свои намерения относительно женитьбы, но что, опасаясь, как бы этого не приписали желанию уклониться от дуэли, он по совести может высказаться лишь тогда, когда все будет покончено между вами и вы засвидетельствуете словесно в присутствии моем или г-на д'Аршиака [что считая его неспособным ни на какое чувство, противоречащее чести, вы приписываете его],[275] что вы не приписываете его брака соображениям, недостойным благородного человека <…>
Не будучи уполномочен обещать это от вашего имени, хотя я и одобряю этот шаг от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это условие, которое примирит все стороны. — Само собой разумеется, что г-н д'Аршиак и я, мы служим порукой Геккерна. Соллогуб.
Будьте добры дать ответ тотчас же» (XVI, 188, 395–396).
Д'Аршиак внимательно прочел письмо и сказал: «Я согласен. Пошлите».[276]
Жорж Геккерн тоже хотел ознакомиться с запиской, но д'Аршиак воспротивился этому, и Дантес подчинился решению своего секунданта. Вообще в этот день Дантес был поразительно покладист: видимо, он уже успел осознать все последствия своего вчерашнего необдуманного поступка. Он даже счел возможным забыть о том, что вчера на рауте у Фикельмонов Пушкин бросил ему в лицо «несколько более чем грубых слов».[277] Зная, что дело происходило без свидетелей, Дантес предпочел не вспоминать о нанесенном ему оскорблении.
Соллогуб запечатал письмо и надписал: «Господину Пушкину, в собственные руки» (XVI, 188, 396). Он отдал письмо извозчику, который дожидался у подъезда, и приказал отвезти его на Мойку.
Итак, Пушкин получил от своего секунданта письмо, которое, в сущности, свидетельствовало о полной капитуляции его противника. Дантес отказывался от всех выставленных им вчера условий. Еще утром 17 ноября д'Аршиак требовал, чтобы Пушкин взял назад свой вызов без всяких объяснений, не упоминая о предполагаемой свадьбе. Теперь секунданты не только упоминали о предстоящей помолвке, но и тот и другой ручались своим словом, что Дантес тотчас же, как только дело будет окончено, будет просить руки мадемуазель Гончаровой. Пушкина просили лишь о том, чтобы он словесно подтвердил, что этот шаг не ставит под сомнение поведение Дантеса в деле чести.
На это Пушкин ответил с присущим ему благородством. Он подтвердил то, о чем его просили секунданты, письменно:
«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккена на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.
Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным.
Примите уверения в моем совершенном уважении. А. Пушкин.
17 ноября 1836 года» (XVI, 188, 396).
Пушкин знал, что выиграл эту опасную игру. И не в его привычках было торжествовать над поверженным врагом.
Ответ Пушкина был получен в шестом часу вечера. Д'Аршиак прочел его и сказал: «Этого достаточно». Конечно, д'Аршиак вел себя так твердо и решительно, потому что ему были даны на это полномочия.
Считая дело оконченным, секунданты тут же принесли свои поздравления Дантесу как жениху.
Напряжение разрядилось, и Жорж Геккерн обратился к Владимиру Соллогубу с истинно французской любезностью: «Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его за то, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья».[278]
Секунданты вдвоем отправились на Мойку, чтобы официально сообщить Пушкину об окончании дела. Они застали Пушкина за обедом (об этом обеде не раз потом вспоминал присутствовавший на нем Клементий Россет).[279]
Когда Пушкину вручили визитные карточки, он извинился перед дамами и вышел из-за стола. Он прошел в кабинет, куда уже провели посетителей. По словам Соллогуба, Пушкин был «несколько бледен». Он молча выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком.
Соллогуб вспоминает: «С моей стороны, — продолжал я, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем как с знакомым.
— Напрасно, — воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может».
Но поэт сумел взять себя в руки и, обратившись к секунданту Дантеса, повторил то, что час тому назад изложил письменно: «„Впрочем, я признал и готов признать, что г. Дантес действовал как честный человек“. — „Больше мне и не нужно“, — подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты».[280]
Так завершилась ноябрьская дуэльная история.
Вернувшись в столовую, Пушкин прежде всего обратился к Екатерине Николаевне, зная, с каким мучительным нетерпением ожидает она развязки. «Поздравляю, вы невеста! — сказал он ей. — Дантес просит вашей руки». По словам Клементия Россета, сидевшего тут же за столом, в ответ на это Екатерина «бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна — за нею. „Каков!“, — сказал Пушкин Россету про Дантеса».[281]
Узнав от д'Аршиака, как он был принят, Дантес не решился ехать с визитом к Пушкиным. Он и барон Геккерн тотчас же отправились к Е. И. Загряжской, где барон от имени своего приемного сына сделал, наконец, формальное предложение Екатерине Гончаровой.
В тот же вечер, через несколько часов, на бале у С. В. Салтыкова, у которого по вторникам собирался весь петербургский свет, было объявлено о помолвке Жоржа Геккерна и Екатерины Гончаровой. Новость сразу же облетела все залы и гостиные. Жениха и невесту поздравляли, но известие об этой свадьбе всех поразило и вызвало самые оживленные толки.
Пушкин с женой тоже был на балу у Салтыковых.
Но, как отметил Владимир Соллогуб, Дантесу он не кланялся.
Это был худой мир, но все-таки мир. Ноябрьская дуэльная история была завершена.
«ЖУЖЖАНЬЕ КЛЕВЕТЫ»
Для всех, кто знал о ноябрьском вызове, было очевидно, что Пушкин вышел из этого дела с честью, а Дантес сыграл в нем поистине жалкую роль.
После завершения переговоров Пушкину выпал короткий миг торжества. «Пушкин <…> торжествовал одно мгновенье, — писал Александр Карамзин, — ему показалось, что он залил грязью своего врага и заставил его сыграть роль труса».[282] Того же мнения были Жуковский и Вяземский. Они полагали, что Дантес, чьи чувства к H. H. Пушкиной приобрели широкую гласность, уронит себя в общем мнении своим сватовством.
Но вышло иначе.
Через два-три дня стало известно, что в светских толках и пересудах по поводу неожиданной помолвки это событие связывают с каким-то скандалом в семье Пушкина. Возник слух о том, что молодой человек ради спасения чести любимой женщины вынужден был просить руки ее сестры. Поступок молодою Геккерна оценивали как «подвиг высокого самоотвержения».[283] Эта версия имела особенный успех у дам и барышень, которые склонны были видеть в молодом Геккерне романтического героя. «Он пожертвовал собою, чтобы спасти ее честь», — записала в своем дневнике двадцатилетняя Мари Мердер и, восхищенная, добавила: «Если Дантесу не оставалось иного средства спасти репутацию той, которую он любил, то как же не сказать, что он поступил великодушно?!».[284]
Однако известны и другие, весьма ироничные отклики на эту помолвку.
21 ноября шталмейстер П. Д. Дурново, зять министра двора князя П. М. Волконского, сделал помету в своей записной книжке: «Раут у Нессельроде. Дантес, усыновленный бароном д'Эккерном, женится на м-ль Гончаровой. Говорят, что он ухаживал за <ее> сестрой — г-жой Пушкиной и что он был принужден мужем к объяснению. Молодой человек — побочный сын голландского короля. Это фат, весьма ограниченный».[285] Павел Дмитриевич Дурново на вечерах предпочитал танцам карточный стол, и его не очень интересовал герой этой истории Дантес. Тем важнее для нас лаконичная запись, сделанная им. Заметка в записной книжке П. Д. Дурново свидетельствует о том, что сплетня, компрометировавшая H. H. Пушкину, 21 ноября уже передавалась из уст в уста в салоне госпожи Нессельроде.
Если сравнить эту краткую запись с давно опубликованным свидетельством графа Альфреда Фаллу, записавшего рассказ о тех же событиях со слов самой госпожи Нессельроде, смысл заметки Дурново станет нам понятнее.
Графиня Нессельроде в ответ на расспросы Альфреда Фаллу, хорошо знавшего Дантеса, рассказала следующее: «Однажды утром <Жорж> Геккерн увидел у себя в комнате Пушкина <…> „Как случилось, господин барон, — сказал Пушкин ему, — что я нашел у себя письма вашей руки?“. Он держал в руке письма, действительно содержавшие выражение пылкой страсти. „У Вас нет повода считать себя обиженным, — ответил Геккерн, — m-me Пушкина согласилась их принять у меня только для того, чтобы передать их своей сестре, на которой я хочу жениться“. — „В таком случае — женитесь“. — „Моя семья не дает мне согласия“. — „Добейтесь его“. — Эта беседа создала очень щекотливое положение, и, если бы брак не состоялся, госпожа Пушкина могла бы быть серьезно скомпрометирована. Жорж Геккерн долго не колебался, и немного спустя Петербург поздравлял его с браком».[286]
Так или примерно так говорили о браке Дантеса в салоне госпожи Нессельроде вскоре после объявления помолвки. Это сплетня в ее самом «фешенебельном» варианте, предназначенном для посетителей дипломатического салона. Здесь еще нет пикантных подробностей, почерпнутых из бродячих анекдотов, — они возникнут позднее в рассказах удалых кавалергардов и в шепоте молоденьких фрейлин. Но направленность этой сплетни очевидна: Дантес рисуется рыцарем, который, жертвуя собой, спасает любимую женщину, а госпожа Пушкина предстает в роли героини любовного приключения, которое едва не закончилось для нее громким скандалом.
Происхождение данной версии не вызывает сомнения. Графиня Нессельроде почерпнула эти сведения от барона Геккерна. Посланник поддерживал тесные контакты с министром иностранных дел и его супругой, он был постоянным посетителем их салона и знал, что получит здесь поддержку в затеянной им интриге. О недоброжелательстве графини Нессельроде к поэту ему было известно.
Сохранилось письмо Геккерна графу Нессельроде, написанное уже после январской дуэли, в котором барон говорит как о всем известном факте о том, что его сын своей женитьбой «закабалил себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины».[287] Можно не сомневаться, что в ноябре Геккерн рассказывал всем, кому мог, то же самое. В салоне госпожи Нессельроде, где бывали все иностранные дипломаты и высшие сановники государства, посланнику особенно важно было утвердить свою версию.
Нечто подобное сообщал своим приятелям кавалергардам и сам Дантес. Прямое подтверждение этому мы находим в дневнике Мари Мердер. По ее словам, молодой Геккерн говорил всем, кто хотел его слушать, что он «женился, чтобы спасти честь сестры жены от оскорбительной клеветы».[288]
В свете охотно подхватили сплетню, подсказанную Геккернами. Ее повторяли во всех аристократических салонах столицы: в домах Белосельских, Барятинских, Строгановых, Трубецких…
Версию о самопожертвовании (в ее более осторожном и туманном варианте) приняла с доверием и карамзинская молодежь. Дантес вел себя с такой ловкостью, что после всей ноябрьской истории сумел остаться своим человеком в доме Карамзиных. Ему удалось убедить в благородстве своих намерений даже такого искреннего почитателя Пушкина, каким был Александр Карамзин. Позднее сын историографа признавался брату: «Я <…> краснею теперь оттого, что был с ним в дружбе <…> Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига»; «Он <…> передо мною прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже П<ушкиной>, его любви к Екатерине Г<ончаровой>, всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожен».[289] Намеки Дантеса на то, что он пожертвовал собою для спасения чести госпожи Пушкиной, и его заверения, что отныне он посвятит себя счастию своей будущей жены, вполне соответствовали романтическому умонастроению молодых Карамзиных.
После ноябрьских событий Дантес сделал все от него зависящее, чтобы закрепить свои связи с карамзинским домом. «Он бывает у нас каждый вечер», — писала 20 ноября Софья Николаевна брату. Через три дня после помолвки Дантес приглашает братьев Карамзиных, Александра и Вольдемара, к себе на холостяцкий обед (видимо, это был своего рода мальчишник по случаю оглашения). Потом он просит Александра Карамзина быть шафером на свадьбе.
С. Н. Карамзина с интересом наблюдает за Жоржем Геккерном. В отличие от братьев она не поверила в его внезапную любовь к Екатерине Гончаровой. По ее мнению, Дантес — жертва обстоятельств и, следовательно, достоин участия. «Бедный Дантес», — не раз еще скажет она.[290] Только Е. А. Карамзина напрямик высказала Дантесу свое осуждение,[291] но тем не менее и она продолжала поддерживать с ним светские отношения. Карамзины считали своим долгом сохранять беспристрастие.
Между тем губительная для поэта агрессия сплетни нарастала.
В свете ничего не знали о вызове Пушкина и о том, как бесславно для молодого человека окончилась история с вызовом. Поэт и его ближайшие друзья, верные своему слову, хранили в тайне все, что им было известно о несостоявшемся поединке. Никакие слухи об этом в общество не проникли. Жорж Геккерн, напротив, ради спасения своей репутации беззастенчиво компрометировал и своего противника, и женщину, которой он еще недавно клялся в вечной и преданной любви. Легенда, которую Геккерны распространяли в великосветских кругах, должна была предупредить нежелательные для них догадки и предположения.
Враждебные Пушкину слухи, бросающие тень на его семейную жизнь и репутацию его жены, были санкционированы в тех влиятельных петербургских салонах, которые направляли и определяли мнение света. Враги поэта, не решавшиеся открыто выступить против него, воспользовались представившимся случаем, чтобы нанести ему удары из-за угла. Друзья Пушкина впоследствии называли их имена — имена министра Уварова, графа Бенкендорфа, княгини Белосельской, графини Нессельроде, Трубецких и проч.
Конечно, эти два человека — иностранный дипломат и молодой авантюрист, проживший лишь три года в России, — сами не смогли бы направить общее мнение высшего света в нужное им русло. В их борьбе с Пушкиным им оказали могущественную поддержку тайные гонители поэта, те, которым всегда был враждебен «его свободный, смелый дар».
Мы не знаем, что и при каких обстоятельствах успел узнать Пушкин 20 и 21 ноября. Ясно одно: слухи, распространившиеся в петербургском обществе, стали ему известны. Не тогда ли Пушкин написал:
Развратник, радуясь, клевещет, Соблазн по городу гремит, А он, хохоча, рукоплещет… (III, 1308)Эти строки невозможно точно датировать по положению в тетради, так как они написаны вверху страницы карандашом и не связаны с соседними текстами. Но по тону и смыслу они кажутся прямым откликом на то, что происходило именно в эти дни. Трудно отделаться от мысли, что перед нами начало пушкинского стихотворения, написанного в ноябре 1836 г.[292]
Позднее Вяземский писал о клевете, обрушившейся на поэта, в самых общих словах, не желая пересказывать подробности, уязвившие Пушкина в самое сердце: «Часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии <…> Это оскорбительное и неосновательное предположение дошло до сведения Пушкина и внесло новую тревогу в его душу. Он увидел, что этот брак не избавлял его окончательно от ложного положения, в котором он очутился. Молодой Геккерн продолжал стоять, в глазах общества, между ним и его женой и бросал на обоих тень, невыносимую для щепетильности Пушкина».[293]
Взрыв был неминуем. Он произошел 21 ноября.
Возможно, непосредственным поводом к тому, что случилось 21 ноября, послужило появление барона Геккерна в доме Пушкина. Об этом визите упомянул сам посланник в письме к графу Нессельроде. По словам барона, он потребовал, чтобы Дантес написал госпоже Пушкиной письмо, «в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее». Тем самым Геккерн-старший хотел доказать, что он прилагал все усилия для того, чтобы «прервать эту несчастную связь». Такое письмо само по себе было донельзя оскорбительным для Натальи Николаевны. К тому же оно было передано через посланника (Геккерн утверждал, что он сам лично вручил его «в собственные руки»). Это делало письмо Дантеса документом, знаменующим собою некий официальный разрыв отношений. По-видимому, вручая письмо, барон Геккерн сопроводил его своими советами и наставлениями. Ведь он впоследствии сам сознавался, что в разговорах с H. H. Пушкиной «доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза».[294] А это был как раз тот случай, которым Геккерн мог воспользоваться, чтобы излить свое раздражение.
Точно датировать визит барона Геккерна к H. H. Пушкиной не представляется возможным.[295] Но вся логика развития событий говорит о том, что это произошло вскоре после оглашения помолвки. Посланник мог явиться в дом Пушкина с подобной миссией только после того, как Дантес был объявлен женихом. Самый факт помолвки и мог послужить поводом для такого «прощального» письма Дантеса. Этот жест вполне вписывался в ту легенду о рыцарстве молодого Геккерна, которую создавал посланник. До помолвки визит к замужней женщине с подобным письмом со стороны такого официального лица, как посланник, представляется нам немыслимым.
В пользу предлагаемой датировки говорят и те подробности, которые сообщает в своем письме Геккерн. По его словам, Наталья Николаевна показала письмо Дантеса мужу и «воспользовалась им, чтобы доказать <…> что она никогда не забывала вполне своих обязанностей».[296] Значит, дело происходило уже после того, как состоялось объяснение Пушкина с женой (до 4 ноября показать такое письмо и рассказать, при каких обстоятельствах оно было получено, — значило спровоцировать дуэль). Но в продолжение двухнедельных переговоров этот шаг тоже был невозможен ни со стороны Дантеса, ни Геккерна. Следовательно, наиболее вероятное время визита посланника к жене Пушкина — 20–21 ноября.
Пушкин, безусловно, воспринял назойливость Геккернов по отношению к Наталье Николаевне как новое оскорбление.
21 ноября он принял решение, которое чуть было не привело тогда же к роковым последствиям.
21 НОЯБРЯ. ДВА ПИСЬМА ПУШКИНА
21 ноября 1836 г. Пушкин написал два письма, ужаснувшие его друзей.
Первое из них, негодующее и донельзя оскорбительное, предназначалось барону Луи Геккерну. Будь это письмо отправлено, оно неминуемо привело бы к дуэли.
Второе — сдержанное, официальное — было адресовано графу Бенкендорфу. В нем Пушкин прямо и недвусмысленно заявлял, что анонимный пасквиль — дело рук господина Геккерна. Письмо это, если бы оно стало известно в обществе, должно было повергнуть в грязь его врагов. Брошенные в нем обвинения: Геккерну в составлении анонимных писем, Дантесу в том, что он своим сватовством избавил себя от поединка, — ложились клеймом бесчестия на обоих.
Эти письма, если бы они были доставлены по назначению, безусловно, сделали бы день 21 ноября поворотным в судьбе поэта.
Долгое время биографам было неясно, что именно задумал Пушкин в тот день. Чего он добивался? Что означали эти два письма, написанные в один день?
Истолкование пушкинских писем и связанных с ними обстоятельств затруднялось тем, что судьба этих автографов оказалась исполненной превратностей, поистине драматических. Так, автограф письма к Бенкендорфу исчез из поля зрения исследователей. Местонахождение его считалось неизвестным. Из пушкинистов его видел один П. И. Бартенев в середине прошлого столетия.[297] Текст этого письма в собраниях сочинений печатался по копиям, сделанным друзьями поэта. Никто в точности не знал, было ли оно отправлено но адресу или осталось в бумагах Пушкина. Ноябрьское же письмо к Геккерну Пушкин разорвал, и до нас дошли только клочки разорванного письма, часть которых была безвозвратно утрачена.[298]
Изучением этих писем занимались ученые нескольких поколений. Важнейшим этапом на этом пути было восстановление текста пушкинского письма к Геккерну, осуществленное в 1936 г. Н. В. Измайловым и Б. В. Казанским.[299] Реконструкция письма, предложенная Н. В. Измайловым (XVI, 189–191), была признана убедительной всеми пушкинистами-текстологами.
А недавно благодаря счастливой находке рукописей из архива П. И. Миллера стал известен и пушкинский автограф письма к Бенкендорфу.[300] Появление этого автографа и записки П. И. Миллера многое прояснило. Н. Я. Эйдельман, тщательно проанализировав все дошедшие до нас свидетельства о письмах, написанных Пушкиным 21 ноября, доказал, что оба они остались неотосланными (письмо, обращенное к Бенкендорфу, дошло до властей только 11 февраля 1837 г., во время посмертного обыска, которым занимались жандармы после похорон поэта).[301]
И вот теперь, когда точно установлен этот очень важный биографический факт, становится очевидным, что наше прежнее представление о кризисе, возникшем 21 ноября, было неверным.
До сих пор считалось, что в тот день, 21 ноября, Пушкин приступил к осуществлению ранее задуманного им плана мести, того самого, о котором он сказал В. Ф. Вяземской 14 ноября: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь…» и т. д. (XVI, 186, 395).
Щеголев и другие исследователи полагали, что Пушкин через несколько дней после оглашения помолвки, считая, что один из его противников достаточно посрамлен, решил свести счеты со своим главным врагом — бароном Геккерном. Более того, Щеголев даже высказал предположение о том, что Пушкин 17 ноября согласился покончить дело с Дантесом, потому что основной удар он собирался нанести Геккерну. Получалось, что письма, написанные 21 ноября, были следствием хладнокровного предварительного расчета.[302]
По мнению П. Е. Щеголева, месть, задуманная Пушкиным, заключалась в том, что он решился обесчестить своего врага в глазах Николая I. В свете этой гипотезы Щеголев и рассматривал в своих последних работах пушкинское письмо к Бенкендорфу как жалобу, обращенную через шефа жандармов к царю. Он писал об этом письме: «Пушкин задумал месть, разительную, полную, опрокидывающую человека в грязь. Он решил пойти напролом и выдать Геккерна головой монарху…».[303]
Б. В. Казанский, соглашаясь со Щеголевым, писал еще более определенно: «Этим письмом Пушкин не просто компрометирует посланника во мнении двора — он обращается на него с официальной жалобой <…> вместо личного мщения <…> Пушкин передает дело императору».[304] Такова же точка зрения Л. П. Гроссмана. В последнем издании научно-популярной биографии поэта, написанной им, сказано, что Пушкин своим письмом хотел «обесчестить голландского посланника в глазах правительства», поэтому он 21 ноября сообщил Бенкендорфу «историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью».[305]
Итак, жалоба царю взамен поединка?! Все как будто согласились с этим. Но нельзя не отдавать себе отчета в том, что это какой-то не пушкинский поступок. Жаловаться властям на человека, нарушившего его семейный покой?.. Такой образ действий не был свойствен Пушкину.
Общепринятая гипотеза не объясняет ни этого, ни многих других недоумений, о которых еще пойдет речь. Но в ней есть доля истины.
Действительно, мысль о громкой дискредитации Геккернов возникла у Пушкина в момент двухнедельных переговоров, тогда, когда он пришел к заключению, что анонимные письма — дело их рук. Уверившись в низости и вероломстве своих противников, Пушкин решил не полагаться только на игру случая. Чем бы ни завершился поединок, он хотел сквитаться с ними сполна. «Дуэли мне уже недостаточно…», — заявил он (XVI, 424). Прямо бросить в лицо своим врагам бесчестящие их обвинения — вот в чем, очевидно, и состоял его план мести. Он делал ставку на самое надежное оружие — свое перо. И в этом смысле догадка П. Е. Щеголева была верна.
Видимо, на анонимный пасквиль Пушкин собирался ответить открытым письмом, которое должно было в списках распространиться в обществе. Возможно, уже тогда возникла мысль о двух письмах: к непосредственному виновнику и к правительству, что, конечно, привело бы к громкому публичному скандалу.
Первоначально поэт приурочивал свое отмщение к моменту поединка. И даже тогда, когда Пушкин согласился отказаться от вызова, он все-таки не мог смириться с тем, что Геккерн, которого он считал организатором всей интриги, останется безнаказанным. Об этом свидетельствует уже известный нам разговор с В. Ф. Вяземской.
По всей вероятности, Жуковскому 16 ноября удалось образумить Пушкина и заручиться его обещанием покончить дело миром на самом деле.
Но, как мы помним, достаточно было одной искры, чтобы пожар вспыхнул снова. Стоило только Дантесу предъявить свои условия — и Пушкин, прекратив переговоры, сразу же поручил своему секунданту назначить место и время поединка. Создается впечатление, что Пушкин, вместо того чтобы избегать острых, ситуаций, сам искал их.
16 ноября дуэль казалась неминуемой. И только к исходу дня 17 ноября — после того как Геккерны проявили поразительную готовность к уступкам — обе стороны признали дело оконченным. Пушкин подтвердил это в присутствии двух секундантов. Отныне он считал себя связанным словом, и ему пришлось отказаться от своих планов отмщения.
Но прошло три или четыре дня, и Пушкин увидел, что доброе имя его жены втоптано в грязь.
Ему нечего было противопоставить клевете: он был связан по рукам и ногам обязательством хранить в тайне историю несостоявшейся дуэли. И тогда, не видя иного средства отстоять свою честь и защитить свою жену от клеветы, Пушкин решился на смертный поединок. Именно этим и объясняется характер его письма к Геккерну. Крайне оскорбительное по содержанию и по тону, это письмо не оставляло его противникам никакого другого исхода, кроме дуэли на самых жестоких условиях.
Этот шаг Пушкина был актом совершенно исключительным, не имеющим аналогий ни в одной из его прежних дуэльных историй — ни во времена его молодости, ни в зрелые годы. Даже 4 ноября, после анонимного пасквиля, Пушкин отослал Дантесу корректный вызов, без объяснения причин. После такого вызова возможны были переговоры и оставалась надежда на мирный исход. Теперь все должно было быть по-иному. Он отрезал себе и своему противнику все пути назад.
В этом письме к барону Геккерну Пушкин дал себе волю и высказал все, что он хотел сказать.
Не стесняясь в выражениях, Пушкин говорит посланнику о его недостойном и бесчестном поведении: «Но вы, барон, — Вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, истощенный лекарствами, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: „Верните мне моего сына…“».
С откровенным презрением отзывается Пушкин и о поведении Дантеса во время дуэльной истории и дает понять, что он уронил себя тем самым окончательно в глазах Натальи Николаевны: «Я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном». Это отповедь в ответ на слухи о рыцарстве Жоржа Геккерна.
И, наконец, Пушкин прямо обвиняет посланника и его приемного сына в составлении анонимных писем.
Письмо заканчивается страшной для Геккернов угрозой: «Поединка мне уже недостаточно <…> нет, и каков бы ни был его исход, <я не почту себя> достаточно отомщенным ни <смертью…> вашего сына, ни <его женитьбой, которая> совсем имела бы вид забавной <шутки> <…> ни <наконец> письмом, которое я имею честь вам писать и список с которого сохраняю для моего <лич>ного употребления».[306]
Все здесь было донельзя оскорбительным, и все било в цель. Но самым сокрушительным был этот последний удар — предупреждение о копии, оставленной для собственных целей. Это был недвусмысленный намек на то, что письмо может быть распространено в списках Огласка дела в истинном его свете — вот тот главный удар, который Пушкин намерен был нанести. Тем самым Геккерны были бы уничтожены в общественном мнении. Отвратить это они были бессильны. В таком случае даже поединок, каков бы ни был его исход, не мог спасти Геккернов от полного посрамления.
Как мы знаем, потом, в январе, Пушкин так и поступил. Отправляясь 27 января к месту дуэли, на Черную речку, он взял с собою копию своего последнего письма к Геккерну. Пушкин предупредил об этом Данзаса, уверенный, что друзья сумеют распорядиться его письмом как должно. По словам Вяземского, копия эта «найдена была в кармане сюртука его, в котором он дрался». «Он сказал о ней Данзасу: если убьют меня, возьми эту копию и сделай из нее какое хочешь употребление».[307]
Накануне поединка он сделал все, чтобы мертвым или живым быть победителем в деле чести.
Когда Пушкин 21 ноября писал свое письмо к Геккерну, он знал, что в ответ тотчас же последует вызов. Поэтому он поставил обо всем в известность своего секунданта.
Из воспоминаний В. Соллогуба мы знаем, что вечером 21 ноября, когда он заехал к Пушкиным, хозяин дома сразу увел его в свой кабинет и запер за собою дверь. Оставшись с молодым человеком наедине, Пушкин сказал ему: «Вы были более секундантом Дантеса, чем моим, однако я не хочу ничего делать без вашего ведома <…> Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено <…> Вы мне теперь старичка подавайте».
Он стал читать. «Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, — пишет Соллогуб, — что он действительно африканского происхождения».
Пушкин был в таком порыве гнева, что молодой человек не осмелился ничего возразить ему. «Я промолчал невольно», — рассказывал он потом. Выйдя от Пушкина, Соллогуб бросился разыскивать Жуковского. Он понимал, чем все это грозит, и «смертельно испугался». Это был субботний вечер (приемный день князя В. Ф. Одоевского), и Соллогуб прежде всего направился туда. К счастью, это было совсем близко: В. Ф. Одоевский жил в Мошковом переулке, в нескольких минутах ходьбы от дома Волконских. Как он и предполагал, Жуковский был там, и Соллогуб ему все рассказал.[308]
Видимо, Жуковский, не медля ни минуты, тотчас же отправился к Пушкину и как-то сумел его успокоить. В тот вечер письмо к Геккерну отправлено не было.
Каким образом Жуковскому удалось остановить такую бурю? В последние годы он был, кажется, единственным человеком, который умел влиять на Пушкина в моменты таких крутых поворотов. Можно думать, что в тот день дружеское участие Жуковского само по себе было целительным и помогло Пушкину восстановить душевное равновесие. Ведь все это время поэт даже в кругу близких людей не находил понимания.
Вероятно, вечером 21 ноября, когда встревоженный Жуковский появился в кабинете поэта, между ними состоялся разговор, который принес Пушкину какое-то облегчение. Жуковскому удалось удержать друга от рокового шага.
Осталось лежать на столе у Пушкина и второе письмо, написанное в этот же день, — письмо, обращенное к графу Бенкендорфу. С письмом этим было связано, как мы уже знаем, множество биографических загадок. Часть из них уже разгадана. Но не все еще прояснено до конца.
Прежде всего, остается неясным: зачем Пушкин 21 ноября написал Бенкендорфу о своем семейном деле? И уж совсем непонятно, почему он счел возможным объявить шефу жандармов (!) о несостоявшейся дуэли и о том, что он был ее инициатором. Как мы помним, в продолжение всей ноябрьской дуэльной истории с Дантесом Пушкин более всего опасался, чтобы о ней не стало известно властям. Когда у него 9 ноября появились подозрения на этот счет, Жуковский долго не мог его успокоить. Жуковскому пришлось продолжить свои объяснения письменно. 10 ноября он писал Пушкину по атому поводу: «Я обязан сделать тебе некоторые объяснения. Вчера я не имел для этого довольно спокойствия духа. Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое цело правительство. На счет этого будь совершенно спокоен…» (XVI, 184). И вот десять дней спустя Пушкин сам сообщает обо всем Бенкендорфу! Причем в тот момент, когда он снова готовится выйти к барьеру…
Общепринятое в биографической литературе истолкование этого письма как жалобы, обращенной к царю, не разъясняет всех этих недоумений.
Обратимся к тексту самого письма. Вот что поэт писал графу Бенкендорфу 21 ноября:
«Граф! Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.
В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.
Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г. Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.
Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.
Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.
Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.
С этими чувствами имею честь быть, граф, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин.
21 ноября 1836 г.» (XVI, 191–192, 397–398).[309]
Написанное в тот момент, когда Пушкин твердо решил довести дело до поединка, это письмо поражает сдержанностью своего тона. В нем нет ни одного оскорбительного слова в адрес Геккернов, — только точное изложение фактов. Это очень обдуманный документ, которому сам поэт придавал какое-то чрезвычайно важное значение. Текст его тщательно отредактирован, переписан набело. Здесь нет ничего случайного. Все взвешено и все весомо. Внизу стоит полная подпись. Пушкин отвечает за каждое сказанное здесь слово.
В своем письме Пушкин кратко, но очень точно излагает всю ноябрьскую дуэльную историю с момента появления анонимных писем. Тем самым он дает отповедь распространившейся в свете клевете и раскрывает истинную роль Дантеса во всем этом деле.
Все это ни по сути, ни по тону на жалобу не похоже. Здесь есть только одна фраза, которая, вероятно, и послужила основанием для сложившейся гипотезы. Пушкин пишет: «… я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна…». Однако он не только ничем не подкрепляет это убийственное обвинение, но даже заявляет далее: «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены <…> я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства». Так жалобы не пишут и в таком тоне не обращаются к верховной власти за содействием. Этот документ никакого официального хода получить не мог. Более того, если бы это письмо обычным путем попало к царю, оно бы навлекло на поэта серьезные неприятности.
Но Пушкин, как мы увидим, не собирался отправлять это письмо обычным путем. Когда он 21 ноября писал Бенкендорфу, что не требует ни правосудия, ни мщения, он утверждал это с полным чистосердечием. Это было его дело, и он намерен был разрешить его сам.
Зачем же он все-таки написал Бенкендорфу?
Н. Я. Эйдельман высказал предположение о том, что Пушкин хотел отправить оба письма одновременно и таким образом нанести Геккернам «двойной удар». А когда Жуковскому удалось остановить Пушкина и письмо к Геккерну было разорвано, поэт счел недостойным осведомлять власть обо всем, раз он не высказал свои обвинения прямо в лицо своему врагу.[310] В своих этических оценках Н. Я. Эйдельман безусловно прав, но его гипотеза о «двойном ударе» не может быть признана убедительной.
Ведь если бы Пушкин отослал свое письмо к Геккерну, а вслед за ним — к Бенкендорфу, это, в сущности, означало бы, что он предупреждает шефа жандармов о предстоящей дуэли.
Представляется, что намерения Пушкина были иными. Его письмо, адресованное Бенкендорфу, имело особое назначение. Пушкин не намерен был отправлять его одновременно с первым. Он переписал его набело, скрепил своей подписью и приготовил к отправке. Но попасть к адресату оно должно было после дуэли. В этом был его смысл.
Если бы дуэль окончилась для Пушкина благополучно, это письмо послужило бы официальным объяснением делу (в нем все изложено со скрупулезной точностью). В случае несчастья ему предназначено было стать посмертным письмом.
Письмо было адресовано Бенкендорфу, но обращался в нем Пушкин и к царю, и — что еще важнее — к обществу («…считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества», — писал он). В этом и заключался его план: во что бы то ни стало довести до сведения общества правду. Предать дело гласности, чтобы обнаружить истину, — таково было назначение его второго письма.
Потом — в январе — так, собственно, все и произошло.
Приводя в порядок свои бумаги накануне дуэли, Пушкин вложил в конверт это письмо, написанное два месяца тому назад. Как сообщает П. И. Миллер, письмо к Бенкендорфу было найдено в бумагах Пушкина, «переписанное и вложенное в конверт для отсылки».[311] А копию своего письма к Геккерну, как мы уже знаем, Пушкин имел при себе во время поединка. Он знал, что в случае его смерти на это письмо, лежащее в кармане сюртука, непременно обратят внимание.
Последняя воля Пушкина была исполнена его друзьями. После смерти поэта эти обличающие письма получили широкое распространение в списках. Русское общество услышало то, что хотел сказать Пушкин в защиту своей чести.
21 ноября, в один из самых черных дней своей жизни, когда Пушкин писал свое письмо, обращенное к правительству и обществу, он знал, что у него есть право обвинять, не приводя доказательств. Он намерен был поручиться за истинность здесь сказанного своей жизнью.
Письмо к Бенкендорфу — один из самых трагических документов преддуэльной истории. Но свидетельствует оно не о бессилии и отчаянии Пушкина, а о его несломленной гордости и силе духа.
23 НОЯБРЯ. АУДИЕНЦИЯ ВО ДВОРЦЕ
Через несколько дней, встретившись с Соллогубом у Карамзиных, Жуковский объявил ему, что дело он уладил и письмо к Геккерну послано не будет. Это было 24 ноября.[312]
За истекшие дни произошло событие, которое оказало существенное влияние на ход всего дела: 23 ноября в четвертом часу пополудни поэт Александр Пушкин был принят императором Николаем I в его личном кабинете в Аничковом дворце.
Среди неясных моментов преддуэльной истории этот эпизод занимает особое место.
Об аудиенции, состоявшейся во дворце 23 ноября, стало известно из публикации П. Е. Щеголева только в 1928 г.[313] До этого биографы о ней ничего не знали. Ни в одном из рассказов современников о ноябрьских событиях нет сведений об этом факте. Никто из близких Пушкину людей не обмолвился ни словом о приеме во дворце. Вяземский, правда, упомянул в разговоре с П. Бартеневым о некой беседе поэта с государем, состоявшейся в ноябре, но из контекста создавалось впечатление, что эта была какая-то случайная встреча. Не сохранилось также никаких свидетельств о том, что император кому-нибудь говорил об этой своей беседе с Пушкиным, между тем как об аудиенции 1826 г. он рассказывал многим. Вряд ли такое молчание было случайным.
До недавнего времени считалось, что Пушкин был вызван во дворец после того, как Николаю I стало известно письмо, которое поэт написал Бенкендорфу 21 ноября.
П. Е. Щеголев считал, что письмо было отослано, и после того как Бенкендорф доложил о нем царю, Пушкина тотчас же вызвали во дворец, чтобы предотвратить скандал и заставить его замолчать. Уверенный в том, что события развивались именно в такой последовательности, Щеголев полагал, что в личной беседе с государем Пушкин говорил о том же, о чем он только что известил правительство письменно. «Надо думать, — писал он, — что Пушкин осведомил царя о своих семейных обстоятельствах, о дипломе <…> и об Геккерне — авторе диплома. Результаты свидания? Они ясны. Пушкин был укрощен, был вынужден дать слово молчать о Геккерне».[314] Разговор этот, по мнению исследователя, состоялся в присутствии Бенкендорфа.
Основания для такого предположения у Щеголева были, однако его гипотеза оставила без объяснений целый ряд психологических несообразностей. В самом деле, если допустить, что разговор проходил именно так, это значит, что Пушкин оказался в нестерпимо унизительном положении, так как поведение его жены подверглось в его присутствии обсуждению императором и Бенкендорфом. Такой разговор, если бы он состоялся, был бы для поэта не менее оскорбителен, чем самый факт получения анонимных писем. В этом случае аудиенция не могла бы ни успокоить, ни тем более «укротить» Пушкина, особенно в том состоянии, в каком он был тогда.
В научно-популярных биографических работах, в том числе и наиболее удачных, можно прочесть самые неожиданные суждения об этой аудиенции. Например, по мнению Л. П. Гроссмана, беседа во дворце закончилась тем, что царь обещал поэту взять на себя расследование дела, «пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без „высочайшей“ санкции».[315] Это звучит уж совсем странно: как будто возможно было получить у Николая I «санкцию» на дуэль!
Находка пушкинского автографа в составе бумаг П. И. Миллера многое прояснила. Теперь, зная, что письмо Пушкина в ноябре не дошло до властей, мы с полным основанием можем утверждать, что гипотеза Щеголева о причинах и целях аудиенции во дворце была ошибочной. Роль этого важного эпизода в преддуэльных событиях до сих пор остается неясной.
Аудиенция во дворце, несомненно, была связана с той острой ситуацией, которая возникла 21 ноября 1836 г.
Мы знаем, что дело уладилось благодаря вмешательству Жуковского. Но каким образом? Как уже говорилось, Жуковский в тот же вечер успел повидаться с Пушкиным и приостановил отправку письма. Дальнейший ход событий можно восстановить только гипотетически.
По-видимому, Жуковский понимал, что ему удалось лишь на какое-то время отсрочить дуэль. Видя, в каком состоянии находится Пушкин, он ни в чем не мог быть уверен. Все средства им уже были исчерпаны. Вот почему Жуковский решил прибегнуть к крайним мерам: он обратился к императору с просьбой вмешаться и предотвратить трагический исход событий. Судя по всему, что нам в настоящее время известно, инициатором аудиенции и был Жуковский.
Это предположение было высказано Эйдельманом сразу же после того, как он ознакомился с автографом пушкинского письма к Бенкендорфу и заметками Миллера. С его мнением согласилась Я. Л. Левкович.[316]
Но если аудиенция состоялась по просьбе Жуковского, то и роль ее в дуэльной истории, очевидно, была совсем иной, чем это представлялось до сих пор…
Разговор Жуковского с Николаем I, по-видимому, состоялся в воскресенье, 22 ноября.
Правда, на первый взгляд может показаться, что данные камер-фурьерского журнала за 22 ноября 1836 г. опровергают это предположение. Среди тех, кто посетил дворец в этот день, имя действительного статского советника Жуковского не значится. Однако при внимательном чтении камер-фурьерских журналов можно убедиться, что в них не фиксировались беседы и встречи высочайших особ, не предусмотренные церемониалом и официальным распорядком дня, носившие, так сказать, частный характер. Разговор воспитателя наследника с императором в кулуарах дворца вовсе не обязательно должен был отразиться в журнале высочайшего двора.[317]
Заговорив 22 ноября с императором о деле Пушкина, Жуковский, очевидно, рассказал ему о только что предотвращенной дуэли. До сих пор он считал долгом чести хранить тайну вызова и требовал того же от самого поэта и от всех его друзей.[318] Но теперь, когда жизнь Пушкина снова оказалась под угрозой, когда Жуковский увидел, к чему привело молчание, он вынужден был нарушить свое слово.
Зная щепетильность Жуковского, зная, с каким тактом он вел себя в продолжение всей ноябрьской истории, можно с большой долей вероятности предположить, что и на этот раз он сказал только то, чего нельзя было не сказать. Он наверняка сообщил об анонимных письмах (о чем все знали) и о последовавшем затем вызове Пушкина (что было для императора совершенно неожиданной новостью). И конечно же, в разговоре с царем он должен был сделать упор на то, что Пушкин сам взял назад свой вызов, когда узнал о намерении Дантеса посвататься к Екатерине Гончаровой.
Излагая государю дело таким, каким оно было в действительности, Жуковский противопоставлял истину тем сплетням, которые уже широко распространились в обществе. Жуковский мог рассчитывать, что если царь узнает правду, это настроит его в пользу Пушкина.
В заключение Жуковский должен был сказать о том, что история может вот-вот возобновиться, так как в свете, где ничего не знают о причинах помолвки Дантеса, снова распространяются оскорбительные для Пушкина слухи. Жуковский мог просить государя вмешаться, остановить Пушкина царским словом.
Предположение о том, что 22 ноября Жуковский сообщил царю о несостоявшемся поединке, находит косвенное подтверждение в письмах императрицы и ее ближайшей подруги графини Бобринской.
Известное письмо императрицы к Бобринской от 23 ноября («Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет»)[319] комментаторы до сих пор ошибочно связывали с письмом Пушкина к Бенкендорфу, о котором будто бы стало известно во дворце в эти дни. Но, по всей вероятности, записка императрицы является прямым откликом на разговор Жуковского с государем, состоявшийся 22 ноября. Конечно, сообщение о том, что неожиданное сватовство Дантеса было связано с вызовом, полученным от Пушкина, бросало новый свет на все это дело. Но, по-видимому, Жуковский, доверив императору тайну отмененного поединка, просил не разглашать ее, поэтому Александра Федоровна и пишет: «Но это секрет». Надо полагать, что она все же раскрыла его своей ближайшей подруге при личной встрече.
В недавно опубликованном письме Бобринской к мужу от 25 ноября чувствуются отзвуки тех сведений, которые она получила от императрицы. Письмо целиком посвящено главной сенсации дня — женитьбе Дантеса, и, как справедливо отмечает Н. Б. Востокова, опубликовавшая материалы из архива Бобринских, это письмо с подтекстом. В нем Софья Александровна высказала далеко не все, что знала (она ведь тоже обещала хранить «секрет»!).
Вспомним начало этого письма. «Никогда еще, с тех пор как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных, — пишет графиня С. А. Бобринская. — Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву <…> Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина. Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю».[320]
Судя по всему, Софья Александровна знает обе версии: идущую от Жуковского — о вынужденном сватовстве с целью избежать поединка, и сказку Геккерна — о самопожертвовании Дантеса для спасения чести H. H. Пушкиной.[321] Эти версии взаимно исключают друг друга, н графиня Бобринская, видимо, не может поверить до конца ни одной из них.
А далее в письме появляется интонация, которой мы не слышали еще ни в одном из откликов тех дней. «Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, — продолжает Бобринская, — это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно». Здесь ощущается ирония: «самопожертвование» под дулом пистолета представляется ей не столь уж героическим.
Затем, описав двусмысленное положение, в котором очутились Пушкин и его жена, а также молодой человек и невеста, Бобринская уже иным тоном, серьезно, но чрезвычайно кратко — явно о многом умалчивая — сообщает: «Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное — месть <…> Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отомщенного!».[322]
Итак, с точки зрения Бобринской, помолвка — следствие мести Пушкина (т. е. вызова, угрозы поединка). Об этом она говорит намеками, не чувствуя себя вправо высказаться прямо. Бобринская в своем письме делает такой акцент на теме отмщенья именно потому, что ей уже стал известен от императрицы «секрет», сообщенный Жуковским.
Пушкин был на приеме в Аничковом дворце в понедельник 23 ноября в четвертом часу дня. В камер-фурьерском журнале об этом сказано так: «По возвращении (с прогулки, — С. А.) его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина».[323] До сих пор считалось, что разговор императора с Пушкиным состоялся в неурочное время и что эта аудиенция будто бы нарушила обычный распорядок дня Николая I.
Но на самом деле ничего подобного не произошло. Время после прогулки было самым удобным для такой беседы и, конечно, было назначено заранее. Утром император работал с министрами, а вечером — после обеда — обычно не занимался делами и лишь иногда принимал тех, кто принадлежал к узкому кругу особо приближенных к нему лиц. Время после прогулки было наименее регламентированным, оно отводилось для «разных» дел. Кстати, именно в эти часы Николай I нередко принимал начальника III отделения Бенкендорфа (в частности, в интересующий нас период Бенкендорф был с докладом у императора после трех часов дня 16, 23 и 26 ноября).
23 ноября после трех часов император принял Бенкендорфа и Пушкина.
Вместе или порознь? Запись в камер-фурьерском журнале не дает ответа на этот вопрос. Но теперь, когда мы знаем, что шеф жандармов прямого отношения к этой аудиенции не имел, есть все основания усомниться, присутствовал ли он при этой беседе. Судя по тому, что в этот день утром начальник III отделения еще не был с докладом у государя, можно думать, что сначала царь принял Бенкендорфа, а потом Пушкина. Тот разговор, ради которого Пушкин был приглашен во дворец, уместнее было вести с ним наедине.
Конечно, беседа Пушкина с царем, состоявшаяся 23 ноября, была событием из ряда вон выходящим. Но необычным во всем этом было не время визита, а самый характер аудиенции, нарушавший прочно установившиеся при Николае I нормы придворной жизни. В эти годы на прием к государю можно было попасть либо по службе, либо в особых случаях, строго обусловленных этикетом: во дворец являлись представляться, благодарить, откланиваться. Личные аудиенции, не носившие церемониального характера, были явлением чрезвычайным, О просьбах и прошениях Николаю I докладывали министры или люди, приближенные к нему. Правда, император нередко вмешивался в интимные и семейные дела тех, кто принадлежал к придворному кругу, но все подобные истории разыгрывались где-то за кулисами, а не на парадной сцене, не в официальной обстановке.
С Пушкиным все обстояло иначе. Личные контакты поэта с царем всегда оказывались вне общепринятой субординации. Так получилось и на этот раз. Решить дело Пушкина «по-отечески», как это принято было со своими, царь не мог. Пришлось назначать официальную аудиенцию и приглашать поэта в свой кабинет.
Для того чтобы составить себе хоть некоторое представление о сути разговора, происходившего 23 ноября в Аничковом дворце, нужно прежде всего отказаться от ложных версий, которые уводят нас в сторону от того, что было в действительности.
Так явно ошибочным оказалось предположение о том, что Пушкин во время встречи с императором выступил с обвинениями против Геккерна и назвал его автором анонимных писем.[324] О том, что это не было сказано 23 ноября, мы знаем от самого Пушкина. В своем январском письме, напоминая о том, что он решительно потребовал от Геккернов, чтобы они прекратили какие бы то ни было отношения с его семьей, Пушкин писал: «Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение» (XVI, 427). Теперь, когда вся история несколько прояснилась, стали понятнее и эти его слова. Значит, во время аудиенции, когда он имел единственную в своем роде возможность откровенно говорить с императором, Пушкин не сказал ничего бесчестящего посланника. Сомневаться в искренности того, что он писал в этом последнем письме к Геккерну, нет никаких оснований.
Гораздо труднее выявить, что же было сказано во время этой аудиенции.
Сохранилось несколько отрывочных и очень неясных упоминаний о каком-то разговоре царя с поэтом, имеющем отношение к дуэльной истории. Все они идут из круга друзей Пушкина, но известны по большей части в чьем-либо пересказе. Остановимся прежде всего на рассказе Вяземского, дошедшем до нас в передаче Бартенева. Бартенев трижды по разным поводам пересказывал одно и то же сообщение Вяземского, основываясь на записи, сделанной в 1850-х годах. Текст при этом несколько варьировался, но суть его оставалась неизменной. И во всех случаях Бартенев определенно указывал, что речь идет о разговоре, происходившем в ноябре 1836 г.
В 1865 г., в примечаниях к воспоминаниям В. Соллогуба, Бартенев упомянул, ссылаясь на Вяземского, что Пушкин «в течение двухнедельного срока <…> имел случай видеться с государем и дал ему слово ничего не начинать, не предуведомив его».[325] Здесь Бартенев относит разговор с государем к периоду двухнедельной отсрочки, данной Пушкиным Геккерну (к 4–17 ноября).
В 1888 г. Бартенев опубликовал это сообщение среди других воспоминаний Вяземских о Пушкине, причем поместил его после рассказа о сватовстве Дантеса. Теперь этот эпизод был изложен Бартеневым так: «После этого (т. е. после помолвки, — С. А.) государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед».[326]
И наконец, в 1902 г., говоря о письме к Бенкендорфу, Бартенев прокомментировал его, опираясь на тот же рассказ Вяземского: «Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 года государю, уведомить его (чрез гр. Бенкендорфа), если ссора с Дантесом возобновится».[327]
Бартенев твердо запомнил, что дело происходило в ноябре и было связано с ноябрьской дуэлью, но когда именно состоялся разговор с государем — он не знал. Не знал он также и того, что это было во дворце, в кабинете императора.
Во всех трех вариантах рассказа просвечивает один и тот же текст: во время этой встречи Пушкин дал слово государю… Но что именно он обещал — из записей Бартенева остается неясным. Нельзя же в самом деле считать вероятным, что Пушкин обещал поставить в известность царя о предстоящей дуэли!
Все разъяснилось, когда стало известным письмо Е. А. Карамзиной от 2 февраля 1837 г. Сообщая сыну о последних часах Пушкина, она писала: «После истории со своей первой дуэлью П<ушкин> обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков<ского> просить прощения у гос<ударя> в том, что он не сдержал слова».[328] Нет сомнения в том, что Карамзина узнала обо всем от наиболее осведомленного в этом деле человека — от самого Жуковского. В письме Карамзиной содержатся наиболее достоверные сведения о ноябрьской беседе поэта с царем. Екатерина Андреевна, очевидно, знала об аудиенции: она совершенно точно называет время беседы: после первой дуэли. И конечно, вполне точно передает смысл того обещания, которое дал Пушкин 23 ноября: не драться ни под каким предлогом…
В связи с этим и запись Бартенева, после того как стало возможным скорректировать и уточнить ее при помощи другого документа, тоже приобрела значение весьма ценного свидетельства. Она дополняет сообщение Карамзиной. Во всех трех редакциях этой записи почти дословно повторяется одно и то же: упоминание о том, что Пушкин обещал уведомить государя, если история возобновится (в другом варианте: «если ссора с Дантесом возобновится…»).
Итак, царь взял с Пушкина обещание: не драться ни под каким предлогом, но если история возобновится, обратиться к нему. Значит, Николай I заверил Пушкина, что он лично вмешается в его дело…
Вот то немногое, что нам известно об аудиенции 23 ноября из достоверных источников.
Что-то знала от Пушкина о его беседе с царем Евпраксия Николаевна Вульф (тогда уже баронесса Вревская). Но ее рассказы об этом были записаны М. И. Семевским в 1860-е годы. За тридцать лет, протекшие с того времени, в ее памяти многое спуталось. Вревская, в частности, рассказывала, что Пушкин говорил ей накануне дуэли: «Император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их (детей, — С. А.) под свое покровительство».[329] Слова об обещании Николая I позаботиться о детях, по всей вероятности, возникли в воображении Евпраксии Николаевны позднее — под влиянием многократно слышанных ею разговоров о «милостях», оказанных Николаем I детям поэта. Но в ее рассказе, кажется, звучит одна живая пушкинская фраза: «Императору <…> известно все мое дело…». Вот слова, которые она, вероятно, слышала от самого поэта: на эту тему толков в обществе не было никаких, а придумать это она вряд ли решилась бы.
Свидетельства Соллогуба, Карамзиной, Вяземского, Вревской, взятые в совокупности, убеждают нас прежде всего в том, что царь наблюдал за делом Пушкина с более близкой дистанции, чем это предполагалось до сих пор. О ноябрьской истории с Дантесом он узнал, вероятнее всего, не по официальным каналам, не из доклада Бенкендорфа, а со слов друга Пушкина — Жуковского. Получилось так, что император был вовлечен в это дело и принял в нем личное участие. С 22 ноября он знал не только о внешнем ходе событий, но и о том, что жизнь Пушкина под угрозой.
Реконструировать ход беседы поэта с царем на основании тех скудных сведений, которые нам известны, не представляется возможным. В данном случае допустимы лишь самые осторожные предположения.
Так как аудиенция закончилась благополучно, надо думать, что Николай I проявил определенную гибкость в этом разговоре. В тот момент, когда Пушкин был готов на все, повеление императора не могло бы его остановить. Должно было быть сказано что-то такое, что как-то разрядило бы напряженность. По-видимому, царь заверил Пушкина, что репутация Натальи Николаевны безупречна в его глазах и в мнении общества и, следовательно, никакого серьезного повода для вызова не существует. Это, кстати, император мог сказать с полной убежденностью, так как и после дуэли писал брату, что жена поэта была во всем совершенно невинна. Если нечто подобное было сказано 23 ноября, то это было для Пушкина очень важно.
Можно также предположить, что в этом разговоре не были затронуты подробности его семейных обстоятельств. Скорее всего царь, сославшись на Жуковского, сказал Пушкину, что знает все дело. А то, что правда о его ноябрьской истории с Дантесом стала известна, должно было иметь для Пушкина очень серьезное значение. Он мог надеяться, что теперь клевете будет противопоставлена истина.
В заключение Николай I, вероятно, прибег к формуле, уже знакомой нам по его прежним переговорам с поэтом: «Я твоему слову верю… обещай мне…». И Пушкин дал слово не доводить дело до дуэли. Вероятно, в тот момент, как и прежде в подобных ситуациях, он был искренен. Еще раз возникла иллюзия о справедливости, исходящей от царя. Император знал правду, и Пушкин мог рассчитывать, что мнение царя будет противостоять клевете. У него появилась надежда на то, что он все-таки сможет с достоинством выйти из создавшегося положения. На какое-то время это могло служить ему поддержкой.
Ближайшие результаты аудиенции, судя по всему, что нам известно, были благоприятными. Жуковский, видимо, твердо полагался на слово, данное Пушкиным. Угроза дуэли, казалось, была устранена.
О других, далеко идущих последствиях разговора с царем речь пойдет ниже.
ПОЭТ И ЧЕРНЬ
После той бури, которую он перенес, Пушкину трудно было обрести спокойствие духа. Его нервозность, подавленность замечали почти все, кто часто с ним общался. 28 ноября, через несколько дней после своего приезда в Петербург, Александр Иванович Тургенев в письме к брату отметил: «Пушкин озабочен своим семейным делом».[330] В начале декабря в Петербург приехала Екатерина Николаевна Мещерская. Пушкин встретил с ее стороны понимание и сердечное сочувствие, он был с нею откровеннее, чем с многими. Она потом писала: «С самого моего приезда я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице <…> при появлении будущего его убийцы».[331] 4 декабря Пушкин был на семейном празднике у Греча: «Пушкин, как заметили многие, был не в своей тарелке», на его впечатлительном лице отражалась мрачная задумчивость.[332]
И тем не менее и в эти последние два месяца деятельность Пушкина была необычайно интенсивной.
В конце 1836 г. и в январе 1837 г. он готовит к изданию пятый том «Современника», собирая материалы у столичных и иногородних сотрудников своего журнала.
В декабре Вяземский получил из Варшавы письмо от П. Б. Козловского, чьим сотрудничеством Пушкин очень дорожил. Козловский писал: «Спроси у Пушкина, надобна ли ему необходимо статья о паровых машинах <…> и будет ли она довольно новою, чтобы заманить читателей, ибо печальная вещь ломать себе голову и писать без надежды некоторой пользы <…> Что делает Александр Сергеевич? Я о нем думаю <…> Этот человек был рожден на славу и просвещение своих соотечественников».[333] Пушкин подтвердил, что статья ему нужна. 26 января вечером, накануне своей дуэли, Пушкин просил П. А. Вяземского напомнить Козловскому об обещанной им статье.[334]
В декабре — январе Пушкин рассматривает присланные ему для «Современника» статьи Вигеля, Волкова и другие материалы. Отдает переписывать предназначенную для «Современника» «Записку об Артемии Волынском» (изложение подлинного следственного дела). Ведет переговоры с Одоевским о повести, которую тот обещал, и торопит его. В первых числах декабря он пишет Одоевскому: «Благодарю за статью — сей час сажусь за нее. Повесть! Повесть!» (XVI, 214).
В декабре и в январе Пушкин рассматривает и редактирует очерки А. И. Тургенева. 16 января он отсылает Тургеневу его материалы, сопроводив их некоторыми своими замечаниями, и пишет: «Статья глубоко занимательная» (XVI, 218). Пушкин собирается опубликовать ее в пятом томе под заглавием «Труды А. И. Т. в Римских и Парижских архивах». 13 января А. И. Тургенев по поручению поэта пишет в Париж и просит французского литератора Ксавье Мармье прислать для «Современника» его путевые очерки о Скандинавском севере.[335]
За несколько дней до дуэли Пушкин беседует с И. И. Трико — автором только что вышедшей «Элементарной французской грамматики» и собирается сделать подробный разбор этого учебника.[336] В эти же дни поэт заказывает молодой писательнице А. О. Ишимовой переводы для «Современника»: «Мне хотелось бы познакомить русскую публику с произведениями Ваrrу Cornwall. Не согласитесь ли вы перевести несколько из его Драматических очерков?» (XVI, 218–219). С этой просьбой он обратился к А. О. Ишимовой 25 января 1837 г.
В бумагах Пушкина сохранились начатые, но оставшиеся незавершенными статьи, над которыми он работал в это время: «О Мильтоне и шатобриановом переводе „Потерянного рая“»,[337] о «Слове о полку Игореве», об истории освоения Камчатки (по материалам книги С. П. Крашенинникова).[338] По-видимому, предназначалась для «Современника» и статья пародийного характера под заглавием «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», которая была написана Пушкиным в начале января 1837 г.[339] Эти незавершенные труды поэта и последняя законченная им статья говорят нам о том, что более всего занимало и волновало его в это время.
Блистательная мистификация, развернутая Пушкиным вокруг истории с мнимым вызовом, будто бы посланным Вольтеру неким потомком Жанны д'Арк, возникла, как это убедительно показал Д. Д. Благой, под влиянием глубоко личных стимулов. Сюжетным стержнем этой вещи стал мотив отказа от дуэли. Придуманная Пушкиным мистификация позволила ему от частного случая перейти к широким обобщениям об утрате важнейших нравственных ценностей в современном обществе. «Вызов доброго и честного Дюлиса, — пишет Пушкин, — если бы он стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и M-me Joffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! Жалкий народ!» (XII, 155). Отказ от поединка рассматривается в этом контексте как проявление полного падения нравов.
Тем важнее, по мысли Пушкина, в век всеобщего цинизма личная роль поэта в судьбах нации. В пушкинской статье о Шатобриане главной идеей становится мысль о чести и достоинстве писателя. Говоря о Шатобриане, Пушкин, в сущности, говорит о себе: «Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность <…> Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупною совестью» (XII, 144). Долг поэта, художника Пушкин видит в том, чтобы остаться верным своим принципам. Мысль о чести и достоинстве писателя — одна из самых дорогих для него идей, к которой он не раз возвращается на страницах «Современника».
Начало статьи о «Слове» — след большого замысла, который Пушкину не пришлось завершить. По словам А. И. Тургенева, много с ним беседовавшего на эту тему, Пушкин готовил критическое издание «Слова о полку Игореве». «Три или четыре места в оригинале останутся неясными, — писал А. И. Тургенев брату 15 декабря, — но многое прояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий слав<янских> и языка русского».[340]
Замысел этот возник давно. Весной 1836 г. Пушкин говорил о «Слове» с московскими учеными. С. П. Шевырев впоследствии вспоминал: «„Слово о полку Игореве“ <…> было любимым предметом его последних разговоров <…> Известно, что Пушкин готовил издание „Слова“. Нельзя не пожалеть, что он не успел докончить труда своего».[341]
Новый толчком для возобновления работы над текстом древнерусского памятника послужило то, что в декабре 1836 г. Жуковский передал Пушкину свой перевод «Слова».[342] В первых числах января поэт беседовал о «Слове» с преподавателем Московского университета М. А. Коркуновым. 4 февраля 1837 г. Коркунов, потрясенный известием о смерти поэта, писал: «С месяц тому, Пушкин разговаривал со мною о русской истории; его светлые объяснения древней „Песни о полку Игореве“ если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки».[343]
В декабре — январе Пушкин много работает над материалами по истории Петра. Он собирается в Москву для занятий в архивах. «Мне нужно съездить в Москву, — писал он отцу в последних числах декабря, — во всяком случае я надеюсь вскоре повидаться с вами» (XVI, 212, 405).
Но он уже понимает, что то историческое повествование о Петре Великом, которое начинало слагаться в его воображении, не будет пропущено в печать. А. В. Никитенко слышал, как Пушкин говорил об этом 20 января на вечере у Плетнева: «Он сознавался <…> что историю Петра пока <…> не позволят печатать».[344]
А. И. Тургенев, который виделся с Пушкиным почти ежедневно, записал: «Пушкин <…> полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах: иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое прежде было столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности, не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы».[345]
Большую радость доставило Пушкину вышедшее в декабре 1836 г. изящное миниатюрное издание «Евгения Онегина». Сохранился следующий рассказ одного из современников: «Когда это издание „Онегина“ <…> было отпечатано и вышло в свет, оно Пушкину до того понравилось, что он каждый день заводил кого-либо из своих знакомых в книжную лавку, к приказчику Полякову, показывал это издание и располагал поручить И. И. Глазунову издать таким же образом и некоторые другие свои произведения».[346]
Накануне нового года поэт договорился с издателем Плюшаром о переиздании своих стихотворений в одном томе и получил от него аванс. В начале января он вел переговоры с книгопродавцем Л. И. Жебелевым об издании своих «Романов и повестей» в двух томах (первый том этого издания должна была составить «Капитанская дочка»).[347]
22 декабря вышел в свет четвертый том «Современника». Все вокруг заговорили о новом романе Пушкина.
Через несколько дней Одоевский написал Пушкину: «Я не мог ни на минуту оставить книги, читая ее даже не как художник, но стараясь быть просто читателем, добравшимся до повести» (XVI, 196). 30 декабря Н, И. Греч, встретив Пушкина в Академии наук на публичном заседании, с низким поклоном благодарил его за «Капитанскую дочку»:
«Что за прелесть Вы подарили нам! <…> Ваша „Капитанская дочка“ чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером <…> Ведь книгу-то наши дочери будут читать!
— Давайте, давайте им читать! — говорил в ответ улыбаясь Пушкин».[348]
9 января А. И. Тургенев писал в Москву: «Повесть Пушкина здесь так прославилась, что Барант, не шутя, предлагал автору, при мне, перевести ее на французский с его помощью, но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести? <…> Главная прелесть в рассказе, а рассказ пересказать на другом языке — трудно».[349]
Успех «Капитанской дочки» внушал друзьям Пушкина надежду на то, что число подписчиков «Современника» увеличится. Вяземский в январе 1837 г. писал об этом И. И. Дмитриеву.[350]
В последних числах декабря Пушкин писал отцу: «Вот уж наступает новый год — дай бог, чтоб он был для нас счастливее, чем тот, который истекает» (XVI, 212, 405).
В декабре близким Пушкину людям стало казаться, что гроза прошла стороной.
Ноябрьская история послужила для Дантеса хорошим уроком, он на время утратил свою самоуверенность. Видимо, он старался не встречаться с Пушкиным. В течение нескольких недель Дантес не появлялся у Карамзиных и у Вяземских в те вечера, когда там бывал Пушкин с женой. Со своей невестой он обменивался нежными записочками и виделся с нею по утрам у Е. И. Загряжской, как это было условлено между семьями. В письмах Карамзиных между 28 ноября и 29 декабря нет упоминаний о Пушкиных и Дантесе: наступило видимое затишье.
Но накануне нового года Дантес вновь стал появляться в гостиной Карамзиных, на вечерах у Вяземских и у Мещерских, где чуть ли не ежедневно встречался с Натальей Николаевной и Пушкиным. Во второй половине декабря молодой человек был болен, и первый визит после болезни он нанес 27 декабря Мещерским, где вечером нередко собиралась вся семья Карамзиных. Уже был назначен день свадьбы, и Софья Николаевна присматривается к Дантесу с живейшим интересом и сочувствием. Она пишет об этом вечере: «Бедный Дантес <…> появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастен».[351]
28 декабря Дантес снова нанес визит Карамзиным, зная, что там будут Пушкины и Гончаровы. Описывая этот вечер, С. Н. Карамзина упоминает о душевном состоянии Пушкина, но говорит об этом с откровенной иронией: «Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом». «Ах, смею тебя уверить, — пишет Софья Николаевна брату, — это было ужасно смешно».[352] Итак, даже в этом доме сочувствовали Дантесу, а не Пушкину. Письмо С. Н. Карамзиной дает возможность почувствовать, какой мучительной оказалась для поэта сложившаяся ситуация: он принужден был общаться с Дантесом как с будущим родственником в самых дружественных ему домах.
Больше всего Пушкина терзало то, что его жена не сумела найти верный тон и тем дала повод для пересудов даже в этом кругу. Конечно, от поэта не укрылось и то, на что обратила внимание Софья Николаевна. «Натали, — писала она, — <…> со своей стороны ведет себя не очень прямодушно: в присутствии мужа делает вид, что не кланяется с Дантесом, и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре, а тот снова, стоя против нее, устремляет в ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью».[353]
Д. Ф. Фикельмон проявила больше снисходительности и больше понимания, говоря о H. H. Пушкиной, чем С. Н. Карамзина. Она писала: «Бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала». Наталье Николаевне очень хотелось поверить в то, что Дантес принес себя в жертву ради нее и что он влюблен по-прежнему. По словам Фикельмон, H. H. Пушкина не желала верить, что Дантес предпочел ей сестру, и «по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте, спорила с мужем о возможности такой перемены в его сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия».[354]
31 декабря, в канун нового года, был большой вечер у Вяземских. В. Ф. Вяземская впоследствии рассказывала об этом новогоднем вечере П. И. Бартеневу: «В качестве жениха Геккерн явился с невестою. Отказывать ему от дома не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой».[355]
Видимо, и дома Пушкину в эти дни было тяжело. Сообщая отцу о предстоящей свадьбе своей свояченицы, Пушкин писал: «Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но приводит меня в бешенство. Ибо мой дом имеет вид модной и бельевой лавки» (XVI, 213,405).
10 января состоялась наконец свадьба, которой с таким нетерпением дожидалась Екатерина Гончарова.
Накануне, 9 января, Карамзина сообщила: «Завтра, в воскресенье, состоится эта удивительная свадьба <…> Все это по-прежнему очень странно и необъяснимо; Дантес не мог почувствовать увлечения, и вид у него совсем не влюбленный. Катрин во всяком случае более счастлива, чем он».[356]
В первые дни после свадьбы всем окружающим казалось, что дело пришло к благополучному исходу.
Александр Карамзин с удовлетворением рассказывал: «Неделю назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой. Я был шафером Гончаровой. На другой день я у них завтракал. Leur intériur élégant[357] мне очень понравился. Тому два дня был у старика Строганова (le père assis[358]) свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман à la Balzac, к большой досаде с. — петербургских сплетников и сплетниц».[359]
Карамзиных настолько поразило убранство комнат, которые барон Геккерн приготовил для молодоженов, что они возвращаются к этому в своих письмах несколько раз. По словам Софьи Николаевны, ее братья «были ослеплены изяществом их квартиры, богатством серебра и той совершенно особой заботливостью, с которой убраны комнаты, предназначенные для Катрин».[360]
11 января в нидерландском посольстве состоялся свадебный завтрак. С. Н. Карамзина была в числе приглашенных. Она так передает свои впечатления: «Ничего не может быть красивее, удобнее и очаровательно изящнее их комнат, нельзя представить себе лиц безмятежнее и веселее, чем лица всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притворством: для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру им пришлось бы вест! всю жизнь!». И все-таки Софья Николаевна не верит в искренность этой идиллии. «Непонятно!», — так заключает она свои размышления о Геккернах.[361]
Люди, сталкивающиеся со всеми тремя действующим! лицами чаще, яснее видели то, что было скрыто от посторонних глаз.
Жуковский позднее записал о Дантесе со слов Александрины Гончаровой: «После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной. Les gévélations d'Alexandrine.[362] При тетке ласка с женой: при Александрине и других, кои могли рассказать, de brusqueries.[363] Дома же веселость и большое согласие».[364] При Наталье Николаевне Дантес был «мрачен», разыгрывал из себя жертву и уверял, что любит только ее. На глазах у тетушки (так же как и в доме Карамзиных) оп играл роль счастливого мужа.
Так же оценил поведение Дантеса и Александр Карамзин, когда он впоследствии стал переосмыслять то, мимо чего раньше проходил как бы с закрытыми глазами. В мартовском письме к брату он тоже обвинил Дантеса в двуличии и притворстве: «…он <…> передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благородством души».[365] Двойную игру Дантеса раньше всех разгадала Александрией, которая в этом кругу знала о нем больше, чем кто-либо другой. После переезда сестры в дом нидерландского посольства она бывала там, как она сама признавалась, «не без довольно тягостного чувства».[366]
Совершившаяся свадьба вновь приковала внимание великосветского общества к Жоржу Геккерну и Пушкиным. Вот почему посланнику так важно было именно в этот момент оказать воздействие на общественное мнение. Барон Геккерн не жалел средств на свадебные расходы: нужно было, чтобы молодожены произвели в обществе самое благоприятное впечатление. С этой целью широко демонстрируется прелестная квартира молодых, устраиваются приемы, наносятся визиты.
Несмотря на предупреждение, которое было ему передано через секундантов в ноябре, Дантес приезжал и к Пушкину со свадебным визитом. Поэт его не принял. По настоянию барона Геккерна Дантес после свадьбы дважды писал Пушкину. На одно письмо поэт ответил на словах, что «не желает возобновлять с Дантесом никаких отношений». Второе вернул нераспечатанным.[367]
14 января был устроен свадебный обед у графа Строганова. Пушкин знал, что окажется за одним столом с Геккернами, но отказаться от приглашения Строганова счел неудобным.
Данзас рассказывает: «На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и, когда после обеда барон Геккерен, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и г. Дантесом».[368]
Все это делалось публично. Геккерн наглядно демонстрировал обществу свою терпимость и миролюбие и давал понять всем, что Пушкин ведет себя «ужасно». И все вокруг, в том числе и близкие друзья, в один голос восклицали: «Да чего же он хочет? да ведь он сошел с ума! он разыгрывает удальца!».[369]
Между тем зимние праздники были в самом разгаре, и Пушкины волей-неволей встречались с Геккернами почти каждый вечер.
14 января, т. е. в тот же день, когда произошел инцидент на обеде у графа Строганова, Пушкины и чета молодоженов снова встретились вечером на балу во французском посольстве. А. И. Тургенев об этом вечере у Баранта писал: «Бал его был блестящий и великолепный».[370] Тургенев отметил, «прелесть и роскошь туалетов» присутствовавших дам и сделал в дневнике одну запись, которая не поддается точной расшифровке: «Пушкина и сестры ее…».[371] Может быть, Тургенев имел в виду тот самый инцидент, о котором упомянул Дантес в своем письме к полковнику Бреверну. В этом оправдательном письме Дантес сообщал со слов своей жены о каком-то ее столкновении с Пушкиным на балу у Баранта (Пушкин якобы просил Екатерину Николаевну выпить за его здоровье, она отказалась: тогда Пушкин пригрозил: «Берегитесь! Я принесу вам несчастье…»). Дантес упомянул также о том, что Пушкин на вечерах садился подле сестер, когда они оказывались рядом, и объяснял это так: «Чтобы видеть, каковы вы вместе, каковы у вас лица, когда вы разговариваете».[372] Так до нас дошла еще одна трагическая подробность этих дней: Пушкину мучительно было видеть, что его жена испытывает ревность к сестре.
П. А. Вяземский в одном из своих писем тоже сообщал о бале у французского посла. Вот что он писал о чете Геккернов: «Мадам Геккерн имела счастливый вид, который молодил ее на десять лет <…> муж тоже много танцевал, и никакая тень брачной меланхолии не легла на черты его лица, такого красивого и выразительного».[373]
15 января у Вяземских праздновали день рождения дочери, и был многолюдный вечер «подстать большому балу у Белосельских». 16 января состоялся традиционный бал в Дворянском собрании. 18 января Пушкины и Геккерны вновь встретились на вечере у саксонского посланника Люцероде, где, по словам Вяземского, танцы были устроены «в честь новобрачных Геккернов».
21 января был «бал у Фикельмонов на пятьсот человек; очень красивый, очень оживленный, очень элегантный».[374]
«У г-жи Пушкиной волосы были гладкие и заплетены очень низко, — совершенно как прекрасная камея», — так вспоминала об этом вечере Алина Дурново.[375] А уже известная нам Мари Мердер записала в дневнике: «На балу я не танцевала. Было слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жою Пушкиной. Какое восхитительное создание!
Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилой дамой, которая, как можно было понять из долетавших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения: „Докажите <…> что вы сумеете быть хорошим мужем и что ходящие слухи неосновательны“».[376]
На всех этих балах молодые Геккерны в центре внимания. Их поздравляют, в их честь устраивают вечера, о них сплетничают. Имя госпожи Пушкиной у всех на устах, когда идет речь о Жорже Геккерне и его жене.
«Свадьба <…> активизировала сплетни», — отметила А. А. Ахматова.[377] Поведение же Дантеса после свадьбы дало новую пищу для толков и разговоров.
Графиня Фикельмон пишет: «Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования».[378] Об этом же сообщают все мемуаристы пушкинского круга. Данзас в своих показаниях перед военно-судной комиссией в феврале официально обвинил обоих Геккернов: «Гг. Геккерны даже после свадьбы не переставали дерзким обращением с женою его <…> давать повод к усилению мнения, поносительного для его чести, так и для чести его жены».[379]
Буквально через несколько дней после свадьбы Дантес на глазах всего петербургского общества вновь стал назойливо преследовать H. H. Пушкину. «Молодой Геккерн, — писал Вяземский, — продолжал, в присутствии своей жены, подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее, он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть».[380]
Многие говорят о том, что в январе ухаживание Дантеса за женой поэта было подчеркнутым, демонстративным. «Это была настоящая бравада, — писал впоследствии барон Фризенгоф, муж Александры Николаевны, — я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться».[381] К этому времени Дантес успел убедиться, что сочувствие общества целиком на его стороне («Бедный Дантес…», «Он принес себя в жертву…», «Какое великодушие…» — твердили все вокруг). Легенда, созданная Геккернами, уже получила самое широкое распространение.
По-видимому, к этому времени Геккерны уже знали об аудиенции, состоявшейся во дворце. Об этом было известно в семье Пушкина. Значит, знала и Екатерина. От нее Геккерны, по всей вероятности, и получили сведения о том, что государь взял с Пушкина слово «не драться ни под каким предлогом». Не это ли внушило Дантесу сознание полной безопасности?
Молодой Геккерн, как мы уже знаем, «был человек практический»: им руководили не только страсти, но и расчет. Его поведение в январе во многом было обусловлено этим сознанием безнаказанности.
Великосветское общество приняло сторону Дантеса против Пушкина, и это предопределило исход дела. Ахматова была права, когда писала: «Дуэль произошла оттого, что геккерновская версия взяла верх над пушкинской и Пушкин увидел свою жену, т. е. себя опозоренным в глазах света».[382]
Поставлена была на карту честь поэта, его общественная репутация. Пушкин мог спасти ее только ценой жизни. Другого способа остановить клевету у него не было.
Слухи о Пушкиных, которые распространялись в петербургском обществе, были в самом деле ужасными. Сплетни, одна оскорбительней другой, переходили из уст в уста. «Про свадьбу Гончаровой так много разного рассказывают…», — писала из Петербурга А. Н. Вульф своей сестре Евпраксии, не решаясь сообщать все подробности.[383] «Было выпущено столько клеветы, столько позорных нелепостей», — вспоминал позже Вяземский. По письмам и дневниковым записям мы можем восстановить эти слухи.
В дневнике Мари Мердер есть следующая запись, которую она сделала 22 января — после бала у Фикельмонов: «Рассказывают — но как дерзать доверять всему, о чем болтают?! — Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал Дантеса tête-à-tête со своею супругою.
Предупрежденный друзьями, муж давно уже искал случая проверить свои подозрения; он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес вызвался снова ее зажечь, на что Пушкин отвечал: „Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего…“.
Ревнивец остановился за дверью, и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя…».[384]
Известный рассказ князя А. В. Трубецкого, бывшего близким приятелем Дантеса, показывает, какие слухи распространялись среди кавалергардской молодежи. Здесь уже были пущены в оборот самые низкопробные анекдоты.[385]
Во дворце, в интимном кружке государыни, тоже побеждает версия Геккернов. Уже после дуэли, когда Пушкин был смертельно ранен, императрица писала о том, что Дантес вел себя как рыцарь, а Пушкин как грубиян. Известие о гибели поэта побудило ее выразить сочувствие Дантесу: «Бедный Жорж, как он должен был страдать, узнав, что его противник испустил последний вздох».[386]
В последние январские дни слухи о Пушкине и его жене обрастают самыми оскорбительными подробностями. Так, польский литератор Станислав Моравский, рассказывая о преддуэльных событиях, превозносит благородство Дантеса, пожертвовавшего собой, и утверждает, что тот связал себя тяжелой цепью на всю жизнь, чтобы «спасти любовницу от <…> грубых, быть может, даже кровавых преследований».[387]
Графиня Фикельмон, по-видимому, очень точно охарактеризовала реакцию Пушкина на распространившуюся клевету: «Пушкин, глубоко оскорбленный, понял, что, как бы он лично ни был уверен и убежден в невинности своей жены, она была виновна в глазах общества, в особенности того общества, которому его имя дорого и ценно. Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности госпожи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники, и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья».[388]
Положение Пушкина было особенно мучительным потому, что он в эти дни оказался как никогда одинок. В самых близких ему домах не только принимали Дантеса, но и осуждали поэта за нетерпимость. Александр Карамзин, описывая позднее преддуэльные события, говорил: «Без сомнения, Пушкин должен был страдать, когда при нем я дружески жал руку Дантесу, значит, я тоже помогал разрывать его благородное сердце, которое так страдало, когда он видел, что враг его встал совсем чистым из грязи, куда он его бросил».[389] Вскоре Пушкин почувствовал, что даже самые близкие ему люди готовы бросить камень в его жену.
Вяземский после гибели поэта, возвращаясь мысленно к январским событиям, писал о Наталье Николаевне: «Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккерном, как и до свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности».[390] Но вряд ли H. H. Пушкина была в силах что-то изменить в эти дни. «Удалиться от света», живя в Петербурге, было практически невозможно. Если бы жена поэта отказалась выезжать, это только дало бы новый повод для клеветы и измышлений. Да и не в характере Пушкина было укрываться от опасности.
Через две недели после свадьбы Дантеса С. Н. Карамзина так обрисовала положение Пушкина и его жены: «В воскресенье <24 января> у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству.[391] В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».[392] Все, о чем говорит С. Н. Карамзина, пересыпано «крупной солью светской злости». Но ужаснее всего то, что она выражает не только свое отношение к событиям, но передает мнение всего круга Вяземских — Карамзиных.
Когда Пушкин погиб на дуэли, Вяземский даже на людях не мог сдержать рыданий и мысленно просил у покойного друга прощения в том, что никогда до конца не понимал его при жизни.
В 20-х числах января до Пушкина стали доходить какие-то отголоски слухов, распространившихся в обществе. По словам Вяземского, поэт что-то услышал от приехавшей в Петербург Е. Н. Вревской. Он несколько раз виделся в эти дни с ней и А. Н. Вульф, и, вероятно, его тригорские приятельницы оказались до неосторожности откровенными. «Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции о его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере со времени приезда этих дам он стал еще раздражительнее и тревожнее, чем прежде», — писал Вяземский.[393] То, что стало известно Пушкину, привело его в ярость. В нем созревала решимость покончить со всем этим.
На развитие событий оказала воздействие и позиция, которую в январе 1837 г. занял царь. Зная все дело, Николай I остался в роли наблюдателя. «Давно уже дуэли ожидать было должно от их неловкого положения», — сказал он в феврале. Можно думать, что если бы посланнику через Нессельроде или Бенкендорфа было передано, что государь выразил неудовольствие поведением Дантеса, это заставило бы Геккерна, столь дорожившего своей карьерой в России, принять необходимые меры. Но этого не было сделано. Однако в какой-то момент царь все-таки вмешался и сделал это весьма своеобразно: он обратился с «отеческими» наставлениями к жене поэта. Об этом разговоре с H. H. Пушкиной император рассказал много лет спустя барону М. А. Корфу, который сразу же записал то, что услышал, стараясь быть предельно точным. В его дневнике эта запись выглядит как дословный рассказ Николая I: «Под конец его (Пушкина, — С. А.) жизни, встречаясь часто с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах (сплетнях), которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию сколько для нее самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, видно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. — Разве ты и мог ожидать от меня иного? — спросил я его. — Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женой. — Через три дня потом был его последний дуэль».[394]
Этот очень любопытный документ часто цитируется, но он пока не получил убедительного истолкования. Не определено и место этого эпизода в цепи событий. Дело в том, что от нас ускользает реальная значимость фактов, о которых мы узнаем из воспоминаний императора, так как они предстают здесь в определенном освещении: в том, в каком их хотел видеть царь через одиннадцать лет после смерти поэта. Хотя у Николая I была превосходная память и он, несомненно, рассказывал о событиях, действительно имевших место, однако акценты в его рассказе явно смещены.
Тот разговор с женой поэта, о котором с таким благодушием вспоминал много лет спустя царь, для самой Натальи Николаевны должен был быть крайне мучительным. В какую бы форму ни облек император свои «советы», то, что он обратился к ней с замечанием по поводу ее поведения и репутации, было ужасно. Как отметила Ахматова, прокомментировавшая разговор царя с H. H. Пушкиной, все это значило, что «по-тогдашнему, по-бальному, по-зимнедворскому жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично».[395]
И слова благодарности, с которыми обратился к царю Пушкин, не случайно запомнилось Николаю I навсегда. То, что сказал поэт, в сущности, было немыслимой дерзостью. Примерно так же поблагодарил Пушкин за три года до этого великого князя Михаила Павловича, поздравившего его с камер-юнкерством: «Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили». В благодарственных словах поэта, записанных в 1848 г. Корфом, угадывается та же игра в простодушие, едва прикрывающая откровенную дерзость. С членами императорской семьи никто, кроме Пушкина, не осмеливался говорить в таком тоне. Недаром Николай I так хорошо запомнил эти слова поэта, так же как и беспримерный по прямоте ответ Пушкина в 1826 г. на вопрос о 14 декабря (характерно, что из всех своих разговоров с Пушкиным царь вспоминал именно эти два: первый и последний, особенно поразившие его).
Император рассказывал, что его последняя беседа с поэтом происходила за несколько дней до дуэли. Биографы полагают, что он ошибся. Так, М. И. Яшин уверенно относит этот разговор к 23 ноября, а беседу с Натальей Николаевной о «комеражах» — к 15-му (на том основании, что вечером 15 ноября жена поэта была в Аничковом дворце, где государь мог поговорить с ней).[396] Но с такой датировкой этих эпизодов никак нельзя согласиться, она не подтверждается никакими серьезными аргументами.
Разговор, о котором Николай I вспоминал в 1848 г., наверняка происходил позже.
Пока у нас нет возможности точно датировать этот эпизод. Наиболее вероятной следует считать ту дату, которую называет сам Николай I: скорее всего это произошло в январе — незадолго до последней дуэли. По мнению Ахматовой, это и могло стать «последней каплей». «Замечание, которое сделал Николай I жене Пушкина относительно ее поведения, было последним ударом»,[397] — писала она. Действительно, реакция Пушкина в этом случае должна была быть ужасной.
Странно, что мы ничего не знаем о том, как Пушкин отнесся к неожиданному вмешательству императора. Может быть, не знаем именно потому, что это произошло накануне дуэли, когда он избегал разговоров с близкими Друзьями?..
Вревская, с которой он виделся тогда, когда уже все было им решено, запомнила его слова: «Императору <…> известно все мое дело…».
То, что мучило Пушкина в эти последние дни, безотчетно для него самого прорвалось и в письме от 26 января К. Ф. Толю. Это письмо было ответом на доброжелательный отзыв генерала Толя об «Истории Пугачевского бунта», полученный Пушкиным 25 января.[398] Случилось, однако, так, что письмо к Толю стало ценнейшим психологическим документом, свидетельствующим о душевном состоянии поэта накануне поединка.
26 января, обращаясь к человеку, в сущности очень далекому от него, Пушкин непроизвольно высказал то, что особенно волновало его в тот момент. В письме к генералу Толю есть удивительные слова, которые как будто выплеснулись из потока внутренней речи…
Главной в этом благодарственном письме стала тема клеветы. На замечание Толя о недооцененных заслугах екатерининского генерала Михельсона поэт ответил с горячностью, которая, конечно, была вызвана личными ассоциациями: «Его заслуги были затемнены клеветою; нельзя без негодования видеть, что должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников. Жалею, что не удалось мне поместить в моей книге несколько строк пера вашего для полного оправдания заслуженного воина». И далее Пушкин пишет: «Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета; но одно слово, сказанное таким человеком, каков вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а Истина сильнее царя, говорит священное писание» (XVI, 224). Разговор о клевете теперь переходит в иной, более общий план. Все это уже не о Михельсоне — это мысли о своей собственной судьбе. Вполне понятные ассоциации вернули Пушкина к тому, о чем он думал все это время… «Как ни жадно приемлется клевета, но одно слово»… могло бы ее уничтожить… А затем логический провал, столь несвойственный эпистолярному стилю Пушкина, как некий бросок над бездной передуманного — к итогу: «Истина сильнее царя»…
Это, несомненно, письмо с необычайно значительным подтекстом. Здесь мысли о клевете, которую жадно подхватывает толпа, ассоциируются с мыслями о царе, о гении, о конечном торжестве истины. Вероятно, мы никогда не сможет разгадать до конца смысл того, что в этом письме недосказано. Но кое-что представляется очевидным: за день до дуэли Пушкин совершенно определенно высказал свое убеждение в том, что клевету можно остановить и даже уничтожить навсегда, если против нее возвысит голос человек, чье мнение будет услышано в обществе. В его деле такое слово не было сказано.
Неожиданное упоминание о царе в этом контексте говорит о каких-то невысказанных обидах Пушкина и о том, что эти мысли не оставляли его.
То, что он написал о гении и царе, при всей афористической отвлеченности сказанного, для него самого, по-видимому, было исполнено вполне конкретного смысла. Толь писал о том, что после смерти Михельсона история наконец воздала ему справедливость. Пушкин в эти дни тоже думал о суде истории и, вероятно, верил, что для потомства истина окажется сильнее сегодняшней клеветы, сильнее царя.
Поведение Николая I в деле Пушкина не было, конечно, ни единственной, ни тем более определяющей причиной январской трагедии. В отношении царя к Пушкину лишь с наибольшей очевидностью выявляются приметы той общественной атмосферы, которая привела к гибели поэта.
Никакого «адского» злодейства царь не совершил: наивно приписывать ему некие тайные козни и заранее разработанные планы, направленные на то, чтобы погубить Пушкина. Николай I не давал себе труда быть интриганом, он был слишком самодержцем, чтобы испытывать в этом потребность. Царь не вел тайных разговоров с Дантесом и не приказывал ему жениться, чтобы «столкнуть» поэта и кавалергарда.[399] Бенкендорф не посылал жандармов в другую сторону (это явно недостоверная легенда).[400]
Совершилось злодеяние банальное, привычное: было проявлено традиционное для российского самодержавия неуважение к таланту. Жизнью гения пренебрегли.
Пушкин принял окончательное и бесповоротное решение после инцидента, который произошел 23 января на балу у Воронцовых-Дашковых.
Балы у Воронцовых всегда были главным событием сезона. В. А. Соллогуб рассказывает: «Самым блестящим, самым модным и привлекательным домом в Петербурге был в то время дом графа Ивана Воронцова-Дашкова <…> Каждую зиму Воронцовы давали бал, который двор удостаивал своим посещением. Весь цвет петербургского света приглашался на этот бал, составлявший всегда, так сказать, происшествие в светской жизни столицы».[401]
Сохранилось множество свидетельств о том, что на этом балу молодой Геккерн вел себя вызывающе. Рассказывали о каком-то казарменном каламбуре, с которым Дантес обратился к H. H. Пушкиной. С. Н. Карамзина писала: «Считают, что на балу у Воронцовых в прошлую субботу раздражение Пушкина дошло до предела».[402] Д. Ф. Фикельмон в своем дневнике записал об этом вечере: «… на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно».[403]
25 января Пушкин отослал по городской почте письмо на имя барона Геккерна, столь оскорбительное, что его враги не могли уклониться от поединка.
* * *
27 января 1837 г. в пятом часу пополудни на окраине Петербурга, близ Черной речки, прозвучал выстрел…
29 января в два часа сорок пять минут в России не стало Пушкина.
Скончался человек, в чьей деятельности воплотились лучшие духовные возможности нации. «Солнце нашей поэзии закатилось…», — сказал в день смерти Пушкина В. Ф. Одоевский.
«Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, <…> готовился действовать с полною силою. Потеря невозвратимая, невознаградимая», — этими словами сподвижники поэта открывали пятый том «Современника», посвященный памяти Пушкина. Далее следовал горестный вопрос: «Что бы он написал, если б судьба так незапно не сорвала его со славной, едва начатой им дороги?». Два года спустя, возвращаясь из-за границы на родину, Гоголь писал друзьям поэта: «Как странно! Боже, ка странно: Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу вас — и Пушкина нет…».
Это ощущение невосполнимой потери сохраняется до сих пор. И вот уже полтора столетия Россия оглядывается на Пушкина, ибо он дал ей тот эталон художественности и нравственности, с которым теперь соизмеряются все достижения русской культуры. И самая жизнь поэта, и даже его смерть, превращаясь в национальную легенду, становятся в глазах потомков образцом высокой нравственной нормы, мерилом чести и человеческого достоинства.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Вокруг Пушкина — Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975.
Врем. ПК — Временник Пушкинской комиссии. 1962–1979. М. — Л., 1963–1982.
Дневник М. Мердер — Листки из дневника М. К. Мердер. — Русская старина, 1900, № 8, с. 383–389.
Модзалевский. Пушкин — Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929.
Письма Карамзиных — Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 гг. М. — Л., 1960.
Письма посл. лет — Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837, Л., 1969.
Пушкин в восп. — Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974.
Пушкин. Временник — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 1–6. М. — Л., 1936–1941.
Пушкин и совр. — Пушкин и его современники, вып. I–XXXIX. СПб. — Л, 1903–1930.
Пушкин. Иссл. и мат. — Пушкин. Исследования и материалы, т. 1-Х. М. — Л., 1956–1981.
Сквозь умств. плотины — Вацуро В. д., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972.
Стих. Пушкина — Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.
Щеголев. Дуэль — Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М. — Л., 1928.
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград).
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ
I. Письма, дневники, мемуары, документы
Бельчиков Н. Неизвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти А. С. Пушкина. — Новый мир, 1931, № 12, с. 188–193.
Востокова Н. В. Пушкин по архиву Бобринских. — Прометей. М., 1974, т. 10, с. 266–269.
Вяземский П. А. Письма к А. Я. Булгакову и Д. В. Давыдову. — Рус. архив, 1879, № 6, с. 243–257. См. также: Светлова М. Кому было написано письмо кн. П. А. Вяземского 9 февр. 1837 г. о кончине Пушкина. — В кн.: Московский пушкинист. М., 1930, т. 2, с. 155–162.
Вяземский П. А. Письмо к вел. кн. Михаилу Павловичу. — В кн.: Щеголь. Дуэль, с. 257–271.
Вяземский П. А. Письмо к Э. К. Мусиной-Пушкиной от 16 февраля 1837 г. — Старина и новизна, 1900, кн. 3, с. 342–346 (франц.); Русский архив, 1900, № 2, с. 391–399 (перевод). См. также перевод Л. А. Андрее: Нева, 1982, № 6, с. 87–88.
Герштейн Эмма. Вокруг гибели Пушкина: (По новым материалам). — Новый мир, 1962, № 2, с. 211–226 (публикация фрагментов из дневников и писем императрицы Александры Федоровны).
Глассе А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам архива Вюртембергского посольства. — Врем. ПК. 1977. Л., 1980, с. 5–35.
Гроссман Леонид. Цех пера. М., 1930, с. 266–270 (публикация письма барона Густава Фризенгофа о преддуэльных событиях).
Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном: Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900.
Казанский Б. В. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина: (Из собрания П. Е. Щеголева). — Пушкин. Временник. М.; Л., 1936, т. 1, с. 236–252.
Мердер М. Листки из дневника. — Русская старина, 1900, № 8, с. 383–389. См. также: Русский вестник, 1893, № 3, с. 292–304.
Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975 (публикация писем Н. Н. Пушкиной, А. Н. и Е. Н. Гончаровых).
Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина. М., 1980 (публикация материалов о судьбе H. H. Пушкиной и ее сестер после 1837 г., а также писем Ж. Дантеса и Л. Геккерна о денежных расчетах с Гончаровыми).
Переписка Пушкина. В 2-х т. М., 1982.
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1974, т. 2 (записи, воспоминания и рассказы В. Ф. и П. А. Вяземских, В. И. Даля, К, К. Данзаса, В. А. Жуковского. А. О. и К. О. Россетов, H. M. Смирнова, В. А. Соллогуба, А. И Тургенева, Д. Ф. Фикельмон и др.).
Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 гг. М.; Л., 1960.
Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837. Л., 1969 (книга снабжена ценнейшими комментариями, а также биографическими и библиографическими справками о лицах, упоминаемых в письмах).
Пушкин. Полн. собр. соч. В 16 т. Л., 1949, т. XVI (переписка 1835–1837 гг.).
Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1850–1860 гг. М., 1925.
Соллогуб В. А. Нечто о Пушкине. — В кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929 (самая ранняя запись воспоминаний Соллогуба, сделанная им для П. В. Анненкова).
Тургенев А. И. Из «Дневника» (1836–1837). — В кн.: Щеголев. Дуэль, с. 272–300. См. также: Пушкин в восп., т. 2, с. 171–180; Прометей. М., 1974, т. 10, с. 355–397.
Тургенев А. И. Письма Булгаковым. М., 1939.
Фомин А. А. Новые материалы для биографии Пушкина: (из тургеневского архива). — Пушкин и совр. СПб., 1908, вып. VI, с. 46–96 (письма А. И. Тургенева о дуэли и смерти Пушкина к А. И. Нефедьевой, А. Я. Булгакову, Н. И. Тургеневу, В. А. Жуковскому и др.).
Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.
Цявловский М. А. Новые материалы для биографии Пушкина. — В кн.: Звенья. М., 1951, т. IX, с. 172–185 (два письма Ж. Дантеса о H. H. Пушкиной и несколько фрагментов из переписки Е. Н. Геккерн).
Эйдельман Н. Я. Десять автографов из архива П. И. Миллера. — Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина. М., 1972, вып. 33, с. 280–320. См. также: Эйдельман Н. Я. Из последних пушкинских открытий. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. 1975. Л., 1976, с. 73–85.
Эйдельман Н. Я. Нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина. — Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина, М., 1974, вып. 35, с. 196–247. См. также: Эйдельман Н. Я. Секретное донесение Геверса о Пушкине. — Врем. ПК. 1971. Л., 1973, с. 5–26.
II. Монографии. Статьи. Обзоры. Научно-популярная литература
Абрамович С. Л. К истории дуэли Пушкина. — Нева, 1974, № 5, с. 189–195 (загадка женитьбы Дантеса).
Абрамович С. Л. К истории дуэли Пушкина: (Аудиенция во дворце 23 ноября 1836 года). — Вопросы литературы, 1978, № 11, с. 210–228.
Абрамович С. Л. Накануне 4 ноября. К истории дуэли А. С. Пушкина. — Лит. обозрение, 1979, № 7, с. 108–112.
Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Л., 1967.
Андроников И. Л. Избранные произведения. В 2-х т. М., 1975, т. 2, с. 145–206 (тагильская находка).
Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873.
Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977.
Благой Д. Д. Душа в заветной лире. М., 1979.
Вацуро В. Э; Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972.
Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977.
Гиллельсон М. О друзьях Пушкина. — Звезда, 1975, № 2, с. 210–217.
Гордин Я. Гибель Пушкина. Хроника. Год 1831-й — год 1836-ой. — В кн.: Гордин Я. А. Три повести. Л., 1983, с. 120–288.
Гроссман Л. Пушкин. М., 1960.
Измайлов И. В. История текста писем Пушкина к Геккерну. — Летописи Гос. Лит. музея, М.; Л., кн. 1, 1936, с. 338–357.
Измайлов В. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975.
Казанский В. В. Письмо Пушкина к Геккерну. — Звенья. М.; Л., 1936, т. VI, с. 5–92.
Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина. — Русская литература, 1970, № 2, с. 211–219.
Левкович Я. Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. — Врем. ПК. 1972. Л., 1974, с. 77–83.
Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963–1966 гг. — В кн.: Пушкин. Иссл. и мат. Л., 1967, т. V, с. 365–381.
Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Пособие для учащихся. Л., 1981.
Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833–1836). Л., 1982.
Мейлах В. С. Талисман. М., 1975, с. 154–201.
Модзалевский В., Оксман Ю., Цявловский М, Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924.
Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1983.
Ободовская И., Дементьев М. Пушкин в Яропольце. М., 1982.
Петрунина Н. П., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974.
Поляков А. С. О смерти Пушкина: По новым данным. Пб., 1922.
Попова Н. И. Музей-квартира А. С. Пушкина. Л., 1980.
Раевский Николай. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1977.
Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
Февчук Л. Личные вещи Пушкина. Л., 1970.
Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. М., 1981.
Цветаева Марина. Мой Пушкин. М., 1967.
Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1983.
Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962.
Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1976.
Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. 3-е изд. М., 1928.
Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931.
Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1973, с. 259–294.
Эфрос А. Рисунки поэта. М.; Л., 1933.
Яшин Михаил. Дача на Каменном острове. — Нева, 1965, № 2, с. 187–203.
Яшин Михаил, История гибели Пушкина. — Нева, 1968 № 2, 6; 1969, № 3, 4, 12.
Яшин Михаил. Пушкин и Гончаровы: По неизвестным эпистолярным материалам. — Звезда, 1964, с 169–189.
Яшин Михаил. Семья Пушкина в Михайловском: По новым эпистолярным материалам. — Нева, 1967, №. 7, с 173–182.
Яшин Михаил Хроника преддуэльных дней. — Звезда, 1963, № 8, с. 159–184; № 9, с. 166–187.
Примечания
1
На единственном дошедшем до нас конверте, адресованном Виельгорскому, отчетливо виден штамп городской почты, на котором обозначено: «4 ноя… Утро» (ИРЛИ, ф. 244, он. 18, ед. хр. 1). Разноска утренней почты начиналась тогда с 8 часов утра и длилась один-два часа. Пушкин жил недалеко от почтамта. Значит, на Мойку это письмо было доставлено около 9 часов утра не позднее начала 10-го (см.: Соколов H. M. Об учреждении городской почты в Санкт-Петербурге. — Почтово-телеграфный журнал. Неофициальный отдел, 1894, апрель, с. 471–490).
(обратно)2
Пушкин в восп., т. 2, с. 299; Прометей, т. 10. М., 1974, с. 256–257.
(обратно)3
Пушкин в восп., т. 2, с. 299; Модзалевский. Пушкин, с. 376–377.
(обратно)4
А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его сочинения. Составитель П. И. Бартенев. Вып. 2. К биографии Пушкина. М., 1885, с. 68.
(обратно)5
Щеголев. Дуэль, с. 259.
(обратно)6
Пушкин в восп., т. 2, с. 299.
(обратно)7
Жорж Шарль Дантес (1812–1895), уроженец Эльзаса, французский подданный, прибыл в Петербург в сентябре 1833 г., имея при себе рекомендательное письмо прусского наследного принца Вильгельма. В феврале 1834 г. Дантес был зачислен корнетом в Кавалергардский, полк, а в январе 1836 г. произведен в поручики. В мае 1836 г. он был официально усыновлен нидерландским посланником и стал именоваться бароном Георгом Геккерном. Сводку материалов о Дантесе см.: Щеголев. Дуэль, с. 15–34; Раевский П. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974, с. 315–332; Черейский Л. А. Пушкин иего окружение. Л, 1975, с. 124.
(обратно)8
Эти письма впервые были опубликованы в кн.: Troyat H. Pouchkine, vol. I–II. [Paris], 1946. Перевод их на русский язык с комментариями М. А. Цявловского см.: Звенья, т. IX. М. — Л., 1951, с. 174–175.
(обратно)9
П. Е. Щеголев полагал, что открытое ухаживание Дантеса за H. H. Пушкиной длилось два или три года он писал: «Если Дантес не успел познакомиться с H. H. Пушкиной зимой 1834 г, до наступления великою поста, то в таком случае первая встреча их приходится на осень этого года <…> Почти с этого времени надо вести историю его увлечения» (Щеголев. Дуэль, с 62–63). После работ Щеголева мнение это прочно утверди лось в биографии поэта. Анна Ахматова первая подвергла пересмотру традиционную точку зрения (см. Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977, с. 114–115, 132, 300).
(обратно)10
Модзалевский. Пушкин, с. 375. Ср. это свидетельство с письмом Геккерна, написанным министру иностранных дел Голландии барону Верстолку уже после дуэли 30 января 1837 г.: «Уже год, как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину…» (Щеголев. Дуэль, с. 324). В данном случае Геккерн вполне точен, ибо говорит о событиях, хорошо известных великосветскому Петербургу.
(обратно)11
Звенья, т. IX, с. 174–175.
(обратно)12
Соллогуб В. А. Воспоминания. СПб., 1887, с. 151–152.
(обратно)13
Цит. по: Герштейн д. Судьба Лермонтова. М, 1964, с. 297.
(обратно)14
Соллогуб В. А. Соч., т. Г. СПб., 1855, с. 355–360.
(обратно)15
Дневник М. Мердер, с. 383–384.
(обратно)16
Пушкин в восп., т. 2, с. 296.
(обратно)17
Там же, с. 238.
(обратно)18
Там же, с. 142.
(обратно)19
Там же, с. 164.
(обратно)20
Звенья, т. IX, с. 176.
(обратно)21
Troyat H. Pouchkin, vol. I–II, p. 706–707.
(обратно)22
См., например, письмо семнадцатилетнего В. Н. Карамзина о его романтической любви к замужней даме Мари Нарышкиной. 20 января 1837 г. он писал брату: «Не подумай, что хоть одна грязная мысль может примешаться к мысли о ней. Нет, это любовь на самой высшей степени чистоты, это невыразимое преклонение» (Письма Карамзиных, с. 159).
(обратно)23
Новое, неожиданное истолкование этих двух писем Дантеса недавно было предложено писателем Семеном Ласкиным в его статье «„Дело“ Идалии Полетики» (Вопросы литературы, 1980, № 6, с. 198–235). С. Б. Ласкин выдвинул свою версию преддуэльных событий. Он предположил, что предметом тайной страсти Дантеса была не H. H. Пушкина, а Идалия Полетика — жена штаб-ротмистра Кавалергардского полка А. М. Полетики. Эта версия не принадлежит к числу научно обоснованных гипотез, но на ней следует остановиться, так как своей сенсационностью она привлекла к себе внимание. С. Б. Ласкин пытается разгадать имя женщины, не названной Дантесом, по тем указаниям, которые имеются в январском письме к Геккерну.
Внеся некоторые уточнения в русский перевод январского письма Дантеса, Ласкин предлагает читать фразу, которая представляется ему ключевой, следующим образом: «… я веду себя благоразумно и был до сих пор столь осторожен, что тайна эта известна только мней и ей (она носит ту же фамилию, что та дама, которая писала тебе по поводу меня, что мор и голод разорили ее деревни); теперь ты понимаешь, что от такой женщины можно потерять голову…». В прежнем переводе, опубликованном М. А. Цявловским, было: «… она носит то же имя…» (во французском тексте: «elle porte le même nom»). «Значит, — замечает Ласкин, — следуя логике письма, в свете должны были существовать две дамы с одной фамилией». Действительно, если следовать логике письма, одна из этих дам была хорошо известна Геккерну, он даже состоял с ней в переписке, поэтому по намеку, сделанному Дантесом, барон мог угадать и другую, ее однофамилицу, которой было посвящено все письмо. И во г, придя к этому, вполне Справедливому умозаключению, Ласкин неожиданно восклицает: «Но — увы! — второй Пушкиной, к которой бы могло подойти все сказанное, не было» (там же, с. 212). Вывод этот представляется по меньшей мере странным, если, учесть, что в это время благополучно здравствовали не одна, а многие дамы из семейства Мусиных-Пушкиных, каждую из которых в обществе называли так же, как и жену поэта, — «госпожа Пушкина». В эти годы барон Геккерн встречал в свете и графиню Марию Александровну Мусину-Пушкину, и ослепительную красавицу графиню Эмилию, которую в ту пору постоянно сравнивали с Натальей Николаевной и называли «другая Пушкина»; бывала в обществе и графиня Анна Николаевна Мусина-Пушкина. Так что утверждение Ласкина, высказанное столь категорически, объясняется просто его неосведомленностью. Между тем на этой совершенно ложной посылке Ласкин строит свою версию. Полагая, что никакой «другой Пушкиной» в это время в Петербурге не было, Ласкин пытается доказать, что Дантес в своем письме говорил об Идалии Полетике, что это в Полетику он был «безумно влюблен», а громкий роман с H. H. Пушкиной понадобился ему для «отвода глаз».
Это построение противоречит общеизвестным фактам, а вся последующая аргументация Ласкина, как показал это в гноем отклике па его статью В. А. Сайтанов, не выдерживает критики (см.: Сайтанов В. Мог ли Дантес занимать деньги у Идалии Полетики? — Вопросы литературы, 1981, № 2, с. 246–252). Кстати, уточненный перевод, предложенный Ласкиным, не только не противоречит общепринятой точке зрения, но дает дополнительное подтверждение того, что признания Дантеса относятся к H. H. Пушкиной.
Дело в том, что с Мусиными-Пушкиными Дантес был в родстве, правда очень отдаленном. Он был внучатым племянником графини Е. Ф. Мусиной-Пушкиной, урожденной Вартенслебен. Об этом родстве в семействе Дантесов хорошо помнили. В марте 1834 г. отец Дантеса барон Жозеф-Конрад писал из Сульца в Петербург покровителю своего сына: «Я давно не имел известий от графини Мусиной-Пушкиной, но надеюсь, она порадуется, узнав о зачислении моего сына в Кавалергардский полк» (Щеголев. Дуэль, с. 334, 355). Следовательно, обращение Геккерна с просьбой, касающейся Дантеса, к какой-то даме из семейства Мусиных-Пушкиных представляется вполне вероятным.
(обратно)24
Звенья, т. IX, с. 176.
(обратно)25
Лит. наследство, т. 16–18. М., 1934, с. 798.
(обратно)26
Письма Карамзиных, с. 70.
(обратно)27
Старина и новизна, 1914, кн. XVII, с. 235.
(обратно)28
Пушкин в восп., т. 2, с. 142, 309.
(обратно)29
Лит. наследство, т. 16–18, с. 798.
(обратно)30
Там же, с. 793.
(обратно)31
Никитенко А. В. Дневник, т. I. 1826–1857. М., 1955, с. 179.
(обратно)32
Там же, с. 180.
(обратно)33
Летописи ГЛМ, кн. I. М., 1936, с. 534.
(обратно)34
Цит. по: Сквозь умств. плотины, с. 188. Сводку материалов о конфликте Пушкина с Уваровым см. в очерке В. Э. Вацуры (Сквозь умств. плотины, с. 164–191) и в статье H. H. Петруниной «На выздоровление Лукулла» (Стих. Пушкина, с. 323–361).
(обратно)35
Об издании «Вастолы» см.: Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 420–426; Модзалевский. Пушкин, с. 626–705.
(обратно)36
См.: Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. Пушкин в воспоминаниях, Небольсина. — Врем. ПК. 1969, с. 71.
(обратно)37
Русская старина, 1881, № 8, с. 611–612.
(обратно)38
Я имею несчастье быть человеком публичным, и, знаете, это хуже, чем быть публичной женщиной (франц.).
Пушкин в восп., т. 2, с. 308–311. См. также: Модзалевский. Пушкин, с. 374–376.
(обратно)39
См. изложение доклада Ю. Н. Чумакова на конференции во Всесоюзном музее Пушкина в 1975 г. (Вопросы литературы, 1976, № 3, с. 306–307).
(обратно)40
Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977, с. 205.
(обратно)41
Лит. наследство, т. 16–18, с. 798.
(обратно)42
Плетнев П. А. Соч. и переписка, т. I, СПб., 1885, с. 385.
(обратно)43
Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., [1873], с. 385.
(обратно)44
Покойники меня отвлекают (франц.).
(обратно)45
(Грей) Лицейские забавы, наши уроки… Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия (франц.).
(обратно)46
Неосуществленный замысел Пушкина «Prologue» всесторонне изучен М. П. Алексеевым (см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Л., 1967, с. 152–164).
(обратно)47
Мысль о связи стихотворения «Когда за городом задумчив я брожу…» с «Прологом» впервые высказана и убедительно обоснована М. П. Алексеевым.
(обратно)48
Пушкин в восп., т. 2, с. 205.
(обратно)49
Чаадаев П. Я. Соч. и письма, т. I. М., 1913, с. 191.
(обратно)50
Русский архив, 1902, № 10, с. 170–171.
(обратно)51
Майков Л. Пушкин. СПб., 1888, с. 354.
(обратно)52
Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М. — Л., 1935, с. 639–640.
(обратно)53
Речь шла о задуманной Брюлловым картине, которая не была завершена. См.: Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России, кн. I. М., 1863, с. 185–186.
(обратно)54
Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982, с. 55.
(обратно)55
Вы обманули (франц.).
(обратно)56
Блок А. А. Полн. собр. соч. в 8-ми т., т. 7. М. — Л., 1963, с. 403.
(обратно)57
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. И. СПб., 1896, с. 294.
(обратно)58
Пушкин в восп., т. 2, с. 293.
(обратно)59
Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 204.
(обратно)60
Щеголев. Дуэль, с. 415.
(обратно)61
См.: Измайлов Я. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения. — В кн.: Пушкин А. С. Медный всадник. Л., 1978, с. 222–227.
(обратно)62
Письма Карамзиных, с. 85.
(обратно)63
Вокруг Пушкина, с. 175–176.
(обратно)64
Там же, с. 176.
(обратно)65
Письма Карамзиных, с. 96.
(обратно)66
Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...», с. 224.
(обратно)67
Там же, с. 157.
(обратно)68
Письма посл. лет, с. 328.
(обратно)69
Письма Карамзиных, с. 122.
(обратно)70
Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. … с. 415.
(обратно)71
Вокруг Пушкина, с. 310, 314.
(обратно)72
Колмаков H. M. Очерки и воспоминания. — Русская старина, 1891, т. VI, с. 670–671.
(обратно)73
Письма Карамзиных, с. 392.
(обратно)74
Там же, с. 139.
(обратно)75
Гроссман Л. П. Цех пера. М., 1930, с. 267.
(обратно)76
Пушкин в восп., т. 2, с. 142.
(обратно)77
Там же, с. 320.
(обратно)78
Письма Карамзиных, с. 108–109.
(обратно)79
Там же, с. 109.
(обратно)80
Пушкин в восп., т. 2, с. 142.
(обратно)81
Щеголев. Дуэль, с. 258.
(обратно)82
Пушкин в восп., т. 2, с. 142.
(обратно)83
Сводку материалов о лицейской годовщине 1836 г. см. в статье Я. Л. Левкович в кн.: Стих. Пушкина, с. 93–95.
(обратно)84
Новый мир, 1956, № 1, с. 177. См. также: Звезда, 1963, № 8, с. 164, 172–173.
(обратно)85
Письма Карамзиных, с. 190.
(обратно)86
Щеголев. Дуэль, с. 259.
(обратно)87
Гроссман Л. П. Цех пера, с. 267.
(обратно)88
Вяземский П. П. Собр. соч. 1876–1877. СПб., 1893, с. 545–548.
(обратно)89
Звенья, т. IX. М. — Л., 1951, с. 180.
(обратно)90
Русский архив, 1908, № 10, с. 295. См. также: Русский архив, 1911, т. I, с. 176; 1912, т. II, с. 159–160.
(обратно)91
Зильберштейн И. С. Парижские находки. — Огонек, 1966, № 47, с. 26.
(обратно)92
Щеголев. Дуэль, с. 72.
Пытаясь разрешить эту загадку, биографы и комментаторы часто ссылаются на анекдот, записанный Владимиром Петровичем Горчаковым со слов Пушкина. Как рассказывает Горчаков, однажды некая молодая дама, избалованная всеобщим поклонением, потребовала, чтобы Пушкин написал ей стихи в альбом. Поэт пробовал уклоняться, но дама не допускала возможности отказа. Раздраженный ее назойливостью, Пушкин вписал ей в альбом мадригал, но вместо подписи и подлинной даты поставил: «1 апреля». П. С. Шереметев, комментируя воспоминания В. П. Горчакова, высказал предположение, что этот случай произошел с И. Полетикой и что она с того момента затаила обиду на Пушкина (Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 212). С этим предположением согласился Л. Б. Модзалевский (Пушкин. Письма, т. III. Под ред. и с примеч. Л. Б. Модзалевского. М. — Л., 1935, с. 535). С тех пор оно без какой бы то ни было критической проверки вошло в биографическую литературу. Между тем мнение это основано на недоразумении. Дело в том, что Горчаков относит этот эпизод к середине 1820-х годов. Из контекста же ясно, что речь идет о Пушкине неженатом и о влиятельной светской даме, хозяйке известного столичного салона, любившей окружать себя знаменитостями. Ни время действия, ни положение дамы в петербургском обществе не позволяют отнести этот рассказ к Политике. Идалия вышла замуж в 1829 г. До этого она не могла играть никакой заметной роли в свете, да и после замужества ее положение в обществе ничем не напоминало то, которое Горчаков приписывает героине переданного им анекдота. Этот эпизод вообще лишь с очень большой осторожностью можно использовать как биографический источник, скорее его следует рассматривать как одну из пушкинских устных новелл. Но если даже считать, что такой случай действительно имел место, относить его к Полетике нет никаких оснований.
(обратно)93
Там же, с. 127.
(обратно)94
Впервые в самой общей форме такие сомнения высказал Б. В. Казанский, см.: Казанский Б. В. Письмо Пушкина к Геккерену. — Звенья, т.- VI. М.-Л., 1936, с. 6–7.
(обратно)95
Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977, с. 305.
(обратно)96
Звезда, 1963, № 9, с. 174.
(обратно)97
Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963–1966 годах. — В кн.: Пушкин. Иссл. и мат., т. V. Л., 1967, с. 375.
(обратно)98
Яшин М. И. История гибели Пушкина. — Нева, 1969, № 3, с. 175.
(обратно)99
Гроссман Л. Цех пера. М., 1930, с. 264–278.
(обратно)100
Арапова А. П. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. — Новое время, 1908, № 11 425, с. 6.
(обратно)101
Пушкин в восп., т. 2, с. 163–164. Первоначально: Русский архив, 1888, № 7, с. 310.
(обратно)102
Все последующие упоминания о свидании у Полетики в так называемых «Записках А. О. Смирновой» (СПб., 1895–1897) и в книге Л. Н. Павлищева «Кончина А. С. Пушкина» (СПб., 1899) являются вольным пересказом того, что напечатал в 1888 г. Бартенев со слов Вяземской.
(обратно)103
Гроссман. Цех пера, с. 267.
(обратно)104
Русский архив, 1908, № 10, с. 294–295.
(обратно)105
Гроссман. Цех пера, с. 268.
(обратно)106
Там же, с. 267 (выделено мной, — С. А.).
(обратно)107
ЦГВИА, ф. 3545 (Кавалергардский полк), оп. 1, ед. хр. 79, л. 83, 93 об.
(обратно)108
Письма Карамзиных, с. 190.
(обратно)109
Письма посл, лет, с. 202 (см. также с. 200 — французский текст).
(обратно)110
Русский архив, 1879, № 6, с. 253.
(обратно)111
Новый мир, 1962, № 2, с. 226 (отрывок из дневника Корфа опубликован в уточненном переводе Э. Г. Герштейн).
(обратно)112
Звенья, т. IX, с. 180.
(обратно)113
Об этом сообщает О. Н. Смирнова — дочь А. О. Смирновой, составительница так называемых «Записок А. О. Смирновой» (см.: Смирнова А. О. Записки, ч. II. СПб., 1897, с. 22–23). Однако в данном случае ее рассказ вызывает доверие. Нам известно, какие близкие и теплые отношения существовали между Пушкиным и Е. Н. Мещерской и как тяжело она пережила его смерть. Рассказ об этой «сцене» О. Н. Смирнова могла сама не раз слышать и в доме Карамзиных и от братьев матери Аркадия и Клементин Россетов, которые оказались непосредственными участниками преддуэльных событий.
(обратно)114
Звенья, т. IX, с. 181.
(обратно)115
Щеголев. Дуэль, с. 259.
(обратно)116
Письмо, полученное А. И. Васильчиковой, у которой ей племянник жил в 1836 г., сам В. А. Соллогуб воспринял как направленное лично ему. Он пишет: «Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожив я его не должен, а распечатать не вправе» (Пушкин в восп, т. 2, с. 299) Поэтому Соллогуб и взялся сам доставить его Пушкину. Так же считали и все остальные в карамзинском Kpyгу. На основании их рассказов H M. Смирнов потом писал, что пасквили получили Карамзины, Вяземский, Хитрово, Россет и Соллогуб.
(обратно)117
См. комментарий Я. Л. Левкович в кн.: Письма поел, лет, с. 339, № 4. Впервые точный перечень был дан в книге А. С. Полякова «О смерти Пушкина» (Пб., 1922, с. 12), но без подробных обоснований.
(обратно)118
Правда, в недавно опубликованном донесении нидерландского поверенного в делах Геверса, прибывшего в Россию после отъезда барона Геккерна, сказано, что в числе прочих анонимное письмо получила и госпожа Фикельмон. Но это сообщение является плодом недоразумения. Реверс составлял свое донесение через несколько месяцев после событий, опираясь в основном на рассказы друзей поэта. В целом его отчет дает верную картину, но в отдельных конкретных подробностях Геверс неточен. Так, он слышал об анонимном письме, доставленном в дом австрийскою посланника, но не знал, что оно было получено не самой госпожой Фикельмон, а ее матерью Е. М. Хитрово, которая с 1831 г жила в доме своего зятя. Письма Елизавете Михайловне обычно адресовали так: «С.-Петербург В доме австрийского посланника графа Фикельмона…» Не знал Геверс и того, что письма рассылались в двойных конвертах. Он пишет: «…под адресом, явно подделанным почерком, стояла просьба передать их Пушкину» (Эйдельман И. Я Секретное донесение Геверса о Пушкине. — Врем ПК. 1971, с. 16). Что же касается графини Фикельмон, то, судя по ее дневниковым записям, она никогда не держала в руках анонимного пасквиля и знала о его содержании только по слухам В ее дневнике сказано, что в анонимных письмах, адресованных Пушкину, «имена его жены и Дантеса были соединены с смой едкой, самой жестокой иронией» (Пушкин в восп. т. 2, с. 143), тогда как в этом тексте нет имен ни Дантеса, ни Натальи Николаевны. Имея в виду все это, можно с полной уверенностью утверждать, что в записке Геверса речь идет о давно известном нам экземпляре пасквиля — о том, который был отправлен в дом Фикельмонов для Елизаветы Михайловны Хитрово.
Эйдельман Н. Я. Секретное донесение Геверса о Пушкине. — Врем. ПК. 1971, с. 16.
(обратно)119
Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977, с. 127.
(обратно)120
Пушкин и совр., вып. VI. СПб., 1908, с. 59.
(обратно)121
Пушкин в восп., т. 2, с. 300.
(обратно)122
Среди лиц, получивших 4 ноября пакет для передачи Пушкину, одна Е. М. Хитрово ее принадлежала к тесному карамзинскому кружку. Но ер знал «весь Петербург», и ее чувства к Пушкину тоже были всем известны. Возможно, это и послужило поводом для того, чтобы и ее замешать в эту историю.
(обратно)123
Вокруг Пушкина, с. 201–202.
(обратно)124
Письма Карамзиных, с. 59.
(обратно)125
Там же, с. 129.
(обратно)126
Пушкин в восп., т. 2, с. 305.
(обратно)127
Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею, т. II. СПб., 1912, с. 261–262.
(обратно)128
Щеголев. Дуэль, с. 259.
(обратно)129
Пушкин и совр., вып. VI, с. 52.
(обратно)130
Русский архив, 1879, № 6, с. 246.
(обратно)131
Там же, с. 253–254.
(обратно)132
Красный архив, 1929, т. 33, с. 231.
(обратно)133
Щеголев. Дуэль, с. 259.
(обратно)134
Русский архив, 1900, № 3, с. 392 (франц.), 395–396 (перевод).
(обратно)135
Щеголев. Дуэль, с. 240.
(обратно)136
Письма Карамзиных, с. 190.
(обратно)137
Пушкин в восп., т. 2, с. 239–240.
(обратно)138
Модзалевский. Пушкин, с. 341.
(обратно)139
Эйдельман Н. Я. Десять автографов из архива П. И. Миллера. — Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 33. М., 1972, с. 316.
(обратно)140
Поляков А. С. О смерти Пушкина, с. 15.
(обратно)141
Ахматова Анна. О Пушкине, с. 114.
(обратно)142
«Это жеманница» (франц.).
Модзалевский. Пушкин, с. 379.
(обратно)143
См.: Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 453–454.
(обратно)144
Щеголев. Дуэль, с. 322.
(обратно)145
Письма посл, лет, с. 164.
(обратно)146
Московский пушкинист, вып. I. М., 1927, с. 56 (франц.).
(обратно)147
Обширный материал о Долгорукове и Гагарине как соучастниках в деле с анонимными письмами собран в третьем издании книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (с. 472–525). Материалы и библиографические сведения по этому вопросу см. также в кн.: Новые материалы о смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 13–49, 131–133; Ахматова Анна. О Пушкине, с. 124–127; Письма поел, лет, с. 337–339.
(обратно)148
Пушкин в восп., т. 2, с. 239.
(обратно)149
Модзалевский. Пушкин, с. 377.
(обратно)150
См.: Ципенюк С. А. Исследование анонимных писем, связанных с дуэлью А. С. Пушкина. — Криминалистика и судебная экспертиза, вып. 12. Киев, 1976, с. 81–90. Экспертиза была проведена по материалам, предоставленным московским историком Г. Е. Хаитом.
(обратно)151
Пушкин в восп., т, 2, с. 240.
(обратно)152
Щеголев. Дуэль, с. 478–479.
(обратно)153
Пушкин в восп., т. 2, с. 165–166.
(обратно)154
Там же, с. 320.
(обратно)155
Там же, с. 488.
(обратно)156
Щеголев. Дуэль, с. 484.
(обратно)157
Сводку материалов, свидетельствующих о непричастности И. С. Гагарина к анонимным письмам, см. в работе А. С. Бутурлина «Имел ли И. С. Гагарин отношение к пасквилю на Пушкина?» (Изв. АН СССР, 1969. Серии литературы и языка, т. 28, вып. 3, с. 277–285).
(обратно)158
Письма Карамзиных, с. 117.
(обратно)159
Письма посл. лет, с. 164 (реконструированный текст).
(обратно)160
По поводу сенсационного предположения С. Б. Ласкина о причастности А. Трубецкого к анонимному пасквилю см. отчет о моем докладе на эту тему: Русская литература, 1983, № 1, с. 257–260.
(обратно)161
О том, что вызов был послан в самый день появления анонимных писем, мы знаем из воспоминаний Соллогуба (Пушкин в восп., т. 2, с. 299).
(обратно)162
Пушкин в восп., т. 2, с. 301.
(обратно)163
ЦГВИА, ф. 3545 (Кавалергардский полк), оп. 1, д. 79, л. 108. Поручик Геккерн дежурил вне очереди 6, 8, 10, 12 и 14 ноября. Точные даты этих штрафных дежурств впервые установил М. И. Яшин (Звезда, 1963, № 8, с. 180).
(обратно)164
Щеголев. Дуэль, с. 260.
(обратно)165
Пушкин в восп., т. 2, с. 299–300.
(обратно)166
Щеголев. Дуэль, с. 259.
(обратно)167
Вокруг Пушкина, с. 320. В своих комментариях авторы не отметили, что служебное взыскание было наложено на И. Н. Гончарова в связи с его хлопотами по делу Пушкина.
(обратно)168
Щеголев. Дуэль, с. 76–78. Ценные комментарии к «Конспективным заметкам» в дальнейшем были сделаны Е. С. Булгаковой (см.: Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977, с. 256; Пушкин в восп., т. 2, с. 505–506; см. также: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1936, с. 377), И. А. Боричевским (Пушкин. Временник, т. 3, с. 381–382), Я. Л. Левкович (Врем. ПК. 1972, с. 77–83; Пушкин в восп., т. 2, с. 503–506).
(обратно)169
Пушкин в восп., т. 2, с. 339.
(обратно)170
ЦГИА, ф. 516, он. 1 (120/2322), д. 123, л. 19–20.
(обратно)171
Звезда, 1963, № 8, с. 165.
(обратно)172
Пушкин в восп., т. 2, с. 339.
(обратно)173
ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), д. 123, л. 37 об.
(обратно)174
Сводку материалов о ссуде, полученной Пушкиным, см. в кн.: Письма посл. лет, с. 270.
(обратно)175
21 ноября Пушкин получил от министра финансов ответ, из которого узнал, что его ходатайство отклонено (XVI, 192–193).
(обратно)176
Предположение о том, что в анонимном пасквиле содержался намек на царя, впервые было высказано в конце 1920-х годов П. Е. Щеголевым, Б. В. Казанским, П. Е. Рейнботом (см.: Щеголев П. Е. Кто писал анонимные письма Пушкину? — Огонек, 1927, № 42; Щеголев П. Е. Убийцы Пушкина. — Минувшие дни, 1927, № 1, с. 111–130; Щеголев. Дуэль, с. 436–443; Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Л., 1931, с. 140; Казанский Б. В. Письмо Пушкина к Геккерену. — Звенья, т. VI. М. — Л., 1936, с. 8–9; Красная нива, 1928, № 7, с. 2).
(обратно)177
Письма посл. лет, с. 333.
(обратно)178
Пушкин в восп., т. 2, с. 194.
(обратно)179
Там же, с. 143.
(обратно)180
Пушкин и совр., вып. XXI–XXII. СПб., 1915, с. 347 (франц.).
(обратно)181
Там же, вып. VI. СПб., 1908, с, 59.
(обратно)182
См.: Ахматова Анна. О Пушкине, с. 301.
(обратно)183
Слух об особом внимании царя к H. H. Пушкиной возник позднее. Он распространился летом 1844 г., когда стало известно о предстоящем замужестве вдовы поэта. О том, как комментировали это известие в светских гостиных, мы можем судить по ядовитым намекам, содержащимся в дневнике М. А. Корфа. «После семи лет вдовства, — писал Корф, — вдова Пушкина выходит за генерала Ланского <…> ни у Пушкиной, ни у Ланского нет ничего, и свет дивится этому союзу голода с нуждою. Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда своим посещением. Недель шесть тому назад он тоже был у нее, и, вследствие этого визита или просто случайно, только Ланской вслед за этим назначен командиром Конногвардейского полка, что, по крайней мере временно, обеспечивает их существование» (цит. по: Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина. — Новый мир, 1962, № 2, с. 226), Эта великосветская сплетня, по-видимому, получила распространение в узком кругу, но, как бывает с подобными слухами, оказалась живучей. В устной передаче она дошла до людей следующего поколения. Ее знала А. П. Арапова, дочь Натальи Николаевны от второго брака, и у нее хватило бестактности сделать эту версию достоянием печати (Новое время, 1907, № 11 406-11421; 1908, № 11 425 — 11 449). Слухи, возникшие накануне второго брака H. H Пушкиной в среде демократических читателей поэта, далеких от высшего света, получили ретроспективное истолкование. Они-то и послужили основанием для создававшейся тогда легенды о том, что царь был непосредственно причастен к дуальной истории. В этой легенде трагический конфликт поэта с царем получил наивно-прямолинейное объяснение.
(обратно)184
Жуковский, очевидно, знал, что в истории с Владимиром Соллогубом Пушкин удовлетворился письменными извинениями молодого человека в адрес Натальи Николаевны. Возможно, он надеялся склонить Дантеса к какому-то аналогичному ходу.
(обратно)185
Содержание этого разговора можно восстановить на основании вполне точных свидетельств: «Конспективных заметок» Жуковского, писем и рассказов Вяземского и писем самого Геккерна.
(обратно)186
Пушкин в восп., т. 2, с. 161.
(обратно)187
Щеголев. Дуэль, с. 261.
(обратно)188
Мои прежние действия, намерения (франц.).
(обратно)189
Пушкин в восп., т. 2, с. 339. Точный текст записи Жуковского за 7 ноября был установлен Я. Л. Левкович. Она впервые правильно прочла слово «незнание», что прояснило общий смысл записи (см.: Левкович Я. Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. — Врем. ПК. 1972, с. 78).
(обратно)190
Щеголев. Дуэль, с. 260.
(обратно)191
Открытия, откровения (франц.).
(обратно)192
Пушкин в восп., т. 2, с. 339.
(обратно)193
Щеголев. Дуэль, с. 204.
(обратно)194
Востокова Н. Б. Пушкин по архиву Бобринских. — В кн.: Прометей, т. 10. М., 1974, с. 266.
(обратно)195
Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827–1831. Л., 1927, с. 200.
(обратно)196
Письма Карамзиных, с. 137.
(обратно)197
Старина и новизна, 1914, кн. XVII, с. 235.
(обратно)198
Пушкин и совр., вып. XII. СПб., 1909, с. 94 (франц.). Перевод см. в кн.: Щеголев. Дуэль, с. 80.
(обратно)199
Письма Карамзиных, с. 147.
(обратно)200
Щеголев. Дуэль, с. 91–92.
(обратно)201
Письма Карамзиных, с. 151.
(обратно)202
Пушкин в восп., т. 2, с. 240.
(обратно)203
Щеголев. Дуэль, с. 82.
(обратно)204
Там же, с. 79.
(обратно)205
Пушкин и совр., вып. XII, с. 94 (франц.).
(обратно)206
Щеголев. Дуэль, с. 80.
(обратно)207
Звезда, 1963, № 8, с. 169.
(обратно)208
В письме от 24 декабря О. С. Павлищева, отвечая отцу, выразила огорчение, что Сергей Львович не получил ее предыдущего письма от 15 ноября, в котором она писала, в частности, о свадьбе м-ль Голынской и других новостях. Следовательно, 15 ноября было написано то самое письмо, о котором у нас идет речь, так что сомневаться в точности его датировки нет основания (см.: Пушкин и совр., вып XII. СПб., 1909, с. 94).
(обратно)209
Вы мне сообщаете новости о свадьбе господина Гончарова, а я вам paccкажy 10 же самое о его кузине мадемуазель Голынской, как вы помните, прежде помолвленной с господином Погодиным (франц.).
ИРЛИ, ф. 244, оп. 20, ед. хр. 83, л. 14.
(обратно)210
Там же, л. 15 об., 19.
(обратно)211
Там же, л. 15 об. См. также: Пушкин и совр., вып. XII, с. 90 (франц.).
(обратно)212
Пушкин и совр., вып. XII, с. 94 (франц.).
(обратно)213
Гроссман Л. Цех пера. М., 1930, с. 277.
(обратно)214
Щеголев. Дуэль, с. 338–339.
(обратно)215
Там же, с. 361; Гроссман Л. П. Документы о Геккернах. — Пушкин. Временник, т. 2, с. 355.
(обратно)216
Казанский Б. В. Разработка биографии Пушкина. — Лит. наследство, т. 16–18. М., 1934, с. 1147–1148.
(обратно)217
Яшин М. И. Хроника преддуэльных дней. — Звезда, 1963, № 8, с. 168–169.
(обратно)218
Прометей, т. 10, с. 272–275.
(обратно)219
ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, ед. хр. 78 (из бумаг Щеголева).
(обратно)220
Щеголев. Дуэль, с. 338.
(обратно)221
Дата эта установлена М. И. Яшиным (см.: Звезда, 1964, № 8, с. 173) и подтверждена документами, опубликованными в 1974 г. И. М. Ободовской и М. А. Дементьевым (см.: Вокруг Пушкина, с. 209–212). Об этом см. подробнее в моей статье «К истории дуэли Пушкина» (Нева, 1974, № 5, с. 192–193).
(обратно)222
ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, ед. хр. 78 (из бумаг Щеголева). Отрывок из этого письма опубликован Анри Труайа по материалам архива Геккернов (Troyat H. Pouchkine, vol. I–II. [Paris], 1946, p. 817).
(обратно)223
Звезда, 1963, № 8, с. 168–173.
(обратно)224
Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина. — Русская литература, 1970, № 2, с. 213.
(обратно)225
Письма Карамзиных, с. 109.
(обратно)226
Гроссман Л. Цех пера, с. 266–267.
(обратно)227
Письма Карамзиных, с. 139.
(обратно)228
А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его сочинения. Составитель П. И. Бартенев. Вып. 2. К биографии Пушкина. М., 1885, с. 68.
(обратно)229
Модзалевский. Пушкин, с. 378.
(обратно)230
Щеголев. Дуэль, с. 261.
(обратно)231
Пушкин в восп., т. 2, с. 161.
(обратно)232
Щеголев. Дуэль, с. 260.
(обратно)233
Новый мир, 1956, № 1, с. 177.
(обратно)234
Звезда, 1963, № 8, с. 164.
(обратно)235
ЦГВИА, ф. 3545, оп. 1, д. 79, л. 108, 109 об., 111.
(обратно)236
Пушкин в восп., т. 2, с. 339.
(обратно)237
Щеголев. Дуэль, с. 91. Далее в этой главе все цитаты из писем Геккерна и Дантеса даются по тому же изданию (с. 88–89, 91–92, 311–315), в переводе с французского.
(обратно)238
Пушкин в восп., т. 2, с. 339. Далее в этой главе все цитаты из «Конспективных заметок» Жуковского даются по тому же изданию (с. 339–340).
(обратно)239
Письма Карамзиных, с. 139.
(обратно)240
Вокруг Пушкина, с. 264.
(обратно)241
См.: Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы. СПб., 1887, с. 308.
(обратно)242
Откровения (признания) Геккерна (франц.).
(обратно)243
ЦГИА, ф. 516, он. 1 (120/2322), ед. хр. 123 (камер-фурьерский журнал за ноябрь 1836 г.), л. 37–37 об.
(обратно)244
Пушкин в воен., т. 2, с. 302.
(обратно)245
Щеголев. Дуэль, с. 90.
(обратно)246
Настороженное отношение А. Н. Гончаровой к Геккернам особенно отчетливо проявилось в ее январском письме к брату Дмитрию, см.: Вокруг Пушкина, с. 328–329.
(обратно)247
Прометей, т. 10. М., 1974, с, 266.
(обратно)248
Сохранилась копия этого письма, списанная Жуковским; на ней внизу его рукой сделана пометка: «Пятница. Утро»; значит, записка написана утром 13 ноября (см.: ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, № 198). См. также: Щеголев. Дуэль, с. 91.
(обратно)249
В академическом издании это письмо датируется 11–12 ноября. Мною подготовлена специальная работа, посвященная обоснованию новых датировок ноябрьских писем Жуковского.
(обратно)250
Цит. по: Письма поел, лег, с. 199.
(обратно)251
Пушкин имел в виду публичный скандал, устроенный Александром Раевским в 1828 г., накануне отъезда из Одессы, откуда он был выслав по доносу графа М. С. Воронцова.
(обратно)252
Пушкин в восп., т. 2, с. 16З.
(обратно)253
Бельчиков Н. Неизвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти Пушкина. — Новый мир, 1931, № 12, с. 188–193 (подлинник по-французски).
(обратно)254
Русский архив, 1889, кн. 3, с. 124. Перепечатано в «Красной газете» (Л., 1928, 20 июня, № 198, веч. выпуск). Эго письмо не было включено в раздел «Приложения» академического издания сочинений Пушкина, где его следовало бы поместить, как это было сделано с письмом В. Ф. Одоевского к H. H. Пушкиной (XVI, 232).
(обратно)255
Мы можем уверенно датировать записку именно 15 ноября, так как в 1836 г. H. H. Пушкина больше ни разу не была во дворце без мужа. На всех остальных балах и придворных праздниках этого года отмечено присутствие «камер-юнкера Пушкина с супругой» (ЦГИА, ф. 516, он. 1 (120/2322), ед. хр. 123, л. 53, 87 об.; ед. хр. 124).
(обратно)256
Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина. — Новый мир, 1962, № 2, с. 213.
(обратно)257
Это письмо было опубликовано Э. Г. Герштейн без точной даты, с указанием, что оно написано в 1836 г. (Новый мир, 1962, № 2, с. 213). Дата его (16 ноября) определяется по данным камер-фурьерских журналов. Подробнее об этом см. в моей статье: Вопросы литературы, 1978, № 11, с. 225.
(обратно)258
ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, № 194. Подлинник письма Пушкина был в руках у д'Аршиака. Сейчас, возможно, он находится в семейном архиве Геккернов. В собраниях сочинений Пушкина это письмо ошибочно печатается как письмо к В. А. Соллогубу и датируется 17 ноября.
(обратно)259
В тексте неразборчиво.
(обратно)260
Пушкин в восп., т. 2, с. 302.
(обратно)261
Письма Карамзиных, с. 137.
(обратно)262
Пушкин в восп., т. 2, с. 301.
(обратно)263
Там же.
(обратно)264
Модзалевский. Пушкин, с. 378.
(обратно)265
Пушкин в восп., т. 2, с. 301.
(обратно)266
П. Е. Щеголев в своей работе использовал вторую редакцию воспоминаний Соллогуба, так как «Записка», отданная Анненкову, не была ему известна. Ее впервые опубликовал в 1929 г. Б. Л. Модзалевский под заглавием «Нечто о Пушкине. Записка Сологуба-junior». См.: Модзалевский. Пушкин, с. 374–382.
(обратно)267
Модзалевский. Пушкин, с. 379.
(обратно)268
Там же (франц.).
(обратно)269
Пушкин в восп., т. 2, с. 302.
(обратно)270
Модзалевский. Пушкин, с. 379.
(обратно)271
Пушкин в восп., т. 2, с. 302.
(обратно)272
Там же.
(обратно)273
Модзалевский. Пушкин, с. 380.
(обратно)274
Пушкин в восп., т. 2, с. 315–316.
(обратно)275
Зачеркнутые строки свидетельствуют, что у Соллогуба не была времени переписать письмо набело.
(обратно)276
Там же, с. 303.
(обратно)277
Там же, с. 301. См. также: Модзалевский. Пушкин, с. 379.
(обратно)278
Пушкин в восп., т. 2, с. 303.
(обратно)279
М. И. Яшин утверждал, что обед, во время которого Пушкин в присутствии К. О. Россета поздравлял свою свояченицу, состоялся 4 ноября 1836 г. и что в этот день Жорж Геккерн уже сделал официальное предложение Е. Н. Гончаровой (см.: Звезда, 1963, № 8, с. 162–163). Полагаю, что анализ событий с 4 по 17 ноября 1836 г., проделанный в настоящей работе, достаточно убедительно опровергает мнение М. И. Яшина. Напомню также, что сам Дантес в своих заметках, написанных 16 ноября после получения письма Пушкина, прямо писал о том, что он собирается сделать предложение после окончания дуэли (Щеголев. Дуэль, с. 97). О том, что официальное предложение было сделано вечером 17 ноября, совершенно определенно сообщает и Е. И. Загряжская в своем письме к Жуковскому (Щеголев. Дуэль, с. 315). Необходимо отказаться от ошибочной датировки, предложенной М. И. Яшиным, так как она вносит большую путаницу в истолкование ноябрьской дуэльной истории.
(обратно)280
Пушкин в восп., т. 2, с. 304.
(обратно)281
Там же, с 316.
(обратно)282
Письма Карамзиных, с. 191.
(обратно)283
Щеголев. Дуэль, с. 261.
(обратно)284
Русский вестник, 1893, № 3, с. 299, 303. Ср.: Русская старина, 1900, т. 103, август, с. 383–389.
(обратно)285
Пушкин. Иссл. и мат., т. VIII. Л., 1978, с. 261 (публикация Р. Е. Теребениной).
(обратно)286
Щеголев. Дуэль, с. 452.
(обратно)287
Там же, с. 322.
(обратно)288
Дневник М. Мердер, с. 387.
(обратно)289
Письма Карамзиных, с. 190–192.
(обратно)290
Там же, с. 137, 139, 148.
(обратно)291
Старина и новизна, 1914, кн. XVII, с. 317–318.
(обратно)292
В собраниях сочинений Пушкина оно датируется 1835 г., так как редакторы рассматривали эти три строки как отрывок из черновика стихотворения «На выздоровление Лукулла». С. М. Бонди, изучивший последнюю тетрадь Пушкина, убедительно опровергает это мнение и пишет: «Однако решить, к чему относятся эти три стиха и о чем там говорится, я не берусь» (Бонди С. М. Из «последней тетради» Пушкина. — В кн.: Стих, Пушкина, с. 394–395). H. H. Петрунина считает, что этот фрагмент связан с замыслом сатиры на Уварова (см.: Стих. Пушкина, с. 341).
(обратно)293
Щеголев. Дуэль, с. 322.
(обратно)294
Там же.
(обратно)295
Предположение М. И. Яшина о том, что этот визит состоялся в октябре 1836 г. (см.: Звезда, 1963, № 8, с. 171), ничем не аргументировано и должно быть отклонено.
(обратно)296
Щеголев. Дуэль, с. 322.
(обратно)297
Русский архив, 1902, № 10, с. 235 (примеч.).
(обратно)298
Сводку материалов о судьбе этого письма и об истории его изучения см. в кн.: Письма посл. лет, с. 336.
(обратно)299
Измайлов Н. История текста писем Пушкина к Геккерну. — Летописи Гос. Литературного музея, кн. I. М. — Л., 1936, с. 338–357; Казанский Б. В. Письмо Пушкина к Геккерну. — Звенья, т. VI. М. — Л., 1936, с. 5–92.
(обратно)300
См.: Житомирская С. 37 страниц рукою Пушкина. — Наука и жизнь, 1972, № 8, с. 80–85; Эйдельман П. Я. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера. — Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 33. М., 1972. с. 304–310.
(обратно)301
Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушкина…, с. 304–310.
(обратно)302
Щеголев. Дуэль, с. 110.
(обратно)303
Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е. М. — Л., 1931, с. 142.
(обратно)304
Звенья, т. VI, с. 75.
(обратно)305
Гроссман Л. Пушкин. М., 1960, с. 486.
(обратно)306
Письма посл. лет, с. 164 (реконструированный текст).
(обратно)307
См.: Модзалевский В., Оксман Ю., Цявловский М. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 83–84.
(обратно)308
Пушкин в восп., т. 2, с. 304; Модзалевский. Пушкин, с. 381.
(обратно)309
В подлиннике стоит полная подпись: «Александр Пушкин» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1756).
(обратно)310
Эйдельман И. Я. Десять автографов Пушкина…, с. 312.
(обратно)311
Записка П. И. Миллера о дуэли и смерти Пушкина опубликована С. В. Житомирской (см.: Наука и жизнь, 1972, № 8, с. 85) и Н. Я. Эйдельманом (Записки Отдела рукописей…, вып. 33, с. 315–316).
(обратно)312
Пушкин в восп., т. 2, с. 304.
(обратно)313
Щеголев П. Е. Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли Пушкина. — Огонек, 1928, № 24. Перепечатано в кн.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931, с. 140 и след.
(обратно)314
Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина, с. 146.
(обратно)315
Гроссман Л. Пушкин. М., 1960, с. 487.
(обратно)316
См.: Левкович Я. Л. Документальная литература о Пушкине (1966–1971 гг.). — Врем. ПК. 1971, с. 58–59.
(обратно)317
Таких фактов можно указать множество. Вот, например, один из них. Мы знаем точно, что 28 января 1837 г. в 10 часов утра Жуковский был в кабинете царя и беседовал с ним о Пушкине (см.: Пушкин в восп., т. 2, с. 357 и 349). Но в камер-фурьерском журнале, в записях за 28 января, имя Жуковского не упоминается (ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 125).
(обратно)318
См. письмо Жуковского Пушкину (XVI, № 1286, с. 185–186).
(обратно)319
Впервые опубликовано Э. Г. Герштейн (см.: Новый мир, 1962, № 2, с. 213), затем, с некоторыми уточнениями, М. И. Яшиным (см.: Звезда, 1963, № 9, с. 168; перевод с франц.).
(обратно)320
Прометей, т. 10. М., 1974, с. 266.
(обратно)321
О роли сплетни, исходившей от Геккернов, подробно писала Анна Ахматова (см.: Ахматова Анна. О Пушкине. Л, 1977, с. 111–118). См. также мою статью «К истории дуэли Пушкина» (Нева, 1974, № 5, с. 194).
(обратно)322
Прометей, т. 10, с. 266–268.
(обратно)323
ЦГИА, ф.516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 123, л. 75 об.
(обратно)324
Первым выразил сомнение в справедливости этого предположения Н. Я. Эйдельман, обратив внимание на этическую сторону дела. По его мнению, Пушкин счел недостойным осведомлять о своих подозрениях — правительство, раз он не высказал все в лицо своему врагу (ведь письмо к Геккерну не было отослано!). См.: Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушкина… с. 312.
(обратно)325
Русский архив, 1865, № 5–6, стб. 765.
(обратно)326
Там же, 1888, № 7, с. 308.
(обратно)327
Там же, 1902, № 10, с. 235.
(обратно)328
Письма Карамзиных, с. 170.
(обратно)329
Русский вестник, 1869, № 11, с. 90–91.
(обратно)330
Щеголев. Дуэль, с. 275 (примеч.).
(обратно)331
Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. СПб., 1899, с. 262 (подлинник по-французски). См. также: Пушкин и совр., вып. VI. СПб., 1908, с. 94.
(обратно)332
Бурнашев В. П. Воспоминания. — Русский архив, 1872, с. 1790.
(обратно)333
Лит. наследство, т. 58. М., 1952, с. 132.
(обратно)334
Современник, 1837, т. VII, С. 52.
(обратно)335
Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977, с. 184–185.
(обратно)336
Там же, с. 119–129.
(обратно)337
М. И. Гиллельсон убедительно доказывает, что статья «О Мильтоне и шатобриановом переводе „Потерянного рая“» написана Пушкиным в последние месяцы жизни (в ноябре 1836 — январе 1837 г.). См.: Пушкин. Иссл. и мат., т. IX. Л., 1979, с. 234–237.
(обратно)338
В рукописи Пушкина у заголовка «Дела Камчатские» стоит помета «20 января 1837 года». Анализ сохранившихся планов, набросков и подготовительных выписок к этой, не завершенной Пушкиным работе был сделан Н. Я. Эйдельманом в его докладе на XXV Пушкинской конференции в ИРЛИ 2 июня 1978 г.
(обратно)339
Об автобиографических мотивах этой мистификации см. в работе Д. Д. Благого «Главою непокорной. (Ключ к последнему произведению Пушкина)» (Благой Д. Д. Душа в заветной лире. М., 1979, с. 477–500).
(обратно)340
Щеголев. Дуэль, с. 278 (примеч.).
(обратно)341
Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 354.
(обратно)342
См.: Теребенина Р. Е. Неизвестная запись Пушкина к «Слову о полку Игореве». — Врем. ПК. 1973, с. 12–19.
(обратно)343
Коркунов М, А. Письмо к издателю «Московских ведомостей». — В кн.: Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 349.
(обратно)344
Никитенко А. В. Дневник, т. I. М., 1955, с. 193.
(обратно)345
См.: Максимов М. По страницам дневников и писем Тургенева. — Прометей, т. 10. М., 1974, с. 385.
(обратно)346
Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 392–393.
(обратно)347
Там же, с. 404.
(обратно)348
М. И. Семевский со слов А. А. Краевского. — Русская старина, 1880, № 9, с. 220.
(обратно)349
Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 204.
(обратно)350
Письма П. А. Вяземского И. И. Дмитриеву. — Русский архив, 1868, № 4–5, стб. 653.
(обратно)351
Письма Карамзиных, с. 148.
(обратно)352
Там же, с. 148.
(обратно)353
Там же.
(обратно)354
Пушкин в восп., т. 2, с. 143.
(обратно)355
Там же, с. 163.
(обратно)356
Письма Карамзиных, с. 151.
(обратно)357
Их изящно обставленный дом (франц.).
(обратно)358
Посаженого отца (франц.).
(обратно)359
Там же, с. 154.
(обратно)360
Там же, с. 147–148.
(обратно)361
Там же, с. 153.
(обратно)362
Разоблачения Александрины (франц.).
(обратно)363
Грубости (франц.).
(обратно)364
Пушкин в восп., т. 2, с. 340. Эту запись Жуковского впервые правильно истолковала Е. С. Булгакова. См. об этом примечание М. А. Цявловского в кн.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1936 (сер. «Жизнь замечат. людей»), с. 377.
(обратно)365
Письма Карамзиных, с. 191.
(обратно)366
Вокруг Пушкина, с. 328.
(обратно)367
Пушкин в восп., т. 2, с. 322.
(обратно)368
Там же, с. 321.
(обратно)369
Письма Карамзиных, с. 191.
(обратно)370
Письма Александра Тургенева Булгаковым, с. 205.
(обратно)371
Щеголев. Дуэль, с. 286.
(обратно)372
Там же, с. 317.
(обратно)373
Цит. по: Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977, с. 129–130.
(обратно)374
Письма Карамзиных, с. 164.
(обратно)375
Пушкин. Временник, т. 1, с. 238.
(обратно)376
Дневник М. Мердер, с. 384.
(обратно)377
Ахматова Анна. О Пушкине, с. 119.
(обратно)378
Пушкин в восп., т. 2, с. 143.
(обратно)379
Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело. 1837. СПб., 1900, с. 63, 146.
(обратно)380
Щеголев. Дуэль, с. 261.
(обратно)381
Цит. по: Гроссман Л. Цех пера. М., 1930, с. 268.
(обратно)382
Ахматова Анна. О Пушкине, с. 133.
(обратно)383
Пушкин и совр., вып. XXI–XXII. СПб., 1915, с. 347.
(обратно)384
Дневник М. Мердер, с. 384–385.
(обратно)385
Щеголев. Дуэль, с. 422–424.
(обратно)386
См. письмо императрицы к С. А. Бобринской; Новый мир, 1962, № 2, с. 214 (публикация Э. Г. Герштейн).
(обратно)387
Московский пушкинист. Статьи и материалы, т. II. М., 1930, с. 263.
(обратно)388
Пушкин в восп., т. 2, с. 143.
(обратно)389
Письма Карамзиных, с. 191.
(обратно)390
Щеголев. Дуэль, с. 262.
(обратно)391
В тe дни Александрина Гончарова из всех, кто был рядом с поэтом, оказалась единственным человеком, который полностью разделял отношение Пушкина к Дантесу. На этой почве, по-видимому, и возникла тогда между ними сердечная близость. Но и эти отношения дали повод к сплетням, которые затем подхватили враги Пушкина. Подробнее об этом см. в статье А. Ахматовой «Александрина» (Ахматова А. О Пушкине, с. 134–147).
(обратно)392
Письма Карамзиных, с. 165.
(обратно)393
Щеголев. Дуэль, с. 262.
(обратно)394
Русская старина, 1899, т. 99, с. 310–311. С некоторыми уточнениями перепечатано в статье М. И. Яшина (Звезда, 1963, № 9, с. 167).
(обратно)395
Ахматова Анна. О Пушкине, с. 120.
(обратно)396
Яшин М. И. Хроника преддуэльных дней. — Звезда, 1963, № 9, с. 167. Подробнее об этом см. в моей статье «К истории дуэли Пушкина. (Аудиенция во дворце 23 ноября 1836 года)» (Вопросы литературы, 1978, № 11, с. 224–225).
(обратно)397
Ахматова Анна. О Пушкине, с. 119, 133.
(обратно)398
Подробнее о письме к Толю см.: Письма посл. лет, с. 358.
(обратно)399
Звезда, 1963, № 8, с. 172.
(обратно)400
Пушкин в восп., т. 2, с. 323.
(обратно)401
Соллогуб В. А. Воспоминания. СПб., 1887, с. 126–127.
(обратно)402
Письма Карамзиных, с. 167.
(обратно)403
Пушк. в восп, т. 2, с. 143–144.
(обратно)

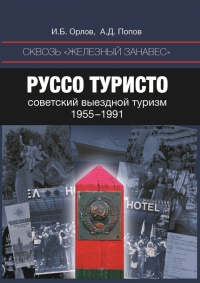
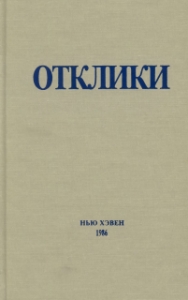
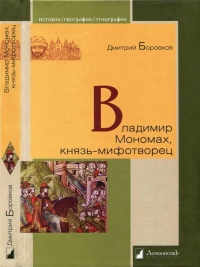
Комментарии к книге «Пушкин в 1836 году», Стелла Лазаревна Абрамович
Всего 1 комментариев
Александр
23 окт
Интересная книга