Александр Филюшкин Князь Курбский
ОТ АВТОРА
Личность человека отражается в принадлежащих ему вещах. Собственно, благодаря этому и существуют мемориальные музеи, музеи-квартиры: людям интересно знать, как жил, что носил, на чем ел или спал их герой. Иной раз предметы могут сказать об историческом персонаже куда больше, чем десятки ученых монографий. Вспомним хранящуюся в петербургской Кунсткамере коллекцию зубов, вырванных у безропотных придворных изнемогающим от медицинского любопытства «высочайшим стоматологом» Петром Великим. Или – знаменитую «тетрадь Емельяна Пугачева» из Российского государственного архива древних актов. Самозванец не умел писать, но, поскольку выдавал себя за царя Петра III, не смел в этом признаться – император не может быть неграмотным! И поэтому он демонстративно, краснея от натуги, выводил крючочки, крестики, линии наподобие детских прописей. По войску прокатывался почтительный слух – шуметь нельзя, государь пишет! Только разобрать нельзя что – поскольку, говорят, обожаемый монарх составляет свои записи исключительно на латыни...
Но, чем дальше вглубь веков, тем меньше шансов у нас обнаружить вещь, точно принадлежавшую интересующему нас человеку. Именно так печально обстоит дело с предметами, хранящими память о князе Андрее Михайловиче Курбском. В его русских имениях не осталось ни одного мемориального места, да и сам перечень этих имений воссоздается не без затруднений. Могила Курбского на Волыни утрачена. Нет подлинников его знаменитых посланий царю Ивану Грозному. Все они дошли только в поздних списках XVII – XVIII веков. Не существует ни одного прижизненного портрета нашего героя. Не сохранилось никаких предметов, принадлежавших князю. Автор этих строк слышал красивую легенду, будто бы в Эрмитаже хранится некий «кинжал Курбского», привезенный в Россию его сыном в годы Смуты. Однако при обращении в знаменитый музей был получен ответ, что такого экспоната не обнаружено.
Лишь пожелтевшие листки многочисленных судебных дел, оставшиеся от бурных земельных, наследственных и уголовных тяжб волынских аристократов второй половины XVI века, хранят память о делах, по которым Курбский в литовской эмиграции проходил в качестве истца, свидетеля или ответчика. Да на большой звоннице Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле висит колокол, отлитый псковскими мастерами в 1554 году. По легенде, его заказчиком был князь Андрей.
И это все, что осталось от нашего героя?
Нет. Через века звучит голос Курбского и, несмотря на разделяющие нас столетия, отнюдь не становится слабее. Сборники с сочинениями князя проникли на Русь из Речи Посполитой в XVII веке. Вплоть до первой четверти XIX века эти произведения ходили в рукописных списках, которые можно было встретить в библиотеках многих мыслящих людей России того времени: императрицы Екатерины II, князей В. В. и Д. М. Голицыных, Г. А. Потемкина, поэта М. М. Хераскова, историков А. И. Лызлова, Ф. П. Поликарпова, В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, Н. А. Карамзина и др.[1]
Сочинения Курбского впервые опубликовал в 1833 году Н. Г. Устрялов[2], и с тех пор они были изданы несколько десятков раз в России, Англии, Германии, Франции, Чехии, Дании и других странах[3]. Для многих людей князь – единственный персонаж русской истории XVI века, кроме Ивана Грозного, о котором они хоть что-то знают. По состоянию на февраль 2008 года в Рунете было более 16 тысяч страниц на 3500 сайтах, упоминающих Курбского (для сравнения: в декабре 2006 года таких страниц было 10 840)[4]. Далеко не все современные деятели, в том числе и куда более плодовитые, могут похвастаться такой популярностью – причем только нарастающей на протяжении четырех столетий, прошедших с момента его смерти.
Между тем в этой двойственности – ничтожное количество материальных следов Курбского и обилие виртуальных – проявляется главная черта исторической судьбы князя. Его реальный жизненный путь был не совсем похож на тот образ, который придумали потомки. Поэтому наша задача – помочь вспомнить подлинного Курбского, найти его среди мифов и легенд, которыми его биография обросла за эти 400 лет.
Надеемся, что история князя Андрея и эпохи, в которую он жил, откроется для читателя многими неожиданными и интересными сторонами. Тем более что панорама нашего повествования самая обширная: от Волги до Карпат, от Балтики до Крыма. На страницах этой книги будут жить и умирать короли и ханы, посланники римского папы и последние крестоносцы. Есть люди, в биографии которых фокусируется эпоха. К их числу принадлежит и князь Курбский. Через перипетии его судьбы на нас глядит великий и ужасный русский XVI век...
Глава первая МИФЫ О КУРБСКОМ
Рождение героя: как сочиняли Курбского
История беглого князя, первого русского политического эмигранта и даже, как его иногда называют, первого диссидента была сильно мифологизирована еще при жизни Курбского, а после его смерти обросла такими легендами, что личность настоящего боярина и воеводы совершенно растворилась в буйном воображении потомков.
Конечно, в этом в какой-то степени виноват сам Курбский. Судьба его посмертного образа – яркий пример огромной силы литературы. В порыве заочной полемики с Иваном Грозным беглый князь, мягко говоря, многое присочинил и придумал в своих сочинениях. Он изобразил себя выдающимся полководцем, государевым первосоветником, человеком, принадлежащим к «сильным во Израили» – кругу богоизбранных людей, на которых стояло Русское государство. Его близкими друзьями и соратниками были окольничий Алексей Адашев и священник Сильвестр, которые сумели, запугав жестокого и неразумного государя угрозами Божьего гнева, отстранить его от власти и фактически править Россией от его имени.
Во времена правления этой группировки – Курбский называет ее «Избранной радой», то есть «советом богоизбранных мужей» – страна процветала. Но безумный и грешный царь не оценил великого блага совместного правления с Адашевым, Сильвестром, Курбским и разогнал своих советников, лучших людей страны. Вместо благодарности и воздаяний за праведность и ратный труд «сильные во Израили» попали на плаху, в ссылку, оказались в эмиграции. Царь Иван стал еретиком и соратником Антихриста, в Русской земле разгорелся «пожар лютости», а князь Курбский, находясь в «благополучном изгнании» (выражение Владимира Набокова), из безопасного зарубежья героически поднял знамя борьбы с тираном.
Благодаря использованию сочинений Курбского как главного исторического источника по эпохе правления Ивана Грозного вышеизложенную схему русской истории XVI века с небольшими различиями можно встретить во многих трудах, начиная с «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Как мы попытаемся показать в своей книге, данная схема, получившая условное название «двух Иванов» («хорошего» во время правления «Избранной рады» и «плохого» после ее разгона, эмиграции Курбского и введения опричнины), – выдумка Курбского. В действительности все было гораздо интереснее и сложнее. Князь, если можно так выразиться, примитивизировал видение русской истории, подогнав ее под искусственную, глубоко идеологизированную схему.
Однако именно эти выдумки оказались востребованы потомками. Курбский отомстил своему врагу, Ивану Грозному, прежде всего тем, что сумел навязать читателям свой взгляд на русскую историю XVI века, который до сих пор определяет оптику нашего видения эпохи царя Ивана Васильевича. Вот уже несколько столетий мы смотрим на русский XVI век через очки, надетые Андреем Курбским на историков. Влияние этой схемы оказалось столь велико, что ее стали переносить и на другие царствования. Историк С.О. Шмидт показал, что А. С. Пушкин намеревался писать историю царствования императора Александра I «пером Курбского», имея в виду как раз разделение его правления на два периода: «дней Александровых прекрасное начало» – времена основания Лицея и сокрушения империи Наполеона, и период последнего десятилетия – аракчеевщины[5].
Свою роль здесь сыграло и то, что князь Курбский изначально стал литературным героем. Если бы его знали только историки, вряд ли бы его фигура обрела столь большую популярность у потомков и его образ так бы влиял на умы. Но широкая публика познавала Курбского прежде всего через его изображение на страницах литературных произведений. И этот художественный персонаж в общественном сознании почти полностью вытеснил реального Курбского – боярина и воеводу XVI века. Читателям, интересовавшимся эпохой Ивана Грозного, был очень нужен герой рядом с царем – в зависимости от политических воззрений, герой положительный или отрицательный. Курбский идеально подходил и на ту, и на другую роль.
Первый русский диссидент
Мифологизация образа князя как положительного героя началась уже в XVII веке в Речи Посполитой. В 1641 году в Кракове был издан первый том «Orbis Poloni» («Польский мир»), в котором помещены герб Курбского и краткий комментарий к нему геральдиста Симона Окольского. В нем содержалась похвала Курбскому:
«Крупский (так. – А. Ф.) был поистине великим человеком: во-первых, великим по своему происхождению, ибо был в свойстве с московским князем Иоанном; во-вторых, великим по должности, так как был высшим военачальником в Московии; в-третьих, великим по доблести, потому что одержал такое множество побед; в-четвертых, великим по своей счастливой судьбе: ведь его, изгнанника и беглеца, с такими почестями принял король Август»[6].
Здесь что ни строка, то выдумка и миф. При обращении к фактам биографии князя очевидно, что он не был ни таким уж великим полководцем, ни тем более «высшим военачальником». Да и его родство с царицей Анастасией Романовой было столь дальним, что вряд ли позволяло говорить о близком «свойстве» царю Ивану IV. Нет на счету князя и «множества побед». Очень горький оттенок носили и «милости» короля Сигизмунда II Августа. Особенно примечателен здесь пассаж о победе князя над московской деспотией. В реальности бегство князя от царя Ивана вряд ли можно считать «викторией». Но Окольский разъяснил читателям, в чем именно состояла победа Курбского над Иваном IV:
«Невозможно и представить худшего наказания и бедствия для Московского царства, чем то, что этот Геракл (то есть Курбский. – А. Ф.) — боярин и государственный муж, принимавший участие в важнейших делах Московии, – стал вассалом и подданным польского короля. Ни днем, ни ночью не мог забыть тиран о Крупском и его льве и, видя во сне, трепетал от ужаса. Ибо: лев, увиденный во сне, предвещает гибель от руки врагов».
По Окольскому, лев в гербе Курбского «обозначает высочайшее превосходство – превосходство, данное природой, данное судьбой... Лев – знак всех победителей, но особенно он пристал победителю тиранов». Остается только гадать, откуда польскому автору XVII века стали известны сны и нравственные терзания русского царя, скончавшегося в прошлом, XVI веке...
В России XVII века Курбский как борец с тиранией стал известен благодаря проникновению из Речи Посполитой так называемых Сборников Курбского – подборки его сочинений, нередко объединенных с другими произведениями, описывающими жестокости Ивана Грозного – например, главы «О московской тирании» из хроники польского историка XVI века Мацея Стрыйковского «Описание Европейской Сарматии», переработанной Александром Гваньини[7].
Тем самым Сборники Курбского, известные более чем в 120 списках, как бы создавали альтернативу официальной «благопристойной» истории правления Ивана Грозного. Как отмечено К. Ю. Ерусалимским, «копирование Сборника имело привкус „литературного скандала“... Сами масштабы копирования этого сборника могут быть истолкованы как знак участия Курбского в жизни российской литературы и общества. Информация, собранная князем, не находила аналогов в официальных русских текстах о времени Ивана Грозного. Брошенный Курбским вызов тирании иногда воспринимался как вызов власти как таковой. Особенно заметными такие подтексты становились в эпохи, когда возрастало противостояние между властью и оппозицией... Неслучайны замечания Екатерины II на полях рукописи Сборника, запреты на публикацию сочинений Курбского, выступления „Курбского“ против тирании в трудах историков М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, В. Ф. Тимковского и в литературных опытах А. С. Пушкина и декабристов»[8].
Один из первых неудачных опытов использования сочинений Курбского для критики Ивана Грозного был предпринят в петровское время. В 1708 году работнику московской типографии Федору Поликарпову было поручено в течение пяти лет написать русскую историю от великого княжения Василия III до современности. Поликарпов взял у Курбского несколько описаний злодейств Грозного и примеров его деспотического правления. В 1716 году Петр I рассмотрел рукопись и забраковал, хотя и велел выплатить 200 рублей «за труды». Возможно, ему не понравились как раз выпады против его царственного предка, которого он считал своим предшественником. На триумфальной арке, сооруженной в 1722 году, с правой стороны было сделано в натуральную величину изображение Ивана Грозного в царской короне с надписью: «Incipit» («Начал»), а слева – Петра в императорской короне с надписью «Perficit» («Усовершенствовал»).
Критические выпады Курбского вызывали отторжение у части российского общества, отсюда очень рано возникает своеобразная цензура, попытки отредактировать и переписать Курбского в духе, более угодном властям. К. Ю. Ерусалимским показано, что такие случаи не редкость. В 1740-е годы возникла так называемая Сокращенная редакция Сборника Курбского, автор которой удалял из него богословские отрывки, выпады против царя, рассуждения и интерпретации. Переписчик списка Саровской пустыни просто вычеркнул наиболее резкие характеристики Ивана Грозного при копировании источника. Переписчик Овчинниковского списка в приписке к рукописи проклинал Курбского за его ложь на царя. Очень примечательна правка Тихомировского списка сочинений Курбского студентом Академии наук Семеном Девовичем в 1760 году. Вместо слов: «царь старшего сына Дмитрия своим безумием погубил» после редакторской правки оказалось: царь Дмитрия «лишился»; в источнике царь противится Максиму Греку «яко гордый человек» — после правки читается только: «противился в сем ему»; в источнике царь еще до гонений на «Избранную раду» «лют и бесчеловечен начал быти» — у Девовича он «от времени до времени жесточайшим казался»; затерты отрывки в тех местах, где в источнике говорится о царе как о «мучителе варварском, кровоядном и ненасытимом»; митрополит Филипп проклинает царя у Курбского – и лишь не благословляет у Девовича; у Курбского царь «гонение воздвиг» на Новгород – после редакторской правки в этом месте читается: «жестокость... оказал»[9] .
Как исторический источник по периоду правления Ивана Грозного использовал сочинения Курбского князь М. М. Щербатов, однако он также предостерегал от чрезмерного доверия к эмоциональным разоблачениям эмигранта, поскольку Курбский «был огорчен» и желал очернить память о царе[10].
В 1816 году первое биографическое сочинение о Курбском составил В. Ф. Тимковский. Он осторожно поставил вопрос: не следует ли отойти от однозначных оценок князя как предателя и акцентировать внимание прежде всего на его борьбе с тиранией и служении высшим идеалам, в том числе – патриотическим? Тимковский составил одну из первых развернутых характеристик Курбского:
«Он имел ум твердый, проницательный и светлый, дух высокий, предприимчивый и решительный... Сердце его расположено было к глубоким чувствованиям любви к отечеству, братской нежности и искреннейшей благодарности; душа его открыта была для добра. Он был верный слуга самодержавия и враг мучительского самовластия. Презирал ласкателей и ненавидел лицемерие. Его просвещенная набожность и благочестие были, кажется, выше понятий того века, в котором он жил... Храбрость и вообще воинския доблести почитал он весьма высоко и, чувствуя в себе дар сей, позволил себе некоторую рыцарскую гордость, которая презирала души слабыя и робкия. В самом деле, храбрость его была чрезвычайна, даже походила иногда на запальчивую опрометчивость и дерзость необузданную, и во всяком случае напоминает она мужество древних Руских Богатырей, или Витязей Гомеровых»[11].
Труд Тимковского остался неопубликованным, известен только в рукописи и особого влияния на последующую традицию не оказал, хотя и предвосхитил многие высказывания последователей.
На страницах VIII (1818) и IX (1821) томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина имя Курбского звучит каждый раз, когда «придворный историограф» обличает «кровавые злодейства Иоанна». И хотя он осуждает князя за предательство, называя «беглецом», все равно в глазах читателя именно Курбский оказывался человеком, сказавшим правду о тиране, «врагом Иоанна»[12]. По выражению К. Ю. Ерусалимского, Карамзин открыл «трагедию Курбского как одновременно тираноборца и предателя... Курбский, хотя и был под запретом цензуры, „торжествовал“ в „Истории Государства Российского“. В VIII и IX томах Курбский, как свидетель тирании, „враг Иоаннов“, становится частью эпического театрализованного повествования». Важно, что Карамзин цитировал Курбского в своих примечаниях столь обильно, что можно говорить о первой серьезной публикации значительных фрагментов сочинений беглого князя, причем на страницах книги, очень популярной в русской обществе. Читать Карамзина было модным.
Отсюда поколение современников Карамзина, который, как говорили, открыл русскому обществу его историю, как Колумб открыл Америку, усвоило миф о князе Андрее – борце с деспотизмом. Беглого воеводу полюбили декабристы. В нем они видели своего предшественника. К. Ф. Рылеев в 1821 году так представлял себе монолог Курбского:
На камне мшистом в час ночной, Из милой родины изгнанник, Сидел князь Курбский, вождь младой, В Литве враждебной грустный странник, Позор и слава русских стран, В совете мудрый, страшный в брани, Надежда скорбных россиян, Гроза ливонцев, бич Казани... «Далеко от страны родной, Далеко от подруги милой, — Сказал он, покачав главой, — Я должен век вести унылый. Уж боле пылких я дружин Не поведу к кровавой брани, И враг не побежит с равнин От покорителя Казани. До дряхлой старости влача Унылу жизнь в тиши бесславной, Не обнажу за Русь меча, Гоним судьбою своенравной. За то, что изнемог от ран, Что в битвах край родной прославил, Меня неистовый тиран Бежать отечества заставил: Покинуть сына и жену, Покинуть все, что мне священно, И в чуждую уйти страну С душою, грустью отягченной. В Литве я ныне стал вождем; Но, ах! ни почести велики Не веселят в краю чужом, Ни ласки чуждого владыки... Увы! всего меня лишил Тиран отечества драгова. Сколь жалок, рок кому судил Искать в стране чужой покрова»[13] .К. Ф. Рылеев заложил основы художественного образа Курбского как романтического трагического героя, патриота, изгнанного тираном из любимого Отечества. Эта тема получила развитие в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина (1825). Образ Курбского понадобился поэту для иллюстрации центральной идеи трагедии о неотвратимости возмездия. Правда, здесь была привлечена фигура не самого Андрея Курбского, а его выдуманного безымянного сына, вступившего в войско Самозванца для похода на Москву. Пушкин с сочувствием говорит о Курбском-старшем, изображает его патриотом потерянной Родины:
Уединен и тих, В науках он искал себе отрады; Но мирный труд его не утешал: Он юности своей отчизну помнил, И до конца о ней он тосковал... Несчастный вождь!..Вторжение сына Курбского на Русь в составе польско-литовской армии изображено Пушкиным как восстановление исторической справедливости в отношении его отца. При этом не важно, каковы истинные цели Самозванца, в войске которого следует потомок князя Андрея. Юный Курбский – «чистая душа», которая ликует при возвращении на Родину:
Вот, вот она! Вот русская граница! Святая Русь, Отечество! Я твой! Чужбины прах с презреньем отряхаю С моих одежд – пью жадно воздух новый: Он мне родной!.. теперь твоя душа, О мой отец, утешится, и в гробе Опальные возрадуются кости! Блеснул опять наследственный наш меч! Сей добрый меч, слуга царей московских![14]С. О. Шмидтом совершенно верно замечено, что «в первой трети XIX века тему „Курбский“ связывали с вопросами нравственности в их общечеловеческом аспекте (исходя, естественно, из общехристианских представлений) и с неизменно волнующей проблемой нашей общественной жизни „Государь и общество“, и, соответственно, с вопросом о формах публичного выражения отношения к государю, к стилю взаимодействия его с окружающими... И примечательно то, что все, о чьем восприятии Курбского и написанного им, нам известно, были убежденными монархистами (кроме разве что К. Ф. Рылеева) и понимали, что и сам Курбский не мыслил иной системы государственной власти, чем монархическое правление. Но приводимые им свидетельства тирании и злодейств Ивана Грозного были использованы с конца XVIII века для обоснования различия „самодержавия“ и „самовластия“, значения „совета“ государю – и в исторической литературе (М. М. Щербатов, В. Ф. Тимковский и особенно пространно и, так сказать, доходчиво Н. М. Карамзин), и в художественной (М.М.Херасков... и, конечно, Пушкин в „Борисе Годунове“ и в стихах 1836 года)»[15].
Добавим к этому, что образ Курбского не только привлекался в качестве символичной фигуры в рассуждениях на морально-этические темы в первой трети XIX века, но востребован в этом качестве вплоть до наших дней.
В 1843 году вышло первое издание романа Б. М. Федорова «Князь Курбский» (2-е издание – 1883 год). Тональность повествования задана эпиграфом из М. М. Хераскова: «Не миру рабствовал, он Богу был служитель». Курбский изображен в панегирических тонах:
«...Сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шел воевода большого полка князь Курбский, беседуя с воеводой Даниилом Адашевым о священном пении. Почтительно отступили граждане, чтобы дать дорогу защитнику земли русской. „Доблестный Курбский! Славный воитель!“ – говорили друг другу, указывая на любимца Иоаннова, и не одна стыдливая красавица, одернув фату, из любопытства взглянула украдкою на боярина».
Здесь перед нами и набожный, и тонко чувствующий князь (ценитель церковного пения), и любимец царя и народа, и прославленный воевода, спаситель Отечества, и даже предмет женской страсти. При этом князь честен и беден: вотчиной предков Курбских было княжение Ярославское, но «одна любовь к Отечеству осталась в наследие им!». Особое место в романе уделено ратным подвигам воеводы: «Одно его имя уже было грозою Ливонии. Никто не устоял против его порыва, никто не удержал его стремления». Курбский бесстрашен, о чем толкуют его враги: «Грози не грози Курбскому, не покается».
Жизнь князя сопровождают мистические видения, грозные пророчества: то юродивый поклонится не князю, а его слуге Шибанову, вопрошая Курбского: «А ты знаешь, кем он будет?» То дворянин Туров перескажет князю сон, что он идет по мосту, который проваливается под ногами при виде Адашева и Курбского. Кликуша перед лицом царя пророчествует, что Курбский умрет на день раньше Грозного (на самом деле князь умер за год до царя). Юродивый водит Курбского по полям под Псковом и, указывая на природные катаклизмы (расщепленный ударом молнии дуб), толкует будущую судьбу князя.
Курбский изображен писателем сторонником партии «адашевцев» – лучших людей государства, которых с помощью лжи и клеветы свергли злодеи, отвратительные даже своим порочным или уродливым видом, – Басмановы, священник Левкий, другие будущие опричники. Князь решает избавить Русь от тирана и поднять восстание против Грозного во главе верных дружин. Но его отговаривает жена Гликерия, посоветовав бежать в Литву. Дрогнувший князь согласился на совет слабой женщины (которую, впрочем, при этом бросил в России) и бежал в одежде своего слуги, напугав городскую охрану: «Стражу казалось, что сам ангел тьмы, под покровом ночи, перелетает чрез городскую стену». При этом жену Курбского похитили эстонские (sic!) разбойники, которые завезли ее в уединенный замок, и главарь негодяев стал домогаться любви княгини. Но Бог не оставил несчастную, и злодей вскоре погиб в бурном море прямо под стенами замка на глазах своей несостоявшейся жертвы.
Гликерия Курбская стала странницею, бродящей по Ливонии. Для нее ударом было известие из Литвы о новой женитьбе ее мужа и о том, что он «вооружается на Россию». Несчастной ничего не оставалось, как постричься в монахини и уйти из этого грешного мира.
Князь Андрей же в Литве «казался богатырем Владимирова века», легко очаровывавшим прекрасных панночек. Но сердце его ожесточилось, было полно честолюбия и желания отомстить, и он выступил с полками против своей бывшей родины. Выступил – и ужаснулся своей измене. Теперь он уже не святорусский герой, он – жестокое чудовище, которое при этом еще и терзается душевными муками от своих злодеяний: «"Не устоять против этого зверя!" – кричали русские воины, рассыпаясь в бегстве; между тем несколько голосов гремело в слух его: „Предатель! Изменник! Судит Бог тебе за кровь русскую!“»
Вслед за Пушкиным, в романе возникает тема сына Курбского, но совсем в другом аспекте. В одном из боев Курбский нечаянно чуть не убил своего сына, сражавшегося на стороне Москвы, из-за этого «изнемог от силы чувств и впал в жестокую болезнь». Другим ударом стало известие, что князь оказался двоеженцем: его жена Гликерия жива и в монастыре, а он, заочно «похоронив» ее, женился на литовке! Князь теперь завидует боярам, служащим тирану Иоанну: «По крайней мере, на жизни их не будет пятна».
В соответствии с законами романтического жанра биографии героев пересекаются. Сын Курбского Юрий сперва находит свою мать-инокиню, а потом добирается и до Ковельского замка отца. Дальнейшая судьба персонажей романа исключительна: Гликерия Курбская, инокиня Глафира, благословляет постриженную в монахини жену Грозного Анну Колтовскую, которая позже благословит династию Романовых. А Юрий Курбский с Ермаком отправляется на покорение Сибири. Сам же князь Андрей будет искупать грех, печатая в Литве православные книги и проводя дни в уединении и молитве, заклиная: «Для чего смерть не сразила меня под Казанью? Для чего не пал я от мечей Ливонских? Я не изменил бы Отечеству!»
Заканчивается роман Б. М. Федорова довольно неожиданной сентенцией:
«Уже протекает третий век... изгладились следы и знаменитой гробницы князя Ковельского. Но, кажется, небо примирилось с ним: давно уже русские орлы улетели за Ковель; Россия отодвинула границы свои и приняла под материнскую сень свою прах изгнанника»[16].
Тем самым факт эмиграции Курбского как бы дезавуируется: земли, в которые он бежал из России, уже теперь русские. И это символизирует прощение Родиной раскаявшегося эмигранта.
Как борец с тиранией Курбский вошел даже в дореволюционные учебные пособия по истории. Например, в учебнике С. М. Соловьева князь изображен «одним из самых ревностных» сторонников Адашева и Сильвестра, после их опалы он решается бежать во имя спасения своей жизни. «Курбский принадлежал к числу образованнейших, начитаннейших людей своего времени», он не хотел «молча расстаться с Иоанном» и написал ему обличительное письмо. С. М. Соловьев изобразил князя защитником боярских привилегий, в особенности права отъезда и ограничения власти монарха. При этом «Курбский был представителем целой стороны: он упрекал Иоанна не за одного себя, но за многих». Примерно так же о Курбском говорилось в знаменитом дореволюционном учебнике для гимназий С. Ф. Платонова: Курбский упомянут как член «Избранной рады», который бежал в 1564 году в Литву. После этого началось «жестокое гонение» на бояр. Упомянута и переписка с царем, в которой князь обвинял монарха «в жестокости и несправедливости». Властям, конечно, такие трактовки не нравились, и в более официозном учебнике Д. М. Иловайского акцент делался не на борьбу с тиранией, а на предательские деяния князя[17].
Образ Курбского оказался востребован и в СССР в период «Оттепели» в связи с ростом в стране диссидентского движения. Поэт Олег Чухонцев в 1967 году сформулировал в «Повествовании о Курбском» вывод, востребованный тайной оппозицией советской власти для самооправдания антигосударственной деятельности: «право на измену присяге», «право на восстание». Примечательно, что для декларации данного вывода потребовался исторический пример Андрея Михайловича Курбского:
Чем же, как не изменой, воздать за тиранство, если тот, кто тебя на измену обрек, государевым гневом казня государство, сам отступник, добро возводящий в порок?[18]На рубеже XX и XXI веков образ Курбского вновь мелькает на страницах публицистики. Среди журналистов в последние годы популярно сравнение Курбского с Борисом Березовским (причем как комплиментарного, так и обличительного характера). В Интернете можно найти сатирические стихи (под псевдонимом Л. Левин) «Баллада о верном пути», начинающиеся со слов «Бежал Березовский от гнева царя», основанные на аллюзиях известного стихотворения А. Толстого «Князь Курбский от царского гнева бежал...». Встречается и совсем уж неожиданное сравнение Курбского с бывшим олигархом М. Ходорковским (тоже покаялся перед лицом власти) и даже с несостоявшимся кандидатом в президенты 2008 года М. Касьяновым (тоже оппозиционер)!
Образ князя-диссидента, обличающего царя, привлекается в сатирических пародиях политического характера, направленных против тех или иных действий современных российских властей или политической оппозиции. Например, размещенный в Рунете памфлет «Эпистола Андрея Курбского царю Иоанну Васильевичу Путину» пародирует Первое послание Курбского Грозному, в котором «Курбский» обвиняет уже современных правителей России.
Привлекается образ Курбского и как рупор пропаганды националистических и даже фашистских идей. Это показывает, что данный образ не имеет отношения к реальному Курбскому и в наши дни стал шаблонным символом правдолюбца, обличающего власть, причем даже не важно, с каких позиций[19].
Подлинный патриот
В литературе, как видно из приведенных примеров, тема свободолюбия Курбского сочеталась с темой его любви к Родине. При этом патриотизм князя считали «подлинным» и отличали от «ложного», крикливого и демагогического. По словам А. Н.Ясинского (1889), «его патриотизм был не такого рода, чтобы предпочитать все свое, родное, только за то, что оно родное. Образование и широкий жизненный опыт делали Курбского сознательным патриотом: он любил родину, но видел ее недостатки, скорбел за них и негодовал, видел существенный недостаток «святорусской земли» в отсутствии образования и невежестве русских людей... как увещевал он молодых людей искать образования и даже ездить за границу, если на родине не найдут сведущих учителей»[20].
Право слово, можно подумать, что речь не о боярине и воеводе XVI века, а о представителе демократической интеллигенции Новейшего времени.
Впервые сочинения Курбского были востребованы в качестве источника для пророссийских идей А. И. Лызловым, автором знаменитой «Скифской истории» (1692). Победа над татарской степью представлялась Лызлову главной исторической задачей, стоявшей перед Россией. Названия кочевых народов – врагов России – он обобщил в слове «Скифы». Поэтому, во-первых, Курбский был для Лызлова борцом с татарами, а во-вторых, в фигуре Курбского (россиянин на службе у польского короля) воплощалась популярная в конце XVII века идея Вечного мира с Польшей (1686) и создания Священной лиги христианских государств для противостояния мусульманскому Востоку. По утверждению К. Ю. Ерусалимского, «История о великом князе московском» Курбского «стала одним из источников идеологической программы христианской Лиги, которой в иных исторических условиях придерживался сам Курбский». Князь выступает, по словам ученого, «участником имперского величия России»[21] и, в какой-то степени, как герой взятия Казани – его творцом.
Именно последний образ, образ Курбского как эпического героя, развит в знаменитой «Россиаде» М. М. Хераскова (1778), в центре которой – рассказ о взятии Казани в 1552 году. Князь изображен радетелем за судьбы Отчизны:
Вдруг будто в пепле огнь, скрывая в сердце гнев, Князь Курбский с места встал, как некий ярый лев; Власы вздымалися, глаза его блистали; Его намеренье без слов в лице читали... Чины приобретать хощу единой честью — Служить Отечеству трудами и мечом; О правде я пекусь, а больше ни о чем. Мы видим Курбского в образе классического героя, образца воинской доблести; Но Курбского в дыму далеко примечают, Который на копье, противника небес, Вонзенную главу ордынска князя нес: Померклых глаз она еще не затворила И, мнится, жителям: «Смиритесь!» – говорила[22] . Патриотизм Курбского, по М. М. Хераскову, проявляется в его любви к Отечеству. Князь выступает царским советником, несущим благо и царю, и стране: Во смутны времена еще вельможи были, Которы искренно отечество любили, Соблазны щастия они пренебрегли, При явной гибели не плакать не могли; Священным двигнуты и долгом и законом, Стенать и сетовать дерзали перед троном; Пороков торжество, попранну правду зря, От лести ограждать осмелились Царя... Мы рады с целою вселенной воевать, Имение и жен готовы забывать, Готовы защищать отечество любезно; Не робкими нам быть, но храбрыми полезно.Поэма Хераскова была популярна в начале XIX века, входила в обязательный круг чтения в образовательных учреждениях. Она в значительной мере способствовала популяризации образа Курбского – патриота Отчизны.
В 1857 году барон Г. Ф. Розен опубликовал трагедию «Князья Курбские». В ней создается новый миф. Действие происходит в 1581/82 году под Псковом, где на самом деле Курбского не было – он отказался от участия в походе, сказавшись больным. Розен изображает князя патриотом России:
Позавчера притекший велижанин Рассказывает: бывший Курбский наш На площади открыто, всенародно Стыдил, бранил Велижских воевод: Зачем они не долее держались!.. Знать, к нашей Руси сердце все лежит! Тут сунулся Поляк один, залаял На Курбского: «Изменник ты и нам!» Тот наглецу мечем плашмя в ланиту, Связать наобак руки повелел, Да Королю сказал – и вольный шляхтич Был отведен в тюрьму!..В сочинении Розена Курбский сохраняет традиционные черты романтического героя: он изгнанник, но о нем помнят, и его любят друзья, он тайно волнует женские сердца, он трагически потерял жену и сына. При этом его ценят и уважают власти, друзья и враги, он патриот Отчизны («Но Русский крест остался на груди / В моей душе Святая Русь осталась!»). Князь Андрей изображен героем, который поднял меч не на Родину, а на личного врага, Иоанна IV. Это дает ему право взывать к совести польских панов, которые используют в политической борьбе недостойные методы («...и славу содержите / Как можно чище... слава так марка!» или: «Земная слава лишь тогда мила, / Когда, как риза ангела, светла!»). Князь считает себя крупным экспертом по данному вопросу, поскольку земную славу он добыл, но осквернил ее бегством:
Когда б я знал, чего мне стоит грех — Простительный, казалось, изо всех! Я предузнал всю скуку бытия — Замойский[23] , верь: охотно б лег и я На плаху ту, где твердо умирали Адашева прекрасные друзья! (Молчание. Замойский поражен.) Не запятнай своей прекрасной славы!Замойский под пером Розена оказывается настолько потрясен поведением Курбского («А ты меня поставил на колени / Пред неумытной честностью твоей, / Перед ее трагическим величьем»), что пытается препятствовать действиям своего же войска, посланного на взятие Пскова. Курбский, в свою очередь, предупреждает псковского воеводу Шуйского о кознях поляков, выкупает и отпускает на волю русских пленных и просит:
...Вы с собой Хоть в памяти своей меня возьмите, Вы у меня хоть душу отнесите В родимую, заветную Москву.В финале писатель сталкивает в схватке отца и сына, которые не узнают друг друга. Младший Курбский принял отца за бегущего из стана побежденного польского войска самого короля Стефана Батория. Старший Курбский сперва грозит самоубийством, готов упасть на меч. Тогда Юрий предлагает ему поединок на самых благородных условиях. В начале схватки он ранит противника. Тот просит его добить. После долгой дискуссии на тему, благородно ли это, обильно пересыпанной примерами из античной истории, поединщики получают весть о заключении под Псковом мира. Драться более не надо, Курбский открывает свое имя, а князь Юрий падает ему на грудь и признается, что он его сын.
Но князь Андрей не рад: он называет себя лишь «призраком» былого Курбского. Его личность погибла из-за измены, и от нее «осталось лишь сердце». Князья Курбские дружно решают удалиться в монастырь и тем искупить былое предательство. Юрий просит Андрея Михайловича начать новую жизнь с молитвы за своего врага, Иоанна Грозного. И именно эта молитва, которая в финале звучит со сцены, символизирует, что князь Курбский прощен Богом[24].
Эталонный предатель
Параллельно с мифом о Курбском – борце с тираном и Курбском – истинном патриоте формировался и расцветал другой миф, миф о Курбском – изменнике, Курбском – агенте врагов России, Курбском – разрушителе устоев российской государственности и нравственности. В общем-то, изменником его считали и М. М. Щербатов, и Н. М. Карамзин, но они видели в этом противоречивость и трагичность облика князя: с одной стороны, он боролся с деспотизмом, с другой – Отечество все-таки предательски покинул, сбежав из действующей армии. Но что ему оставалось делать, если надо было выбирать между смертью на плахе и бегством за границу?
В популярной в середине XIX века книге для чтения по истории для детей А. Ишимовой рассказывается, что после падения «Избранной рады» любимцами Ивана стали доносчики и клеветники, «добрые же бояре каждую минуту боялись смерти или опалы, то есть гнева Царского. Многие из них от страха уходили в Литву и Польшу. В числе таких изменников был, к сожалению всех Русских, и знаменитый герой, участвовавший в завоеваниях Казани и Ливонии, прежний любимец царя – князь Андрей Курбский. Хотя он с чрезвычайною горестию решился на эту измену, но тем не менее она покрыла его имя вечным стыдом и заставила совесть его испытывать вечные мучения. С какой невыразимой грустью он слушал рассказы о верности других бояр Иоанна; как завидовал той твердости, с которою они, не смотря на все лестные предложения короля Польского, не изменили чести и терпеливо переносили жестокость Иоанна как наказание, посланное от Бога»[25].
Наверное, излишним будет говорить, что никаких свидетельств «грусти» Курбского в источниках нет. Но образ раскаявшегося эмигранта идеально подходил для морализаторских поучений, которыми наполнена книга А. Ишимовой.
Одним из первых существенные критические ноты в художественную трактовку образа Курбского внес А. К. Толстой в поэме «Василий Шибанов» (1840-е годы). Князь у Толстого – антигерой, в чем-то даже близкий Ивану Грозному, готовый пожертвовать верным слугой ради краткого мига торжества, бросания в лицо царю гневных и злых слов:
Но князя не радует новая честь, Исполнен он желчи и злобы; Готовится Курбский царю перечесть Души оскорбленной зазнобы... И пишет боярин всю ночь напролет, Перо его местию дышит; Прочтет, улыбнется, и снова прочтет, И снова без отдыха пишет, И злыми словами язвит он царя, И вот уж, когда залилася заря, Поспело ему на отраду Послание, полное яду...Подлинным героем поэмы является слуга Василий Шибанов, подвиг которого и есть настоящий патриотизм и обличение тирана:
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги Кровь алым струилася током, И царь на спокойное око слуги Взирал испытующим оком... «...Гонец, ты не раб, но товарищ и друг, И много, знать, верных у Курбского слуг, Что выдал тебя за бесценок! Ступай же с Малютой в застенок!» ...И царь вопрошает: «Ну что же гонец? Назвал ли он вора друзей наконец?» – «Царь, слово его все едино: Он славит свого господина!»Своим поведением слуга как бы извиняет преступление Курбского, которого и сам Шибанов считает изменником:
«О князь, ты, который предать меня мог За сладостный миг укоризны, О князь, я молю, да простит тебе Бог Измену твою пред отчизной!.. Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час, Прости моего господина! Язык мой немеет, и взор мой угас, Но слово мое все едино: За грозного, Боже, царя я молюсь, За нашу святую, великую Русь — И твердо жду смерти желанной!» Так умер Шибанов, стремянный[26] .Правда, как это часто бывает, читатели восприняли смысл поэмы более упрощенно, чем ее создатель. В образный ряд русской литературы попали в первую очередь первые строки поэмы: «Князь Курбский от царского гнева бежал...» И при прочтении стихов о Шибанове в сознании читателей центральным сюжетом оказались не мужество и преданность «раба», славящего господина, несмотря на все его подлости, а традиционный образ Курбского как политического эмигранта, борца с деспотизмом.
Поэма Толстого пользовалась необычайной популярностью. Ее часто исполняли на эстраде. Вл. И. Немирович-Данченко, слушая чтение этих стихов актерами, проверял их мастерство чтеца, умение воздействовать на аудиторию. В 1889 году модный в столице врач-гипнотизер О. И. Фельдман в своих опытах инсценировал «сказания о Грозном царе и посланце Курбского Шибанове». В начале 1890-х годов учительницы вечерних рабочих школ в Петербурге изучали с учениками балладу А. К. Толстого. Считалось, что по тому, как учащиеся ее воспринимают, можно установить их образ мыслей и уровень способностей[27].
Вслед за нравственным осуждением Курбского пришел черед политических ярлыков. Они впервые в четком виде появляются в книге С. Горского «Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курбского» (1858). Здесь Курбский выступает символом всех антигосударственных, антимосковских сил, обобщенным образом врага России:
«Андрей Михайлович, с первых лет своей жизни, был поставлен в среде, неприязненной Москве, с самой ранней молодости внушена ему была ненависть к ее князьям... Курбский не стыдился обманывать Иоанна, как не стыдился называть мучениками изменников, преданных казни... корыстные расчеты всегда стоят у Курбского на первом плане... Проникшись с самых ранних лет своей жизни ненавистью к Москве, Курбский не был проникнут любовию к Отечеству... как глубоко была испорчена нравственная природа Курбского, что для него не было ничего святого; что самая заветная драгоценность человека – религия была для него только средством к удовлетворению эгоистических побуждений».
Приговор Курбскому, вынесенный С. Горским, под стать всем вышеприведенным обвинениям: «Какое было ему дело до России... он знал только себя одного... В таких людях потомство видит врагов развития человечества, следовательно, людей, достойных не участия, а осуждения»[28].
В последней четверти XIX века трактовка образа Курбского в литературе становится более сложной. Она оказывается связанной с темой боярской олигархии как «тормоза прогресса», враждебной силе, противостоящей царю. Именно тогда возникает получившая развитие в сталинские 1940-е годы тема бескомпромиссной борьбы Ивана Грозного с боярской изменой, представителем которой выступает Курбский. Борьбы, во имя которой надо не щадить отца и мать. Собственно говоря, Сталин тут ничего не изобрел, а лишь прилежно читал писателей рубежа XIX – XX веков...
В 1882 году вышла драма М. И. Богдановича «Князь Курбский». Уже с первой сцены (осада Казани в 1552 году) задана тема несчастного царя, измученного боярским своевольем, противостоящего эгоистичным и корыстным боярам. Иван говорит:
Теперь меня желают удалить, Чтоб снова на Москве затеять смуты; Не быть тому! В Москву я возвращусь Немедленно и замыслам бояр Не дам исполниться... Они мечтают Россией управлять... Не быть тому!Тема Курбского возникает в связи с отправкой войск в Ливонию. Царь посылает командовать ими своего «любимого», лучшего русского полководца князя Андрея. Но последнего смущает жена Мария, утверждающая, что «чем ближе кто к царю, тем ближе к смерти». Ее плохие предчувствия сбываются: Курбский был оклеветан Малютой Скуратовым:
А Курбский всех важнее хочет быть, И выше всех его в народе славят, Изменник князь, в кругу своих друзей Тебя и все твои дела поносит, Вступается не только за своих, Но и за нашего врага...Курбский получил от царя гневную грамоту с вызовом в Москву – отвечать за поражение под Невелем. Князь принимает решение бежать, и в этом его поддерживает Мария. Она объявляет, что ради мужа отреклась бы и от Родины, и от отца и матери, но не может бросить сына. К тому же разлука будет недолгой, она все равно смертельно больна, так что князь может спокойно бежать, не думая о жене.
Побег тяжело дался «князю-патриоту»: Ужасен был шаг первый на чужбину; Три раза князь назад коня ворочал, Три раза к родине лицом он стал, И твердый духом муж заплакал горько; Но, наконец, судьба его свершилась: И русский вождь врагом России стал.Как и в поэме А. К. Толстого, грех предательства Курбского искупает своим подвигом Василий Шибанов («Пусть на меня всем бременем падет / Грех князя моего; пусть искупленье / Найдет в моих страданьях князь Андрей!»).
В эмиграции князем восторгаются поляки, называя лучшим русским полководцем. Вельможи Сигизмунда опасаются, что Курбский отнимет у них и присвоит себе весь успех победы над русскими. Даже гордая княгиня Мария Гольшанская сомневается в своих возможностях обольстить «русского льва»:
...Разве ты не изловляла Суровых львов, как агнцев незлобивых? Княгиня: Литовские и польские то львы, А русский лев, быть может, не поддастся.Но на чужбине князю плохо и неуютно («Уныло русским здесь, / И будто бы бледнее светит солнце»). Он становится апологетом русских порядков («А ваш народ? Он в вечной кабале, / Такого рабства нет у нас в России») и власти Ивана Грозного («Для нас – помазанник он Божий, свят, / И власть ему дарована от Бога: / Зато у нас равны все пред царем»). В своем раскаянии Курбский заходит столь далеко, что отказывается участвовать в походе на Псков и публично кается в своем грехе измены. Завершается драма прощанием умирающего князя с сыном. Курбский завещает своему потомку вернуться в Россию: и «позабыть заставь отца измену, / Пусть смоют подвиги твои мой стыд, / И Курбских род тобою будет славен!»[29].
В советское время тема покаяния из рассказов о Курбском исчезает напрочь, зато приговор ему выносится все более суровый. Революция и Гражданская война в России истребили откровенных врагов советской власти. Поскольку сложившаяся в стране система Большого террора требовала, чтобы постоянно в «топку подбрасывали дровишек», а несомненного противника не наблюдалось, то перед идеологами режима встала задача: создать целую систему социальных ролей, исполнители которых и будут назначены «врагами народа». При этом желательно, чтобы имелись яркие и запоминающиеся исторические аналогии и примеры. Почти идеальный правитель был утвержден самим Вождем: им стал Иван Грозный. В паре с ним шел эталонный предатель – князь-перебежчик Андрей Курбский. Образ Курбского был мобилизован сталинской пропагандой и растиражирован в кинематографе, театральных постановках, литературных произведениях и школьных учебниках.
На страницах трагедии О. М. Брика «Иван Грозный» (1942) Курбский выступает антигероем, который не только является символом предательства, но и вынуждает к измене других:
Переметчик: Великий царь, По виду не суди. На мне камзол заморский, узкий, Но душой остался русский, И сердце русское в груди. Дружинник я. Иван Козел мне кличка. Меня в Литву князь Курбский свез... Иван (в гневе): Не князь он! Вор, предатель, пес!Дальнейший диалог царя Ивана с дружинником Иваном Козлом содержит еще несколько разоблачительных характеристик Курбского: «А Курбский нам пример: / сей ум на то хорош, / чтоб Родину продать за грош», «Врагам Руси пес Курбский потакает» и т. д. Царь сетует, что поздно завел опричнину, тогда бы Курбский не ушел. Вскоре выясняется, что дружинник не зря носит прозвище «Козел»: он является тайным лазутчиком от Курбского к изменным московским боярам, в частности князю Владимиру Старицкому и И. П. Федорову-Челяднину. Бояре произносят манифест своей вольности, обличающий их предательство:
Родина... народ... Слова пустые, Звон. Где власть моя, где мне почет и слава, где мой закон, мой суд, моя расправа — там родина моя, там мой народ!Боярские отцы и деды, «рублем и в драках» стяжавшие вотчины, противопоставляются опричной «дворянской голытьбе». У бояр «пушки припрятаны, / Чернь подкуплена, / Ждут зова по нашим уделам». При этом гонец от Курбского и короля – пьяница, развратник, аморальный тип. Бояре-изменники не лучше, готовы торговать православными святынями и даже собственными дочерьми ради продажи России внешним врагам. Положение спасает народ в лице его представителя опричника Сокола, который бежит в стан царя. Он не ищет лучшей доли («А царь не порет? – Порет. За дело, по закону»). Он готов служить государю, который стоит за социальную справедливость. В войске Ивана холоп за воинскую доблесть легко может стать воеводой.
Именно Сокол подает царю донос об измене Челяднина. Иван является на пир к заговорщикам, те решаются его отравить «польским ядом», присланным Курбским. Далее следует столь любимая в сталинскую эпоху сцена: государь предлагает первым испить главному заговорщику, Челяднину, тот не решается и тем самым признается в заговоре. Потом боярин все же выпивает зелье и падает мертвым. Воины во главе с Соколом арестовывают заговорщиков и их родственников («И тебя под суд! Ты Челяднина дочь!»). Козел пытается соблазнить Анастасию Челяднину бегством в Литву, где Курбский даст за нее приданое. Но девушка гордо заявляет, что лучше пойдет в тюрьму к батюшке-царю и по совести ответит «и судье, и палачу». Она выступает разоблачителем заговорщиков, свидетельствуя против отца и его друзей.
Пьеса заканчивается другой актуальной для сталинской эпохи темой: царь не добил измену. За бояр-изменников вступился митрополит Филипп, и царь, несмотря на протесты народа, отпустил их и даже арестовал опричника Сокола, продолжавшего смело обличать предателей. Но финал пьесы О. М. Брика в целом оптимистичен: Грозный благословляет свадьбу доносчицы Анастасии Челядниной и опричника Сокола, надеясь, что от них пойдут новые, решительные люди, которые и наведут на Руси порядок[30].
В 1944 году был опубликован сценарий фильма С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный». Он содержал квинтэссенцию «сталинского дискурса» об Иване Грозном (хотя по отзывам современников можно судить – сам Эйзенштейн разделял далеко не все оценки сценария, но был вынужден следовать за политической конъюнктурой)[31]. Образ Курбского впервые привлекается режиссером в сцене венчания на царство Ивана IV, когда князь не в силах скрыть своей ревности к Анастасии, выходящей замуж за молодого царя. Это замечают иностранные дипломаты, которые ищут в окружении Грозного «слабое звено»: «Честолюбие страшнее, чем корысть... Не может быть доволен человек, пока он – первый... после другого... Никто не знает границ человеческого вожделения». Заметив, каким взглядом Курбский смотрит на Анастасию, шпион отдает распоряжение своим подручным: «Займитесь князем Андреем Михайловичем Курбским».
Роль Курбского в фильме написана явно по сценариям судеб соратников Сталина, потому что он назван «первым другом Ивана и вторым человеком в государстве», то есть фактически соправителем юного монарха. Интересно, что измена Курбского в изображении Эйзенштейна состоит в том, что он не сумел противостоять ни собственным вожделениям, ни нашептываниям врагов царя. Последние дразнят князя, что он «вечно второй»: «Анастасию любил – Иван взял, Казань воевал – Ивану досталась». Но намеками бояре не ограничиваются: они прямо шантажируют Курбского, что если он не станет их союзником, то они донесут царю, что князь – изменник. Образу мягкотелого Курбского, который слепо следует за недругами Ивана и становится предателем (причем не только Ивана, но и своей любви к Анастасии), противопоставлены фигуры пушкарей из народа, которые во всем вручают свою жизнь царской воле и даже готовы безропотно принять несправедливую казнь.
Курбский в сценарии изменяет в самый решительный момент, нарочно проиграв литовцам сражение под Невелем. Он заявляет, что «в Москве все готовы отойти к Литве. Разгром русских войск под Невелем – сигнал к восстанию». И предлагает московский престол польскому королю Сигизмунду. Иван потрясен: «Андрей, друг... за что? Чего тебе недоставало? Иль шапки моей царской захотел?»
Предательство Курбского Иван IV расценивает как измену великому делу, и даже само имя преступника оказывается под запретом. Курбский же, из эмиграции обличая царя, завидует ему и, в принципе, одобряет: «Верно, Иван, поступаешь. На престоле и я бы так поступал».
В сущности, конфликт Курбского и Грозного в изображении Эйзенштейна со стороны князя лишен идейной наполненности: началось с ревности к Анастасии, а закончилось ревностью к величию Ивана Грозного, причастности царя к великому делу строительства единой Руси. Предательство Курбского вытекает именно из зависти, из желания занять царское место. И он быстро «разоружается», раскаивается в своем поступке. Он с ругательствами набрасывается на посла, прибывшего от бояр-заговорщиков («Пся крев! Адов пес! Блудный кал!»). Злость Курбского вызвана разочарованием: князь надеялся, что это гонец от Грозного, что монарх его простил и зовет к себе. Отсюда и очень странная сцена, рисуемая Эйзенштейном: Курбский диктует обличительное письмо Грозному, при этом прерываясь на восклицания:
«В море крови Русь погружаешь, Русскую землю насилуешь!.. Ложь! Ты велик, Иван!.. Не легко ему: груз несет нечеловеческий – один, друзьями покинутый!.. Среди крови сияет невиданный, словно Саваоф над морем крови носится: на той крови твердь творит. На той крови зиждет дело невиданное: царство Российское строит...»
Андрей Курбский как тайный апологет репрессий Ивана Грозного – это, бесспорно, самая оригинальная трактовка образа князя-эмигранта, которую можно встретить в литературе и искусстве.
Раз царь не простил беглеца – Курбский становится во главе заговора и посылает в Москву немецких шпионов, готовит иностранное вторжение (в 1944 году обвинения абсолютно убийственные). В соответствии со «шпионскими» сценариями эпохи, враг разоблачен, его подручные арестованы, попытка напасть на Россию провалилась, а сам Курбский позорно, «как заяц», не разбирая дороги, убегает по болоту от непобедимого русского войска (этот замысел Эйзенштейна не попал в фильм)[32].
В 1947 году вышел знаменитый роман-трилогия В. И. Костылева «Иван Грозный», удостоенный Сталинской премии второй степени. Образ Курбского рассматривался в контексте разоблачительных описаний всей глубины морального падения бояр-заговорщиков. В. И. Костылев последовательно показывал причины предательства князя. Прежде всего, это ограниченность мышления, непонимание величия задач, которые выдвигает Иван Грозный. Курбский выступает против войны в Ливонии («Паки и паки я буду говорить супротив похода к Свейскому морю... а на запад ли нам ломиться? Что в нем? Еретики! Пагуба!»). Суждения Курбского «устарелые, нудные», в отличие от полета мысли «прогрессивного» царя. Князь осуждает начало строительства русского военно-морского флота: «Уронит наш великий князь свой сан и свое имя, погубит родину».
Из непонимания высоты замыслов государя вытекал второй шаг к измене: Курбский не хочет верноподданно служить Ивану. У него свое мнение, которое он считает более правильным. Собственно говоря, это даже не личное мнение князя. Он выступает рупором бояр-изменников, сторонником аристократической олигархии, которая должна ограничить власть неразумного и жестокого монарха. От такой жизненной позиции до заговора – один шаг, и Курбский его делает. Он уже верховодит на тайных сборищах бояр, обсуждающих планы государственного переворота: «Мы на Руси должны править, наша – держава!» Заговорщики хотят свергнуть царя с помощью военной поддержки со стороны иноземных войск: продажи родины королю или крымскому хану.
Третьим шагом к измене В. И. Костылев считает окружение Курбского. Он заступается за предателей-бояр исходя из сословной солидарности, хотя Иван в разговорах с князем неоднократно подчеркивает справедливость их наказания за измену. Курбский на словах соглашается, но тайно им сочувствует. Слуги князя, его приближенные дворяне вступают в тайный заговор с немецкими и литовскими шпионами еще раньше Курбского.
Четвертой причиной являются трусость и мягкотелость князя. Вступив в заговор, он быстро оказывается игрушкой в чужих руках: не смеет перечить другим боярам, является заложником своих слуг-дворян, которые грозят князю разоблачением, если он не уведет их в Литву. Его шантажирует сходными угрозами даже монах-иезуит, который вел с Курбским переговоры о переходе на службу Сигизмунду.
Князя также губит его тяга к умствованиям. Сущность предателя-книжника разглядела еще царица Анастасия:
«Не любила покойная царица разглагольствований Курбского... ей казалось, что ученостью и книжностью своею князь норовит ослабить прямые дела царя, заботы его о государстве. Царица уверяла, будто Курбский морочит ему голову. Знает, как государь любит книжность, и ради того, чтобы помешать ему, увести в сторону, поднимает споры о древних пророчествах».
Курбский здесь предстает прямо-таки «гнилым интеллигентом», героем разоблачительных сатирических произведений 1930-х годов.
Образ Курбского рисуется В. И. Костылевым на контрасте: после сцены задушевного разговора Ивана с князем Андреем и назначения последнего главнокомандующим в Ливонии Грозный идет ночным коридором в покои царицы – и луна символично высвечивает перед ним на стене фигуру Иуды на фреске с изображением «Тайной вечери». Перед царем появляется видение умершей Анастасии Романовой, которое наводит государя на размышления: «Курбский? Да. Она не любила Курбского. Почему же она не верила ему? Анастасия! Что видела, что чуяла ты сердцем голубиным – царица?»
Курбский в эмиграции рисуется трусом и истериком, страшно боящимся, что его выдадут Москве, «плаксивым человеком», который заклинает, что любит свою Родину, но при этом идет против нее воевать. За это двуличие, лицемерие и малодушие он презирается даже поляками и литовцами. При этом князь уже не хозяин своей судьбы: он окружен своими слугами, еще большими негодяями. И когда эмигрант пытается отказаться от участия в походе на Псков, то слуги грозят его убить, если Курбский не будет беспрекословно слушаться «наших хозяев и благодетелей» поляков. Размазывая «по дряблым щекам слезы», униженный изменник отправляется в свои покои – плакать и готовиться к походу на Русь.
Курбский, «московский Иуда», нарисован антиподом Ивана Грозного, однозначно предателем и негодяем, который еще при жизни наказан многочисленными неудачами и несчастьями за свою измену (такой несколько неожиданный для соцреализма, но прямо-таки христианский провиденциализм). При этом, получив обличительное письмо царя, Курбский сам осознает высокую правду государя и всю низость своего падения: «Правда, Иван Васильевич... правда... Прочь! Уйди! Не мучай!»
Уже само описание покоев князя в Ковельском замке как разбойничьего вертепа должно заставить читателя возненавидеть его хозяина:
«Отсвет огня падает на мрачные, под низкими каменными сводами стены, убранные разным оружием... Этими алебардами, саблями и шестоперами он, князь, и его приближенные били под Великими Луками московских воинов. Этому оружию особый почет – вот отчего оно и развешано на коврах. В другом месте сабли, копья и прочее оружие, развешанное просто на каменной стене, в большом беспорядке. В углах также сложено много оружия. Все это – трофеи, собранные с мертвых воинов-москвитян. Это оружие брали с собой люди князя Курбского, когда он водил их на татьбу».
В покоях Курбского есть специальная «комната мести»:
«Здесь он некогда предавался радужным мечтам о походе на Москву, о низложении с трона царя Ивана Васильевича, о возведении на престол князя Старицкого Владимира Андреевича, о возвращении своем в удельное Ярославское княжество. А теперь смешно об этом думать!»
Надежды князя на успех нападения на Псков Стефана Батория не оправдались. Между Россией и Речью Посполитой заключен мир. Курбский стал никому не нужен: «Всеми забытый, никем не почитаемый... как затравленный зверь, сидел в своем каменном мешке, боясь показаться на воле, чувствуя себя убогим, беспомощным узником». При этом он приказывает бить батогами русского пленного, который не только не отрекся от Родины под пытками (несмотря на то, что Иван Грозный был виновен в гибели семьи этого человека), но и стал в лицо проклинать и обличать Курбского как предателя[33].
Сходная трактовка образа Курбского как символа предательства содержалась на страницах советских учебников сталинского времени. Например:
«Главнокомандующий русскими войсками князь Андрей Курбский, бывший член Избранной рады, в 1562 году был разбит под Ревелем. Иван IV стал подозревать главнокомандующего в измене... В январе 1564 года литовский гетман Радзивилл нанес русским войскам сильное поражение. Андрей Курбский, командовавший армией в Дерпте, вместе с двенадцатью боярами перешел на сторону врага. Этот изменник получил большой отряд войск и повел войну против своей родины. Он разграбил город Великие Луки и требовал еще более активных действий против Москвы. Из переписки Ивана IV с Курбским видно, что он не случайно оказался на стороне врагов родины. Он был решительным противником политики Ивана IV, ненавидевшего бояр. В письме Курбскому Иван IV заявил, что со всеми изменниками, боярами и вельможами он будет расправляться беспощадно, что его цель – окончательно сломить всех этих мелких царьков, укрепить единую власть, а вместе с тем и Русское государство сделать мощным и сильным»[34].
Здесь что ни строка, то ошибка: Ревель перепутан с Невелем, 12 дворян, сопровождавших Курбского в Литву, названы боярами, князю приписан грабеж Великих Лук и т. д. Но на этих неточностях зато строился цельный образ изменника Родины, врага народа, что, собственно, и требовалось.
Трактовка образа Курбского как изменника-командира, причем командующего армией (sic!), конечно, была тесно связана как с «делом о заговоре в РККА», так и с пропагандой, причем на уровне детского образования, ненависти к изменникам, необходимости борьбы с ними любыми средствами. Для этого роль князя гиперболизировалась, факты его биографии искажались и передергивались.
Так кем он был? Вспомнить настоящего Курбского!
На этом, наверное, стоит поставить точку, хотя, конечно, в наш небольшой обзор вошли далеко не все сочинения, в которых содержался миф о Курбском. У читателя наверняка назрел вопрос: речь шла о мифе, морально-этического или идейно-политического плана, – но что о Курбском говорили историки? В какой мере воссоздана подлинная биография этого человека?
Как это ни парадоксально, но Андрей Курбский, при всем обилии мифов о нем, как персонаж русской истории – фигура, изученная недостаточно. Всплеск интереса к Курбскому был в XIX веке, но эти работы по многим положениям устарели[35]. А в XX веке единственной (!) научной монографией, посвященной его биографии, был труд... немецкого историка Инги Ауэрбах, вышедший в 1985 году![36] За последние сто лет отдельные эпизоды его жизни исследовались только в статьях или в общем контексте исследований русской истории XVI века[37]. Сочинения Курбского были объектом пристального внимания и историков, и филологов[38], а вот история его жизненного пути на этом фоне играла второстепенную роль.
К сожалению, многие ценные наблюдения и открытия ученых остались невостребованными и незамеченными. Порой, особенно в обобщающих и публицистических трудах, авторы следуют выводам, сделанным не на основе изучения источников, а под влиянием вышеописанных мифов, подгоняя под них материал по известному принципу, сформулированному еще Гегелем: «Если факты противоречат нашей теории, то тем хуже для этих фактов». Память о Курбском, восприятие его образа часто определяется не научными трудами, а – влиянием литературы и культурных стереотипов. Мы помним Курбского Карамзина и Пушкина, Толстого и Эйзенштейна, но не реального боярина и воеводу XVI века.
Курбский стал знаковой, символической фигурой, олицетворением глубинных проблем русской истории, мучительных вопросов, которые задавали себе поколения мыслящих, неравнодушных людей, интеллигентов, революционеров, бунтарей. Как вести себя человеку в столкновении с властью? Можно ли считать выступление против деспота, который правит твоей Родиной, выступлением одновременно и против Отечества («целили в тирана, попали в Россию»)? Является ли эмиграция, бегство на чужбину предательством? «Горе от ума» – это неизбежная судьба русского интеллигента? Как быть: безропотно принять смерть от неправедных властей, но не изменить стране, народу и вере, или – стать изменником, но сохранить жизнь? Вопросы, вопросы... История Курбского дает на них ответ, хотя каждый понимает его по-своему.
Насколько образ Курбского – точнее, даже образы отличаются от его исторического прототипа? Какова же была истинная биография князя Курбского, его подлинная роль в истории России? Кем же он был – патриотом или предателем, малодушным эгоистом или самоотверженным героем? О чем на самом деле Курбский писал царю? Попытаемся рассказать об этом на страницах нашей книги.
Глава вторая КНЯЖИЧ АНДРЕЙ
Князья Ярославские
В Средневековье человек не мыслил себя вне принадлежности к какой-либо социальной корпорации. Личность как бы растворялась в корпоративных нравственных стандартах, необходимости следовать в поведении определенным образцам. Это касалось всех – и крестьян, и аристократов, и духовных лиц.
Андрей Курбский принадлежал к особой социальной группе – он был представителем древнего знатного рода ярославских князей. В своих сочинениях он неоднократно называл себя «князем Ярославским». Чтобы понять, каким образом данный социальный статус определил характер и мировоззрение, а в силу этого – и судьбу Курбского, необходимо сделать небольшое отступление и ответить на вопрос: кем были ярославские князья в середине XVI века?
История становления Московского царства – это история формирования сильной монархической власти, сопровождавшаяся перерождением аристократической элиты. В XIV – XV веках князья были самыми высокопоставленными на Руси. Это слово одновременно означало и высший титул, и должность, и правителя, и владельца самостоятельного или полусамостоятельного княжества, миниатюрного государства[39].
Однако по мере укрепления центральной власти, возвышения Москвы как центра объединения русских земель статус князей начинает девальвироваться. Московские государи не желали видеть в подвластных им землях отдельные княжества, расценивая их – и небезосновательно – как потенциальный источник смут и сепаратистских мятежей. Это не означало, что правители отдельных княжеств непременно хотели отделиться от рождавшегося на их глазах единого Русского государства. Но они желали оспорить – и неоднократно это делали – права правящей династии Калитовичей на великокняжеский престол.
В своей борьбе удельные князья опирались как раз на воинский контингент и военный потенциал подвластных им княжеств. «Вырвать зубы» у противников Калитовичей можно было только одним способом – ликвидировав саму систему княжений, превратив князей в служилых людей московских государей. Благо образец был перед глазами – Золотая Орда. Все князья Руси были служебниками татарских ханов. Эта модель отношений и была перенесена князьями дома Калитовичей в русскую политическую культуру.
В то же время князья составляли элиту, аристократию, становой хребет русского средневекового общества, прежде всего его военной организации, и просто так обрушить княжескую удельную систему было нельзя. Москве пришлось долго терпеть – последние уделы были ликвидированы уже при современнике Курбского, Иване Грозном. Но начиная со второй половины XV века именно антиудельная политика была главной составляющей внутреннего курса правителей Государства всея Руси. Князей истребляли физически в ходе междоусобных столкновений и подавления сепаратистских мятежей, как реальных, так и мнимых, инсценированных великокняжеской властью. У них отбирали княжества, а взамен выдавали земли на правах вотчины или поместья, то есть как неродовитому дворянству, остальным служилым людям. Их насильно превращали в воевод великокняжеского войска.
Власть не брезговала и экзотическими мерами – например, при великом князе Василии III остальным удельным князьям было запрещено жениться, пока у великого князя не родится наследник. А поскольку наследника не было 25 лет, большинство братьев Василия поумирали, так и не познав радостей семейной жизни. Их выморочные уделы Василий III забрал себе.
В этой ситуации у княжеской аристократии было три варианта поведения. Первый – сопротивление политике Москвы и отстаивание своих древних прав – был абсолютно самоубийственным. Ни один из князей, избравших этот путь, не уцелел.
Второй – признать политическое главенство Москвы при сохранении своих земельных владений, которые при этом меняли статус – из княжений превращались в вотчины, то есть наследственные владения, пожалованные верховной властью за службу. Их владелец обладал в своих владениях полномочиями, близкими к княжеским в уделе: он мог судить местное население, взимать с него налоги, передавать и продавать свои земли без вмешательства верховной власти. Но последняя могла на совершенно законных основаниях в любую секунду вотчину конфисковать – это называлось «взять на государя». Закона, который защищал бы собственность вотчинника перед лицом власти, в России XVI века не существовало. Он появится только... в 1785 году, при императрице Екатерине II. Только тогда в «Жалованной грамоте дворянству» будет сказано, что отнять собственность у дворянина можно только в том случае, если судом доказана его вина в измене и преступлениях против государства.
Был для князей и третий путь. Потеряв свои родовые земли, искать себя на ниве службы московским государям на должностях воевод и наместников, делать придворную карьеру, чтобы добиться чина окольничего или боярина. Получать за службу поместья – временные земельные держания, и даже вотчины – наследственные земельные держания.
Второй и третий пути нередко совмещались. Калитовичам была необходима поддержка родовитой аристократии, в том числе и княжеской, против других княжеских кланов и родов. Чтобы привлечь на свою сторону союзников, московские государи щедро раздавали вотчины и поместья, вводили в свой ближний совет – думу – князей на правах боя(высший думный чин). Отдельные княжеские фамилии мог ли при этом получать в думе значительное представительство. Так, в годы детства Курбского, в 1530-е годы, в Боярской думе было в разное время 12 – 15 бояр и два-три окольничих. В их число входили старомосковские княжата, суздальские, ростовские, ярославские князья и также Гедиминовичи – князья, приехавшие на службу московским государям из Великого княжества Литовского, потомки правителя Литвы Гедимина (1316 – 1341). Число князей в думе в иные годы превышало половину общего состава думы.
Какова была в этой системе судьба ярославских князей, к которым принадлежали Курбские?
Свой род ярославские князья возводили к Федору Ростиславичу Черному (ок. 1240 – ок. 1301), официально причисленному в 1463 году к лику святых. Ярославское княжество было присоединено к владениям Москвы при великом князе Иване III (1462 – 1505). Схема его ликвидации была стандартной. Управляющим землями бывшего княжества назначался государев наместник. Ярославские князья превращались в «служебников» великого князя, лишались своих дворов и вотчин и частично переселялись в Москву и другие земли. Они получали земли уже на правах вотчин и поместий, а не княжений. Их дворяне приносили присягу на верность великому князю. Московские власти провели смотр местных служилых людей и переверстание их земельных владений.
Ярославское княжество было ликвидировано без всякого сопротивления. Историки затрудняются назвать точную дату прекращения его существования, обычно в их трудах фигурируют даты 1463 – 1468 годы, весна – лето 1466-го или 1471 годов. В 1471 году умер его последний правитель, князь Александр Федорович. С 1473 года Ярославль фигурирует в договорных грамотах как владение московских князей[40].
Современники относились к судьбе ярославских князей с сочувствием, но в то же время с некоторым «презрением к падшим». В Ермолинской летописи под 1463 годом помещен рассказ о перенесении мощей ярославских князей-святых Федора Ростиславича и его сыновей Константина и Давида в Спасский собор. Летописец снабдил известие своим комментарием: «сии бо чюдотворци явишася не на добро всем князем ярославским, простилися со всеми своими отчинами на век, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь велики противу их отчины подавал им волости и села»[41]. Подобный выпад против ярославских князей-святых говорил о неуважительном отношении летописца к ярославцам, если уж в его трактовке даже святые покровители княжеского рода «явишася не на добро».
Из трех вышеописанных моделей отношений князей с центральной властью большинство ярославских аристократов выбрали вторую и третью. В конце XV – первой трети XVI века мы видим представителей разных фамилий ярославских князей на воеводских должностях, в качестве наместников и т. д. В то же время они были слабо представлены в Боярской думе, достижение боярского чина и придворная карьера для большинства из них оказались проблематичными. Успехи отдельных личностей, добившихся высокого положения в 1530 – 1540-е годы – например, Ивана Пенкова, Ивана и Михаила Кубенских, – принципиально ситуации не меняли. Ярославские князья оказались в непривычной для себя ситуации. Они привыкли принадлежать к элите. А теперь им еще надо было выслужить высокий статус в новом, Московском государстве. Подобное падение с высоты ярославских владык до московских служебников средней руки было, несомненно, очень болезненным для княжеского самосознания. Данным обстоятельством были порождены многие амбиции и комплексы Курбского.
Род Курбских
Основателем рода Курбских, выделившегося из ветви ярославских князей в XV веке, был Семен Иванович. Фамилию они получили, согласно легенде, по родовой вотчине – селу Курбе, расположенному под Ярославлем. Не доверять этой версии нет оснований, но стоит заметить, что ее единственный источник – записки австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна. Он оставил свидетельство, что Семен Федорович Курбский (умер после 1528 года) в начале XVI века владел родовой вотчиной Курбой, от которой и пошла фамилия Курбских.
Однако данная вотчина, видимо, была Курбскими довольно рано утрачена. Известно, что около 1555 – 1557 годов ею обладал не представитель ярославских князей, а гедиминович – князь И. Д. Вельский. В описании ярославских земель 1568/69 года вотчина Курба не упоминается. В 1631 году татарский мурза Алей Шевяков владел Курбой и Сереной, что вместе составляло 1031 четверть земли. Насколько данное имение соотносилось с вотчиной Курбой XV – XVI веков – неясно. Собственно, это все, что мы знаем о «вотчине Курбе».
На страницах документов XV – первой трети XVI века мы видим Курбских в основном на воеводских должностях. В 1483 году Федор Семенович Курбский ходил покорять племена хантов и манси на Северном Урале (в так называемой Югорской земле). В 1499/1500 году этот поход повторил князь Семен Федорович. В 1506 году под стенами Казани были убиты Михаил и Роман Карамыши-Курбские. Владимир Михайлович Курбский был убит в войне с Крымским ханством в 1521 году.
В 1513 – 1514 годах Семен Федорович командовал полком левой руки в смоленских походах Василия III, в 1519 году в Витебском походе был вторым воеводой большого полка, в литовском походе 1512 года, нижегородском 1523 года и казанском 1524 года возглавлял передовой полк. Его воинская биография – наивысший карьерный успех представителей рода Курбских в первой половине XVI века.
Менее ярко Курбские проявили себя на административных должностях. Дмитрий Семенович Курбский в 1490 – 1500 годах был наместником Устюга Великого. Семен Федорович Курбский в 1510/11 – 1515 годах наместничал в Пскове, а в 1519 году – в Стародубе. Михаил Михайлович Курбский в 1522 году был наместником в Торопце. По некоторым данным, в 1514/15 году боярство получил Семен Федорович Курбский (умер в 1526/27 году). Однако проверить эти сведения сложно – в других документах того времени Семен Федорович фигурирует без боярского чина. Более достоверными являются свидетельства о боярстве Михаила Михайловича Курбского, отца главного героя нашего повествования, князя Андрея. Он стал боярином, по разным источникам, в 1539/40 или в 1544 году, умер около 1548 года[42].
Таким образом, из нашего краткого обзора видно, что князья Курбские заняли среди знати Московского государства определенное место – рядовые князья-служебники, добросовестно тянувшие лямку воинской службы на средних командных должностях, иногда выбивавшиеся на малозначительные или эпизодические наместничьи посты. Конечно, контраст со статусом ярославских князей был разительный. Чем можно объяснить такое «карьерное прозябание» Курбских?
Возможно, причиной неудач этого рода был неверный выбор политических партнеров и ориентиров. Внук Семена Ивановича Курбского был женат на дочери опального князя Андрея Васильевича Угличского. Это явно была компрометирующая связь. В начале XVI века Курбские поддерживали в борьбе за московский трон не Василия III, а Дмитрия-внука, который в итоге оказался в тюрьме и так и умер в заточении в 1509 году, официально оставаясь законно венчанным шапкой Мономаха великим князем всея Руси. Сторонников Дмитрия московские правители не жаловали. Согласно свидетельству самого Андрея Курбского, Семен Федорович выступил с осуждением развода и второго брака Василия III, за что государь «князя Семена ото очей своих отогнал даже до смерти его». Судя по всему, князь Семен был строгих правил и малоприятен в общении. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн дал ему такую характеристику: «Человек старый, сильно истощенный крайним воздержанием и самой строгой жизнью, которую вел с молодых лет. Именно в течение многих лет он воздерживался от употребления мяса, да и рыбой питался только по воскресеньям, вторникам и субботам, а по понедельникам, средам и пятницам во время поста он воздерживался и от нее»[43].
Родственные связи с опальными, поддержка оппозиции правящему режиму... Этих «прегрешений» было достаточно, чтобы для представителей рода Курбских карьерные перспективы стали весьма проблематичными. Возможно, этот княжеский род измельчал бы и угас, как десятки других. И сегодня бы о Курбских знали только историки. Однако в 1528 году у Михаила Михайловича Карамыша Курбского и Марии Михайловны Тучковой родился старший сын – князь Андрей, которому было суждено навсегда вписать род Курбских в школьные учебники.
Отрок Андрей
Место рождения князя Андрея Курбского неизвестно. Есть предположение, что он родился в 1528 году. Эта датировка основывается исключительно на его собственном заявлении в автобиографическом сочинении «История о великом князе московском», что во время «Казанского взятия» 1552 года ему было 24 года. У него был младший брат Иван, скончавшийся от ран вскоре после штурма Казани в 1552 году. Его могильная плита сохранилась в Спасо-Ярославском монастыре.
Никаких сведений о жизни Курбского у нас нет вплоть до 1547 года. Таким образом, на страницах исторических документов князь Андрей появляется вполне сформировавшимся 19-летним человеком. Поскольку нет свидетельств, что князя воспитывали как-то по особому, обратимся к вопросу: как же в принципе растили в Московской Руси юных княжичей?
Говорят, что в Средневековье не было детей. Люди, рождаясь, считались уже взрослыми. Французский историк Ж. Ле Гофф обратил внимание, что на европейских средневековых картинах изображались красивые ангелочки и уродливые младенцы Иисусы. Художники знали, как рисовать ангелочков, но плохо представляли себе человеческих младенцев. Для ребенка рано наступала взрослая юридическая и социальная ответственность. Детский труд, мальчики-оруженосцы, отсутствие представлений о школе как обязательном этапе развития ребенка – какое тут детство?
Ситуация в России XVI века не отличалась от вышеописанной. Конечно, дети были – откуда иначе взялись бы взрослые? Однако чем являлось детство для мальчиков и девочек Московской Руси, и осознавали ли они его как этап своей жизни, у которого есть светлые стороны (кроме ощущения своей беззащитности, физической немощи и прочих прелестей «несовершенных лет»), – неизвестно. В русских летописях, повестях, житиях, личной переписке того времени дети почти не упоминаются. Описаний детства мальчиков и девочек московского Средневековья практически не существует. Как отметила Л. Н. Пушкарева, «детей в русской иконописи изображали как маленьких взрослых, с невеселыми, недетскими, а порой укоряющими ликами. Ангелов на фресках и иконах древнерусские живописцы изображали не в виде детей, а в виде взрослых людей»[44]. Сведения о детстве людей Московской Руси нужно собирать по крупицам, на основе часто случайных и косвенных свидетельств.
Как же могло проходить детство князя Курбского? В отличие от многих младенцев ему повезло: он выжил при родах. Младенческая и детская смертность была необычайно велика, причем как у низших, так и у высших сословий. Даже у царя Ивана Грозного из шести детей от первой жены – царицы Анастасии – во младенчестве умерло четверо. Судьба умерших до крещения детей была грустна: они считались нечистыми существами: предполагалось, что у них «нет подлинной души», их не хоронили на кладбище вместе с другими покойниками. Согласно распространенному поверью после смерти некрещеные дети превращались в демонов.
Если младенец доживал до обряда крещения, то проходило не только его воцерковление, но и социализация: теперь он являлся полноценным членом общества. Андрея Курбского должны были крестить на восьмой день после рождения.
Период до шести-семи лет считался безгрешным и чистым. Затем мальчик-дитя превращался в отрока и оставался им до 14 – 15 лет. После чего юноша поступал на службу, и начиналась взрослая жизнь. Дети до шести-семи лет должны были быть всегда в покое, одеты и сыты, в теплом дому, не подвергаться никакому насилию и принуждению (с маленьких детей каков спрос?). Главным временем воспитания было отрочество. Отрок считался уже «маленьким взрослым», способным к обучению и восприятию заповедей старших. Правда, совершенно бесправным по отношению к родителям. Само слово «отрок» означало «неговорящий», «не имеющий права голоса».
Принято говорить, что воспитание детей в средневековой Руси основывалось на системе жестких физических наказаний. Действительно, чтобы читать рекомендации, какими должны быть «идеальные» отношения родителей и детей, нужно иметь крепкие нервы. Сравните рекомендации «Домостроя», устава домашней жизни русского человека XVI – XVII веков:
«Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалей, избивая младенца: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, если ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти... любя же сына своего, учащай ему раны – и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего с юности и порадуешься за него в зрелости его, и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение. Понапрасну не смейся, играя с ним: в малом послабишь – в большом пострадаешь скорбя, и в будущем словно занозы вгонишь в душу свою. Так не дай ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укором соседей, и насмешкой врагов, и пеней властей, и злой досадой»[45].
Подобных инструкций, в основном исходящих от церкви, довольно много. Но надо помнить, что это была идеальная модель, лозунг, во многом основанные на Священном Писании, – в цитируемом выше отрывке содержатся почти прямые цитаты из Притч Соломона и Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его» {Притчи 13: 25); «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет, ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» (Притчи 23: 13 – 14); «Наказывай сына своего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей» (Притчи 29: 17); «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нем... Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним... Нагибай его выю в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе» (Сирах. 30: 1 – 3, 10, 12).
Насколько эти лозунги были фигурой речи, а насколько были порождены реалиями воспитания детей? Конечно, на практике воспитательный процесс не отличался особым гуманизмом, но отношения между родителями и детьми в средневековой Руси нельзя сводить к системе постоянных избиений и наказаний. Все было сложнее.
Задачей родителей, прежде всего отца, было «поучать и наставлять и вразумлять». Темой этих наставлений было – блюсти чистоту православной веры, следовать христианским законам, жить с чистой совестью и «по правде». Идеалом этого воспитания был богобоязненный, скромный, послушный, чисто одетый, благополучный, работящий и услужливый отрок. В «Домострое» приведены слова Василия Кесарийского, каким надо быть юношам:
«Следует оберегать душевную чистоту и телесное бесстрастье, имея походку кроткую, голос тихий, слово благочинно, пищу и питье не острые; при старших – молчание, перед мудрейшими – послушание, знатным – повиновение, к равным себе и к младшим – искреннюю любовь; нечестивых, плотских, любострастных людей избегать, поменьше говорить да побольше смекать, не дерзить словами, не засиживаться в беседах, не бесчинствовать смехом, стыдливостью украшаться, с распутными бабами не водиться, опустив очи долу, душу возносить горе, избегать прекословия, не стремиться к высокому сану, и ничего не желать, кроме чести от всех»[46].
Правильно воспитанный отрок прежде всего знает, как исполнять обряды и вести себя в церкви:
«С молитвой целуй животворящий крест и святые иконы честные, чудотворные, и многоцелебные мощи. Да и после молитвы, перекрестясь, целуй их, воздух в себе удержав и губами не шлепая. А благоволит Господь причаститься божественных тайн христовых, так ложечкой от священника принимая в уста осторожно, губами не чмокать, а руки сложить у груди крестом; а если кто достоин, дору и просфиру и все освященное нужно вкушать осторожно, с верой и трепетом, и крошки на землю не уронить да не кусать зубами... жевать губами и ртом, не чавкать; и просфиру с приправой не есть... А если с кем во Христе целованье творить, то, целуясь, воздух также в себе задержав, губами не чмокать»[47].
Богобоязненный отрок знает, как надо жить в обществе: не красть, не блудить, не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться. И он усвоил, как жить не надо:
«Кто живет не по-божески, не по-христиански, страха божия не имеет и отеческого предания не хранит, и Святого писания не требует, и отца духовного не слушает... или многие непотребные дела совершит: блуд и распутство, и сквернословие, и срамные речи, клятвопреступление, гнев и ярость, и злопамятство, с женщиной живет не в законе или на стороне блудит, в содомский впадает грех или держит корчму, ест и пьет безудержно, но обжорства и опьянения, праздников и поста не соблюдает, всегда пребывает в разгуле, или колдовством занимается и волхвует и зелье варит... и творит все угодное дьяволу, скоморохов с их ремеслом, пляски и игры, песни бесовские любит, и костями и шахматами увлекается... – да низвергаются в ад все живые души поступающих так»[48].
Курбский должен был усвоить такую систему поучений, которая в равной мере касалась и князей, и простонародья – всех православных христиан.
Какие еще детские впечатления мог почерпнуть мальчик Андрей? Прежде всего он должен был запомнить определенный распорядок дня, который определялся периодичностью молитв и церковных служб. Древнерусские семьи просыпались рано. Но до утренней службы нельзя было есть, кормили только маленьких детей. Таким образом, мальчик безошибочно определял, что он повзрослел и стал отроком, по постоянному чувству голода по утрам. После заутрени и трапезы быстро наступала обедня, потом – вечерня. Кроме того, полагалось еще в полночь тайно вставать и молиться у образов. Мужчины не могли пропускать ни одной службы, а женам и маленьким детям делалось послабление: обязательными были только воскресенье и праздники.
По мере взросления мальчика росли его обязанности. С определенного возраста после вечерни отрок должен был присутствовать на вечернем домашнем совете отца с матерью и учиться у них уму-разуму. В обязанности сына-отрока входило звать к столу гостей, выносить еду им в сени или во двор. Сына также часто посылали к знакомым с поручениями и приглашениями.
Во что мог играть маленький Курбский? Про детские игры в XVI веке мы почти ничего не знаем. Несомненно, были какие-то куклы, миниатюрные человечки, игрушечное оружие и т. д. Однако никаких описаний культуры детской игры не сохранилось. Немного больше мы знаем о публичных играх. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн так описывал забавы городских подростков первой трети XVI века:
«Юноши, равно как и подростки, сходятся обычно по праздничным дням в городе на всем известном просторном месте, так что видеть и слышать их там может множество народу. Они созываются свистом, который служит условным знаком. Услышав свист, они немедленно сбегаются и вступают в рукопашный бой; начинается он на кулаках, но вскоре они бьют без разбору и с великой яростью и ногами по лицу, шее, груди, животу и паху и вообще всевозможными способами одни поражают других, добиваясь победы, так что зачастую их уносят оттуда бездыханными. Всякий, кто побьет больше народу, дольше других остается на месте сражения и храбрее выносит удары, получает в сравнении с прочими особую похвалу и считается славным победителем. Этот род состязаний установлен для того, чтобы юноши привыкали переносить побои и терпеть какие угодно удары»[49].
Конечно, Андрей Курбский, как представитель аристократического рода, вряд ли участвовал в кулачных боях с городскими мальчиками. Но наблюдать такие потасовки в качестве почетного зрителя вместе со старшими членами семьи он мог вполне. По всей видимости, для юношей из знати были свои поединки и испытания будущей воинской доблести, но нам о них почти ничего не известно.
Учили ли княжича Курбского в детстве? И если да, то чему? Несомненно, он получил необходимый объем знаний в области церковных текстов, по которым учился читать и мыслить, получал уроки этики человеческих отношений и усваивал стандарты морали. Судя по всему, именно в этом возрасте княжич Андрей научился читать и писать. О круге его чтения нам ничего не известно, можно строить только догадки, выходил ли он за пределы Псалтыри – главной учебной книги русского Средневековья.
Можно с большой долей уверенности говорить только об одном произведении, которое Курбский в детстве наверняка читал или его ему пересказывали – это Житие его святого предка, небесного покровителя рода ярославских князей Федора Черного. Идеальной средневековой схемой преемственности поколений было полное подобие сына – отцу, отца – деду и т. д., то есть Федор Ростиславич выступал как бы идеальным прототипом для всех своих потомков из ярославской аристократии. Как отметил филолог А. В. Каравашкин, в Московской Руси исповедовали «своеобразный династический детерминизм», то есть считали, «что родословная до некоторой степени предопределяет качества характера и поступки человека»[50]. Поэтому интересно попытаться установить, какие духовные уроки юный Курбский мог извлечь из жития Федора.
Культ Федора Ростиславича по своему возникновению совпал с началом процесса утраты независимости Ярославским княжеством. Федор был официально канонизирован местными властями через полтора века после своей смерти, в 1463 году, как раз незадолго до появления в Ярославле московского наместника.
Житие учило, что и в годину суровых испытаний, посланных «по грехам нашим» (время жизни Федора пришлось как раз на период становления монголо-татарского ига над Русью), князь должен суметь сохранить чистую и безгрешную жизнь, остаться заступником народа и его любимцем. Тогда люди будут в тебя верить, надеяться на тебя как на заступника на Страшном суде.
Интересно, что некоторые эпизоды из биографии князя XIII века совпали с историей жизни его потомка в веке шестнадцатом. Федор изначально был обижен братьями, Глебом и Михаилом, – они лишили его владений, все забрав себе. Нашему герою по жребию достался только Можайск. «Он же со беззлобием господствуя в нем и не гневашеся на братию свою». Подобное смирение заслужило награду: «...его же ради беззлобия поручи ему Бог и славный град Ярославль», а затем и Смоленск. Здесь мы видим столь важную для взрослого Курбского идею обязательного Божественного воздаяния за праведное поведение. Именно в нарушении принципа справедливой награды будет состоять одно из главных обвинений князя Андрея в адрес Грозного.
Федора, однако, не любили не только братья, но и жители города Ярославля. Они прогнали его, и он был вынужден уехать за границу, в Орду, как в будущем Андрей Курбский будет «изгнан» из своего «отечества». Здесь интересен мотив «князя-скитальца», который несправедливо изгнан из своей вотчины. Изгнанник даже на чужбине не утратил чистоты веры и смог обратить в православие ханскую дочь. За это благочестие ему покровительствует Господь. Божьей волей Федор в конце концов вновь обрел ярославский престол.
Думается, такой поворот сюжета в биографии святого предка мог повлиять на мировоззрение Курбского и осмысление им самой идеи «несправедливого изгнания» с последующим воздаянием от Бога за перенесенные страдания. Усвоение данной мысли делало для князя Андрея возможным и допустимым эмиграцию (хотя, в принципе, отъезд из православного отечества в XV – XVI веках входил для русского дворянина в число морально непозволительных поступков).
Бог покарал Русскую землю нашествием иноплеменных. Все князья должны были ездить в Орду за ярлыком на княжение. Поехал и Федор. Здесь сюжет превращается в какую-то фантастическую историю. В Орде в Федора влюбляется татарская «царица»: «Царица же увидела красоту и благородство лица его, подобные ликам святых, и была поражена в самое сердце, и полюбила его, и не захотела отпускать его обратно на Русь» (перевод мой. – А. Ф). Хан благосклонно воспринял ее страсть к русскому князю. Он три года держал Федора у себя в приближенных на должности чашничего.
Русский князь оказался упрям и жениться на царице отказался, мотивируя тем, что у него есть русская жена-княгиня. Тогда его отпустили на Русь. При подъезде к Ярославлю выяснилось, что жена князя умерла, его не дождавшись. Далее Федора повторно изгнали ярославцы. «Изгой» вернулся в Орду, где его встретили с распростертыми объятиями. Федор женился на «царице», причем благословение на брак якобы получил от самого православного патриарха! Хан на радостях подарил на свадьбу 36 городов: Чернигов, Болгары, Кумане, Корсунь, Туру, Казань, Ареск, Гормир, Баламаты и др.
Как тут не вспомнить будущую смерть жены Курбского в России, пока ее муж пребывал в эмиграции, и последующую женитьбу князя Андрея на заграничной, литовской княгине, что сильно приумножило его земельные владения. Поистине мистическое совпадение!
Хан отправил под Ярославль посла «с своим великим опальством и страшными грозами» и приказом немедленно принять Федора. Ярославцы не испугались и отказались признать власть князя-изгнанника. Тогда степень любви ордынского «царя» к мужу его «царицы» достигла апогея: хан «всегда против себе седеть повелел ему (Федору. – А. Ф), и царский венец свой ежедневно возлагал на главу его, и ежечасно переодевал его в свои собственные царские одежды»...[51] Конечно, в будущем польский король Сигизмунд не будет делиться с русским эмигрантом Курбским последней рубахой, но князь, как и его предок, будет обласкан иноземным правителем.
Конечно, данные совпадения – не более чем «игра ума». Или – нет? Ведь Курбский наверняка с детства хорошо знал рассказы о своем предке, который считался эталоном, идеальной моделью поведения. И кто его знает, какие образы и этические стереотипы отложились в подсознании юного ярославского князя и когда они вышли наружу...
На государеву службу
Взрослая жизнь для русских юношей XVI века наступала с момента записи в войско. Англичанин Джильс Флетчер так описывал данную процедуру: «Как только они достигают того возраста, когда в состоянии носить оружие, то являются в Разряд и объявляют о себе; имена их тотчас вносят в книгу, и им дают известные земли для исправления их должности, обыкновенно те же самые, какие принадлежали их отцам»[52].
Дворянин начинал службу в 15 лет, когда он считался «новиком». Она могла проходить в двух типах дворянского ополчения. Наиболее распространенным вариантом был так называемый «выбор с городов». Дворяне (их еще называли дети боярские) собирались на службу в городах, являвшихся административными центрами уездов, в которых располагались их поместья. Эти отряды так и называли, по имени населенного пункта – центра их уезда: дворяне новгородские, дворяне костромские, дворяне тверские и т. д.
В каждом уезде составлялись специальные списки дворян, которые должны были собираться на службу от данного уезда. Начиная с 1556 года они назывались «десятни». Когда объявлялся сбор дворянского войска, то проводился смотр, явку на который проверяли как раз по этим десятням. Десятни были верстальные – в них фиксировалось полагающееся дворянам денежное и земельное жалованье согласно их статусу, то есть «версте», а также разборные и раздаточные – в них фиксировались отношение дворянина к службе, факты явки и уклонения от службы и т. д. Десятни из регионов посылались в Москву, в специальное ведомство – Разрядный приказ. Там они и хранились, в них делались отметки о служебных назначениях, земельных пожалованиях, ранениях и т. д. Копии десятен передавались в Поместный приказ, который непосредственно ведал раздачей земли в поместья. Земля, которая давалась помещику, называлась «дачей».
Государство не всегда выполняло свои обязательства по размерам дач. Судя по документам, нередко бывали случаи, когда дворянин получал меньше земли, чем ему полагалось, или не получал вообще ничего. Например, в 1577 году дворяне Путивля и Рыльска жаловались, что лишь 69 человек имеют поместья, причем часто гораздо меньшие по размерам, чем положено, а 99 человек из списочного состава вообще не получили земли. Власти выплатили денежную компенсацию, адекватную положенным размерам поместья, но земли так и не дали. Также часто возникала ситуация, когда помещик владел несколькими небольшими поместьями, разбросанными в разных уездах. В этом случае ему было легко стать «нетчиком» (от слова «нет» – «отсутствует»; так называли неявившихся на службу), потому что было совершенно неясно, в каком же из уездов его призывать на службу. В 1575 году вышел специальный указ, предписывающий давать дачу только в одном уезде, в котором и служит дворянин. Но на практике он не выполнялся.
Согласно принятому при Иване Грозном в 1556 году «Уложению о службе» каждый дворянин был обязан, помимо личной явки, выставить с каждых 100 четвертей (одна четверть равнялась примерно 5,6 гектара – около 5600 квадратных метров) земельного владения одного конного воина в полном доспехе, в случае сбора войска для дальнего похода – со сменным вторым конем. Если дворянин был беден, имел мало земли и не мог выставить положенного количества воинов, то нормы служебной повинности на него снижались. Были случаи, когда обедневших дворян переводили в гарнизонную службу или вообще исключали из списков служилых людей.
Размеры поместных дач при Иване Грозном колебались от 100 до 400 четвертей земли. На практике кто-то получал меньше, а кто-то, соответственно, больше, если присовокуплял новые поместные раздачи к своим прежним владениям или владел поместьем наряду с родовой вотчиной. Помещики делились на статьи (в зависимости от знатности и служебных заслуг). Например, в 1550 году дворянам, наделяемым поместьями под Москвой, было установлено дополнительное денежное жалованье: помещикам 1-й статьи – 12 рублей, 2-й статьи – 10 рублей, 3-й статьи – 8 рублей.
За выставленных дворянином боевых холопов-послужильцев от государства полагалось дополнительное, помимо поместья, денежное жалованье. Если дворянин выставлял людей больше, чем положено, он получал за них дополнительно довольно большие деньги, которые рассчитывались по специальной таксе, в соответствии с тем, как эти дополнительные люди вооружены. Например, полный доспех стоил 4,5 – 5 рублей, сабля – 3 рубля, шлем – 1 рубль.
Эти цифры интересно сравнить с ценами, бытовавшими в Русском государстве в середине XVI века. Так, конь стоил от 60 копеек до 10 рублей, овца – 15 – 30 копеек, корова – 10 – 25 копеек. Зерно (хлеб) мерили на так называемые четверти – примерно 210 литров. Одна четверть зерна стоила от 10 копеек до 1,5 рубля (цена зависела от сезона и от урожайных или неурожайных лет). Килограмм свежего мяса (говядины) стоил около 16 копеек, бочка молока – не более 25 копеек, 100 яиц – 3 – 4 копейки.
Если же дворянин не мог выполнить норму выставления воинов или плохо вооружал их, то на него налагался штраф пропорционально «недополученным» воинам или доспехам.
Воинская служба дворян делилась на городовую (осадную) и полковую. Первая – в городских гарнизонах – считалась менее престижной, и ее обычно несли или бедные (мелкопоместные) дворяне, или не способные по состоянию здоровья (например, из-за ранения) нести полевую службу (им в таком случае урезались размеры поместных окладов). Городовая служба была пешей, за нее государство не платило дополнительного денежного жалованья. Более престижной была полковая служба, которая делилась на дальнюю – участие в далеких походах на соседние страны, и ближнюю (пограничную, или береговую, поскольку главный южный рубеж обороны России находился на реке Оке).
Низшими ступенями дворянской службы были должности, на которых дворянин исполнял какие-то поручения или оказывался в специальной команде, исполняя особые поручения. Последний случай назывался «быть в приказе», то есть в особом распоряжении вышестоящего лица. Низшими служилыми должностями были приставы, неделыцики и головы. Приставы обычно сопровождали посольства, несли службу по наведению порядка на улицах, ездили с военными донесениями и т. д. Неделыцики выступали в качестве силовых исполнителей судебных решений и постановлений властей, охраняли сборщиков налогов. Возможно, происхождение их названия связано с тем, что они несли свою службу «по неделям», а потом состав команды неделыциков менялся. Головы являлись младшими командирами в дворянских и стрелецких полках (обычно командовали одной или несколькими сотнями воинов).
Более высоким уровнем службы было служить при государе, в его дворе или в государевом полку. Здесь высшей должностью был конюший – смотритель царских коней. За ним шел оружничий – хранитель царского оружия (пусть в реальности царь никогда не брал в руки это оружие). За царем ездили воины, которые возили знамя, три лука с колчанами и стрелами (саадаки), рогатину, просто копье, меньшое копье, сулицу (большой метательный дротик), топор, а с 1563 года – еще и пищаль. У каждого из хранителей этих предметов доблести и вооружения были помощники – поддатни. Кроме того, за государем неотступно следовала личная охрана, вооруженная топорами особой формы, – большие рынды и малые рынды. Таким образом, набиралась довольно внушительная свита, и для большинства представителей знатных московских фамилий карьера начиналась со ступеней рынды или оруженосца «с копьем» возле государя.
Высшие воинские должности – должности воевод – занимали представители высших гражданских аристократических чинов, бояре и окольничие, а также выходцы из родовитой аристократии – князья. Рядовой дворянин мог попасть только на малозначительную воеводскую должность, в отдаленный маленький город или военачальником маленького отряда в незначительном походе. Воеводы были при Государевом дворе (дворовый воевода), в полках и в городах. В городах они могли выполнять функцию наместника, но иногда, в случае военной опасности, и в пограничные города назначался особый осадный воевода. Как правило, срок воеводской службы на конкретной должности – в полку или в городе – был один год, отчего она называлась: годованье. Через год происходило новое назначение.
Порядок назначений определялся принципом местничества. «Местами» назывались предыдущие службы предков. Дворянина нельзя было назначить на должность низшую, чем служили его предки: это считалось «невместным», «порухой чести». В результате при получении постов аристократы ревниво следили, чтобы не оказаться ниже определенного «должностного порога»: в таком случае они могли навлечь «поруху» на весь род, отодвинуть его вниз в местнической иерархии. Поэтому считалось, что лучше умереть. Власти понимали всю невыгоду таких порядков: очень часто случалось, что дворянин не хотел брать грамоты о его назначении, считая, что получил слишком низкую должность. Еще чаще приходилось ставить во главе войска знатного и «выслуженного», но совершенно бездарного человека. Но поделать с этим ничего не удавалось. Местничество не смог одолеть даже Иван Грозный. При нем неоднократно издавались указы об отмене местничества (первые – в 1549 и 1550 годах), приказывалось, что в эти походы «воевод посылать без мест». Воеводы не верили, считали это лукавством, являлись пред государевы очи, шли на плаху – но допустить «поруху» родовой чести было страшнее... Местничество русское правительство победит только век спустя, в 1682 году, когда царь Федор Алексеевич найдет остроумное решение проблемы – по его приказу будут сожжены все записи о предшествующих службах, так называемые разрядные книги. И местничать станет невозможно – не будет документов, на которые можно было ссылаться...
Каковы были первые шаги в этой системе государевой службы князя Андрея Курбского? Здесь есть некоторое странное обстоятельство, которому могут быть разные объяснения. Первые сведения о его служебных назначениях относятся к 1547 году, то есть к тому времени, когда ему было уже 19 лет. А как уже было сказано, служба традиционно начиналась в 15 лет. Чем занимался юный князь эти четыре года? О чем говорят эти данные: что до нас просто не дошли сведения о первых четырех годах службы Курбского или же что он по каким-то причинам начал службу позже? Не являлась ли эта задержка следствием опалы на Курбских при Василии III или каких-то неведомых нам обстоятельств?
Сведения о службе Андрея Курбского в 1547 году вполне могут отражать не первые назначения юного князя. Дело в том, что в 1547 году Курбский оказывается уже при Государевом дворе – хотя и в качестве мелкого порученца, но все-таки среди лиц, приближенных к родственникам царя: он сопровождает князя Юрия Васильевича, брата Ивана IV, причем его имя упоминается после имени В. И. Пенкова и перед именами Ю. И. Деева, И. М. и Ф. И. Троекуровых. Видимо, данный список составлен на основе чиновной росписи свадьбы Юрия Васильевича, состоявшейся 3 ноября 1547 года[53].
Итак, в числе других молодых провинциальных дворян в 1547 году Курбский оказывается в Москве. Это было время притока в столицу свежей крови, омоложения правящей элиты и свиты юного – семнадцатилетнего! – царя. 1547 год был годом массового обновления Боярской думы. Ее состав увеличивается вдвое (бояре – с 10 до 20 человек, окольничие – с 2 до 6). В 1547 году боярами стали: М. В. Глинский, Ю. В. Глинский, И. И. Турунтай-Пронский, Д. Д. Пронский, И. М. Юрьев, И. П. Федоров-Челяднин, Г. Ю. Захарьин, И. И. Хабаров, Д. Ф. Палецкий, Ю. И. Темкин. Окольничество получили: Д. Р. Юрьев (ставший к тому же дворецким Большого дворца), Ф. М. Нагой, Ф. Г. Адашев, Г. В. Морозов, И. В. Шереметев-Большой, И. И. Рудак-Колычев. Столь значительное пополнение главного правящего органа страны существенно повысило его роль в государственных делах.
Кем в то время ощущал себя 19-летний Курбский? Как представитель рода Курбских, он должен был отождествлять себя с крупными землевладельцами, хотя перечень его вотчин и поместий реконструируется с трудом. Уже говорилось, что принадлежность ему родового гнезда Курбских – вотчины Курбы – источниками не подтверждается, она была к этому времени утрачена. Есть предположение, что у князя Андрея были поместья под Ростовом Великим и под Псковом. Точно известно, что в 1557 году он будет владеть поместьем села Серкизово Бохова стана Московского уезда. В состав его владений также входили деревни Осинник и Шадеево. Собственно, это все, что мы знаем о землях, хозяином которых был потомок ярославских князей.
А осенью 1547 года 19-летний Курбский в составе так называемого «поезда» – колонны конных экипажей и подвод, сопровождаемых верховыми, провожает младшего брата царя, слабоумного князя Юрия Васильевича, к месту его свадьбы, где Юрия уже ждала новобрачная, Ульяна Дмитриевна Палецкая. На торжествах присутствовали люди из ближайшего окружения юного Ивана IV: князья Владимир Андреевич Старицкий (сын последнего удельного князя Московской Руси, был на свадьбе тысяцким) и В. С. Серебряный (был дружкой), родственники царицы Анастасии – В. М. Юрьев (был у постели новобрачных), И. П. Юрьев (мылся с молодым в бане). В числе почетных гостей мы видим людей, которые будут определять политику страны в ближайшие годы: И. Ф. Мстиславского, А. Б. Горбатого (будущих видных деятелей Боярской думы), Ф. И. Сукина (будущего знаменитого казначея, главу финансового ведомства страны в 1550-е годы, годы реформ). Неизвестно, сумел ли провинциал из Ярославля тогда же завязать с ними знакомство, или оно произойдет позже. Но с большинством этих людей его судьба будет в дальнейшем очень тесно переплетена. С кем-то он будет сражаться плечом к плечу, с кем-то заседать в Боярской думе, с кем-то будет вместе «записан» по облыжному обвинению в заговорщики и изменники...
Но это будет потом. Пока на дворе ноябрь 1547 года, за окнами осенняя Москва, на дворе шумит свадьба, мелькают дорогие ткани и соболиные меха, которые безо всякого бережения мечут под ноги молодым, звенят монеты, которыми осыпают новобрачных, горят свечи, дружка князь Серебряный режет хлеб и сыр и раскладывает их по тарелкам, разбиваются на счастье чаши, плывут над праздничным столом на плечах слуг подносы с жареными лебедями, и шумит в голове хмельной мед, и кажется князю Курбскому, что он уже свой в царских палатах, и путь его отныне – рука об руку с юным государем.
Глава третья ВОИН КУРБСКИЙ
Боевое крещение
Молодые дворяне при Иване Грозном редко подолгу задерживались на теплых придворных местах. Их ждала действующая армия. Благо в войнах недостатка не было. Царь Иван поставил своеобразный рекорд по продолжительности участия России в боевых действиях. Из 43 лет правления деда Ивана Грозного, великого князя Ивана III (1462 – 1505), Россия вела войны с внешними врагами 20 лет, что составляет 47% от продолжительности правления. Отец Ивана Грозного, великий князь Василий III (1505 – 1533), из 28 лет своего правления воевал 12, то есть 43% времени. При сыне Ивана Грозного, Федоре Ивановиче (1584 – 1598), из 14 лет военными были всего 6 (43%). Зато из 51 года правления Ивана Грозного (1533 – 1584) Россия воевала 37 лет (72%), причем почти все мирные годы приходятся на время малолетства царя (1533 – 1547). А когда он стал совершеннолетним и стал править самостоятельно, то в период с 1547-го по 1584-й русские войска не вели активных боевых действий всего... три года!
Столь высокая интенсивность ведения войн вызвала появление такого феномена, как «военные поколения». Россия до этого их не знала, годы войн чередовались с годами мира. При Иване Грозном выросло целое поколение, которое появилось на свет в условиях войны. Дети не видели своих отцов, они знали лишь, что те где-то «кладут головы за государево имя». Дворяне служили до своей гибели на поле боя или до тяжелого ранения и увечья. По дряхлости и старости в отставку в России XVI века выходили немногие...
На то, что война была смыслом и содержанием жизни русского дворянства, указывают редкие автобиографические тексты, которые дошли до нас от XVI века. Говоря о своей жизни, люди вспоминали в основном военные эпизоды. Так, князь Андрей Курбский в 1564 году писал царю Ивану Грозному, подводя итог своей многолетней службы под государевым стягом:
«Возглавляя твое войско, всю землю ходил и исходил и никогда не принес тебе никакого бесчестья, но только для твоей славы добывал одни победы пресветлые, одерживать которые помогал ангел Господень, и никогда полков своих спиной к врагам не поворачивал, но со славою одолевал их на похвалу тебе, как и положено воеводе православного воинства. И так не один год и не два, но многие годы я трудился, проливая свой пот, терпя трудности, и мало видел свою мать, родившую меня, и со своей женой мало был, и из Отечества своего постоянно уезжал, но все время пребывал в дальних и пограничных городах, воюя против врагов твоих, и претерпевал много разных трудностей и мучений, этому Господь мой Иисус Христос свидетель; и часто был ранен от варварских рук в различных битвах, и теперь имею все тело, изувеченное ранами»[54].
Курбский попал в действующую армию, когда главным фронтом России был казанский. Отношения Москвы и Казанского ханства складывались непросто. Еще Иван III в 1487 году взял Казань и принял ее под протекторат России. До 1505 года татары подчинялись власти государя всея Руси, потом взбунтовались, и вплоть до 1535 года в ханстве шла борьба между промосковской и прокрымской группировками местной знати. Власть переходила то к сторонникам Крыма и даже представителям крымской династии Гиреев, то к сторонникам России, марионеточным ханам и даже порой к русским наместникам.
Политический статус Казанского ханства в первой трети XVI века определить довольно трудно. С одной стороны, это суверенное государство, которое ведет независимую внешнюю политику, откровенно враждебную России. Политические покровители Казани – Крым и Турция. С другой стороны, правители ханства периодически клялись в верности России и просили прощения «за вину», уверяли, что не хотели нападать, грабить, уводить людей в плен, и сами не могут объяснить, как это у них так нехорошо получается.
Причина подобного двуличия была проста: казанские правители не хотели ни обижать своих высоких мусульманских покровителей, ни отказываться от добычи, которую приносили нападения на русские земли. Но в то же время они опасались, что однажды Россия не выдержит, соберет силы и попросту уничтожит их. Русские полки уже неоднократно доходили до стен столицы ханства. И хотя многие походы были неудачны, сам факт сравнительной легкости проникновения московских полков вглубь территории Казанского ханства не мог не пугать. А если они однажды не остановятся и пойдут до конца, как это уже было в 1487 году? Разумные казанские ханы не хотели проходить в конфликте с Россией «точку невозврата», после которой русское нашествие было бы необратимым. Отсюда – и дипломатические маневры, и двуличность политики, и война, сочетаемая с клятвами в верности...
В 1535 году, после очередного военного переворота, победил хан Сафа-Гирей, сторонник войны с Россией. С 1536 года казанские набеги происходят по несколько раз в год. И в 1537 году, в годы малолетства Ивана IV, русское правительство было вынуждено восстановить на восточном направлении пограничную службу. «Точка невозврата», чего так боялись более разумные правители Казани, была пройдена. В 1545 году Иван Грозный начал большую многолетнюю «Казанскую войну», которая продлится семь лет и закончится в октябре 1552 года гибелью татарского государства и маршем русской конницы по улицам павшей столицы. Копыта коней при этом будет скрывать текущая ручьями человеческая кровь...
«Казанская война» началась 2 апреля 1545 года. В поход «полою водою», то есть по разлившейся Волге, на боевых кораблях из Нижнего Новгорода вышел отряд под началом князя С. И. Микулинского-Пенкова и В. И. Осиповского. Из Вятки на соединение с ним шла рать князя В. С. Серебряного и вятского наместника Ю. Г. Мещерского. Они встретились на устье реки Казанки и подвергли разгрому татарские поселения на берегах рек Камы, Вятки, Свияги. Окрестности Казани были полностью опустошены. В боях погибли некоторые знатные татары. Хан Сафа-Гирей, разъяренный успехом русских, обвинил своих князей в сотрудничестве с Москвой. Некоторые из них, заподозренные в предательстве, были убиты. Это вызвало бегство местной аристократии: как писал русский летописец, «поехали многие из Казани к великому князю, а иные по иным землям»[55].
Недовольная Сафа-Гиреем татарская знать задумала государственный переворот. 29 июля 1545 года князь Кадыш и Чюра Нарыков от имени заговорщиков обратились к Москве с просьбой «прислать рать», обещая арестовать хана и окружавших его крымских мурз. Россия гарантировала им полную поддержку. 17 января 1546 года пришло известие, что переворот совершился без вмешательства русских войск. Сафа-Гирей был изгнан, его сторонники перебиты. После долгих переговоров с боярами 13 июня 1546 года престол занял марионеточный хан Шигалей (Ших-Али). Он продержался у власти всего месяц: казанцы подняли против него мятеж и вернули Сафа-Гирея, а Шигалей бежал в Москву.
Но уже 6 декабря 1546 года татарская знать вновь обратилась к Москве с просьбой «прислать рать» для свержения успевшего надоесть хана с престола. В феврале 1547 года «в казанские места» из Нижнего Новгорода было послано русское войско под началом князей А. Б. Горбатого и С. И. Микулинского. Этот поход был ответом на «челобитье» сотника горной черемисы Атачика, предложившего встретить воевод и вместе с ними идти штурмовать Казань. Но полки до стен Казани в этом походе так и не дошли[56].
В том же 1547 году удар по татарским владениям из Мурома нанесли отряды Б. И. Салтыкова и И. Ф. Сухово-Мезецкого. Осенью на государственном уровне было принято решение об организации крупного похода, ставившего целью покорение Казанского ханства. Он продлился с 20 ноября 1547 года по 7 марта 1548 года. В нем впервые принимал участие сам царь. Иван IV с основными силами дошел до реки Работки, «и некоим смотрением Божьим пришла теплота великая и мокрота многая и весь лед на Волге покрыла вода, и пушки и пищали многие провалились под воду... и по льду было невозможно пройти, и многие люди в продушинах утопли, потому что под водой, покрывшей лед, их не было видно», – писал летописец.
Царь с основными силами решил вернуться в Москву. Но под Казань были отправлены полки под командованием князей Д. Ф. Вельского и Д. Д. Пронского, царевича Шигалея (с ним Ф. А. Прозоровский) и астраханского царевича Едигера (с ним И. М. Хворостинин). Они выиграли битву на Арском поле, «самого хана в город втоптали» и неделю осаждали Казань[57].
В октябре 1548 года казанцы пытались нанести ответный удар. Отряд Арака-богатура напал на окрестности города Галича. Однако костромской наместник 3. П. Яковля настиг его на Гусевском поле на реке Езевке. Татары были разбиты, погиб и сам Арак. В конце 1548 года войной «в казанские места» ходили из Мурома А. Д. Басманов-Плещеев и С. Ф. Киселев.
25 марта 1549 года в Москве узнали о смерти хана Сафа-Гирея. Россия сразу же начала готовиться к силовому решению казанского вопроса. Войска собирались в Нижнем Новгороде. Туда же под присмотром окольничего Ф. М. Нагого был отправлен Шигалей, из которого вновь предполагалось сделать марионеточного правителя. В июне из Москвы в Нижний Новгород выступили полки Б. И. и Л. А. Салтыковых. Им было велено в дальнейшем идти «в казанские места».
В июле 1549 года на совете Ивана IV с митрополитом Макарием и боярами было принято решение об организации крупного похода на Казань во главе с самим царем. Кампания длилась с 24 ноября 1549 года по 25 февраля 1550 года. Одиннадцатидневная осада столицы ханства оказалась безрезультатной. Снова подвела погода: «дожди были каждый день, и теплота, и мокрота великая, речки малые попортило... а приступать к городу за мокротою не угодно»[58].
В последнем походе мы впервые видим в действующей армии князя Андрея Курбского. Он получил чин «стольник в есаулах» и был в царской свите. Неизвестно, довелось ли ему понюхать пороху и лично поучаствовать в рукопашной, но по крайней мере свидетелем сражений он стал. Впрочем, одно обстоятельство позволяет предположить, что князь сумел как-то обратить на себя внимание царя, в том числе, возможно, и воинской доблестью. Во всяком случае, с этого момента начинается его карьерный взлет.
Из рядового стольника он возносится до воеводских должностей. Если в 1550 году в Тысячной книге он еще назван сыном боярским 1-й статьи по Ярославлю, то 16 августа 1550 года он получил назначение воеводой в городе Пронске, на южном пограничье Руси, где провел зиму. Затем его должностной рост делает новый скачок, и в течение года он дослуживается из наместников маленькой пограничной крепости до полкового воеводы на самом важном – окском рубеже обороны страны от крымских татар. В мае 1551 года Курбский был назначен вторым воеводой полка правой руки, стоявшего у Зарайска, на южной границе. Князь находился в подчинении боярина П. М. Щенятева, с которым его впоследствии часто будет сводить фронтовая судьба[59]. С 26 октября 1551 года Курбский находился в Рязани, вторым воеводой под командованием М. И. Воротынского. Князья с их войсками были посланы на усиление рязанского гарнизона в связи с известиями разведки о готовящемся набеге ногайских татар. Но вторжения ногайцев не случилось. Курбскому было суждено оказаться в эпицентре боевых действий в следующем, 1552 году.
Против «измаильского пса»
В 1552 году Курбский вновь получил назначение на окский рубеж. С июня он являлся вторым воеводой полка правой руки под Каширой (первым был опять-таки боярин П. М. Щенятев).
В наши дни трудно поверить, что в середине XVI века главная линия обороны страны проходила чуть ли не за 100 километров до столицы. Сегодня до нее можно доехать на подмосковной электричке. Линия обороны называлась «окский рубеж», или «берег». Каждую весну (к 1 марта) и осень (к 1 сентября) составлялась роспись воевод «на берегу от крымских людей». По реке Оке располагались пять полков: в городах Алексине, Серпухове, Калуге, Коломне и Кашире. «По вестям» (известиям о нападении татар) эти полки по заранее определенным маршрутам двигались из мест своей дислокации навстречу врагу, а из Москвы спешили дополнительные силы, иногда во главе с самим царем и его государевым полком.
Крымские татары в XVI веке представляли собой наиболее серьезного противника России. Вооруженные силы Крымского ханства были довольно многочисленными – в экстренных случаях хан мог выставить в поход от 80 до 100 тысяч и более воинов, что приближалось к пределам мобилизационного резерва русской армии при Иване Грозном. Однако обычно количество воинов, выступавших в поход, составляло 20 – 50 тысяч человек. Это примерно соответствовало численности русской армии, которая несла службу в мирное время, без специальных мобилизаций. Таким образом, татарская угроза могла полностью сковать все вооруженные силы России.
Положение осложнялось тем, что татары редко ходили в набеги в одиночку – зачастую удары по русской границе наносили одновременно крымские, ногайские, казанские татары. Чтобы устрашить врага, татары иногда привязывали к запасным коням чучела людей, и издали казалось, что татарское войско вдвое или втрое больше, чем было в действительности.
Татарские походы были двух типов: нашествия во главе с ханом или его старшим сыном (калгой) и так называемые беш-баши – мелкие грабительские набеги отдельных князей и мурз. В походе татары продвигались тремя колоннами: главные силы, правое и левое крыло. Именно крылья, дробясь на более мелкие отряды, делали грабительские налеты на деревни и окрестности городов. В случае опасности они моментально «рассыпались» на более мелкие отряды и разными путями отходили к главным силам.
В бою татары применяли следующую тактику. В полевом сражении они стремились атаковать первыми. Удар почти всегда был первоначально направлен на охват левого фланга противника. Атака именно левого фланга врага была обусловлена тем, что при его охвате татарам было удобнее стрелять из лука – справа по левому флангу. Тактики сомкнутого копейного удара легкая татарская конница не знала. В бою татары разбивались на небольшие отряды, максимум в три-четыре тысячи человек, которые, сменяя друг друга, непрерывно налетали на вражеский строй. Они обстреливали врага из луков и стремились расшатать боевое построение, выдергивая на арканах воинов из строя. Расстреляв боезапас и потрепав боевой порядок неприятеля, татарский отряд бросался в бегство. Если противник обманывался этим и начинал преследование, то скоро попадал в засаду. Если же он стоял и держал строй, то за одним татарским отрядом налетал другой, потом третий, четвертый и т. д., и тем самым получалась как бы непрерывная атака свежими силами. Она длилась, пока враг не дрогнет и не побежит. Сами татары называли такую тактику боя «пляской». Русские воины называли такой способ атаки «лавой» и быстро сами научились его применять. Целью «пляски» было опрокинуть фланг противника, обратить его в бегство, сломать строй и вынудить к беспорядочному отступлению.
Татары часто осаждали города, но военная культура осады у них упала по сравнению со временами Золотой Орды. Они редко использовали артиллерию. В основном при осаде применялась простейшая тактика непрерывного штурма, когда на стены идут отряд за отрядом. Но татары предпочитали не связываться с хорошо укрепленными крепостями. Если не было возможности их поджечь, уморить осажденных голодом или взять город обманом или изменой, то татары чаще дотла разоряли городскую округу, изображая осаду и штурм только для устрашения и сковывания сил противника. Тратить время и силы на кровопролитные затяжные бои под крепостными стенами они не любили.
Главным достоинством татарской военной системы была высокая мобильность армии, которая достигалась тем, что каждый воин имел от двух до пяти сменных лошадей особой, татарской породы (пахмат). Это были лошади с приземистой шеей, низкорослые, неприхотливые в питании (могли есть кору деревьев и копытами добывать пожухлую траву из-под снега). Они были очень выносливы – суточный переход на таких конях составлял до 100 километров, и могли держать такой темп передвижения три-четыре месяца. Незадолго до похода татары сгоняли коней в одно место и 40 дней откармливали ячменем, но непосредственно перед выступлением не кормили, так как голодные кони легче смирялись с нагрузками и усталостью. Особенностью татарской конницы было то, что лошадей не подковывали или подковывали своеобразными подковами из бычьего рога, которые просто привязывали к копытам.
Татарская конница сперва выступала в поход медленно, в соответствии с мусульманскими обычаями пять раз в день совершалась молитва (намаз). За это время проводилась разведка и уточнялся маршрут похода. Зато когда он был утвержден, войско шло стремительно, пренебрегая остановками на молитву. Кони связывались веревками за хвосты, чтобы держали строй и подтягивали отстающих. Если кто-то, конь или человек, случайно спотыкался и падал под копыта, то его затаптывали насмерть: несчастный случай не был поводом, чтобы хоть на секунду остановить продвижение войска.
С этой совершенной военной машиной и предстояло столкнуться юному воеводе князю Курбскому. 21 июня тульский воевода князь Г. И. Темкин-Ростовский сообщил о набеге на Тулу крымских и ногайских татар. Щенятев и Курбский незамедлительно выступили со своим полком от Каширы к Туле.
Автобиографическое сочинение Курбского «История о великом князе Московском», написанная им в самом конце жизни в начале 1580-х годов, содержит эмоциональное описание боев под Тулой летом 1552 года. Видимо, они прочно врезались ему в память. В «Истории...» князь изобразил себя спасителем Руси, победителем Орды. По его словам, царь послал воеводу с товарищами (князь употребляет местоимения «нас», «мы», но своих соратников по именам не называет) всего лишь на разведку. Но Курбский «перевыполнил» поручение государя. Как только 15-тысячное войско под его командованием приблизилось к осажденной татарами Туле и расположилось на ночлег, крымцы доложили хану «о множестве войска христианского и решили, что сам князь великий пришел со своим воинством». Хан Девлет-Гирей страшно испугался грозного противника: «И в ту ночь царь татарский от града утек, на восемь верст в поле дикое, за три реки переправился, и оружие и имущество в реках потопил, и порох бросил, и верблюдов оставил, и войско бросил, которое ушло в набеги-загоны»[60]. Таким образом, Курбский рисует себя не только героем-победителем, от одного появления которого бежит супостат, но и намекает, что татары спутали отряд князя... с войском самого царя!
Наутро остатки крымского войска, позорно брошенного ханом, уяснив незначительность сил, находящихся под началом Курбского, начали наступление. В ходе полуторачасового боя князь, по его словам, наголову разбил врагов, при этом впервые пролил свою кровь: в сече был ранен в голову.
Правда, сам царь Иван Грозный был диаметрально противоположного мнения о полководческих талантах своих воевод. В 1564 году он писал Курбскому о боях под Тулой в 1552 году весьма нелицеприятные вещи:
«Как наш недруг, крымский царь, приходил к нашей вотчине к Туле, мы послали вас против него, но царь устрашился и вернулся назад, и остался только его воевода Ак-Магомет улан с немногими людьми, вы же поехали есть и пить к нашему воеводе, князю Григорию Темкину, и только после пира отправились за ними, а они уже ушли от вас целы и невредимы. Если вы и получили при этом многие раны, то никакой славной победы не одержали»[61].
Кто здесь прав – Курбский или Грозный? Русская официальная летопись оценивает итог боев под Тулой как однозначную победу русских войск, одержанную благодаря их храбрости. В то же время в ней и не могли быть отражены такие подробности, как, например, не вовремя случившаяся пирушка воевод. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить обвинения Грозного или патетику Курбского.
«Ангел сохранил меня»: князь Курбский и Казанское взятие 1552 года
Покорение Россией Казанского ханства было событием, венчающим долгий и противоречивый процесс освобождения русских земель от ордынской зависимости. Процесс этот начался в конце XIV века, когда победа Дмитрия Донского на Куликовом поле (1380) продемонстрировала, что татар в принципе можно бить русским оружием, а разорительный поход среднеазиатского полководца Тимура-Тамерлана по землям Золотой Орды (1395) обнажил всю непрочность и хрупкость Великой Татарии. Тамерлан сломал становой хребет золотоордынской цивилизации – уничтожил целую агломерацию поволжских торговых городов. Татары даже не обносили их стенами, будучи уверены в мощи своей державы, которая сама по себе гарантировала: никакой враг никогда не прорвется во внутренние земли Орды. Но события 1380 года показали, что решительное и самоотверженное поведение мятежной провинции ордынской империи, Северо-Восточной Руси, может легко привести татарскую армию к военной катастрофе, а «великое разорение» 1395 года – что Орда на самом деле имела крайне незначительный потенциал государственной и социально-экономической прочности. После кратковременного усиления Орды в начале XV века, при эмире Едигее, опять наступил кризис и распад стал необратимым.
Усиление сопротивления русских княжеств совпало с распадом в XV веке Золотой Орды и образованием на ее обломках отдельных княжеств и ханств (Казанского, Крымского, Астраханского, Сибирского ханств и Ногайской Орды), каждое из которых в отдельности не превосходило военный потенциал России. Результат не заставил себя ждать: в 1480 году армия великого князя Ивана III остановила на русской границе на реке Угре полки хана Большой Орды Ахмата и заставила их повернуть вспять. С этого момента, как принято считать, исчезла политическая зависимость правителей Руси от ханской власти.
В 1502 году союзник Ивана III, крымский хан Менгли-Гирей на реке Большой Сосне разбил Большую Орду и уничтожил ее как военно-государственное образование. После этого из «обломков Орды» не осталось ханства, которое могло бы реально претендовать на покорение Руси и восстановление татарского ига.
Чем больше слабела татарская угроза, тем сильнее развивалась в России антимусульманская идеология. В достижении военного торжества над татарами, в их поражении и порабощении, в достижении собственной мощи и величия через унижение и обращение в ничтожество былых господ православные идеологи стали видеть возможность реванша, исторической, окончательной победы Руси над Ордой. При этом происходило отождествление татарских ханств XV – XVI веков с уже не существовавшей Золотой Ордой: «наследники Орды» – Крым, Казань, Астрахань – должны были теперь заплатить по счетам Батыя, Узбека и Тохтамыша, настоящих поработителей русских земель в XIII – XIV веках. Победы над татарами стали считаться богоугодными, а воинам, павшим в этих боях, православная церковь обещала автоматическое отпущение всех грехов и попадание в рай.
Былые сражения русских с татарами (например, Куликовская битва) в ранних летописях, современных описываемым в них событиям, получали довольно спокойную оценку. О Куликовской битве, например, сказано лишь, что было «побоище» с татарами на Дону и что русские победили.
Зато в исторических сочинениях XV – XVI веков образ Куликовской битвы обрастает пафосными и патетическими оценками. События 1380 года начинают трактоваться как чудо, в котором Бог даровал русским победу над врагами с помощью Воинства ангелов, с облаков обрушившихся на татар и посекших их саблями. Куликовская битва приобретает символическое значение и нередко сравнивается летописцами с Армагеддоном: в этой новой трактовке Россия, разбив на Куликовом поле мусульман, спасла мир так, будто это была последняя битва добра со злом накануне конца света.
Интенсивное развитие данной идеологии начинается в конце XV века, и одним из ее создателей можно назвать ростовского епископа Вассиана Рыло. В письме к великому князю Ивану III в 1480 году он сравнивал Россию с Новым Израилем – новым Богоизбранным народом, а татарского хана – с библейским Фараоном. Русские должны избавиться от татарского пленения, как некогда евреи избавились от порабощения Фараоном в Египте. Тогда подвиги русских правителей сравнятся с подвигами царей библейского Израиля, и «Русь – Новый Израиль» возвысится над другими народами, станет проводником всего человечества в Царствие Небесное.
При Иване Грозном идеологами борьбы с татарами как «Священной войны» выступали высшие иерархи православной церкви: митрополит Макарий, новгородские архиепископы Феодосий, Пимен и др. В своих напутственных посланиях к царю и к воинам, которые обычно посылались накануне очередного похода против татар, воинам обещалось попадание в рай, а царь напутствовался на свершение высших подвигов во имя прославления православия и посрамления мусульман. Именно «агаряне» были объявлены причиной бедствий христианской церкви: из-за них происходили запустения храмов, пленения и убийства христиан. В речах православных идеологов царь, выступивший на борьбу с татарами, изображался христианским пастырем, который «душу свою полагает за овца».
Что послужило главным стимулом к активному наступлению на мусульманские государства при Иване Грозном? Идеология «Священной войны», которую пропагандировали православные иерархи? Но русские в то же время прекрасно уживались с мусульманами, служившими в составе российской армии (касимовские, темниковские и другие татары). Да и в принципе Россия никогда не вела религиозных войн, хотя и использовала религиозную риторику для оправдания этих войн.
Двигала ли русскими полками в походах на Казань, Астрахань, Крым месть за века татарского ига, за сотни тысяч погибших и угнанных в рабство соплеменников? Несомненно да. Все русские тексты XVI века взволнованно сообщают о радости от освобождения пленных, о возмездии, которое настигло татар. Правда, справедливости ради надо сказать, что «обиды», нанесенные Руси казанскими, крымскими и тем более астраханскими татарами, не шли ни в какое сравнение с золотоордынской эпохой.
Но на Казани и Астрахани русские отыгрались за все беды, которые принесли им империя Чингисхана и Золотая Орда. Русским государством в его «марше на Восток» двигал исторический инстинкт – острое чувство необходимости избавления от исторического комплекса порабощенной страны, который татары прививали русским с 1237 года. Вот поэтому русские и мстили наследникам ордынской исторической памяти. С точки зрения Москвы, это было возмездие и восстановление исторической справедливости. С точки зрения Казани, Астрахани, Крыма – агрессия. Подобных «трагедий взаимного непонимания», увы, было, есть и будет много в человеческой истории.
Историки часто пишут о стремлении России захватить плодородные земли Поволжья, устье Волги, выход к Каспийскому морю. Трудно сказать, насколько современники, особенно рядовые воины, осознавали этот «экономический детерминизм». Для них были понятны религиозные мотивы, фактор мести, они могли интуитивно чувствовать себя миссионерами, спасающими христианство от мусульман и возвышающими Русь своими воинскими подвигами. Доходы от войны подсчитывали богатые и знатные, остававшиеся в Москве и отнюдь не спешившие рисковать своей жизнью, – ситуация, увы, известная и типичная для многих войн, которые вело человечество. Рядовые же воины самоотверженно шли на Казань, Астрахань, Крым умирать за веру, царя и свободу своих соплеменников, освобождаемых из татарского плена.
В таком идеологическом контексте и разворачивалась восточная политика Ивана Грозного[62]. «Казанская война» шла безуспешно уже пять лет. Неудачи казанских походов 1547 – 1548 и 1549 – 1550 годов продемонстрировали недостатки тактики российских войск. В осенне-зимнем марше к далекой Казани полки выматывались. Время боевых действий приходилось на начало весенней распутицы и разлива рек. Стало очевидным, что необходимо менять сами принципы проведения антиказанской кампании.
Весной 1550 года принимается решение об основании на реке Свияге осадной крепости, которая станет опорным пунктом дальнейшего наступления российских войск. Весной 1551 года дьяк Иван Выродков с детьми боярскими собрал в вотчине Ушатых в Угличском уезде деревянные стены будущего города Свияжска. В апреле их спустили по Волге в судах к устью реки Свияги, к Круглой горе в 20 верстах от Казани. 24 мая началась сборка крепостных стен. Город стал ближней к Казани русской военной базой.
Не дожидаясь окончания возведения Свияжска, отдельные русские отряды по Волге в судах стали нападать на разные места Казанского ханства. 18 мая отряд князя Петра Серебряного, растеряв в тумане, накрывшем Волгу, часть своих воинов, внезапно атаковал окраины Казани и даже сумел освободить часть содержавшихся в городе русских пленных.
Победа Серебряного и мгновенно, как будто в сказке, возникший у стен Казани русский город произвели на местное население огромное впечатление. Начались переговоры о переходе на сторону Ивана Грозного представителей черемисов, чувашей, мордвы, татар Горной стороны. Они обещали быть покорными русскому царю и отныне считать своей столицей не Казань, а Свияжск. Иван Грозный дал им свою грамоту с золотой печатью и на три года освободил от налогов.
В июне 1551 года по приказу Грозного отряды чувашей, черемисов и мордвы переправились через Волгу и атаковали Казань. Царь рассчитывал побить татар при помощи своих новых подданных. Битва состоялась у стен Казани на Арском поле. Казанцы применили артиллерию и рассеяли огнем чувашей и черемисов. Таким образом, легко захватить город не удалось.
Однако это не могло остановить Ивана Грозного. Все лето он занимался тем, что принимал изъявления покорности от отрядов татарских перебежчиков, переходивших к нему на службу. Царь кормил их со своего стола, одаривал богатыми подарками. Русский летописец даже отмечал, что никогда и никому еще не платилось такого богатого жалованья. Отряды русских дворян, стрельцов и казаков прочно перекрыли все водные пути по Волге, Каме и Вятке – Казань оказалась в полной блокаде.
В городе начались вооруженные столкновения. Местные татары («арские люди») были готовы сдать Казань, но находившиеся в городе крымские татары (представлявшие собой к тому же наиболее боеспособную силу) этому противились. Казанские и крымские татары стали резать друг друга прямо во дворе хана. В итоге победили сторонники сдачи города: крымские татары, опасаясь, что их просто арестуют и выдадут свои же соплеменники, решили бежать. Из города, бросив свои семьи, жен и детей, вырвался отряд в 300 человек – князья и военачальники. Однако он нарвался на русские военные заслоны, отбиваясь от них, пошел вдоль рек Камы и Вятки и был в конце концов разбит вятчанами под командованием Бахтеяра Зузина и государевыми казаками Федьки Павлова и Северги. В плен попало 46 человек, которых Иван Грозный велел казнить за их «жестокосердие».
Казанские татары прислали делегацию к Ивану Грозному с просьбой сместить хана Утемиш-Гирея и его мать, царицу Суун-бике, и дать им нового правителя – хана Шигалея. Он был бы марионеткой Москвы, но, по крайней мере, сохранялась бы видимость независимости – на казанском престоле был бы татарин, пусть и посаженный туда Иваном Грозным.
Россия на предложение не согласилась и поставила условия: отпуск всех русских пленных, которые томятся в татарском плену, арест остававшихся в городе крымских татар с семьями, выдача Суун-бике и Утемиш-Гирея самими казанцами. Территория ханства разделялась: часть земель (так называемая Горная сторона) отходила к Свияжску. Делегация во главе с мурзой Енбарсом согласилась на все условия.
6 августа 1551 года царский дипломат Алексей Адашев сообщил Шигалею, ехавшему в свите царя, что он теперь новый казанский хан. 11 августа из Казани привезли низложенных Утемиш-Гирея и Суун-бике и несколько арестованных семей крымских татар. Их отослали в Москву. 14 августа Шигалей вступил в Казань и принял власть. После трудных переговоров (татары не хотели отдавать Горную сторону) новый хан и вся казанская знать присягнули на верность Ивану IV. 16 августа 1551 года князь Юрий Голицын, Иван Хабаров и дьяк Иван Выродков провели церемонию возведения Шигалея на казанский престол. Началось массовое освобождение русских пленных; по данным летописи, их набралось 60 тысяч человек. Летописец сравнил их освобождение с исходом евреев из Египта под началом Моисея.
Но уже в сентябре на Шигалея стали поступать жалобы, причем как от русских воевод, так и от казанцев. Новоиспеченный хан оказался в безвыходной ситуации: он не мог не исполнять требований Ивана Грозного о возврате пленных и о передаче России Горной стороны. Однако он не мог и исполнять эти требования, потому что уход рабов из хозяйства вызывал резкое недовольство их татарских хозяев, а потеря Горной стороны страшно раздражала татарскую знать и била по ее самолюбию. Шигалей пытался быть «слугой двух господ», одновременно обещая Москве и Казани взаимоисключающие вещи.
Кончилось все это скверно. В октябре 1551 года в Москву прибыла татарская делегация, которая потребовала возврата если не самой Горной стороны, то всех налогов с нее в Казань. В ответ делегацию арестовали и оставили в Москве в заложниках, пока не будет освобожден последний русский пленный. Шигалей же в ответ заявил, что он не может добиться возврата всех пленных, – татары, привыкшие к тому, что на них работают русские рабы, попросту взбунтуются. Заговор не заставил себя ждать: казанские князья попытались заключить союз с ногаями, но Шигалей перехватил грамоты, позвал всех заговорщиков к себе на пир и в разгар пиршества приказал их вырезать. Русские стрельцы, кото рые охраняли дворец хана, добивали остальных гостей, которые оставались во дворе около дворца. Всего было убито более 70 человек. Примечательно, что уцелевшие заговорщики бежали частично к ногаям, а частично – к Ивану Грозному, с жалобами на Шигалея и с просьбами принять их на русскую службу...
В ноябре 1551 года в Казань для переговоров с Шигалеем прибыл посол Алексей Адашев. Шигалей заявил, что он не может добиться ни полного возврата пленных, ни снятия требования о возвращении Горной стороны. Поэтому он еще немного побудет ханом, постарается при этом казнить как можно больше татар – противников власти Ивана IV, а затем покинет город и бежит в Москву.
Истребление «врагов Москвы» Шигалей практиковал своеобразно – в январе 1552 года казанцы подали на него официальную жалобу, что он без вины убивает знатных татар, грабит их имущество и насилует жен и дочерей казненных. Делегация просила сместить ненавистного Шигалея, который, чувствуя непрочность своей власти, пустился во все тяжкие и безо всякой оглядки предавался жестоким и кровавым развлечениям. В феврале 1552 года царь послал в Казань Алексея Адашева с приказом: сместить Шигалея. Но встал вопрос: кто его заменит? Русский наместник? Или новый марионеточный хан? Но тогда кто им будет?
6 марта 1552 года Шигалей под видом выезда на рыбную ловлю бежал из Казани под охраной пятиста стрельцов русского гарнизона. Его сопровождали всего 84 представителя казанской знати. Жену Шигалей бросил в Казани на произвол судьбы. Иван Грозный приказал занять Казань князю Семену Микулинскому, назначенному казанским наместником. Однако все, что ему удалось, – добиться эвакуации несчастной брошенной жены Шигалея. Князь не смог войти в город – когда он приблизился к нему, татары закрыли ворота и стали вооружаться. Поводом к этому оказался искусно пущенный слух, будто бы Микулинский послан с карательной экспедицией и будет убивать казанцев, мстя за неподчинение Ивану Грозному. Микулинский, который вовсе не получал подобных распоряжений, некоторое время постоял под Казанью, пытаясь договориться с местной знатью. Но переговоры не удались. Князь повернул назад с печальным известием: Казань изменила, русской власти в городе нет, ни на какие переговоры татары идти не хотят.
В апреле 1552 года было принято решение о крупном военном походе на Казань с целью окончательной ликвидации Казанского ханства. К тому же из Поволжья поступали тревожные вести: повсюду начались нападения на русские отряды и их союзников. В Казань прибыл ногайский царевич Едигер, провозглашенный новым ханом. Стало ясно, что без радикального силового решения казанской проблемы не обойтись. 16 июня 1552 года Иван Грозный во главе армии выступил из Москвы в последний в истории поход на Казань.
При росписи в мае 1552 года воевод по полкам в готовящийся большой казанский поход Курбский вновь оказался вторым воеводой полка правой руки в подчинении П. М. Щенятева. В «Истории...» князь описывает трудный путь с тридцатитысячным войском через Рязанскую, Мещерскую земли, Мордовские леса, исходом «на великое дикое поле». Царь дал отдохнуть победителю татар под Тулой всего восемь дней, несмотря на тяжелое ранение князя в голову, о котором упоминал Курбский. Полк шел с фланга основных сил русской армии, параллельно им, в пяти переходах, заслоняя главные полки от нападений ногаев. Поход длился пять недель, протекал «с гладом и нуждою многою». Продовольствие закончилось за девять дней до конца пути. Однако Божье покровительство проявилось вновь: «Господь Бог подал нам пропитание – кому рыбами, кому иными зверями, ибо в пустых тех полях зело много в реках рыб»[63].
Положение улучшилось только после того, как полк достиг реки Суры и вступил в черемисскую землю. Появилась возможность покупать провизию у местного населения:
«Хлеба сухого наелись со многим удовольствием и благодарением». Осуждая изнеженность польских и литовских шляхтичей, Курбский язвительно писал: «А мальвазии и любимых пирожных с марципаном там не воспоминай, черемисский же хлеб слаще драгоценных калачей был обретен».
В целом описание похода под Казань в автобиографии князя носило эпический характер: Курбский рисовал огромные пространства, населенные редкими дикими народами. По этим бескрайним просторам месяцами идет русское войско, исполняя волю своего государя. Идет, не встречая военного противника. Но врагом его выступает сама окружающая действительность: протяженность пути, о которой не подозревали и потому не запаслись должным количеством припасов; дикость местности, в которой можно добыть только сухой хлеб или диких рыб и дичь.
Описание Курбским штурма Казани в августе – октябре 1552 года является одним из самых ярких и эмоциональных в русской средневековой литературе. Оно довольно подробное, хотя сам князь и замечал: «А если бы писал по порядку, что там под градом делалось каждый день, того бы целая книга была». Ценность рассказа князя в том, что это – чуть ли не единственное русское описание штурма города в XVI веке его участником. Правда, фактическая достоверность этого текста значительно слабее, чем его художественная выразительность. Рассказ Курбского носил ярко выраженный назидательный характер. Это поучение ветерана, выжившего в тяжелых боях и покрывшего себя славой, обращенное к изнеженному воину Речи Посполитой – потенциальному читателю произведения, написанного Курбским уже в эмиграции. Один раз князь даже прямо обращается к нему: «Слушай прилежней, изнеженный („раздрочены“) воин!»
Как же происходили осада и штурм Казани в 1552 году и какова в них роль Курбского? 13 августа царь Иван IV с главными силами прибыл в Свияжск. 23 августа войска начали строить под Казанью осадные укрепления – деревянные туры и земляные валы, подпирая их тыном. Затем на укреплениях были установлены осадные орудия. Тогда же под городом состоялись первые бои: у татар не выдержали нервы, и они совершили первую вылазку. Их конница у Кабан-озера атаковала стрелецкий пехотный полк. Однако татарские луки однозначно проиграли дуэль русским пищалям. Конники были опрокинуты ружейным огнем, а затем добиты отрядами дворянской конницы князя Юрия Шемякина и Федора Троекурова: татар преследовали и секли до самых городских ворот.
25 августа русские полки были выдвинуты к стенам Казани и стали готовиться к штурму. Курбский и Щенятев командовали полком правой руки. Он располагался за рекой Казанкой, напротив Елабугиных ворот, и первоначально не принимал участия в активных боевых действиях. 26 августа Иван Грозный наметил направление главного удара с противоположного конца города, напротив Ханских (Царевых), Арских, Аталыковых и Тюменских ворот. Здесь было велено делать не просто осадные укрепления, а целую «большую крепость». Понимая, чем это грозит, татары опять устроили вылазку и отчаянно сопротивлялись. Летописец так описывал этот бой у ворот:
«...И христиане, и татары крепко бились долгое время, и русские беспрерывно стреляли из пушек по городу и по воротам, и стрельцы из пищалей, также из города из пушек и пищалей стреляли, и была сеча великая и преужасная, от пушечного бою и от пищального грому и от гласов, воплей и криков от обоих людей и от треска сталкивающихся мечей и копий, и на малом расстоянии не было слышно никакого слова, потому что был великий гром и вспышки огня от пушечного и пищального стреляния и дыма»[64].
Татарам не удалось оттеснить русских с занимаемых позиций. А 27 августа Петр и Михаил Морозовы начали размещение на этих позициях тяжелой осадной артиллерии. По городу был открыт беспрерывный огонь из двух типов орудий – стенобитных (огонь на разрушение) и «верхних пушек огненных», то есть орудий с навесной траекторией стрельбы, которые закидывали за стены разрывные и зажигательные снаряды. Князь Курбский так описывал артиллерийскую дуэль между осаждавшими и осажденными:
«Когда хорошо и прочно устроили шанцы и стрелки со своими стратегами окопались в земле, считая, что находятся в безопасности от городского обстрела и вылазок, тогда подвезли поближе к городу и крепости большие и средние пушки и мортиры, из которых стреляют вверх. Насколько я помню, всего вокруг крепости и города поставлено было в шанцах полтораста пушек больших и средних, причем и самые малые были по полтора сажени в длину. Кроме того, там было много и полевых орудий около царских шатров. Когда начали мы бить со всех сторон по крепостным стенам, тотчас сбили тяжелый бой в крепости, то есть воспрепятствовали им вести огонь из тяжелых орудий по христианскому войску, не смогли только подавить мушкетный и ружейный огонь, который в христианском войске вызывал большие потери в людях и лошадях»[65].
28 августа ситуация изменилась: татары попытались устроить русским войскам своеобразный «слоеный пирог»: внутри Казань, из которой постоянно происходят вылазки, затем кольцо русских полков и снаружи – татары, остававшиеся за городом, скопившие силы и периодически атаковавшие тылы армии Ивана Грозного. С казанских стен осажденные подавали сигналы, размахивая огромным знаменем. По этому знаку татарские отряды выходили из лесов и шли в атаку. Одновременно из города делались вылазки.
Такая тактика могла быть вполне успешной, и надо было не допустить развития наступления противника до критической степени. Татары уже добились определенного успеха, изматывая русские войска непрерывными нападениями с разных сторон. Курбский описывает, как воины по целым дням не могли поесть, постоянно отбиваясь от врагов, как не спали ночами, охраняя пушки, чтобы лазутчики под покровом ночи их не испортили и не взорвали. Артиллеристы под стенами Казани с первых дней осады проявили высокое воинское искусство. Они метко били по крепости и в то же время были готовы в любую секунду развернуть орудия на 180° и стрелять по накатывающимся от леса рядам татар, бегущих в атаку со своим знаменитым криком «Алла!».
Дальше так продолжаться не могло, и 29 августа армия была разделена: полки под командованием Петра Щенятева, Андрея Курбского, Юрия Пронского и Федора Троекурова установили осадные укрепления за рекой Казанкой напротив Казани и открыли непрекращающийся огонь по городу. Он велся из орудий, пищалей и луков. Татары отвечали тем же. Другие же русские войска прикрывали Арское поле, с которого прошлый раз пришли мусульманские отряды на поддержку осажденной Казани. Татары вышли из леса, построились, но напасть на этот раз не решились: так войска и простояли весь день друг против друга. По приказу Ивана Грозного вдоль стен крепости на Арском поле также были сооружены туры – осадные укрепления. Тем самым к 30 августа круг осады оказался полностью замкнут.
Царь не спешил приступать к штурму, пока в тылу в лесах сидели вражеские отряды. 30 августа против них были посланы войска под началом Александра Горбатого и Петра Серебряного и отряды союзной русским войскам мордвы. Курбский рассказывал, что часть татар была истреблена в результате притворного отступления – русские, казалось бы, бросили на произвол судьбы обоз, татары его окружили, обозники приняли неравный бой, враги засыпали их стрелами, начали грабить добро с телег – и в ходе этого увлекательного процесса не заметили, что русская конница отрезала их от леса и потихоньку сжимает кольцо окружения. Курбский свидетельствует, что трупы убитых в этом бою татар валялись на протяжении полутора миль и около тысячи человек попало в плен.
В бою на реке Килири татары были разбиты, после чего по лесам пошли стрелецкая пехота и казаки. Они прочесывали местность, добивали мелкие отряды, делали то, что в XX веке назовут зачисткой. 340 татар были взяты в плен. Иван Грозный велел их привести под стены Казани и обещал отпустить всех в город, если крепость сдастся. Хан Едигер отказался, и по приказу Ивана Грозного все пленные были демонстративно замучены на глазах осажденных. Правда, князь Курбский свидетельствовал, что татары сами со стен расстреляли своих соплеменников:
«Когда же привели пленников к нашему царю, распорядился он вывести их и привязать к кольям перед шанцами, чтобы просили и убеждали своих, пребывающих в крепости, сдать город Казань нашему царю. И наши убеждали их, объезжая и обещая от нашего царя жизнь и свободу как самим пленникам, так и находящимся в крепости. А те, выслушав и не прерывая эти речи, тут же стали стрелять с крепостных стен не столько по нашим, сколько по своим, и говорили: „Лучше, дескать, видеть вашу гибель от нашей басурманской руки, чем быть вам загубленными необрезанными гяурами!“ В великой ярости изрыгали они и другие ругательства, так что, видя это, мы все удивлялись»[66].
Русский царь не хотел испытывать воинское счастье в штурме городских стен, а предпочитал действовать наверняка. Татарские пленные выдали подземный ход к тайнику с питьевой водой. Алексею Адашеву и немецкому инженеру – его имя история не сохранила, в русских летописях его зовут Размысл, то есть «очень умный» – было поручено подвести под подземный ход подкоп и взорвать его. 4 сентября князь Василий Серебряный с величайшими предосторожностями спустил в тайник 11 бочек с порохом, и на рассвете мина была взорвана. Размысл слегка перестарался и заложил слишком мощную бомбу: от взрыва разметало не только подземный ход, но обрушилась часть городской стены, на город посыпался град пылающих деревянных обломков, от которых вспыхнули пожары.
Иван Грозный приказал стрелять по столице день и ночь – как говорилось в приказе, «да не уснут враги». Огонь велся каменными ядрами – на разрушение, от него рухнули Арские ворота, оголяя рубеж обороны. По жилым кварталам стреляли зажигательными снарядами, и над Казанью все выше поднималось пламя пожаров, которые не успевали тушить. Татары, лишившись воды, были охвачены смертным ужасом. Они пытались копать колодцы в городе, но удалось добыть только «гнилую» воду, от которой начались болезни. В качестве последнего средства обороны татары пытались заколдовать русскую армию. Курбский описывает, как татарские колдуны пытались навести порчу на русское войско:
«Коротко стоит вспомнить лишь о том, как они наводили на христианское войско чары и посылали великий потоп, а именно: вскоре после начала осады крепости, как станет всходить солнце, на наших глазах выходят на стены то пожилые мужчины, то старухи, и начинают выкрикивать сатанинские слова, непристойно кружась и размахивая своими одеждами в сторону нашего войска. Тотчас тогда поднимается ветер и собираются облака, хотя бы и вполне ясно начинался день, и начинается такой дождь, что сухие места наполняются сыростью и обращаются в болота»[67].
Курбский рассказывал, что бороться с этим колдовским безобразием удалось только путем срочной доставки из Москвы креста из царского облачения с вделанной в него частицей Креста Господнего. После крестного хода вокруг Казани эффективность насылаемых чар сошла на нет.
6 сентября русская армия под командованием Александра Горбатого и Захарии Яковли вместе с касимовскими татарами и мордвой, которые сражались на русской стороне, атаковала временные укрепления – деревянную крепость татар, которую они возвели в тылу войск Ивана Грозного на Арской стороне. Крепость стояла между болот, и все подходы были завалены деревьями (засеками), что делало невозможным ее «правильную» осаду с возведением осадных укреплений. Поэтому ее атаковали безо всяких хитростей, внаглую, «в лоб», в пешем строю, причем командующие войсками лично шли в первых рядах атакующих.
Острог после кровопролитнейшего боя был взят. После этого полки двинулись к Арскому городищу, сожгли его и пошли дальше. Всего была «зачищена» местность вокруг Казани на 150 верст. В селах освободили множество русских пленных и взяли в плен бесчисленное количество татар.
Теперь, когда можно было не опасаться удара в тыл, Иван Грозный приказал готовиться к решающему штурму города. Дьяк Иван Выродков построил напротив главных Царских (Ханских) ворот Казани осадную башню и с нее начал пушечный и ружейный обстрел города и укреплений поверх городских стен. Русские войска стали медленно, но верно подвигать туры под самые стены крепости, к самому рву.
30 сентября Иван Грозный велел подорвать передовые земляные укрепления татар – тарасы. Было произведено несколько удачных подрывов, в разных местах разрушена стена, погибло много татар. Начался штурм – русские войска в районе четырех городских ворот – Царевых, Арских, Аталыковых и Тюменских – взошли на стены и вступили в ожесточенный рукопашный бой с защитниками Казани. «И была сеча зла и ужасна», – писал русский летописец. Татары лили со стен кипяток, смолу и сбрасывали огромные бревна. Огонь из пушек, луков и пищалей со стен был довольно плотным. Однако осаждавшие оказались искуснее. Они сосредоточили огонь на амбразурах, и через полчаса, как писал Курбский, интенсивность огня обороняющихся резко упала: лучшие стрелки были убиты. К тому же для отражения штурма татары были вынуждены выходить из укрытий на стенах и в башнях на открытые площадки, выглядывать из бойниц – и вот тут-то их и подстерегала гибель. Русская осадная артиллерия выцеливала группы вражеских воинов на стенах и башнях и расстреливала их.
По словам Курбского, первым на стену Казани взошел его родной брат Иван, и это оказалось переломным моментом сражения. Брат трижды, рубясь, проехал через татарский полк, и Курбский опять-таки сравнивает его с царем, правда, казанским: будто бы свидетели этой схватки «думали, что царь казанский между ними ездит». В отдельных местах, как рапортовал воевода Михаил Воротынский, русские ворвались на городские улицы. Но, не будучи уверенным в окончательном успехе штурма, Иван Грозный приказал остановить наступление и отозвать войска. Перед уходом они подожгли городскую стену. Отдельный отряд закрепился в Арских воротах, сделав их плацдармом будущего наступления.
2 октября немецкий инженер на восходе при первых лучах солнца взорвал новый подкоп, обвалилась большая часть крепостной стены. Со всех сторон войска пошли приступом на город. Русские довольно быстро выбили татар из укреплений, и в городе начались тяжелые уличные бои – когда воины из-за тесноты не могли поднять сабли и резались ножами. Был эпизод, когда отряды противников сцепились копьями и так стояли несколько часов, не в силах одолеть друг друга, но не желая и уступать.
Татары пытались применить тактику, которая им нередко помогала раньше. Типичным приемом в полевых сражениях для них было притворно отступить, бросив на разграбление собственный обоз, а когда противник увлечется грабежом, внезапно напасть и разгромить «расслабившихся» воинов. Во время последнего штурма Казани татары отступали непритворно, а под натиском русских войск. Но они рассчитывали, что, когда войска войдут в город и начнут грабить его, хан сможет нанести контрудар.
Частично этот план был реализован. Татары, бросив стену, отошли к последней линии обороны – ханскому дворцу, который был обнесен высоким забором. К нему вели узкие проходы между каменных зданий и мечетей, которые было легко оборонять. Между тем наступательный порыв иссяк. Курбский свидетельствовал, что на подходе к дворцу войско редело на глазах. Зато на улицы Казани хлынула толпа обозников, кашеваров, трусов и дезертиров, которые во время сражения притворились мертвыми и спрятались под трупами. Теперь же вся эта людская масса, разгоряченная запахом крови и чувством безнаказанности, жаждала грабить местных жителей и поступать с ними так, как во все времена поступали победители с побежденными... Некоторые особо шустрые мародеры, по словам Курбского, успевали по дватри раза забежать в крепость, набрать добычи и сбегать в русский стан, где ее быстренько спрятать.
Таким образом, войско разделилось на две части: воины государевых полков почти четыре часа бились с татарами на городских улицах, потихоньку прижимая их к последнему рубежу обороны – дворцу, а обозники и слуги тем временем с упоением занимались грабежом.
Татары стали теснить уставшие полки. Отход русских войск вызвал жуткую панику у не успевших удрать мародеров. Они в суматохе не могли найти выход из города, бегали вдоль стен, взбирались на них и кидались вниз с криками: «Секут! Секут!» В этот момент в город вошли свежие силы. Наступил перелом в сражении. Татары были постепенно оттеснены к ханскому двору. Тут они, наконец, дрогнули, поняли, что все потеряно, и попытались собрать последние силы в кулак, внезапным ударом опрокинуть русских и вырваться из города. Для того чтобы отвлечь противника, хан пожертвовал своим гаремом, а его соратники – своими женами. Курбский писал об этом эпизоде: «Видя, однако, что им не спастись, свели они в одну сторону своих жен и детей в красивых и нарядных одеждах, около десяти тысяч, и поставили их в одном краю большого царского двора... надеясь, что польстится христианское войско на их красоту и оставит им жизнь. Сами же татары со своим царем собрались в другом углу и задумали не даться живыми в руки, только бы царя сохранить живым»[68].
Хан решил прорываться в направлении Елабугиных ворот. Ему это удалось: бегущие татары просто смяли полк Андрея Курбского и Петра Щенятева, который пытался остановить прорыв, и бросились спасаться бегством в ближайший лес. Курбский, по его собственному свидетельству, со 150 воинами сдерживал бегство 10 тысяч татар. Гипертрофирование этих цифр очевидно, но князю, видимо, действительно пришлось нелегко. Под воеводой убили коня. «Я же видел себя лежащего обнаженным, – писал он сам о себе, – израненного многими ранами, но живого, потому что на мне была праотеческая броня, зело крепка». Курбский получил много ран, был вынесен с поля боя без памяти двумя верными слугами и двумя царскими воинами. В своем спасении он видел Божий знак: «Паче же благодать Христа моего так благоволила, иже ангелом своим заповедал сохранить меня, недостойного, во всех путях».
Благодаря стойкости и самоотверженности воинов под командованием Курбского у казанцев не получилось прорваться к спасительному лесу, сохраняя боевой порядок. Татары сломали строй и перешли в беспорядочное бегство. Их догоняли и добивали. Спастись удалось немногим. Хану Едигеру повезло: он не попал в число беглецов. Видя, что прорыв невозможен, его ближайшие спутники арестовали Едигера, заняли оборону на ближайшем холме, потребовали переговоров и сами выдали своего правителя русским.
Так 2 октября 1552 года пала Казань. Едигера отвезли в Москву и крестили под именем Симеона. По специально расчищенной от трупов улице в город въехал Иван Грозный, за ним ехал бывший хан Шигалей. Православное духовенство освятило город, и 4 октября царь Иван лично принял участие в строительстве первого православного храма на пепелище Казани.
Войско ханства было уничтожено. Иван Грозный приказал убить всех пленных защитников города мужского пола как «изменников», которые когда-то признали своим правителем московского Шигалея, а потом «предали». Погиб почти весь командный состав и много татарской знати. Эти потери были невосполнимы. Современники описывают, что буквально весь город и его окрестности были покрыты трупами, а на некоторых улицах человеческая кровь текла таким потоком, что в ней скрывались копыта лошадей. Летописец с гордостью писал, что раньше у каждого татарина был русский пленный, а теперь же каждый воин армии Ивана Грозного обзавелся собственными татарскими пленными, которых уводил с собой на Русь. Князь Курбский с восторгом подсчитывающего трофеи колонизатора описывал богатства захваченного края:
«...В земле той большие поля, чрезвычайно изобильные и щедрые на всякий плод, там прекрасны также и поистине достойны удивления дворы их князей и вельмож. Села часты, а хлеба всякого такое там множество, что поистине невозможно рассказать и поверить – сравнить, пожалуй, со множеством небесных звезд! Бесчисленны также множества стад разного скота и ценной добычи, прежде всего живущих в той земле разных зверей: ведь обитают там ценная куница и белка и другие звери, годные на одежду и в еду. А чуть подальше – множество соболей и медов, не знаю, где бы было больше под солнцем...»[69]
Преодоление векового комплекса собственной неполноценности, порожденного татарским игом, свершилось. Россия поставила на колени первое татарское государство, хотя подавление повстанческих выступлений в отдаленных землях бывшего ханства длилось еще много лет.
Курбский и смерть царского сына
Верная служба предполагала заслуженную награду. Это – обязательное условие существования правильного миропорядка для московского воинника. Победитель должен смиренно благодарить за дарованную победу в первую очередь Бога и во вторую – исполнителей этой Господней воли, воевод и простых ратников. И первая претензия Курбского к царю, помещенная в «Истории...», – как раз в черной неблагодарности:
«А на третий день после славной этой победы вместо благодарности воеводам и всему своему воинству изрыгнул наш царь неблагодарность – разгневался на всех до одного и такое слово произнес: „Теперь, дескать, защитил меня Бог от вас!“ Словно сказал: „Не мог я мучить вас, пока Казань стояла сама по себе, ведь очень нужны вы мне были, а теперь уж свобода мне проявить на вас свою злобу и жестокость“. О сатанинское слово, являющее роду человеческому! О, переполнение меры кровопийства Отцов!»[70]
Подобное поведение в глазах Курбского – прежде всего вопиющее нарушение христианской морали. Именно здесь были посеяны первые зерна его грядущего конфликта с царем.
Необходимо подчеркнуть, что в данном пассаже «Истории...» князь лукавит: его доблесть во время «Казанского взятия» на самом деле была высоко оценена государем. Воевода оказался в ближнем окружении царя. По словам самого князя, в мае – июне 1553 года он сопровождал Ивана IV в его свите во время Кирилловского «езда» (богомольной поездки Грозного с царицей Анастасией и новорожденным царевичем Дмитрием по святым обителям).
Что из себя представляли государевы поездки на богомолье? Иван IV с раннего детства принимал участие в важных религиозных церемониях. Уже 11 февраля 1535 года полуторагодовалый великий князь присутствовал при переносе мощей чудотворца митрополита Алексия. «А сам князь великий и его мать великая княгиня с боярами тут же стояли, и молились, и с великими слезами молили святого», – писал летописец.
А 20 июня 1536 года Иван Васильевич, которому через два месяца должно было исполнится три года, отправился в свой первый «езд» по монастырям. В государевой свите были бояре, конюший и фаворит (возможно – даже любовник) его матери Елены Глинской князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, дворецкий Иван Иванович Кубенский. То есть в подмосковный Троице-Сергиев монастырь отправилось на богомолье вместе с «правящим» младенцем фактически все высшее руководство страны! В дальнейшем «езды» стали регулярными[71].
Понятно, что в таких поездках завязывались наиболее тесные связи между представителями российской политической элиты, решались в разговорах «в тесном кругу» важнейшие вопросы, обретались новые знакомства. Для Курбского было очень важно попасть в этот «ближний круг» богомольных спутников царя. Приглашение его в царскую свиту могло быть знаком отличия его воинской доблести после взятия Казани.
К сожалению, мы не располагаем никакой информацией о составе свиты царя во время Кирилловского «езда». Нам довольно подробно известен только маршрут. Царь выехал с семьей – еще не оправившейся после родов Анастасией и Дмитрием, которому было не более семи месяцев (известие о его рождении царь получил в октябре 1552 года во Владимире во время возвращения из казанского похода). Богомольцы тронулись из Москвы в мае 1553 года. Государя также сопровождал его слабоумный брат Юрий Васильевич. Традиционно первой целью была Троице-Сергиева обитель, далее царский «поезд» прибыл в Дмитров, где проехал через местные монастыри, потом – Николо-Песношский монастырь. По рекам Яхроме и Дубне, заезжая по пути в новые обители, царь на кораблях вышел в Волгу, посетил Макарьев Калязинский монастырь, потом Углич (этот город, как выясняется, всегда играл роковую роль в судьбах русских царевичей по имени Дмитрий) и по реке Шексне поднялся к Кирилло-Белозерскому монастырю. На этом этапе кончились силы у царицы Анастасии: дальше ехать недавняя роженица не смогла. Ее оставили отлеживаться в Кириллове, а неугомонный царь помчался в Ферапонтов монастырь.
Отдых царицы оказался недолгим: по возвращении из Ферапонтова царская свита вновь погрузилась на корабли и поплыла обратно по Шексне в Волгу. На одной из стоянок и произошла трагедия. Согласно легенде, неуклюжая нянька, перенося младенца во время стоянки на берег, поскользнулась на сходнях и выронила спеленутого ребенка в воду. Спасти его не удалось... Так что дальнейшее посещение обителей – в Романове, Ярославле, Ростове, Переяславле и вновь Троице-Сергиевой лавры – проходило под знаком печали и скорби. Трупик маленького царевича был привезен в Москву и в Архангельском соборе, усыпальнице Калитовичей, одной могилой стало больше. Дмитрия Ивановича положили в ногах его деда, великого князя Василия III[72].
Такую историю Кирилловского «езда» мы знаем из летописи. Что нового о нем рассказывает князь Курбский? И можем ли мы доверять его рассказу?
Прежде всего князь неточен в главной детали «езда». Согласно официальной летописи, Дмитрий погиб на обратном пути из Кириллова в направлении Москвы. По Курбскому, царевич погиб в водах Шексны на пути к Кирилло-Белозерскому монастырю: «...и не доезжая монастыря Кириллова, еще Шексною рекою плыли, сын его по пророчеству святого умер... и оттуда приехал до оного Кириллова монастыря в печали многой и в тоске и возвратился тощими руками во многой скорби до Москвы» (курсив мой. – А. Ф). Довольно странная неточность, если Курбский действительно был в свите царя в июне 1553 года.
Однако это несоответствие можно объяснить, если учесть, что весь рассказ Курбского о Кирилловском «езде» служит не более чем иллюстрацией к морально-этическому поучению. Князя на самом деле судьба несчастного царевича нисколько не волнует. Его гибель – не более чем назидание упрямому царю.
Курбский рассказывает, что в начале богомольной поездки Иван Грозный посетил в Троице-Сергиевом монастыре старца Максима Грека, осужденного на вечное заточение в монастыре. Князь рассказывает об ужасах заточения Максима и подчеркивает, что он был осужден несправедливо, «от зависти Даниила митрополита». Курбский здесь несколько лукавит. Обвинение по делу Максима Грека – а он был под церковным судом дважды, в 1525 и 1531 годах, – было, в самом деле, сфабрикованным. Однако причины этого лежали гораздо глубже, чем банальная зависть митрополита Даниила к простому иноку, тем более иностранцу.
В 1525 году Максиму предъявили «джентльменский набор» сфальсифицированных политических процессов более поздних эпох, а именно – предосудительные связи с иностранцами, чуть ли не шпионаж в пользу Турции и идеологическую неустойчивость, проще говоря, ересь.
«Пришить» последнее обвинение было проще простого: Максим Грек (настоящее имя Михаил Триволис) был вызван в Москву из афонского Ватопедского монастыря для проверки качества переводов Священного Писания с греческого на русский. Максим воспринял поручение всерьез, проверил тексты и заявил, что переводы, имевшие хождение в московской церкви XVI века, весьма далеки от оригинала и нуждаются в исправлении. После чего в глазах церковных властей он незамедлительно стал еретиком, и его, естественно, обвинили в порче церковных книг (то есть в том, в чем он сам обличал церковь!).
Столь откровенно «политический» характер обвинения вызвал у современников сомнения в том, каковы же были истинные причины ареста и осуждения Максима Грека. Среди разных версий была и такая, что в 1525 году греческий монах, сторонник древнего благочестия, резко и открыто выступил против развода и второго брака московского государя Василия III, считая поведение великого князя несовместимым с христианской моралью. После чего ученый монах тут же превратился в еретика и чуть ли не в иностранного шпиона...
Однако Максим, столкнувшись с московским правосудием, похоже, ничему не научился. Курбский рассказывает, что царь, прибыв в Троицу и выслушав историю злоключений Максима, приказал освободить его из заточения. Обрадованный монах решил, что наконец-то настал момент, когда к его советам все-таки прислушаются, и тут же с охотой принялся поучать и наставлять молодого царя. Если описанная Курбским сцена действительно имела место, то поведение Максима Грека было, мягко говоря, неразумным.
С одной стороны – царь, вдохновленный великой победой над Казанью и вставший на стезю исполнения данного под стенами поверженной татарской столицы богомольного обета. Он хочет славить Бога и творить добро, он выпускает из заточения жертву произвола своего отца – Максима посадили при Василии III. И с другой стороны – амнистированный старый монах, который вместо благодарности начинает поносить самые светлые идеалы, расцветавшие в то время в душе царя. Максим с ходу заявил, что Иван дал глупый обет: «такие обеты не согласны с рассудком». Вместо дурацких богомольных поездок (как странно это было слышать из уст инока!) лучше бы царь собрал всех вдов и сирот воинов, павших под Казанью, «лучше бы их наградил и устроил, собрав в свой царственный город и утешив в скорбях и бедах, чем исполнять неразумные обеты».
Иван Грозный и сопровождавшие его монахи и священники восприняли подобное поучение с немалым раздражением. Получалось, что их вдохновенное благодарение Богу было названо «глупостью». Да и вчерашнему узнику вряд ли было «по чину» указывать царю, что ему делать. Государь проявил чудеса самообладания и, вместо того чтобы поставить Максима на место, пустился в объяснения, почему необходимо ехать в Кириллов монастырь. Тогда Максим разозлился, вообразил себя пророком и начал угрожать. Он заявил, что если царь не послушает старца и продолжит поездку, – его сын умрет. Курбский с гордостью пишет, что это «святое пророчество» Максим передал царю через четырех посредников – царского духовника Андрея, князей Ивана Мстиславского и Андрея Курбского и постельничего Алексея Адашева. Царь же пренебрег угрозой и уехал далее по паломническому маршруту. Поэтому, с точки зрения Курбского, смерть невинного младенца была справедливым и закономерным наказанием Ивана Грозного за его упрямство и нежелание слушать советов святых мужей.
Зато, согласно рассказу князя, царь охотно слушал «злые советы» (пророчество о гибели царевича Дмитрия Курбский относит к разряду «благих и добрых» советов). В Песношском монастыре под Дмитровом царь встретился с бывшим коломенским епископом Вассианом Топорковым, оставившим свой пост еще в 1542 году и с тех пор доживавшим свой век в обители.
В «Истории...» Курбский поместил красочный рассказ о посещении Иваном IV Песношского монастыря во время Кирилловского «езда». Грозный якобы спросил старца: «Как бы я мог успешно править и великих и сильных своих вельмож в послушании иметь?» Топорков ответил: «Хочешь быть самодержцем – не держи около себя ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты сам лучше всех. Тогда будешь твердо держать власть и все будут в твоих руках. А если вокруг тебя будут более мудрые люди – то ты просто будешь вынужден их слушаться и подчиняться им».
По Курбскому, Грозный от таких рекомендаций пришел в полный восторг и заявил: «Если бы мой отец был жив, и он не смог бы дать мне такого полезного совета!» В «Истории...» Курбский, комментируя этот эпизод, заочно обращался к Топоркову: «О сын дьявола! Зачем ты всеял искру безбожную в сердце царя христианского, от этой искры по всей Святой Руси такой пожар лютости разгорелся, прелютейшая злоба распространилась, какой никогда в нашем народе не бывало!»[73]
Этой фразе вслед за Курбским поздние историки придавали большое значение. Считалось, что она произвела перелом в сознании царя. На ее основе делался вывод, что совет Топоркова послужил одной из причин изменения политического курса, разгона «правительства реформаторов» – «Избранной рады», перехода к опричному террору.
Оснований сомневаться в возможности встречи царя как с Максимом Греком, так и с Вассианом Топорковым вроде бы нет. В присутствии Курбского в свите царя, как уже говорилось, тоже. А вот в точности описания князем этих встреч усомниться можно. Совершенно очевидно, что весь рассказ Курбского подчинен идее обличения царя, противопоставления праведного совета неправедному, обоснованию, почему Иван Грозный выбрал в качестве духовного ориентира дьявола, а не Бога.
Примечательно, что Вассиан Топорков, видимо, никогда не произносил роковых слов – или же Курбский их сильно, скажем так, подредактировал. Об этом неопровержимо свидетельствует то обстоятельство, что Курбский в своих сочинениях цитирует речь Топоркова... по-разному. Если в Третьем послании царю Ивану Грозному, сочиненном в 1579 году, князь вкладывает в уста бывшего коломенского епископа высказывание: «не держи при себе мудрых советников» (и не более того!), то в «Истории...», написанной через несколько лет, от Вассиана якобы исходит уже целая концепция: «Хочешь быть самодержцем – не держи около себя ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты сам лучше всех». Эти советы – не одно и то же...
Историк Б. Н. Флоря обратил внимание, что сам Иван Грозный нигде не упоминал о своей встрече с Топорковым и никогда не использовал выражения, близкого по смыслу к высказыванию: «Не держи советника умнее себя»[74]. Эта идея либо была чужда, либо просто не заинтересовала Ивана Васильевича. Курбский просто придумал ее судьбоносное влияние на царя.
Мы специально настолько подробно остановились на разборе рассказа Курбского о Кирилловском «езде», чтобы для читателя стали понятней как особенности творчества князя, так и его, скажем так, моральный облик. Тем не менее до сих пор в учебниках и научно-популярных книгах можно прочесть обличительный рассказ об упрямом и глупом царе Иване, «злобесном» Вассиане Топоркове и мудрых и гуманных советниках Андрее Курбском и Максиме Греке.
Жизнь в боях и походах
Андрей Курбский вернулся на театр военных действий в новых чинах. В октябре 1553 года при выходе на Коломну по вестям о набеге ногаев: Исмаил-мурзы, Ахтара-мурзы и Юсупа – он выступал первым воеводой полка левой руки (второй – М. П. Головин). 6 декабря 1553 года первым воеводой сторожевого полка (под его началом были М. И. Вороной-Волынский и Д. М. Плещеев) Курбский отправился на усмирение казанских татар Арской и Луговой стороны, «места воевать, которые не подчинились государю». 8 сентября 1555 года он вновь был послан в Казань вместе с Ф. И. Троекуровым для борьбы с партизанским движением поволжских народов.
Участие князя в покорении народов бывшего ханства длилось несколько лет. Курбский винил в карательных акциях царя. При этом гибнущих от рук «усмирителей» татар и черемисов князю было нисколько не жаль. Ему было жаль себя – что он вместе с другими воеводами потратил столько времени и сил на резню этих «варваров». А виноват во всем был царь – с точки зрения боярина, мятеж татар произошел по воле Бога, который таким образом еще раз наказал русского монарха за самовольное правление и нежелание следовать советам умных людей. Курбский здесь был в чем-то прав: после покорения Казани некоторые воеводы советовали государю зазимовать с войском в Казанской земле, чтобы по горячим следам уничтожить все очаги сопротивления. Царь же осенью 1552 года увел армию на Русь, и поэтому потом понадобилось опять посылать полки для «зачистки» поволжских лесов.
История не знает сослагательного наклонения – Курбский в своих оценках несомненно прав, указывая на то, что взятие столицы ханства вовсе не означало автоматическое подчинение русским всей территории Поволжья, населенной татарами, чувашами, башкирами, вотяками и т. д. Но можно ли было добиться этого подчинения зимовкой войска в чужой, незнакомой земле, в самом эпицентре неизбежной партизанской войны, с риском подвергнуть армию голоду и болезням? Россия к середине XVI века не имела опыта обустройства столь многотысячного войска на зимних квартирах на оккупированной территории. Был опыт дальних многомесячных походов малыми силами, но не лагерных зимовок в условиях постоянных боевых действий. То, что предлагал Курбский, на первый взгляд выглядит правильно, но при ближайшем рассмотрении оказывается безответственной авантюрой.
Судя по всему, Курбский воевал в Казанской земле несколько лет, с осени – зимы 1553 года по 1556 год. Он был там не непрерывно, а выезжал на Русь по крайней мере однажды, в 1554 году, поскольку в 1555 году у него родился сын. Несмотря на всю досаду от участия в негероической и утомительной карательной акции, князь считал себя носителем высокой миссии: недобитые враги подняли мятеж. Срочно посланные на подавление бунтовщиков Курбский с товарищами были вынуждены исправлять ошибку царя. Как с гордостью писал князь, «и с тех пор стала покорной Казанская земля царю нашему». Таким образом, подлинным покорителем Казани, с точки зрения князя, является он сам и его соратники-воеводы. А вовсе не Иван Грозный...
После возвращения с окраины Российского государства в июне 1556 года Курбский в первый раз упомянут в источниках с боярским чином. Во время выхода к Серпухову он назван уже не воеводой, а состоящим в свите государя. В списке членов Боярской думы его имя находится на последнем, десятом, месте. Однако вхождение в состав Боярской думы мало сказалось на дальнейшей карьере Курбского. Он по-прежнему подвизался на военном поприще. Уже в осенней росписи 1556 года по полкам на южных рубежах он опять значится первым воеводой полка левой руки, стоявшего в Калуге (второй – М. П. Головин). Весной 1557 года при аналогичной росписи князь выступает в знакомой нам должности второго воеводы полка правой руки под командованием П. М. Щенятева. Войска стояли в Кашире.
Примечательно, что об этих событиях, равно как и о получении боярского чина, в «Истории...» нет ни слова. Неужели пожалование боярства для князя оказалось столь не важным, что он счел возможным умолчать о нем на страницах своего сочинения? Либо для князя из древнего рода ярославских князей московский боярский чин был не столь уж и значим, тем более что в силу постоянной занятости в военных походах Курбскому не довелось много позаседать в составе Думы. Или факт возвышения, облагодетельствования со стороны царя не укладывался в замысел «Истории...», посвященной обличению несправедливого и неблагодарного в отношении своих верных слуг государя? И поэтому воевода решил вовсе не упоминать своего назначения?
«Промышлять на инфлянтов!»
Взлет военной карьеры князя связан с началом Ливонской войны. Среди войн, которые вела Россия на протяжении своего существования, Ливонская – одна из самых незнаменитых. По формальным показателям она, казалось бы, должна быть в центре внимания общественной мысли. Во-первых, если не считать Кавказской кампании 1817 – 1864 годов, это самая долгая в истории Отечества война, которая длилась почти 25 лет, с 1558 по 1583 год. Во-вторых, это первое масштабное столкновение России с несколькими европейскими державами одновременно. В-третьих, это одна из главных страниц истории внешней политики Ивана Грозного – а все деяния этого царя всегда вызывали повышенный интерес потомков. В-четвертых, это кампания за передел Прибалтики, которая привела к серьезным изменениям баланса сил в регионе: гибели Ливонии, возвышению Польши, умалению роли России. В-пятых, это последняя европейская война с участием прибалтийских рыцарских орденов, знаменовавшая собой закат северных крестоносцев.
В середине XVI века сошлись несколько факторов, из-за которых передел балтийского мира стал неизбежен. Уходила в прошлое эпоха немецких рыцарских орденов, Тевтонского и Ливонского, которые господствовали в регионе с XIII по XV век. Они выродились и в военном, и в политическом, и в идейном отношении. Рыцарей больше занимали внутренние распри между магистрами и епископами, чем поддержание былой славы и влиятельности.
Сокрушительный удар по орденам нанесла проникшая на Балтику в 1520-е годы Реформация. Она окончательно отколола от рыцарей города, которые и раньше-то были не сильно послушными. А поскольку именно крупные торговые города составляли основу экономического процветания края, было очевидно, что без поддержки городов деградация орденов – лишь вопрос времени.
С конца XV века слабнут позиции на Балтике торгового союза германских городов – Ганзы. Она начинает постепенно уступать свое доминирование молодым и «голодным» странам – Дании, Швеции, России, Польше. Эти государства возникли на несколько веков раньше, но именно в конце XV – начале XVI века они приходят на Балтику в новом качестве.
Швеция обрела независимость в 1523 году после распада Кальмарской унии (объединение в 1397 – 1523 годах Норвегии и Швеции под эгидой Дании) и теперь хотела занять в Балтийском регионе подобающее ей место. Дания же, наоборот, искала компенсацию взамен утраченного влияния на Швецию. Взоры обеих стран обращались на Ливонию как добычу легкую, слабую и в то же время способную удовлетворить захватнические аппетиты.
Польша после победы над крестоносцами в Тринадцатилетней польско-тевтонской войне 1454 – 1466 годов не собиралась останавливаться на достигнутом. По результатам войны она получила Гданьское Поморье, Мариенбург и Эльблонг – так называемую Королевскую Пруссию, Хелминскую и Михаловскую земли и, кроме того, территорию Варминского епископства. Оставшаяся часть государства Тевтонского ордена, так называемая Орденская Пруссия, со столицей в Кенигсберге, признала зависимость от Польши. В 1525 году Тевтонский орден был секуляризирован, превращен в герцогство Пруссия, и последний магистр тевтонцев и первый прусский герцог Альбрехт Гогенцоллерн склонил колени перед королем Сигизмундом I на центральной площади польской столицы Кракова. Место, где колени надменного рыцаря коснулись польской мостовой, сейчас украшает мемориальная доска с гордой надписью: «Прусская присяга».
На очереди оказывался Ливонский орден, считавшийся «младшим отделением» Тевтонского. Агрессивную политику Польши в этом вопросе поддерживал древний враг крестоносцев – Великое княжество Литовское[75]. И поляки, литовцы видели в гибели Тевтонского ордена и ослаблении Ливонского шанс отомстить разом за все – за сотни и тысячи рыцарских набегов на литовские и польские земли в XIII – XV веках, за политические интриги, когда орден препятствовал заключению этими странами выгодных договоров с Европой. А захват земель ордена был бы материальной компенсацией за все беды и лишения, которые орден причинил народам Восточной Европы.
Особую роль в разжигании конфликта играла Россия, заинтересованная в установлении полного контроля над балтийской посреднической торговлей, которую вели ливонские города. В литературе часто можно встретить точку зрения, будто бы Россия стремилась выйти к Балтийскому морю. Это мнение основано на недоразумении – русские в XVI веке и до войны владели побережьем Финского залива от устья Невы до устья Наровы, то есть примерно такой же территорией, какая есть у России сегодня (сегодня Российская Федерация владеет еще и частью северного побережья Финского залива, от Санкт-Петербурга до Выборга).
Однако это побережье не было приспособлено для морской торговли: полностью отсутствовали порты, торговые фактории, флот и прочая необходимая инфраструктура. Зато все это было в соседней Ливонии, которая выступала посредником, перепродающим русские товары в Европу, а европейские в Россию. Россия хотела получать прибыль от морской торговли, и решение напрашивалось само собой: надо было извлечь эту прибыль, поставив ливонское торговое посредничество под свой контроль. Это можно было сделать в виде взимания дани, если ливонцы захотят откупиться и при этом не пустить русских в свою торговую инфраструктуру. Или – через агрессию и вторжение, путем прямого захвата Россией территории Ливонского ордена, установления русского контроля над всей ливонской торговой инфраструктурой. Будучи неспособной в XVI веке создать на должном уровне такую собственную торгово-морскую инфраструктуру, Россия хотела захватить уже готовую, отлаженную и эффективно работающую негоциантскую систему в соседней стране, кажущейся крайне слабой и беззащитной.
Все эти желания и чаяния всех стран Балтийского региона предполагали одно и то же: Ливонский орден должен прекратить существование и послужить во благо других государств своими территориями, городами, деньгами и прочими ресурсами и богатствами. Абсолютно все соседи смотрели на Ливонию как на потенциальную добычу. Это и спровоцировало в XVI веке целый ряд балтийских войн, в число которых входит и Ливонская.
Обратимся к предыстории конфликта. В 1551 году истекло 30-летнее перемирие Ливонии и Московии. Увлеченные внутренними распрями, власти ордена не спешили продлевать договор. Они выслали в Москву посольство только в 1553 году. Дипломаты планировали продолжить перемирие на целых 50 лет.
С 28 апреля по 1 июня 1554 года в русской столице прошли переговоры, на которых ливонцев ожидал сюрприз. Им предъявили целый букет обвинений, каждое из которых было чревато войной: «неисправление» (то есть несоблюдение предыдущих договоренностей), гонения на православные общины в Ливонии, поругание православных храмов, препятствия русско-европейской торговле, чинимые путем арестов мастеров и отдельных видов товаров, невыгодное для русских посредничество в торговле и даже нападение ливонцев из Нейгауза на псковские земли вокруг Красногородка и обида, причиненная послу новгородского наместника. Искупить свои «вины», как утверждали московские дипломаты, Ливония может, только заплатив за много лет так называемую «юрьевскую дань» и выполнив другие требования России.
Ливонцы попробовали возражать. Они сразу заявили о готовности вернуть церкви, если православные священники смогут доказать на них свои права. Новгородский посол лжет, никто его не обижал. Он был хорошо принят, но устроил пьяный дебош. Его люди били стекла в домах добропорядочных граждан и пытались ворваться внутрь с целью изнасиловать немецких женщин. Что касается торговых запретов, то ливонцы всего лишь выполняют указ императора, поэтому просьба все вопросы и претензии по этому поводу адресовать в Священную Римскую империю. Что же до принудительного посредничества в торговых делах, то оно распространяется не только на русских, но на всех иноземных купцов вообще, ибо «города живут торговлею».
Главными (и наиболее невыполнимыми) для ливонцев были требования уплаты так называемой «юрьевской дани». Признание законности претензий русского царя означало бы не только финансовые потери, но и признание орденом своей вассальной зависимости от Московии – ведь кто платит дань, тот и подчиняется. «Юрьевская дань» упоминалась в документах еще с 1463 года. Казус заключался в том, что каждый раз при заключении русско-ливонского перемирия составлялось три договора: ливонско-новгородский, ливонско-псковский и дерптского (юрьевского) епископа с Псковом. Пункт о дани содержался лишь в последнем договоре и распространялся только на Дерпт (Юрьев). Ее выплата епископом саботировалась, а русская сторона до 1554 года особо не настаивала.
Поскольку происхождение дани было туманно, то вокруг этого вопроса сразу же возникло несколько легенд. Одна из них гласила: когда-то ливонцы платили русским с деревьев, где были пчельники, по шесть ливонских солидов в год. Однако потом «при возрастающем множестве людей леса обратились в равнины», о плате вообще забыли. А Иван IV «распространил эту плату, на каком-то широком толковании, с каждого дерева на каждую человеческую голову».
Ливонский хронист Бальтазар Рюссов приводил другую легенду: в пустоши, отделявшей Нейгауз от Пскова, местные крестьяне имели несколько сот пчельников. Между Дерптом и Псковом происходили постоянные стычки, кому брать дань с пасечников. Наконец договорились, что русские будут ежегодно получать по пять пудов меда. Потом вопрос о «медовом сборе» забылся и был в 1554 году реанимирован Грозным, но в совершенно ином виде. Вместо Дерптской области он распространялся на всю Ливонию, и вместо нескольких пудов меда Москва требовала по одной марке с каждого жителя плюс недоимки за все годы. В итоге набегала весьма внушительная денежная сумма.
Согласно другим источникам, происхождение дани связано главным образом с так называемой «десятиной правой веры» (выделением специальных денег на постройку и содержание православных церквей в Дерпте). В 1554 году русские потребовали от ливонцев восстановить закрытую в 1548 году дерптскую Никольскую церковь и возместить все недоимки на содержание православных храмов, накопившиеся за многие годы. Платить их теперь должна была вся Ливония.
На самом деле даннические отношения Дерпта и прилегающих местностей с русскими князьями были очень запутанными и восходили еще к XIII – XIV векам. Стороны неоднократно заключали различные договоры, то вводившие дань, то ее дезавуирующие. Разобраться в этом хитросплетении международного права, уходившим вглубь веков, было очень трудно. Отсюда и множество легенд, и недоумение ливонских послов, и настойчивость русских дипломатов, прекрасно понимавших, что при таком запутанном состоянии дел от Ливонии можно требовать чего угодно.
Всего Россия требовала 6 тысяч марок (около тысячи дукатов, или 60 тысяч талеров). Для сравнения можно привести следующий факт: в 1558 году при взятии Дерпта в доме только одного (!) дворянина Фабиана Тизенгаузена было конфисковано 80 тысяч талеров – больше, чем требовалось собрать со всего населения для предотвращения войны! Но ливонцы платить не хотели и подписали обязательства о сборе необходимой суммы только под недвусмысленной угрозой русского дипломата Ивана Висковатого, что «царь сам пойдет за данью».
Соглашение было составлено в Москве и окончательно оформлено 15 июня 1554 года новгородским наместником Дмитрием Палецким. Оно содержало положение о 15-летнем перемирии при условии выплаты через три года положенной дани, восстановлении русских церквей, пострадавших от Реформации, свободы торговли для русских купцов как в самой Ливонии, так и через ее порты с Ганзой (кроме военного снаряжения), беспрепятственного проезда иноземцев через Ливонию в Московию и обратно, запрета заключения орденом союза с Польшей и Литвой, направленного против России. Ливонские послы документ подписали. Если бы орден выполнил принятые на себя обязательства, возможно, Ливонской войны и не было бы.
Однако новый ливонский магистр, Генрих фон Гален, опротестовал русско-ливонский договор 1554 года. Он заявил, что послы превысили свои полномочия, и руководство ордена не будет выполнять достигнутых договоренностей. Никакого сбора дани не велось. Ливония надеялась отпущенные на собирание денег три года прожить спокойно, а там, мол, будет видно.
Русская дипломатия при заключении договора 1554 года, а главное, при отслеживании его реализации явно недооценила сложность ситуации. Дело в том, что в 1550-е годы к подготовке агрессии против Ливонии приступило другое государство – Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Его поддерживала Пруссия – герцогство, еще недавно бывшее Тевтонским орденом, «старшим» и «главным» в союзе Тевтонского и Ливонского орденов. Вассальному Прусскому герцогству было трудно смириться с тем, что Ливония сохранила как орденскую структуру государства, так и независимость.
План аннексии Ливонского ордена был разработан еще в 1552 году на тайных встречах польского короля Сигизмунда II Августа с прусским герцогом Альбрехтом в Крупишках и Брайтенштайне. Главным мотивом будущей интервенции было нежелание уступить русским: Ливония должна быть превращена в лен Ягеллонской монархии, чтобы «не достаться Московии». Причем, как и Россия, Польша апеллировала к очень древним, забытым и никогда не исполнявшимся договорам: в 1366 году император Священной Римской империи Карл IV Люксембургский признал за польским королем Казимиром Великим и его наследниками титул протектора Рижского архиепископства. Теперь Сигизмунд срочно «вспомнил» об этом ягеллонском наследстве.
Путем интриг ему удалось добиться назначения на пост рижского архиепископа своего родственника, Вильгельма Бранденбургского, брата прусского герцога Альбрехта. Дальнейший ход событий было предсказать нетрудно: Вильгельм быстро вошел в конфликт с руководством ордена. Рыцари оказались людьми суровыми, не склонными терпеть поведение зарвавшегося архиепископа и его заместителя – коадъютора Христофора Мекленбургского. В 1556 году Вильгельм и Христофор при поддержке Польши подняли в Ливонии вооруженный мятеж. 10 мая 1556 года мятежники обратились к Сигизмунду с официальной просьбой о военной интервенции. Корона получила повод для вторжения в Ливонию.
Руководство ордена растерялось, но положение спас своими решительными действиями коадъютор ордена Вильгельм Фюрстенберг. Он, не колеблясь, применил против бунтовщиков силу. Финансовую помощь оказала Рига, давшая средства для наемного войска. Рыцари взяли и разграбили замок рижского капитула Кремон, 21 июня был сожжен замок Роненбург. 28 – 29 июня 1556 года орденские силы осадили замок Кокенгаузен, центр восстания. «Пятая колонна» была разгромлена. Эти события вошли в историю под названием «война коадъюторов».
Победа над мятежниками незначительно облегчила положение Ливонии. Дважды, в 1556 и 1557 годах, Польша и Литва подводили к ее границам войска, угрожая вторжением. Нервы у рыцарей не выдержали, и 5 сентября 1557 года между Короной и Ливонией был подписан Позвольский мир. Он заключал в себе несколько соглашений. Первое состоялось между магистром и рижским архиепископом. Вильгельм был восстановлен в своей должности, Христофор стал его коадъютором, орден платил епископу 60 тысяч талеров за «военные издержки». Орден также обязался компенсировать весь урон, который нанес Рижскому архиепископству в ходе «войны коадъюторов». Таким образом, мятежники, проигравшие военное столкновение, в итоге оказались победителями.
Второе соглашение было заключено между магистром и польским королем. Фюрстенберг униженно просил у Сигизмунда прощения за то, что он посмел обидеть его родственника, Вильгельма. Для литовских купцов в Ливонии вводилась полная свобода торговли. Существующая граница между Литвой и Ливонией, утвержденная соглашением 1473 года, признавалась спорной, и для ее уточнения стороны обязывались выслать комиссаров. Подобные положения договора фактически узаконивали право Сигизмунда вмешиваться во внутренние дела ордена. Это породило среди современников много толков – будто бы уже по Позвольскому миру 1557 года Ливония подчинилась польской короне.
Кроме того, 14 сентября 1557 года Фюрстенберг подписал с Сигизмундом отдельное союзное соглашение, направленное против России. Правда, в нем был пункт, что ливонско-польский союз вступит в силу только через 12 лет – чтобы не нарушить условия русско-ливонского договора 1554 года, по которому запрещалась сама возможность образования военного блока Польши и Ливонии. Кроме того, стороны обязывались не пропускать в Россию мастеров и стратегические товары.
Позвольский мир открывал прямую дорогу к грядущей Ливонской войне: несмотря на все оговорки, он грубо нарушал условия русско-ливонского соглашения 1554 года. Ведь Ливония обязалась в нем без ведома Москвы не заключать союзы с другими державами. А тут Позволь...
К сожалению, у монархов и дипломатов XVI века не хватило умения или, скорее всего, желания найти мирные решения этих проблем. Дело неудержимо катилось к войне за раздел сфер влияния в Прибалтике между европейскими державами. Доля вины за это лежит и на России – она действовала слишком примитивно, прямолинейно, без учета устремлений Польши, не считаясь с мнением других европейских держав. Московские посольские службы равнодушно отнеслись к «войне коадъюторов», расценивая ее как внутреннее дело ордена. Они не смогли увидеть в ней признак готовящегося раздела Ливонии европейскими странами. Трудно сказать, что было причиной такой самонадеянной позиции: недостаточная информированность русской разведки или самоуверенность Ивана Грозного. Но события быстро стали развиваться по самому неблагоприятному сценарию.
В 1557 году трехгодичный срок для собирания «юрьевской дани» истек, но в Москву она не поступила. Вместо этого прибыли ливонские послы Гергард Флеминг, Валентин Мельхиор и Генрих Винтер, пытавшиеся пересмотреть условия договора 1554 года. В декабре 1557 года прошли довольно напряженные переговоры. Дипломатам удалось договориться о снижении размеров дани до 18 тысяч рублей, плюс ежегодно Юрьев должен был вносить по тысяче венгерских золотых. Царь согласился, но потребовал немедленной уплаты, а у дипломатов денег с собой не оказалось. Они пытались занять необходимую сумму на месте, у московских купцов. Москвичи были склонны дать денег, поскольку опасались: если неудовлетворенный неплатежом дани царь развяжет войну в Прибалтике, то придет конец всей торговле в регионе: и русской, и ганзейской, и ливонской.
Но давать ссуду запретил сам Иван Грозный. Он был возмущен поведением послов, желающих откупиться «чужими руками», через заем у русских купцов. Результаты гнева Ивана Васильевича предвидеть было нетрудно: «царь сам пошел за данью». Перед отъездом ливонских дипломатов позвали к обеду и... подали им пустые блюда.
В конце 1557 года Россия приняла решение о демонстрационном карательном походе в Ливонию. Его целью было заставить неплательщиков выполнить обязательства, устрашить, дать понять ордену, что уплата дани лучше разорительной войны. В конце января 1558 года восьмитысячный русский отряд вторгся на территорию Ливонии. Маршрут похода представлял собой полукруг от псковской до нарвской границы западнее Чудского озера, преимущественно по землям Дерптского епископства, с которого главным образом и вымогалась дань.
Поход носил специфический характер. Московиты прошли рейдом по земле ордена. При этом они не брали городов и замков, но картинно осаждали их, жгли и грабили посады, разоряли округу. Словом, это была акция устрашения, демонстрация силы, сопровождавшаяся грабежом. За 14 дней боев было сожжено четыре тысячи дворов, сел и поместий.
С первых же дней похода русские воеводы в Ливонии начали искать пути к миру. В феврале 1558 года от имени командовавшего войсками татарина Шигалея рассылались грамоты, в которых нападение объяснялось тем, что ливонцы не сохранили верность слову, данному русскому царю. И если орден исправится, Шигалей сам готов ходатайствовать перед царем о мире. «Рэкетирский» характер войны, в общем, понимали и сами ливонцы. Современник событий Бальтазар Рюссов писал: «Московит начал эту войну не с намерением покорить города, крепости или земли ливонцев, он только хотел доказать им, что он не шутит, и хотел заставить их сдержать обещание».
В январском походе 1558 года на Ливонию Курбский и П. П. Головин возглавляли сторожевой полк. Под их началом находились воеводы И. С. Курчов, М. Костров, П. Заболоцкий. Войска благополучно, практически не встречая сопротивления, прошли рейдом по Ливонии и вернулись домой. Курбский так описывал свои впечатления от новой кампании:
«Целый месяц ходили мы по ней (Ливонии. – А. Ф), и нигде не дали они нам сражения. Из одной только крепости вышли против наших разъездов и тут же были разбиты. Прошли мы по их земле, разоряя ее, больше 40 миль. Вошли мы в Лифляндию из большого города Пскова и, обойдя вокруг (вдоль западного побережья Чудского озера. – А. Ф), благополучно вышли из нее у Ивангорода. Вывезли мы с собой множество разной добычи, потому что страна там была очень богатая, а жители ее впали в такую гордыню, что отступили от христианской веры, от обычаев и добрых дел своих предков, от всего удалились и ринулись все на широкий и просторный путь, то есть в обильное пьянство и невоздержанность, долгий сон и лень, несправедливости и междоусобное кровопролитие...»[76]
Россия считала начатую в Ливонии войну краткосрочным и незначительным локальным конфликтом. Она была уверена, что орден не будет упорствовать, как самоубийца, быстро соберет деньги и заплатит требуемую дань. Никто из потенциальных союзников Ливонии – ни Польша, ни Литва, ни Священная Римская империя зимой 1558 года не спешили защищать орден от вторжения русских войск. Все ранее достигнутые договоренности остались на бумаге. Ливонцы оказались брошенными на произвол судьбы, и их взволнованные послы напрасно обивали пороги европейских монархий...
13 марта 1558 года Вольмарский ландтаг приступил к обсуждению вопроса, платить или не платить русскому царю, а если платить – то откуда взять денег. Решено было начать сбор средств путем контрибуций с сельского населения и займов у горожан. В городе Пернове дошли до того, что для уплаты пожертвовали даже часть церковной утвари. Рига, Ревель и Дерпт собрали-таки 60 тысяч талеров, то есть, пока магистр с епископами продолжали выяснять, кто же возьмет на себя финансовое бремя, откуп решили вести города. В конце апреля 1558 года новое посольство во главе с Готардом Фирстенбергом и Иоганном Таубе выехало в Москву. Дипломаты везли требуемую дань.
Однако логика развития конфликта уже изменила мнение Ивана Грозного о перспективах войны в Ливонии и вопрос о дани стал неактуальным. К тому же с собранной данью происходили чудеса: 60 тысяч по дороге непонятным образом превратились в 40 тысяч. Иван Грозный отказался принимать остатки разворованных денег. Царь потребовал личной явки магистра и архиепископа, которые должны «ударить челом всею ливонскою землею», как это уже сделали казанский и астраханский цари. А уж великий князь решит, как с ними поступить. Послы вернулись ни с чем, а возвращенную ими сумму присвоил себе ливонский магистр, заявив, что они все равно были собраны на нужды ордена.
Изменение позиции русского правительства было связано с майскими событиями 1558 года, когда неожиданно для всех пала Нарва. Часть горожан послала делегацию, уполномоченную заключить с русскими мир при условии сохранения Нарвой значительной части своих торговых и городских привилегий. Русские воеводы охотно пошли им навстречу, хотя в самом ливонском городе такие действия вызвали неоднозначную реакцию. Далеко не все нарвцы считали возможными любые соглашения с Россией.
Дальнейшие события не совсем ясны. Точно известно только одно – 11 мая 1558 года в Нарве случился пожар. Согласно большинству источников, загорелся дом парикмахера Кордта Улькена, затем огонь перекинулся на соседние дома. Вместо того чтобы тушить пламя, жители Нарвы бросились укрываться от огня в замке, кто не успел – хоронился в крепостном рву. Решив, что начался штурм, пехота построилась на городской площади и заняла позиции у ворот, но, так и не дождавшись нападения противника, от огня и дыма кнехты ушли в замок.
Пожар кинулись тушить стоявшие на другом берегу ивангородцы и московские войска. Через реку Нарову переправлялись наспех, чуть ли не на выломанных дверях, бревнах и т.д., при этом, по словам летописца, никто не утонул – все были «яко ангелом носимы». Через Русские (Водяные) ворота у замка вошли отряды под началом А. Д. Басманова и Д. Ф. Адашева, через Колыванские ворота – И. Бутурлина. Помимо борьбы с огнем московиты сразу же открыли артиллерийский огонь по замку из ливонских орудий, которые они нашли брошенными на городских стенах. Немцам же ответного огня организовать не удалось – при первом же выстреле на артиллерийской площадке башни Герман орудие взорвалось, нанеся вред всей позиции.
Русские предложили всем, кто хочет, покинуть город с имуществом, которое люди смогут унести в руках. Для тех, кто останется, царь обещает выстроить новые дома. Осажденные ответили: «Отдают только яблоки да ягоды, а не господские и княжеские дома». Дальнейшие переговоры выявили разницу менталитета: ливонцы утверждали, что нападение на Нарву незаконно, так как еще не закончились московские переговоры представителей ордена с Иваном IV. Русские в ответ сказали, что им нет дела до переговоров: Нарву Бог наказал за грехи и дал ее в руки православным, и они не могут от этого отказаться.
В цитадели было три бочки пива, немного ржаной муки, вволю сала и масла и пороху на полчаса стрельбы. С такими ресурсами сопротивляться было бесполезно. Начались переговоры о сдаче, ливонцы угрюмо наблюдали их завершение: русский воевода велел принести воды, при всех умылся и торжественно приложился к образу, с клятвой, что отпустит гарнизон замка и сдержит все данные обещания. Ночью начался исход из замка. Уцелевшие кнехты, рыцари, жители Нарвы, не пожелавшие оставаться с московитами, ушли к Везенбергу.
Курбский же в своей «Истории...» воспроизводит официальную легенду о чуде иконы Божьей Матери, явленном при взятии Нарвы. Он рассказывает, как «немцы, могущественные и гордые... еще с утра напившись и нажравшись, начали против всякого чаяния стрелять из больших пушек по русскому городу. Много побили они христиан с женами и детьми и пролили крови христианской в эти великие и святые дни: они, находясь в перемирии, подтвержденном клятвами, стреляли без перерыва три дня, не унялись даже в день Воскресения Христова». Ивангородский воевода, благочестиво спросив разрешения у Ивана Грозного, благословясь, начал ответный обстрел Нарвы. По Курбскому, ливонцы оказались совершенно не готовы к такому повороту событий и тут же запросили прекращения огня и перемирия на четыре недели.
Столь неприятный сюрприз, как ядра русских пушек на улицах Нарвы, привел местных немцев в немалое раздражение. Они искали, на чем бы сорвать злость. Курбский рассказывает, что бюргеры «...не отступились от своих обычаев, то есть великого пьянства и оскорбления христианских догматов. И вот, найдя и увидев в тех комнатах, где когда-то жили у них русские купцы, икону Пречистой Богородицы... хозяин дома с некоторыми гостями-немцами начал поносить ее, говоря: „Этот идол был поставлен для русских купцов, а нам в нем теперь нет нужды, давайте возьмем и уничтожим его“. Ведь и пророк сказал когда-то о таких безумных: „Секирой и топором разрушая, а огнем зажигая святыню Божию“. Подобным образом вели себя и эти родственники по безумию – сняли они со стены образ и, приблизившись к большому огню, где варили в огне обычное свое питие, ввергли его тотчас в огонь».
Князь с восторгом повествует, как из очага ударило пламя, в мгновение ока разнесенное внезапно поднявшейся бурей по городу. Нарва запылала. Так Богородица отомстила немцам за святотатство. Увидев пожар, русские пошли на штурм города, который закончился довольно быстро. Видя полную бесперспективность оказания сопротивления, ливонцы начали переговоры с единственной просьбой: они сдают город, но их выпускают из него с семьями и всем имуществом, которое они смогут на себе унести. Курбский злорадствует в отношении превратностей судьбы жителей Нарвы: еще утром они проснулись благополучными и уважаемыми бюргерами в богатом ливонском городе, а теперь «сразу же, часа за четыре или пять, лишившись всех вотчин, высочайших хором и златоукрашенных домов и потеряв богатства и имущество, отбыли с унижением, стыдом и великим срамом, словно нагие, поистине явился на них знак суда еще до суда, чтобы другие научились и боялись бы хулить святыни. Это был первый немецкий город, взятый вместе с крепостью»[77].
Падение Нарвы 11 мая 1558 года резко изменило характер войны. Если раньше она представляла собой локальную карательную акцию, направленную на вразумление ливонцев, не желающих платить дань, то теперь перед Иваном Грозным открылись новые волнующие перспективы. Он осознал, что, захватив города, порты и крепости Ливонии, он получит гораздо больше, чем какую-то дань. А взятие Нарвы продемонстрировало, что орден не способен оказать серьезного сопротивления, а горожане склонны не воевать, а договариваться с победителями.
С этого момента Россия ведет в Ливонии откровенно захватническую войну, направленную на аннексию земель и городов. Боевые действия продолжались всю весну и лето. Курбский все время находился в самых «горячих точках» этой кампании. Вместе с Д. Ф. Адашевым он командовал передовым полком основных сил русской армии. Вместе с П. И. Шуйским князь возглавил глубокий рейд по территории ордена. Всего за лето 1558 года в Ливонии было взято около 20 городов, в том числе один из крупнейших центров – город Дерпт (совр. Тарту), который был переименован в Юрьев и стал столицей Русской Ливонии. Курбский называет эту кампанию «великой и светлой победой».
Во второй половине 1558 года Курбский был отозван с ливонского фронта. Вместе с Ф. И. Троекуровым и Г. П. Звенигородским в декабре он оказался воеводой в Туле «по царевичевым вестем, как поворотил от Мечи», то есть из-за сообщения о продвижении войск крымских татар под командованием сына хана царевича Мухаммед-Гирея. На южной границе князь служил до весны 1560 года. Последняя известная нам его должность на юге – второй воевода полка правой руки (первый – И. Ф. Мстиславский, третий – М. И. Вороной-Волынский), которую он занял 11 марта 1560 года.
Весной 1560 года Курбский достиг вершины военной карьеры. Он был назначен первым воеводой большого полка, то есть командующим крупной войсковой группой, которую повел «из Юрьева войною в немцы». Князь описывает, как он был послан Иваном IV в Ливонию в качестве последней надежды якобы утратившей боевой дух русской армии:
«...Ввел меня царь в покой свой и вещал мне словами, насыщенными милосердием и весьма любезными, а сверх того, с посулами многими: „Принуждают меня, – сказал он, – сбежавшие военачальники мои или самому пойти на германцев, или тебя, любимца моего, послать. Да поможет тебе Бог, и вновь вернется мужество к моему воинству. Иди на это и послужи мне верно“»[78].
Здесь надо обратить внимание на вновь навязываемое князем сопоставление себя с царем: русское войско, морально разложившееся в Ливонии, согласно автобиографии князя, мог спасти и воодушевить либо сам Иван Грозный, либо – князь Андрей Курбский...
Судя по факту высокого назначения, не типичному для военной карьеры Курбского, традиционно занимавшего второстепенные командные должности, какой-то разговор с царем и возложение на князя особой миссии весной 1560 года могли иметь место. Правда, сам Курбский путает дату и утверждает, что данные события происходили спустя четыре года после взятия Юрьева, то есть в 1562 году. Однако дальше он говорит о боях под Феллином, которые, вне всякого сомнения, имели место в 1560 году. Видимо, спустя 20 лет после описываемых событий, при составлении мемуаров князя подвела память.
В мае 1560 года полки под командованием Курбского под Вассенштейном разбивают ливонцев и разоряют провинцию Гарриен. Князь описывает сражение на морском берегу, которое происходило непривычной для Курбского белой балтийской ночью. Ливонцы пытались расстрелять атакующих русских из пушек, но, как заметил воевода Ивана Грозного, «не так пригодились им ночью пушки, как нам стрелы на блеск их огней». Курбский сумел обратить врагов в бегство и загнать их на мост через реку, который подломился под тяжестью бегущих воинов и рухнул в воду, погребая под собой ливонцев. Русским осталось только бродить по полю недавнего сражения и вытаскивать на свет Божий немецких рыцарей и их кнехтов, которые залегли в нескошенном хлебе и пытались там спрятаться. В плен было взято, по словам Курбского, 170 знатных воинов. Потери русских войск в этом сражении составили 16 дворян, «не считая слуг».
Самые крупные сражения, в которых участвовал Курбский, в августе 1560 года развернулись под орденской крепостью Феллин. Ее обороной командовал бывший магистр Фюрстенберг, герой «войны коадъюторов» 1556 года, последний дееспособный магистр Ливонского ордена (обманом сместивший его в 1559 году Готард Кетлер не отличался полководческими талантами, а был озабочен только тем, как бы подороже продать свое государство иностранным державам). Фюрстенберг, узнав, что Феллин станет главной целью русского наступления, хотел перевезти артиллерию и имущество ордена в крепость Гапсаль на морском берегу. Однако он не успел: по команде Курбского русский отряд на лодках прошел по реке Эмбах, высадился в двух милях от Феллина и перерезал его водные коммуникации.
Последним рыцарям Ливонского ордена терять было нечего. Многие из них уже забыли, что они – потомки некогда знаменитых рыцарей-меченосцев, наводивших ужас на всю Прибалтику. Часть членов ордена эмигрировала в Германию, часть стала искать места при дворе прусского герцога... В Ливонии оставались только те, для которых слово «честь» было не пустым звуком, которые относились к своему рыцарскому званию всерьез и собирались погибнуть вместе с орденом. Именно этих людей собрал вокруг себя Филипп фон Белль, военачальник ливонцев. Правда, их оказалось очень немного. Вассалы рыцарей разбежались, в бой согласились идти только наемники, которым было все равно против кого воевать, лишь бы платили.
С отрядом в 900 человек, основную массу которых составляли немецкие наемники-рейтары, под Эрмесом Филипп фон Белль атаковал русский авангард. Северные крестоносцы шли в последнюю атаку в своей истории... Из-за своей дерзости нападение могло оказаться удачным. Немцы выступили в полдень, когда русские войска спешились и отдыхали. Они сумели прорубиться до места, где паслись кони дворянского ополчения. Однако силы были слишком неравны, и ливонский отряд, несмотря на весь героизм, погиб. Филипп попал в плен. Курбский описывает свои беседы с пленным и воздает хвалу его уму и храбрости. Правда, царь Иван не смог разделить восторгов своего воеводы: когда Филиппа привезли в Москву, он начал дерзить и смело заявил московскому государю: «Несправедливо и жестоко овладел ты отечеством нашим, а не так, как подобает христианскому царю». Грозный приказал казнить фон Белля.
Курбский описывает трехнедельную осаду Феллина, артобстрелы, рейды его полка под Венден и под Ригу, хвастается, что в одном из боев лично убил нового военачальника ордена, назначенного вместо Филиппа фон Белля. Во взятом 21 августа 1560 года Феллине в плен попал бывший магистр ордена Фюрстенберг – самое крупное должностное лицо Ливонии, оказавшееся в руках русских.
Дни северных крестоносцев были сочтены, Россия переживала новый военный триумф, покоряя себе третье по счету государство за последние восемь лет (Казанское ханство в 1552 году, Астраханское ханство в 1556 году, теперь – Ливонию). Курбский был победителем казанцев и ливонцев, опытным командиром, достигшим к 1560 году вершины карьеры. Он не подозревал, что пик жизни пройден, и впереди – тяжелые испытания и трудный путь «по ступеням вниз».
Роковой Невель
Относительно дальнейшей карьеры князя летом 1560 года в источниках присутствует некоторая путаница. По одним разрядам, уже в мае 1560 года во время большого похода по Ливонии Курбский был лишен своей высокой должности и являлся только первым воеводой передового полка (второй воевода – П. И. Горенский-Оболенский). Князь участвовал в боях под Феллином, Вассенштейном, Дерптом, Венденом, Вольмаром, в набегах на рижском направлении. В Ливонии он воевал с весны как минимум до конца лета, потому что участвовал в осаде Феллина, которая длилась до 30 августа 1560 года.
По другой разрядной росписи, Курбский был отозван из Ливонии уже летом 1560 года и неожиданно оказался воеводой в Мценске. Думается, что это назначение надо относить ко времени его возвращения после летней кампании 1560 года из Прибалтики, то есть к осени 1560 года. В росписи воевод на южной границе, которая относится или к осени 1560 года, или к весне 1561 года, Курбский значится на традиционной для него должности второго воеводы полка правой руки (первый – И. Ф. Мстиславский)[79].
О других назначениях Курбского в 1561 году ничего не известно, но можно говорить об изменении характера его карьеры. Вместо высших командных должностей в действующих полках его теперь ставят на малозначительные воеводские посты в прифронтовых городах. Симптомом этого была отправка в Мценск. Данную тенденцию можно оценить как регресс военной карьеры Курбского. До этого он всего один раз был городским воеводой, да и то в самом начале своего пути (в Пронске в 1550 году). С высоты долгожданного поста первого воеводы большого полка на ливонском фронте, наконец-то достигнутого в 1560 году, падать было болезненно. Князь оценивает происходящее как самую черную неблагодарность царя по отношению к своим верным и доблестным воеводам:
«Что же после этого устраивает наш царь? Когда с Божьей помощью храбрецы защитили его от враждебных соседей, тогда он и воздал им: тогда самой злобой отплачивает он за самую доброту, самой жестокостью за самую преданность, коварством и хитростью за добрую и верную их службу»[80].
В 1562 году Курбский значится на последнем месте в списке воевод, назначенных на один год наместниками Великих Лук (после П. В. Морозова, В. Д. Данилова, царевича Симеона Касаевича, И. И. Турунтая-Пронского). Во главе небольших отрядов князь несколько раз ходил походами в земли Великого княжества Литовского. Вместе с Ф. И. Троекуровым он сжег посады и окрестности Витебска и Сурожа. При этом он был ранен.
Между тем радикально изменилась ситуация на театре боевых действий. Истек срок очередного русско-литовского перемирия. Россия и Великое княжество Литовское поставили своеобразный рекорд по длительности военного противостояния: официально между ними не было мира с 1487 по 1686 год. Краткосрочные войны (в конце XV – первой половине XVI века их было пять: 1487 – 1494, 1500 – 1503, 1507 – 1508, 1512 – 1522, 1534 годов) сменялись недолгими перемириями, как правило, на пять лет. В 1559 году, когда истекал срок очередного перемирия, положение внезапно обострилось. Великое княжество решило воспользоваться тем, что Россия в 1558 году вторглась в Ливонию, и выторговать для себя ряд уступок. Король Сигизмунд II Август прекрасно понимал, что для Москвы крайне невыгодно вмешательство других держав в ливонский конфликт. Тем более что у Короны были свои планы по захвату «инфлянтов». Поэтому литовские дипломаты поставили следующее условие: перемирие с Россией будет продлено, если русские вернут земли великого княжества, захваченные при Иване III и Василии III. Если Иван Грозный откажется от Смоленска – то Литва закроет глаза на его агрессию в Ливонии. Русская дипломатия категорически отвергла подобные претензии, после чего Великое княжество Литовское обвинило Россию в агрессии против Рижского архиепископства, которое возглавлял родственник Сигизмунда Вильгельм Бранденбургский. Переговоры оказались сорванными, перемирие не продлено, уже в августе 1560 года начались первые стычки между русскими и литовскими частями, а в 1561 году между Россией и великим княжеством вспыхнула война, которая в 1570 году завершилась победой Ивана Грозного.
Военная судьба князя на русско-литовском фронте складывалась не слишком успешно. В августе 1562 года состоялась неудачная для него битва с литовцами под городом Невелем. Современники считали боязнь наказания за невельское поражение причиной, побудившей Курбского к измене. Процитируем, например, польского историка XVI века Мартина Вельского:
«В 1563 году осенью на сейме Варшавском получено из Литвы радостное известие о поражении нашими 40 тысяч россиян под московским замком Невлем. Коронный гетман Флориан Зебржидовский, сам будучи болен, отрядил из Озерищ Черскаго каштеляна Станислава Лесневельского с 1500 польских воинов и с десятью полевыми орудиями к Невлю, близ которого расположилось сорокатысячное войско неприятелей. Лесневельский, узнав достоверно о силе их, приказал ночью развести во многих местах огни, чтобы отряд его казался многочисленнее, и стал на выгодном месте, имея с двух сторон воду; рано утром устроил свое войско, расставил орудия в скрытых местах и ждал нападения. Вскоре показались москали: их было так много, что наши не могли окинуть их взором. Русские же, видя горсть поляков, дивились их смелости, и московский гетман Крупский (sic. – А. Ф.) говорил, что одними нагайками загонит их в Москву. Наконец, сразились. Битва продолжалась с утра до вечера. Сначала москали, имея превосходные силы, одолевали, но наши устояли на поле сражения и перебили их весьма много: пало по крайней мере семь или восемь тысяч кроме утонувших и побитых во время преследования. Так Господь Бог даровал нам свою удивительную победу, к великому удивлению москалей. Товарищ Крупского, приписывая ему всю неудачу, упрекал его в проигранной битве. Он же, указав на наше войско, отвечал на упреки: Они еще здесь: попробуй, не удастся ли тебе лучше, чем мне. Я же не хочу измерять своих сил вторично: ибо знаю поляков. Крупский был ранен и, опасаясь, что товарищ обвинит его перед великим князем, бежал к нам: король дал ему поместье Ковель и другие. В гербе его был лев»[81].
Историки, начиная с Н. Г. Устрялова и С. М. Соловьева, разделяли эту точку зрения. В советской историографии даже считалось, что Курбский специально проиграл битву под Невелем, и это было первым актом его предательства.
Однако есть основания усомниться в подобной трактовке. Прежде всего крупного сражения и не было. Рассказ Мартина Вельского о том, как полторы тысячи поляков с десятью пушками разгромили 40 тысяч русских, был с охотой подхвачен его коллегами. Другой польский хронист XVI века, Мацей Стрыйковский, писал, что русских погибло 3 тысячи, а поляков – 15 человек. По Александру Гваньини, Курбский потерял 15 тысяч только убитыми, не считая пропавших без вести во время бегства. Эти цифры, несомненно, абсолютно фантастичны. В самые лучшие годы при Иване Грозном вся русская армия с немалым трудом могла выставить 50 – 60 тысяч человек, а обычно ее состав колебался от 20 до 40 тысяч, не считая крепостных гарнизонов. А тут 40 тысяч человек оказываются под началом четвертого воеводы Великих Лук, затеявшего небольшую вылазку на литовскую территорию! О соотношении 15 убитых поляков против трех тысяч русских умолчим – такие сказочные цифры были характерны для польской пропаганды времени Ливонской войны.
Русские источники не склонны считать Невельскую битву сколь-либо значимым событием. Псковская летопись сообщает лишь о небольшой стычке. Округу Невеля стали грабить литовские отряды. Преследовать их был послан Курбский. Крупных сражений не случилось. Произошло несколько мелких боев, захват языков. Князь действительно не сумел поймать и разгромить врагов, но ни о каком сокрушительном поражении московских войск не может быть и речи. Иван Грозный упрекал Курбского именно в «непобеде»: «А как же под городом нашим Невелем с 15 тысячами человек вы не смогли победить 4 тысячи, и не только не победили, но и сами от них, израненные, едва спаслись, ничего не добившись?»[82]
Во всяком случае, в 1562 году Курбскому в вину его неудача под Невелем поставлена не была. Он остался в армии, сохранил командную должность. Никаких следов опалы на Курбского после Невеля усмотреть невозможно. Опала, причины которой нам неизвестны, видимо, началась раньше – в конце 1560 года, и выразилась в отзыве из Ливонии и назначении во Мценск, а затем в Великие Луки. Своими действиями под Луками и далее под Полоцком Курбский, напротив, снискал себе прощение, что и выразилось в назначении его в 1563 году наместником всей Русской Ливонии.
Пропагандистский характер рассказов польских хронистов – и Вельского, и Стрыйковского, и Гваньини – очевиден. Здесь налицо совпадение изображения Курбского с типичным для европейской пропаганды времени Ливонской войны образом «мудрого московита», который постигает всю мощь польского оружия и готов изменить своему царю из-за открывшейся ему истины: превосходства Польши над Россией.
Последняя кампания: Курбский под Полоцком
В конце 1562 года князь Курбский оказался участником Полоцкого похода Ивана Грозного. В ноябре в Москве было принято решение о подготовке крупномасштабной кампании, целью которой был один из крупнейших городов Великого княжества Литовского – Полоцк. Выбор его как объекта главного удара был обусловлен несколькими причинами. Это была крупнейшая крепость на пути от русской границы к столице великого княжества – Вильно. С его падением московская конница выходила на Виленскую дорогу, и мог быть поставлен вопрос о покорении всей Литвы. Кроме того, если посмотреть на карту московско-литовских столкновений в XVI веке, то видно, как зоны столкновений постепенно перемещаются от южных рубежей (Черниговщины и Северщины) на север, к Смоленску и Орше. К 1560-м годам главным регионом, в котором еще не произошло урегулирование отношений путем большой войны, был как раз район Полоцка и Себежа.
Другой причиной выбора Полоцка в качестве объекта нападения была идеологическая. Еще в 1513 году Россия пыталась предложить Священной Римской империи признание своего права на захват Киева, Полоцка и Витебска в обмен на признание права имперских войск на вторжение в Прусские земли, захваченные Ягеллонами. Начиная с 1517 года Полоцк упоминается практически во всех случаях декларирования Москвой территориальных претензий на «исконно русские земли», завоеванные Великим княжеством Литовским. И, хотя вплоть до Ливонской войны эти декларации Россией никогда не претворялись в жизнь, а служили, скорей, средством дипломатического давления на Литву, нападение на Полоцк в 1563 году произвело грандиозный политический эффект. Оно навевало на поляков и литовцев страшные мысли, что русский царь перешел от слов к делу и за Полоцком последуют Киев и Вильно...
30 ноября 1562 года войска двинулись из Москвы. Армия шла через Можайск и Торопец к Великим Лукам. 5 января Иван IV во главе главных сил прибыл в Великие Луки, сюда же подошли остальные отряды. 10 января 1563 года войска начали выходить из Лук и двигаться к Полоцку. В большом полку значилось 2929 дворян, 1629 татар и 1295 казаков. Полк правой руки состоял из 2027 дворян, 966 служилых татар и мордвы, 1009 казаков. Передовой полк включал в себя 1900 дворян, 940 служилых татар и 1046 казаков. Полк левой руки – 1900 дворян, 933 татарина и 605 казаков. Сторожевой полк – 1855 дворян и 1111 человек татар, мордвы и мещеры. Наряд – 1433 дворян и 1048 казаков. С дворянами шли боевые холопы – их точное число неизвестно, но, видимо, количество конных воинов надо умножить как минимум вдвое. Это был один из крупнейших заграничных походов русской армии в XVI веке.
К середине XVI века Полоцк являлся хорошо укрепленным центром Великого княжества Литовского. Его фортификации состояли из рва, вала, бревенчатой крепостной стены и девяти башен от четырех до семи метров высоты. Башни носили имена: Устейская (в устье реки Полоты), Мошна (в излучине Полоты), Экиманская, Освейская, Coфинская и т. д. На стенах и башнях располагалось несколько десятков орудий. Общая длина валов и рвов, окружавших город, к середине XVI века по периметру составляла около четырех километров – немало по меркам того времени.
Удар оказался для короля Сигизмунда совершенно неожиданным. Вооруженные силы Великого княжества Литовского оказались не в состоянии отразить вторжение. Король вообще ограничился заявлениями о великом испытании и моральной поддержке, гетман Литвы Миколай Радзивилл начал собирать полки, но под Полоцк им было не успеть. К моменту начала осады в наличии было всего две тысячи литовских воинов и 400 поляков. Городской гарнизон оказался брошен на произвол судьбы. Положение воеводы Полоцка Станислава Довойны осложнялось еще и тем, что под защиту городских стен прибыло несколько тысяч беженцев из всей городской округи. В случае долгой осады это означало, что запасов продовольствия хватит ненадолго и помощи Радзивилла можно и не дождаться.
Иван Грозный отправил в Полоцк посла с предложением сдачи и перехода в подданство России на тех условиях, на которых захотят сами полочане. Горожане посла убили. 30 января 1563 года сам царь ездил осматривать будущий театр боевых действий, а 31 января началась расстановка полков вокруг крепости для осады и штурма. Первоначально предполагалось атаковать укрепления по льду реки Полоты, со стороны водоема, где они были слабее, чем со стороны поля. Но на Полоте оказался слишком тонкий лед, и гнать по нему пехоту и конницу под огнем неприятельской артиллерии было рискованно. Тогда полки были сосредоточены против городских стен полоцкого посада. Им было приказано строить из дерева и земли осадные укрепления – туры. За турами размещали осадную артиллерию.
Первая попытка штурма была предпринята 5 февраля. Стрельцы под командованием Ивана Голохвастова подожгли крепостную башню над Двиной, взяли ее и вошли в острог. Однако не удержались в городе и отступили. До вечера 5 февраля Полоцк обстреливала легкая и средняя артиллерия. Крупнокалиберные орудия еще не были установлены на позициях. Однако хватило легких и средних: полочане запросили переговоров о сдаче.
Переговоры, длившиеся с 6 по 8 февраля, получились странными. С одной стороны, оба противника сознательно тянули время. Русским надо было установить на позициях тяжелую артиллерию, а воевода Довойна рассчитывал на прибытие Радзивилла. С другой – успех на переговорах был все же возможен: в Полоцке была довольно влиятельная прослойка православного населения, готового на компромисс с московским царем. Для Ивана IV было бы даже значимей, если бы Полоцк склонил свою голову без боя: это бы означало, что деморализованное население Великого княжества Литовского готово признать власть православного государя.
В итоге переговоры закончились неудачей. Довойна так и не смог решиться на принятие русских условий, а московские воеводы за время переговоров успели подвести туры под самые городские стены и изготовить к стрельбе тяжелые орудия. 8 февраля переговоры были прерваны и заговорила артиллерия. Как писали современники, начался такой пушечный гром, что, «казалось, небо и вся земля обрушились» на Полоцк. Крупнокалиберные ядра буквально взламывали стены, разрушали строения в городе. На посаде вспыхнул страшный пожар, уничтоживший почти три тысячи дворов. По разным данным, возгорание случилось или от огня русской артиллерии, или от поджогов, сделанных по приказу воеводы Довойны. Воевода решил отвести свои силы в замок, а для этого будто бы и приказал сжечь посад. Так или иначе, одновременно с пожаром начался второй штурм города. Русские дворяне под командованием Д. Ф. Овичины и Д. И. Хворостинина, пройдя через пылающие улицы, «втоптали» польский гарнизон в замок, но взять его не смогли.
Таким образом, к 9 февраля город был частично взят. Жители начали сдаваться. С 9 по 11 февраля тяжелая артиллерия и туры переносились «на пожженное место», на пепелище полоцкого посада, к стенам замка. Непрерывный огонь длился несколько суток. Его интенсивность достигала такой силы, что отдельные ядра пролетали территорию замка насквозь и ударялись в противоположную стену изнутри. Горожане прятались от огня в погребах. Гарнизон занимался не обороной, а тушением очагов пожаров. Но их было слишком много, и в конце концов полоцкий замок оказался объятым пламенем. Артиллерийским огнем было разрушено 40 укрепленных участков стены из 204, составлявших укрепления замка. Было очевидно, что падение полоцкой цитадели – только вопрос времени.
Защитники Полоцка вели себя мужественно, даже делали вылазки, чтобы разрушить русские осадные укрепления. Сделать этого не удалось, зато после каждой контратаки силы оборонявшихся таяли. Утром 15 февраля 1563 года городские ворота открылись, и из них вышла процессия православных священников во главе с епископом Арсением. Так Полоцк объявил о своей сдаче. В результате переговоров, длившихся до вечера, Иван Грозный пообещал не трогать защитников города. После достижения договоренности о правилах сдачи навстречу русским полкам из Полоцка вышло «3907 мужского полу, а жонок и девок 7253 и обоего [пола] 11 160 человек».
Свое слово государь сдержал частично. Героически сражавшийся польский отряд был отпущен с развернутыми знаменами и оружием в руках. Командиры-ротмистры получили от Ивана богатые дары – соболиные шубы, подшитые драгоценными тканями. Репрессии сперва не коснулись и городских жителей православного или католического вероисповедания, однако затем часть горожан была уведена в Москву, в плен. Согласно ходившим в Литве слухам, вошедший в Полоцк татарский отряд вырезал попавшихся под руку монахов-бернардинцев. А полоцкие евреи, не пожелавшие принять крещение, были утоплены в реке. Так ли это – неизвестно, но современники из уст в уста передавали страшные «легенды о полоцких казнях» русского царя.
В городе был оставлен русский гарнизон во главе с князьями И. П. Шуйским, П. С. Серебряным и В. С. Серебряным. 27 февраля Иван IV покинул свои новые владения и пошел к Москве.
Победа Ивана Грозного под Полоцком в 1563 году явилась наивысшим успехом России на литовском фронте. Полоцк оказался самой дальней точкой русского продвижения на западном направлении в XVI веке. После его взятия 15 тысяч русской и татарской конницы вышли на виленскую дорогу, и между ними и столицей Литвы не было крупных крепостей. Литовцы боялись, что русские соберутся и ударят на столицу, – а оборонять ее, как уже показала практика, фактически было некому. В Польше и Литве ходила легенда о «серебряном гробе», который Иван Грозный после полоцкой победы якобы заготовил для короля Сигизмунда. Воины Ивана IV занимались грабежом и погромами окрестностей Полоцка в направлении Вильно. Банальное мародерство сочеталось с тем, что «в иные имения и села вступают и посягают [на их собственность], и людей приводят к [невольным] клятвам верности, а [тех, кто не даст такой клятвы], берут в плен». Захваченные земли и крестьян дети боярские «тянули к Полоцку».
Великое княжество Литовское от потери Полоцка испытало шок. Оно даже не смогло организовать толковый контрудар. Проходивший в мае – июне в Вильно сейм литовской шляхты постановил собрать ополчение («посполитое рушание») к 1 августа 1563 года. Были определены нормы имущества, с которого дворяне великого княжества должны были выставлять определенное количество воинов с полным вооружением. Несоблюдение норм сбора ополчения грозило конфискацией имений. Но, несмотря на «крутизну» принимаемых мер, мобилизация происходила медленно и плохо. Идти воевать почти никто не хотел, хотя, казалось, над родиной нависла смертельная опасность.
Что нам известно о деятельности Курбского во время «Полоцкого взятия»? Под стенами Полоцка князь был третьим воеводой сторожевого полка (вместе с царевичем Ибаком, П. М. Щенятевым, И. М. Воронцовым). Он ставил осадные укрепления («туры») против острога до реки Полоты. В ходе дальнейших боев отряд Курбского оборонял «туры» от вылазок полочан. Интересно, что в своей автобиографии, написанной уже во время литовской эмиграции, Курбский ни слова не говорит о своей участии в штурме Полоцка. Видимо, для потенциальных читателей – жителей Великого княжества Литовского – эта тема могла показаться чересчур болезненной.
Об обстоятельствах эмиграции Курбского в Литву поговорим в следующей главе, а пока подведем итоги его пути в качестве московского воинника. Как видно из описания воеводской карьеры, «русский период» жизни князя прошел в боях и походах, используя выражение одного из списков первого послания Курбского Грозному – в «дальноконных градах». Он прошел с боями фактически все четыре главных фронта России того времени: казанский, крымский, ливонский и литовский. Сражался честно, мужественно, был неоднократно ранен. Ощущал себя воином христианских полков, носителем высшей идеи «побарания за христиан на супостатов». Как христианский воин, исполнитель особой миссии, обладал высоким самомнением и был уверен в справедливом воздаянии за свои ратные труды, которого ждал от царя и от Бога.
В то же время нельзя говорить о какой-то выдающейся роли князя как полководца и командира. Посты, им занимаемые, в большинстве случаев довольно скромны: он всего однажды был первым воеводой большого полка, то есть главным командиром (1560). В основном Курбский возглавлял сторожевой, передовой полки, полк левой руки или был вторым воеводой полка правой руки – должности отнюдь не ведущие в воинской иерархии. Нет поводов сомневаться в личной воинской храбрости князя и его боевом опыте, но порой встречающееся в историографии мнение о Курбском как выдающемся российском полководце не подтверждается фактами. Оно базируется главным образом на самовосхвалении Курбским себя и своих полководческих талантов в собственной биографии.
Глава четвертая «БЕГУН-ХОРОНЯКА»
Наместник Русской Ливонии
Из Полоцкого похода Курбский возвращался в войске Ивана IV. Трудно сказать, какие думы его одолевали. Ни о каких выдающихся подвигах князя под стенами Полоцка неизвестно, равно как и о каких-либо проступках и прегрешениях. После остановки в Великих Луках 3 апреля 1563 года Иван Грозный назначил Курбского первым воеводой в Юрьев Ливонский (под его началом оказались М. Ф. Прозоровский, А. Д. Дашков, М. А. Карпов, Г. П. Сабуров). В этой должности он и пребывал до своего бегства весной 1564 года.
С одной стороны, это было несомненное повышение. Князь фактически оказывался наместником всей Русской Ливонии (к 1562 году Ливонский орден распался, и его территория была поделена на русскую, датскую, шведскую и польско-литовскую зоны оккупации). С другой – должность юрьевского воеводы была отнюдь не сладкой. Князь оказывался ответственным за все, происходящее на оккупированной территории Ливонии, – а там каждый день могло произойти что угодно, от вылазки недобитых ливонцев, внезапного рейда литовской кавалерии, нападения шального шведского отряда до мародерства и дезертирства в рядах собственно русской армии. Немало беспокойства могла доставить борьба с контрабандой и «коммерческими» операциями в прифронтовой зоне. К тому же царь не хотел и слышать о какой-то там военной опасности – ему было вынь да положь «Нарвское плавание», налаженную торговлю России с Западом через Нарву.
О деятельности Курбского на посту наместника Ливонии мы располагаем крайне скудной информацией. Это очень досадное обстоятельство, поскольку, несомненно, именно в этой деятельности лежат причины его побега и возможной опалы со стороны царя. Однако здесь мы лишены главного источника – автобиографии Курбского. В «Истории...» самоописание жизни князя заканчивается на обвинениях царя в черной неблагодарности и рассказе о возгорании в Русской земле «пожара лютости» в 1560 году. О своей деятельности в 1561 – 1564 годах, о последних годах перед эмиграцией князь не говорит ничего.
Отсутствие рассказа о боевых действиях 1562 – 1563 годов и участии в Полоцком походе, как уже говорилось, объясняется тем, что Курбский, сочиняя для читателей Речи Посполитой, просто не нашел деликатной формы, в которую можно было бы облечь повествование о том, как он воевал против страны, его приютившей. Но при этом все равно непонятно, почему Курбский ничего не говорит о своем юрьевском наместничестве (как-никак, второй пик карьеры) и, тем более, о причинах бегства из России. Казалось бы, тут открывается широкий простор для обличений злодейств царя Ивана! Ан нет, князь отделывается общими рассуждениями о неблагодарном и жестоком тиране и рассказывает о гонениях в России на «лучших мужей». Чем же в это время Курбский занимался в Ливонии? Подозрительное молчание. Оно наводит на мысль, что князю было что скрывать.
Собранные буквально по крупицам косвенные данные, увы, свидетельствуют, что это так – в биографии ливонского наместника всплывает целый ряд по крайней мере странных, а то и вовсе неприглядных эпизодов. Курбский явно не справлялся со своей новой должностью. Выяснилось, что он хорошо умел махать мечом и командовать полками, но политик и администратор из него вышел никудышный. Зимой 1563 года Курбский был должен по поручению царя добиться принятия ливонским дворянством привилегии, разработанной в Москве. По ней Россия не вмешивалась в религиозные дела, в ливонское судопроизводство, русские купцы могли беспрепятственно провозить товары через Ливонию, а рижские негоцианты получали право беспошлинной торговли во всем Русском государстве. Однако Курбский не справился с порученной миссией. Переговоры не удались. Привилегия распространения не получила.
В ливонской хронике Ниенштедта приводится свидетельство, что Курбский пытался завербовать графа фон Арца, наместника шведского герцога Иоганна III в Ливонии. Арц обещал Курбскому сдать ему замок Гельмет, но был арестован шведами за измену. Русское войско под стенами замка встретили огнем. Таким образом, замысел Курбского провалился. Мало того, попадание русского отряда в ловушку могло навести русские власти на мысль о двойной игре князя.
Существует также версия, что Курбский имел отношение к тайным переговорам с Ригой об условиях перехода этого города под власть Ивана IV при сохранении его привилегий. Во всяком случае, Рижский магистрат тщательно следил за действиями Курбского. В Рижском архиве хранится самая первая по времени появления грамота, рассказывающая о бегстве князя. Переговоры, как известно, также завершились ничем, всю Ливонскую войну Рига сохраняла статус независимого города.
И наконец, именно в годы своего пребывания наместником Русской Ливонии Курбский вступил в тайную переписку с Радзивиллами – литовскими магнатами. Именно эти контакты в итоге и привели князя к предательству и эмиграции.
Собственно, это все, что мы знаем о деятельности Курбского в качестве наместника Русской Ливонии. Впрочем нет, не все: разочаровавшись в военной карьере и не найдя себя на административном поприще, князь начал читать книги, а затем и пробовать себя в качестве писателя. Это-то его и сгубило окончательно.
Духовные искания и терзания
В начале 1560-х годов резко возрос интерес Курбского к духовно-интеллектуальным исканиям. Основа для этого имелась. Княжич Андрей в юности получил начальное церковное образование, включавшее изучение церковнославянской азбуки и фрагментов из Священного Писания. Кроме того, молодой Курбский интересовался духовной литературой и был довольно начитан, о чем свидетельствует свободное владение им библейскими цитатами и образами.
Духовным отцом Курбского был просветитель лопарей Феодорит Кольский. Своим литературным учителем князь считал Максима Грека. В круг общения жаждущего духовного знания воеводы входили благовещенский священник Сильвестр, царский духовник Афанасий, которому приписывается авторство многих частей «Степенной книги», псково-печерский игумен Корнилий и др. Филолог В. В. Калугин тонко подметил: «...Особенно важно, что наставники Курбского были намного старше его»: так, Феодорит Кольский – на 28 лет, а Максим Грек – на 58 лет[83]. Это создавало особую ситуацию духовного ученичества, которое князь считал за честь для себя. Однако при этом он был уверен, что после обучения имеет право говорить от имени учителей.
Рост интереса Курбского к духовной литературе в начале 1560-х годов, на наш взгляд, был вызван разочарованием в жизненных ценностях воинника. Вернее, князь не отказывался от идеалов «воина Христова воинства». Но они оказались в вопиющем противоречии с действительностью. Курбский считал, что он соответствовал этим идеалам, как и многие другие русские воеводы. Но от государя вместо положенных наград исходили одни неприятности, а то и угроза, причем не только карьере, но и самой жизни.
Будучи на Юрьевском воеводстве и располагая свободным временем, Курбский стал жадно читать духовную литературу. Нужные книги князь запросил в Псково-Печерском монастыре. Известно, что ему были присланы «Книга Рай» (сборник уставных чтений триодного цикла, в который также входили подборки слов Афанасия Александрийского, Иоанна Златоуста и Григория-мниха «о предании Иуды»), апокрифическое «Евангелие от Никодима», Житие Иеронима Стридонского, какой-то церковный календарь (использованный князем в полемике против иудейского календаря), сборник сочинений Максима Грека со «Вторым словом на богоборца пса Моамефа».
Бежав в Литву в 1564 году, князь бросил в Юрьеве свою библиотеку и очень жалел об этом. Курбский пытался ее вернуть через литовского воеводу Александра Полубенского. Степень переживаний беглого боярина за сохранность книг иллюстрирует тот факт, что он грозил, если драгоценные рукописи пропадут, повесить проштрафившегося слугу Якова Щабликина, которому поручили доставить библиотеку в Вольмар.
Из писем князя можно частично реконструировать состав библиотеки. В ней были переводы Максима Грека статей из византийского «Лексикона Свиды» об Аврааме, Мелхиседеке, Оригене, приписываемый Иосифу Флавию трактат «Слово о том, яко благочестивый помысл самодержавец есть страстем, и сие являет от вышеестественнаго терпения еже к горчайшим мукам Маккавеох мученых бывших Антиохом», Апостол, сборник с Житиями Августина, Михаила Черниговского и боярина его Федора, сочинения Августина и др. По предположению В. В. Калугина, основу собрания Курбского составили книги и рукописи из библиотеки его родственника Василия Тучкова. Именно для Тучкова Максим Грек делал переводы статей из «Лексикона Свиды»[84].
У нас нет свидетельств, что в более ранние годы Курбский увлекался чтением духовных книг и философскими рассуждениями. Да и вряд ли у него было на это время на окском пограничном рубеже, в казанских лесах или под стенами ливонских крепостей. Таким образом, обращение Курбского к духовным исканиям было довольно спонтанным. Чем оно оказалось вызвано? Вряд ли это можно объяснить только переменами в настроении и мировоззрении самого князя, хотя они и очевидны. Но каков был контекст этих перемен? Какие духовные процессы происходили в русском обществе в начале 1560-х годов?
Ответ на этот вопрос сложен, поскольку мы не располагаем достаточной информацией. Очевидно только одно: именно в 1560-е годы в Российском царстве происходило развитие какого-то нам не до конца ясного духовного процесса, связанного как с попытками внутренней реорганизации государства (введение опричнины), так и с активизацией внешней политики (переход к наступлению на Великое княжество Литовское). Можно считать доказанной связь этого духовного процесса с эсхатологическими ожиданиями, идеей богоизбранности Российского царства и несения им мессианской миссии в истории человечества.
В России, опираясь на византийские пророчества, Конец света ждали на исходе седьмой тысячи лет от Сотворения мира (то есть около 1492 года от Рождества Христова). Но в конце XV века Апокалипсиса не произошло. После этого эсхатологические ожидания обострялись к любой седмиричной дате: 7007 (1499), 7070 (1562), 7077 (1569) годам. Для нас здесь важна бросающаяся в глаза близость последних двух дат к датам начала опричнины (зима 1564/65 года) и ее окончания (1572 год, после Новгородского похода зимы 1569/70 года, бывшего апофеозом террора).
О серьезных переменах в государственной идеологии в начале 1560-х годов, в преддверии опричнины, свидетельствует изменение так называемого «богословия» в официальных грамотах, исходивших от царя. Акты, адресованные иностранным дипломатам, начинались с изложения пространного титула русского государя и преамбулы, составленной из библейских цитат и провозглашавшей высший смысл правления монарха. Эта преамбула и называлась «богословием» (существовала как обязательная часть официальных документов вплоть до Петра Великого).
С начала XVI века на Руси использовалось следующее «богословие»: «Бог наш Троица, иже прежде век сей Отец, и Сын, и Святый Дух, ныне и присно и во веки веком аминь, о Нем же живем и движемся и есмы, Им же цари царьствуют и силнии пишут правду», подчеркивающее православный характер и сущность власти московского государя. В его основе лежало обращение к текстам Священного Писания: «О Нем бо живем и движемся и есмы» (Деян. 17: 28); «Мною царие царствуют и силнии пишут правду: Мною велможи величаются, и властители мною держат землю» (Пр. 8: 15 – 16). Троичное богословие преобладало в русских грамотах в европейские страны до 1562 года. Оно встречается и позже, но реже. Зато с 1562 года используется новое, более насыщенное смыслами «богословие», присутствующее практически во всех международных грамотах Ивана IV до конца 1570-х – начала 1580-х годов. Оно несет в себе идею уже не только боговдохновленности всех деяний государя, но и богоизбранности и мессианском пути православного царя и обосновывается с помощью пространной точной цитаты из Евангелия от Луки, ср.:
Богословие
Милосердия ради, милости Бога нашего в них же посети нас восток свыше, воеже направити ноги наша на путь мирен к Троицы славимаго Бога нашего милостию, мы, великий государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии...
Лк. 1: 76 – 79
И ты, отроча, пророк Вышняго наречишися: предидеши бо пред лицеем Господним, уготовати пути Его, дати разум спасения людем Его, во оставление грех их: Милосердия ради, милости Бога нашего, в нихже посетил нас восток свыше, просвети во тме и сени смертней седящыя, направити ноги наша на путь мирен.
В Евангелии имеется в виду искупительная жертва Христа, которую он принес ради милосердия к человечеству. Здесь также имеется перекличка с 21-м псалмом. Афанасий Великий так трактовал его смысл: «Предлагаемый псалом поется о заступлении утреннем, то есть о том, что единородное Божие Слово, по-написанному, Восток свыше, воссияв, освободило нас от нощи и темноты диавольской». Приход Мессии был исполнением пророчества из Книги Иеремии: «Се дние грядут, глаголет Господь, и возставлю Давиду восток праведный, и царствовати будет царь, и премудр будет, и сотворит суд и правду на земли» (Пер. 32: 5).
Учеными также неоднократно обращалось внимание на «богословие» грамоты московских бояр к литовским панам от 17 июня 1563 года, содержащей оригинальный образ: «Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в Троицы славимаго милостию, великого государя, яко рога инрога, царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии...» Большинство ученых справедливо указывали на связь выражения «рог единорога» с идеей возвеличивания царской власти. Действительно, перед нами цитирование Псалтыри: «И вознесется яко единорога рог Мой» (77с. 91: 11).
И здесь мы должны остановиться подробнее на анализе «богословии» 1560-х годов в контексте духовного развития Русского государства в предопричные годы и перерастания Ливонской войны из локального столкновения с орденом в крупномасштабную войну России с Великим княжеством Литовским. Символика «рога единорога» оказывается тесно связанной с идеей царской власти как мессианской, царя как источника славы и великой исторической судьбы страны, которой он правит. Все народы склонятся перед праведным царем, вознесшимся, как рог единорога. Он выступит проводником своих подданных в Царство Славы. Это получило отражение в переоформлении ряда государственных символов, в частности государевой печати, на которой был помещен единорог.
Эти идеи нашли воплощение и в созданной примерно в эти же годы «Степенной книге» (начало 1560-х годов), которая считается отражением официальной позиции власти и церкви. В ней Российское царство как последнее истинно верящее, православное государство объявлялось высшей точкой мировой истории, а его правители – проводниками своего народа в Царство Божие. Подвиги князей и святителей были ступенями, по которым Россия восходила к свой высокой роли (отсюда и название книги – Степенная, то есть – построенная по степеням, по ступням). Православный народ при этом называется Новым Израилем, новым богоизбранным народом, чья миссия для человечества сравнима по своему значению с миссией библейского Израиля. Иван Грозный, таким образом, оказывается последним богоизбранным царем Нового Израиля, правителем-мессией, сравнимым с библейскими царями[85].
К чему могло привести провозглашение царя мессией накануне Конца света? Как отметил историк А. Л. Юрганов, в Апокалипсисе несколько раз указывается, что накануне Второго пришествия Христа будет несколько лет ожесточенной борьбы сил добра и зла. Андрей Кесарийский определял длительность этого периода в три с половиной года – тысячу двести шестьдесят дней. Эта же дата присутствует и в первом полном русском переводе Библии – так называемой Геннадиевской Библии (1499 год): в последнее время «отрешится Сатана по праведному Суду Божию и прельстит мир до реченного ему времени, еже три и пол лета, и потом будет конец».
А. Л. Юрганов, проанализировав сочинения царя и отзывы о нем современников, пришел к выводу, что «Иван Грозный видел свою главную функцию в наказании зла в „последние дни“ перед Страшным Судом. Мы никогда до конца не узнаем, в какой момент (хронологически) и почему царь решил начать опричнину. Одно можно сказать определенно: пассивно ждать он не мог в силу своей особой ответственности... вся русская история, создавшая особый тип сакрализованной монархии, подвела его к мысли начать собственную борьбу со злом, как он его понимал»[86].
От 1562 года – седмиричной даты, 7070 года – до введения опричнины в январе 1565 года прошло как раз около трех лет...
Итак, мы имеем смутные ожидания конца света, которые бродят в умах русского общества в начале 1560-х годов. На этом фоне официальная идеология провозглашает царя мессией, богоизбранным носителем особой миссии. Частью политической и духовной элиты это было, несомненно, воспринято с облегчением: в часы грядущих испытаний есть Царь, который нас спасет и введет в Царство Славы. Иван IV относился к данной роли со всей серьезностью и в самом деле намеревался еще до Страшного суда карать грешников в «последние времена».
Однако часть интеллектуалов восприняла подобное возвышение царя, декларацию его особого мессианского статуса и его резкие жесты в отношении «грешников» в контексте эсхатологических ожиданий, напротив – как грех, гордыню, ересь и даже – признак того, что царь стал служить Сатане, Антихристу. Больше того: не он ли сам и есть тот Антихристов Предтеча, который будет царствовать на земле несколько лет в преддверии Апокалипсиса? Нетвердый ум такие мысли могли испугать особо, потому что появление подобного царя – пособника дьявола, – согласно пророчествам, было несомненным свидетельством, что Конец света в самом деле близок и неминуем.
Совершенно очевидно, что Курбский оказался среди тех мыслителей, которые с недоверием и скепсисом восприняли «царскую высоту». С их точки зрения, повседневное поведение Ивана Грозного находилось в вопиющем противоречии с декларируемым статусом «мессии» и проводника в Царство Славы. А уж «перебор людишек», опалы и казни, число которых нарастало с каждым годом и в итоге привело к опричному террору, только подтверждали этот скепсис: царь слишком вознесся, «наквасился лютостью», ему «шепчут в уши» дьявольские советы слуги Сатаны. Но вывод из таких размышлений пугал еще больше: а как быть подданным, правитель которых сам превратился в слугу Сатаны? Может ли христианин служить такому монарху?
Письма Курбского, которые он составлял в начале 1560-х годов, пропитаны этими настроениями. Кстати, нам не известно ни одного текста, написанного Курбским ранее данного периода, хотя переписка между боярами и духовными лицами в России XVI века – не редкость, такие грамоты существуют в достаточном количестве. Но, видимо, духовное потрясение от происходящего было настолько велико, что князь не мог молчать и хотел поделиться своими мыслями хоть с кем-нибудь.
В 1562 году Курбский вступил в переписку со старцем Псково-Печерского монастыря Вассианом Муромцевым. Сперва князь делился впечатлением от прочитанных книг, взятых в монастыре:
«...Уже просмотрел я некоторые слова из книги „Рай“, которая встречается в Божьих церквях и послана ко мне вашей святостью, и, думаю, что это название даже не вполне достаточно, потому что она не только уподоблена небесной красоте, но и украшена различными прекраснейшими словами, и укреплена священными догматами».
Курбский с жадностью прочел апокрифическое евангелие от Никодима и обрушился на него со всей критикой истинного православного: «Воистину, это сочинение является ложью и неправдой, и написано оно невеждой и лжецом». При этом князь проявил большую начитанность в церковных текстах, легко сравнивает различные отрывки из Священного Писания с сочинениями Иоанна Златоуста и др.
Однако в конце Первого послания Вассиану, посвященного, казалось бы, исключительно богословским вопросам, вдруг прорываются беспокойство князя и его истинные мотивы обращения к духовной литературе. В ней он искал ответа и утешения своей мятущейся натуры, крайне обеспокоенной происходящим в родном Отечестве: «И очень прошу помолиться за меня, грешного, потому что все больше напастей и бед вавилонских обрушивается на нас»[87].
Во Втором послании Курбского к Вассиану тема отступничества от праведного учения, обличение ложного евангелия Никодима и апокрифов перерастает в резкую критику режима Ивана Грозного, пронизанную апокалиптическими нотками. Князь объявляет, что Сатана выпущен из своей темницы и обольщает многие страны, учит их богоотступничеству. Это привело к крушению многих некогда славных держав:
«Обратим мысленно свой взгляд на Восток и задумаемся. Где Индия и Эфиопия? Где Египет и Ливия, и Александрия, великие и славные страны, когда-то отличавшиеся крепкой верой во Христа? Где прежде боголюбивая Сирия? Где Палестина, священная земля, в которой родился Христос, все пророки и апостолы? Где славный Константинополь, который был для вселенной примером благочестия? Где недавно просиявшие благоверием Сербия и Болгария с их великими властелинами и богатейшими городами?»
Христиан, которые живут в данных странах, надо называть живыми мучениками – ведь они живут среди коварных и неверных людей.
То же самое, и даже хуже, произошло с Западом:
«Где державный Рим, в котором издревле пребывали наместники апостола Петра, папы? Где Италия, которую сами апостолы украсили благоверием? Где славная Испания, в которой апостол Павел насаждал благочестие? Где многолюдный город Милан, в котором великий Амвросий правил благочестиво? Где Карфаген? Где Галлия? Где великая Германия? Где народы других западных стран, в которых Христово Евангелие проповедовали апостолы и их наместники, и которые, словно многочисленными яркими звездами, были украшены знаменитыми епископами... Где все они? Не обратились ли в различные ереси? И не превратились ли... в непримиримых, страшнее неверных, врагов правоверия?»
Изничтожив Восток и Запад, Курбский переходит к обличению русской действительности. По его мнению, Россия времени Ивана Грозного стоит на краю постыдной гибели:
«Неблагодарные и бесчувственные, словно змеи, мы затыкаем уши свои при звуке Его (Бога. – А. Ф.) святой речи и прислушиваемся больше к тому, что говорит наш враг, искушающий нас суетной славой земного мира и ведущий к погибели по своему привольному пути... Правители, поставленные на власть Богом... уподобляются хищным зверям, которые не имеют присущей им жалости и изобретают невиданные мучения на погибель тем, кто желает им добра. И никакая риторика не поможет рассказать о всех этих нынешних бедах – о неустройстве в государстве, о несправедливом суде, о несытном разграблении чужого имущества».
Кризис России – по Курбскому, кризис духовный, кризис веры и благочестия. В нем виновны прежде всего священники:
«Посмотрим же на священническое сословие... они не только не обличают бесстрашно царя с помощью божественного откровения, а, наоборот, поощряют его. Они не защищают вдов и сирот, не помогают пребывающим в бедах и напастях, не выкупают пленных из плена, а приобретают себе земельные владения, строят огромные дома, купаются в многочисленных богатствах и вместо благочестия украшают себя добычей. Где тот, кто мог бы запретить царю и его сановникам творить беззакония по всякому поводу?»
Пафос обличений Курбского с каждым словом нарастает, а обвинения власть предержащих становятся все страшнее:
«Кто теперь без стыда произносит евангельские слова и кто готов душу положить за своих братьев? Я не знаю такого. Но вижу, как все лицо нашей земли объято жесточайшим пожаром и как множество домов исчезает в пламени бед и напастей. Кто придет и избавит нас от этого? Кто погасит пожар и избавит братьев от столь жестоких бед? Никто!.. Все думают лишь о своем богатстве и, ухватившись за него, простираются перед власть имущими, льстят им и заискивают перед ними, лишь бы только сохранить свое богатство и приумножить его. А если и сыщется кто-нибудь, кто говорит, выполняя Божью волю, о правде, то такого власти осуждают и, после многих мучений, предают страшной смерти».
Курбский описывает бесчинства монахов, обуреваемых страстью стяжания, разорение, нищету и развал армии, страдание купцов и крестьян от непомерного налогообложения. Если воспринимать его обличения всерьез, то тогда Россия действительно оказывается на краю гибели. В такой стране невозможно жить. Князь и приходит к этому выводу:
«Грустное зрелище и горький позор! Из-за таких невыносимых мучений иные тайно убегают из Отечества; иные же своих любимых детей, плоды чрева своего, продают в вечное рабство; иные своими руками предают себя смерти – или удавляя себя, или бросаясь в быструю реку, или иным каким-нибудь способом – от горя естественная чистота их сознания помутняется».
Курбский, хоть и жалеет таких несчастных жертв царского произвола, не считает это выходом. Он убежден, что Россия, да и весь мир, стоит на пороге Страшного суда, который и избавит праведников от бесчинств грешников: «...ибо приближается уже час нашего избавления!.. блаженны же, трижды блаженны будут страдающие от них, ибо близок уже час отмщения за них». Спасение – в покаянии, обращении к Богу, соблюдении истинных заповедей. Причем князь раскаивается, что и сам грешил и был близок к грешнику-царю: «Горе и мне, несчастному, внявшему совету моего врага и в течение многих дней затвердевшему в таких нравах!»[88]
В третьем послании Вассиану Муромцеву, видимо, созданном весной 1564 года, накануне побега, вовсю прорывается раздражение князя на окружающую действительность. Курбский просил у монахов Псково-Печерского монастыря денег взаймы. Они отказали. В ответ воевода обрушивается на них с оскорбительными и несправедливыми укорами:
«В то время как мы, хранимые Богом и его ангелами, беспрестанно в течение семи лет... покоряли в сражениях немцев и их города, вы не испытывали и сейчас по-прежнему не испытываете ни страха, ни ужаса, но живете в тишине и величайшем покое. Да к тому же вас, а не нас за наши подвиги, одарил царь различными почестями и имениями. А мы не только не получили никаких почестей, или значительных имений, или каких-либо вознаграждений за то, что претерпели столько страданий и не один раз бывали покрыты смертной тьмой... но наоборот: по грехам нашим мы и получили, а особенно я, бедный. Каких только напастей, бед, надругательств и гонений я не вынес!»[89]
Курбский определил для себя виновных как в личных бедствиях, так и в трагедии страны. Это – царь и церковники, которые потакают вознесшемуся гордыней монарху и клевещут на православных. «Сколько ни припадал я в рыданиях к их ногам и ни валялся в них, орошая землю слезами – никакой помощи и утешения в моих бедах от них не получил», – писал князь. Из послания к Вассиану невозможно понять, что он имел в виду. Видно, что он сильно на что-то обижен и считает себя оклеветанным, жертвой несправедливого навета. В этой истории как-то замешаны священнослужители, которые то ли сами оклеветали Курбского, то ли не заступились за него и не утешили в беде. Ни беглый воевода, ни царь в своей переписке не «расшифровали» этот эпизод, не рассказали никаких подробностей. Курбский продолжал твердить о несправедливой обиде, а Иван IV утверждал, что предателю досталось поделом. Но о сути «обиды» или проступка ни один из оппонентов не говорит. Лишь Грозный оговаривается, что князь изменил из-за «единого малого слова гневна» – значит, оно все же прозвучало. Причем царь расценил данный инцидент как малозначительный, «малое слово», а на психику Курбского оно, видимо, произвело совершенно сокрушающее впечатление. Он превратился в истерика и параноика. Панически боясь за свою жизнь, ежесекундно ожидая расправы, князь решил бежать.
Бегство
Курбский бежал из России 30 апреля 1564 года. Он выехал из Юрьева с тремя лошадьми и 12 сумками с добром. При этом бросил сына и беременную жену, нисколько не смутившись тем, что печальная судьба несчастных родственников предателя была очевидной. С Курбским была группа спутников из числа его приближенных людей: И. И. Келемет, М. Я. Келемет, К. И. Зубцовский, В. Кушников, К. Невзоров, Я. Невзоров, И. Постник Вижевский, П. Ростовский, И. Постник Меньший Туровицкий, С. М. Вешняков, И. Мошнинский, П. Вороновецкий, А. Барановский, Г. Кайсаров, М. Неклюдов, И. Н. Тороканов Пятый, П. Сербулат, 3. Москвитин, В. Л. Калиновский. Это можно расценить как один из самых крупных коллективных побегов из России в Литву в XVI веке.
Поздние легенды изображали поступок Курбского спонтанным: мол, роковое решение было принято им под влиянием эмоций, нахлынувших при известии об очередных репрессиях кровавого тирана Ивана Грозного. Например, подобное сказание было опубликовано Н. Г. Устряловым. Оно описывает бегство князя следующим образом:
«В тот год во граде Юрьеве Ливонском были воеводы князь Андрей Михайлович Курбский да зять его Михайло Федорович Прозоровский. Князь же Андрей, узнав, что на него разгневался царь, испугался его ярости и не стал дожидаться, пока за ним придут. Вспомнил он свою верную многолетнюю службу и ожесточился. И сказал своей жене так: „Что ты скажешь, жена! Хочешь ли ты видеть меня перед собой, но мертвым, или только слышать, что я жив, но где-то вдали, вне твоих глаз?“ Она же ему сказала: „Не только не хочу видеть тебя мертвым, но даже слышать о твоей смерти не желаю!“ Князь Андрей прослезился, и, поцеловав ее и своего девятилетнего сына, попрощался с ними, и перелез через стену града Юрьева, в котором был воеводою. Ключи же от городских ворот он бросил в колодец. Верный же раб его, Василий Шибанов, приготовил своему князю за городом оседланных коней. Они сели на них, поехали к литовской границе и пришли в Литву»[90].
Такова легенда. Однако обстоятельства бегства были не столь мелодраматическими. Прежде всего стоит подчеркнуть, что Курбского за границей ждали. Литовское командование заранее знало о его намерении и выслало людей для организации приема. Эмигрант и встречающие должны были пересечься в замке Вольмар. Перейдя границу, Курбский и его спутники направились к крепости Гельмет, откуда они должны были взять проводника до Вольмара.
Однако первые приключения за границей бывшего наместника Русской Ливонии оказались похожими на знаменитый переход Остапом Бендером румынской границы через дунайские плавни. Рядовые гельметцы, не подозревавшие о договоренностях с литовским командованием, при виде русского боярина страшно обрадовались и решили ему отомстить за все бедствия родной Ливонии. Они арестовали изменника, ограбили его и как пленника повезли в замок Армус. Местные дворяне довершили дело: они унижали князя, издевались над ним, содрали с него лисью шапку, отобрали лошадей. В Вольмар, где, наконец, его встретили с распростертыми объятиями, Курбский прибыл, обобранный до нитки. Позже он судился с обидчиками, но вернул лишь некоторую часть похищенного[91].
Потрясение от оказанного приема оказалось велико. Контраст с положением юрьевского воеводы и московского боярина был разительным. К тому же князя не оставляло запрятанное глубоко в душе смутное ощущение, что гельметские кнехты были не так уж и неправы: с предателями и перебежчиками везде и в любые времена обходились самым непочтительным образом. Конечно, ливонцы издевались над ним не за то, что он изменил русскому царю, но своим поступком он поставил себя вне закона, и самый последний солдат гарнизона чувствовал себя образцом высокой морали по сравнению с ползающим в гельметской грязи бывшим боярином.
И Курбский встал в позу идейного борца, обличителя тирана, политического эмигранта. В Вольмаре он первым делом потребовал бумагу, чернила и написал гневное письмо царю. Так началась знаменитая переписка Андрея Курбского и Ивана Грозного, благодаря которой князь вошел в историю. Подробнее о ней мы расскажем в шестой главе.
Жертва произвола или изменник?
На страницах своих сочинений Курбский пытался представить свое бегство как вынужденное, вызванное многочисленными гонениями и притеснениями. Мнения потомков разделились. Одни оправдывали поступок беглого князя. Общий пафос сторонников данной точки зрения можно передать словами М. П. Пиотровского: Курбский «...уносил голову от плахи, а вовсе не продавал высокой ценою свою измену»[92].
Другие же исследователи подчеркивали, что особых причин жаловаться на репрессии и гонения в свой адрес у Курбского не было вплоть до его эмиграции. Зато есть факты, свидетельствующие об изменных связях князя с Литвой, с которой Россия находилась в состоянии войны. Курбский получал за предательство денежные выплаты, а после эмиграции – и земельные пожалования от короля Сигизмунда. Общую идею сторонников данной точки зрения можно выразить словами Н. Д. Иванишева: «Курбский явился к королю польскому не как беглец, преследуемый страхом... напротив, он действовал обдуманно, вел переговоры и только тогда решился изменить своему царю, когда плату за измену нашел для себя выгодною»[93].
Так кем же был князь Курбский – шпионом, агентом иностранных спецслужб, как его назвали бы сегодня? Или – психологически сломавшимся человеком, который не смог справиться с охватившим его страхом и, потеряв все мужество и честь, ударился в бега?
Обратимся к фактам. Итак, в апреле 1563 года Курбский оказался назначен воеводой в Юрьев Ливонский. Этот факт биографии князя исследователями оценивался по-разному. Некоторые из них считали, что данное назначение было проявлением опалы. При этом в качестве доказательства нередко приводятся слова другого беглеца – Т. Тетерина, адресованные юрьевскому наместнику М. Я. Морозову: «А и твое, господин, честное юрьевское наместничество ни лучше моего Тимохина чернечества». В характеристике должности правителя Русской Ливонии как «Тимохина чернечества» (то есть насильственного заточения – Тетерин был силой пострижен в монахи) видят свидетельство того, что назначение в Юрьев на Руси расценивали как опалу.
Однако представляется более справедливой точка зрения А. Н. Ясинского, который обращает внимание на высказывание царя: Иван IV утверждал, что если бы Курбскому в самом деле угрожала опала, то он «...в таком бы в далеком граде нашем (Юрьеве. – А. Ф.) не был воеводой, и убежать бы тебе было невозможно, если бы мы тебе не доверяли. И мы, тебе веря, в ту свою вотчину послали...». Являясь юрьевским наместником, Курбский фактически оказывался правителем всей завоеванной территории Ливонии с достаточно широкими полномочиями (вплоть до права ведения переговоров со Швецией). Назначение на такую должность вряд ли можно расценивать как проявление опалы.
В то же время очевидно, что князь чувствовал себя в Юрьеве неуютно. Об этом свидетельствует вышеупомянутая переписка Курбского с Печерским старцем Вассианом. Князь чего-то панически боялся. И вряд ли этот страх можно списать на внезапный психологический надлом – у воина, прошедшего с боями все главные войны Ивана Грозного, вряд ли были настолько слабые нервы. Для страха были причины. Значит, князю было что скрывать?
Высказывались различные догадки – чего боялся Курбский. Немецкий историк Инга Ауэрбах предположила, что между Курбским и Иваном IV возникли принципиальные разногласия относительно модели присоединения Ливонии. По ее мнению, князь был склонен к более мягкой политике, а царь требовал быстрого насильственного подчинения страны[94]. Эта точка зрения была поддержана А. Л. Хорошкевич. Она считает, что причиной гнева царя могло быть тайное пролитие князем слез «над судьбой погибшего Ливонского ордена»[95]. Б. Н. Флоря предложил искать мотивы поступка князя в духовной сфере. Он считает, что причиной беспокойства князя, переросшего в бегство с целью спасения собственной жизни, было опасение в обвинениях со стороны иосифлян в связях с еретиком, старцем Артемием[96].
Однако все это не более чем догадки – прямых документальных подтверждений нет. Существуют ли источники, способные пролить свет на мотивы бегства князя?
Да. Это письмо короля Сигизмунда II Августа от 13 января 1563 года. В нем монарх благодарил витебского воеводу М. Ю. Радзивилла «за старания в отношении Курбского» и дозволял переслать королевское послание русским боярам, Курбскому или Мстиславскому. В начале 1564 года Курбский получил из Литвы еще два письма – от Сигизмунда II и от М. Радзивилла и Е. Воловича, гарантирующих беглецу поддержку, теплый прием и оплату перехода на сторону Литвы.
Сами по себе данные послания не сохранились. Но они упоминаются в документах 1590-х годов, касающихся тяжбы за волынские имения князя. В жалованной грамоте Сигизмунда на Ковельское имение также сказано, что боярин выехал по разрешению короля, известив его о намерении бежать и получив гарантии оплаты измены. В завещании Курбского от 24 апреля 1583 года говорится, что в 1564 году ему было обещано за эмиграцию богатое содержание[97].
Таким образом, несомненно, что по крайней мере с января 1563 года Курбский состоял в тайной переписке с литовскими панами и представителями короля. Одного этого факта было достаточно, чтобы попасть на плаху: в условиях войны русский воевода обменивается посланиями с командирами армии врага! Тем более, как явствует из литовских грамот, речь шла о вербовке, о переходе князя на сторону неприятеля за соответствующую мзду. А это уже не критика властей в переписке с Вассианом – это реальная измена. Князь жил с этим страшным секретом почти полтора года – станешь тут параноиком...
Заслугу переманивания Курбского на службу Сигизмунду современники приписывали литовскому аристократу М. Ю. Радзивиллу. Автор поэтического трактата о свободе Андрей Волан воспел подвиг Радзивилла в следующих словах:
«Выдающегося добродетелью и поступками мужа, которому Московия не имеет равного, Андрея Ярославского, твоим прозорливым советом вызванного и у жестокого тирана отнятого, наиславнейшего врага ты королю своему в подданство привел».
Создатель поэмы о роде Радзивиллов XVI века «Радвилиада» Ян Радаван также называл «сманивание» Курбского «подвигом Радзивилла». Правда, как справедливо заметил немецкий ученый Андреас Каппелер, мы можем только догадываться, с помощью каких слов Радзивилл склонил Курбского к измене. В «Радвилиаде» рассказ о переговорах с князем отражает реалии не 1564 года, а 1580-х годов. Диалоги героев явно выдуманы. Согласно Радавану, Радзивилл послал Курбскому письмо следующего содержания:
«Славный москвич, почему ты не перестанешь побуждать среди московитов активности и неоправданные надежды? И сам, узнав поражение, все-таки прислушиваешься к надеждам своих? Ты видел тысячи убитых юношей и поля, окрашенные кровью... Волна опять выбросила тебя из моря в ненадежные войны после того, как ты кружился в смертельном вихре. После удачной войны ты в триумфальной короне покажешь себя народу, а принадлежит ли она тебе, если ты испортишь дело, и вырвет ли она тебя у мрачной смерти? Не знаешь ли ты нравы этого тирана? Если народ тебя уважает, тот тебя ненавидит... Слишком счастливых (ты сам это знаешь) короли боятся... Ты уже давно знаешь нашу мощь, теперь тебя зовут принять право дружбы. Ты сам знаешь, что тебя не сдержат ожидаемые порядки бешеного тирана. Дикий князь уже назначил того, которого он долго кормил, для известных алтарей» (перевод А. Каппелера).
Немецкий ученый правильно указал, что подобные мотивации характерны для 1580-х годов, для польской пропагандистской литературы времени блистательных побед Стефана Батория. Весной 1564 года, после падения Полоцка и выхода русской кавалерии на виленский тракт, они звучали бы странно[98].
Так или иначе, можно считать доказанным факт переговоров князя с представителями враждебной державы, причем они длились не один месяц. И только после достижения каких-то важных соглашений воевода бежал за границу. Здесь принципиальным является вопрос: Курбский обсуждал только цену своего отъезда или же оказывал литовской стороне какие-то услуги, например, шпионского характера?
В принципе, практика склонения представителей знати соседних стран к переходу в подданство другого правителя была в Средневековье распространена довольно широко. Считалось даже, что аристократ в принципе имеет право выбирать господина по своему разумению. И, если он просто предупредит своего былого покровителя, что выбрал другого, – это не считалось изменой.
Данная практика называлась «правом отъезда». Ее следы прослеживаются уже в XII веке: часть дружины могла покинуть своего князя, руководствуясь не феодальной верностью, а какими-то своими соображениями. Например, вот вехи «героической» биографии боярина Жирослава, который, меняя князей, исколесил буквально всю Русь: начал свою карьеру в должности посадника у князя Вячеслава Туровского, был отрешен от посадничества Изяславом Мстиславичем, в 1147 году мы видим его членом думы князя Глеба Юрьевича, в 1149 году отправлен Вячеславом и Юрием к Владимиру против Изяслава Мстиславича, в 1159 году ездил послом от Святослава Ольговича к Изяславу Давыдовичу требовать выдачи изгоя Берладника Ярославу Галицкому, в 1171 году известен как посадник в Новгороде, потерял его из-за гонений князя Рюрика Ростиславича и был вновь восстановлен на данном посту князем Андреем[99]. Подобных «отъездчиков» в XII – XIV веках было много.
Право отъезда гарантировало личные права аристократов, но подрывало политические силы княжеств и земель: не было никаких гарантий, что в самый ответственный момент бояре и служилые люди не покинут своего господина и на совершенно законных основаниях не присоединятся к его врагам. Поэтому довольно рано начинаются попытки ограничения самовольства «отъездчиков». Одно из первых свидетельств этого – установление в 1368 году Новгородом Великим правила конфискации земель отъехавших бояр. К XIV веку относятся и попытки князей запретить права перехода для служилых людей, получавших свои земли за обязанность пожизненной военной службы. Осуждению перебежчики подвергались и со стороны церкви, прямо отождествлявшей их поведение с изменой: «Если кто от своего князя отъедет, а до того получит от него достойную честь, то подобен Иуде, который был любим Господом, а замыслил продать его правителям Иудеи...» (Поучение ко всем христианам XIV – XV веков)[100].
К XVI веку московские государи практически ликвидировали право отъезда, хотя представления об этой практике продолжали жить. Например, договоренность Ивана IV с Данией о вступлении во владение датской Ливонией принца Магнуса в Москве расценили как «отъезд» Магнуса к Ивану IV: «Того же лета король Арцымагнус на государево имя выехал из Датские земли».
Великое княжество Литовское пыталось, в свою очередь, подбивать русскую знать на отъезд. Как отмечено И. Ауэрбах, в Литве перебежчики классифицировались по своим заслугам и рангу, который они имели на родине, и получали за побег земельные пожалования, владение которыми было сопряжено со службой в армии Ягеллонов[101]. Наиболее известен эпизод 1567 года, когда паны заслали в Россию адресованные важнейшим боярам грамоты с приглашением к переходу на сторону Великого княжества Литовского. Они рассчитывали склонить московских вельмож если не к бунту, то хотя бы к эмиграции. Известны послания с подобными призывами, адресованные И. П. Федорову, М. И. Воротынскому, а также руководителям земщины – И. Д. Вельскому и И. Ф. Мстиславскому. Собственно, Литва была единственной страной, куда русский аристократ мог бежать, не рискуя предать свою веру, – православие здесь пользовалось всеми правами. В то же время, на фоне ограничения прав знати в России, вольности панов и шляхты Великого княжества Литовского смотрелись для многих весьма соблазнительно.
Возможно, что переговоры с Курбским, начавшиеся в январе 1563 года, были связаны с более ранней попыткой побудить кого-нибудь из бояр к отъезду в Литву. Вопрос о том, по чьей инициативе начались эти переговоры – литовских панов или Курбского, – остается без ответа. В вышеупомянутом письме Сигизмунда говорится о некоем «начинании» князя-изменника. Если доверять этому сообщению, инициатором тайных контактов с Великим княжеством Литовским был сам Курбский.
Однако думается, что квалифицировать действия князя с помощью категории отъезда неправомерно. Как отметил датский историк Б. Норретрандерс, сам Курбский никогда не акцентировал внимание на том, что он воспользовался правом отъезда[102]. Он говорил о вынужденном бегстве от казни, от царской опалы, но не писал, что в основе его побега лежит приверженность старинной боярской привилегии выбирать себе господина по своему усмотрению. На сходство поступка Курбского с данной привилегией указывает только слово, которым современники определяли его уход в Литву: «отъехал». Но для самого князя реализация права отъезда явно была не первостепенной. Главным для него было отстаивание принципа «права на жизнь», бегства от казни вместо того, чтобы ее смиренно принять. Отождествление некоторыми историками этого принципа с правом отъезда является искусственным.
Ограничились ли действия Курбского только достижением договоренности об эмиграции на условиях хорошего материального содержания? Доказательств каких-то более компрометирующих поступков князя нет. Некоторые ученые, например Р. Г. Скрынников, прямо обвиняли его в шпионаже: Курбский якобы передавал в Литву сведения о передвижении русской армии. Ученый связывал с «утечкой» информации поражение российских войск в битве 25 января 1564 года под Улой[103]. Однако в текстах, имеющихся в нашем распоряжении, никаких подтверждений данной гипотезе не содержится.
Мало того, кроме предательских сношений с литовцами, ряд историков приписывали Курбскому участие в тайных заговорах внутри России, связанных с планами низвержения Ивана Грозного и возведения на престол удельного князя Владимира Андреевича Старицкого, кстати, родственника Курбского. Нам представляется, что роль Курбского в заговорах, связанных с фигурой Старицкого, преувеличена. Она основана на поздних обвинениях, возводимых на беглого боярина в посланиях царя и посольских книгах. Вряд ли можно говорить и о планах Боярской думы заменить Ивана IV на Владимира Андреевича. Боярская русская «партия мира», не желавшая эскалации Ливонской войны, связывала со Старицким надежды повлиять на царя в данном вопросе. Вельможи просили его «печаловаться» государю о «мире и тишине». Но этим, собственно, оппозиционность Владимира Андреевича и его сторонников исчерпывалась. Нет никаких оснований говорить о реальных боярских планах свержения Грозного.
В качестве доказательства выполнения Курбским заданий литовской разведки некоторые обращают внимание на свидетельство Литовской метрики о выезде князя. Когда последний пересек границу, обнаружилось, что он обладает огромной суммой денег: 300 золотых, 30 дукатов, 500 немецких талеров и всего 44 (!) московских рубля. Происхождение этих денег неизвестно, но показательно, что они практически все в «иностранной валюте», что позволяет предположить – за измену боярин получил не только земельные, но и денежные пожалования. Однако ничто не мешает и другому предположению – это были трофейные деньги, награбленные князем в ливонских городах во время юрьевского воеводства.
Нет доказательств, что Курбский, еще будучи в России, занимался шпионажем, участвовал в заговорах и выдавал военные секреты, но все равно его поступок является изменой. Добровольный переход под знамена враждебной державы и дальнейшая служба во вражеской армии всегда были и есть несомненное предательство – и для современников, и для потомков. И никакими мотивами спасения собственной жизни такое предательство нельзя оправдать – в конце концов, далеко не все московские перебежчики в Литву обращали свое оружие против бывшей родины. Курбский – обратил.
Как оценили бегство князя на Руси? В инструкциях послу в Литву Е. И. Благого от января 1580 года приказывалось при случайной встрече с Курбским, Тетериным, Заболоцким много речей «не плодить», а говорить: «Ты забыл Бога, и православное христианство, и государя, и свою душу, и свое происхождение, и свою землю, и, преступив крестное целование, изменил». Та же формула повторена в наказе Г. А. Нащокину от апреля 1580 года, только к ней надо было добавить: «...и с тобою, злодеем, чего добра говорити». В наказе О. М. Пушкину от апреля 1581 года князя надлежало обвинять в измене, участии в заговоре против Ивана IV в пользу Владимира Старицкого, нападениях на русские земли, «а много речей не плодити, бранью ли чем отговариватися да пойти прочь».
В наказе посольству Д. П. Елецкого в августе 1582 года повторены инструкции, что следует говорить при встрече с Курбским. Но на этот раз в них звучат новые ноты: «Ты забыл Бога, и государя, и свою душу, и свое происхождение, и свое отечество и выступил против православной земли, и с тобою с изменником зачем по-хорошему говорить? И скажет Курбский: Я сбежал поневоле, потому что государь хотел меня убить. И им говорить: государь [не хотел тебя казнить], потому что еще не знал о твоем предательстве, а только проводил розыск о нем. А как было тебя не наказать, если ты с князем Владимиром Андреевичем [Старицким] хотел свергнуть государя и захватить власть? И хотел видеть правителем Владимира Андреевича, а не государя и его детей. И ты изменил не поневоле – своей волею. Ты еще живя в России не хотел царю добра, а [потом] и вовсе воевал Русскую землю и, изменив, оскорбительную грамоту к царю написал!»[104]
Таким образом, в глазах современников предателем Курбского сделал не только побег, но и последующие действия. Если обвинения в участии в заговоре на стороне Владимира Андреевича Старицкого вызывают сомнения, то другие поступки Курбского противоречили системе ценностей московского общества XVI века, связанной с понятиями «верности» и «измены». Нарушение клятвы верности господину, приносимой на кресте (крестоцелования), с момента принятия Русью христианства автоматически означало отречение от православия и погубление души: «Если же преступит кто, то и здесь, на земле, примет казнь и в будущем веке казнь вечную» (Повесть временных лет под 1068 годом). Соответственно, отъезд на службу Сигизмунду означал отречение от своего статуса русского князя. Как мы видим из посольских наказов, именно в этом и обвинялся Курбский.
Знал ли Иван Грозный о намерении Курбского сбежать? Ничто на это не указывает. «Утекание» князя оказалось полной неожиданностью для властей. Видимо, какая-то опала Курбскому действительно могла грозить. В 1565 году в письме к польскому королю Сигизмунду Грозный утверждал: «...начал государю нашему Курбский делать изменные дела, и государь хотел было его наказать, и он, узнав, что всем стало известно о его предательстве, бежал»[105]. В беседе с литовским послом Ф. Воропаем Грозный клялся «царским словом», что он не собирался казнить боярина, а хотел лишь убавить ему почестей и отобрать у него «места» (вотчины или должности? – А. Ф). Позже царь сочинит развернутую концепцию «измен» Курбского, отраженную как в дипломатических документах 1570 – 1580-х годов, так и в переписке государя с беглым боярином. Однако это будет сделано задним числом. Если верить имеющимся у нас документам, то в 1564 году князю грозило разве что лишь «малое слово гневно».
Однако такая трактовка событий категорически не устраивала Курбского. Ему надо было выглядеть гонимым. В эмиграции в одном из своих сочинений – предисловии к «Новому Маргариту» – князь заявил, что его бегство было вызвано гонениями со стороны Ивана Грозного и фактически оказалось изгнанием: «Был я неправедно изгнан из Богоизбранной земли и теперь являюсь странником... И мне, несчастному, что царь воздал за все мои заслуги? Мою мать, жену и единственного сына моего, в тюрьме заточенных, уморил различными горестями, князей Ярославских, с которыми я одного рода, которые верно служили государю, погубил различными казнями, разграбил мои и их имения. И что всего горше: изгнал меня из любимого Отечества, разлучил с любимыми друзьями!»[106]
В каждой строке звучит трагедия человека. Но, если отвлечься от пафоса, Курбский выглядит здесь весьма неприглядно. Необходимо подчеркнуть, что бегство Курбского за границу не было «изгнанием»: Грозный не практиковал высылку за рубеж как вид репрессий. Дворяне сами бежали из-за маячивших в перспективе гонений и в поисках лучшей доли, уже за границей изображая свою измену как вынужденную. Как правило, этот проступок и провоцировал месть властей, казни и ссылки родственников беглецов. Так было с близкими Курбского, Тетерина, Сарыхозина, Нащокина, Кашкарева и др. В глазах царя их род становился «изменническим» и подлежащим искоренению.
И мать, и жена, и сын в тюрьме, собственно, оказались как «члены семьи изменника Родины». Их арест и смерть были спровоцированы именно бегством Курбского, который бросил их в России на неминуемую гибель. Князь не мог этого не понимать, перелезая через юрьевскую стену... Тем не менее он не колебался, оставляя своих родных на произвол судьбы. Его ждало новое «отечество» – Великое княжество Литовское.
Глава пятая «НОВЫЙ КОРОЛЬ, ПРЕЖНИЙ БОГ»
«Здесь паны горды и жестокосердны...»: куда бежал Курбский
Великое княжество Литовское в XVI веке было одним из самых больших государств в Европе. В 1569 году в нем насчитывалось около четырех миллионов жителей (плотность населения – примерно восемь человек на км2). Площадь Великого княжества Литовского в середине XVI века составляла около 550 км2. Это было больше Франции (450 км2) и владений Габсбургов в составе Священной Римской империи (410 км2), но меньше Испании, европейских владений Османской империи, России.
История возникновения и развития Великого княжества Литовского обусловила несколько особенностей этого государства. Прежде всего это была страна, населенная разными народами. Правящим этносом являлись литовцы. В то же время, до 70 процентов территории державы составляли бывшие земли и княжества Древней Руси со славянским населением: Киевская, Черниговская, Пинская, Галицкая, Волынская, Переяславская, Минская, Брестская, Полоцкая, Витебская и др. Роль славянского компонента была столь велика, что в XIV – XVI веках первым официальным языком государственного делопроизводства в Великом княжестве Литовском был так называемый западнорусский язык (вторым была латынь).
Кроме того, в великом княжестве проживало немало татар. В городах, особенно в Вильно, существовали большие еврейские общины. В западные области постепенно проникали поляки. Польша выступала для великого княжества не только главным политическим партнером, но – ведущим социальным и культурным ориентиром, особенно для знати.
Этническое многообразие было тесно связано с религиозным плюрализмом. Интересно, что официально Великое княжество Литовское долгое время было последним в Европе языческим государством – крещение литовцев затянулось из-за политических разногласий, колебаний между католичеством и православием. Возникал определенный парадокс: больше половины населения в XIII – XIV веках исповедовало православие, было немало и католиков, но формально правящее сословие – литовская аристократия, и представители королевской династии вплоть до 1385 года оставались язычниками. Зато после крещения короля Ягайло под именем Владислава в католичество началось быстрое обращение великого княжества в «папскую веру». В XVI веке здесь появляются лютеране – сторонники Реформации, протестанты, и их противники – иезуиты. Кроме того, были распространены различные ереси.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на такой конгломерат народов и верований, Великое княжество Литовское не было империей. Оно являло собой уникальный пример сравнительно мирного сосуществования различных народов и конфессий в рамках одной державы под властью монархов из династии Ягеллонов. Возможно, это было связано с высокой степенью личной свободы, гарантиями личных прав. Власть старалась не вмешиваться ни в этнические, ни в религиозные вопросы, а если вмешивалась – то пыталась найти устраивающее всех компромиссное решение по острым вопросам.
Конечно, такая идиллия соблюдалась не всегда, ряд высших должностей в государстве могли занимать только католики, все литовские правители, начиная с Ягайло, исповедовали католицизм. Невозможно было представить себе на литовском престоле короля-протестанта или короля-православного. Православное население – русины – все больше концентрировалось в отдельных анклавах (например, на Волыни). Но все же и в этническом, и в религиозном плане в Великом княжестве Литовском было гораздо больше свободы, чем в любой соседней державе, будь то Крымское ханство, Россия, Священная Римская империя или Ливония. Крылатая фраза, произнесенная одним из королей Речи Посполитой, – «Я ваш король, но я не король ваших верований» – применима к государственной политике в Великом княжестве Литовском и в Средневековье, и в интересующее нас раннее Новое время.
С 1385 года Великое княжество Литовское находилось в династической унии с Королевством Польским, в 1569 году путем заключения Люблинской унии в целях спасения от наступления Ивана Грозного Литва слилась с Польшей в единое государство – Речь Посполитую.
С 1385 года в обоих государствах (исключая несколько исторических эпизодов) правил один монарх из династии Ягеллонов, носивший титул «короля польского и великого князя литовского и русского». При этом и в Польше, и в Литве одновременно существовали свои советы знати – королевская рада (в Польше) и рада панов (в Литве), свои съезды знати (сеймы), которые могли созываться на разных уровнях – от общего сейма, сейма коронных земель и сейма великого княжества до сеймиков отдельных местностей.
Особенностью политического устройства Королевства Польского и Великого княжества Литовского, а впоследствии и Речи Посполитой была слабая королевская власть. Без поддержки советов знати и сеймов король фактически не мог реализовать ни одного серьезного решения, касающегося ограничения прав знати, ущемления ее имущественного положения. Причем дворяне считали, что служат не столько королю (что отличало их от русских дворян, служивших только своему царю), сколько своему государству и народу – Речи Посполитой (Rzeczpospolita переводится как Республика).
Гонор и самомнение литовской и особенно польской знати быстро стали притчей во языцех. В XVI веке, когда у власти находились сильные и авторитетные монархи – Сигизмунд I Старый (1506 – 1548), Сигизмунд II Август (1548 – 1572), Стефан Баторий (1575 – 1586), она была еще управляема. В XVII веке заносчивость шляхты и панов вырастет до степени болезненной. Они добьются того, что все решения на сеймах должны приниматься только единогласно, – если против был хотя бы один дворянин, решение не проходило. Власть в результате оказалась просто парализованной.
Для самолюбия знати это, конечно, было приятно – когда любой, даже самый захудалый пан мог пережить свой звездный час, возражая королю, и самая некрасивая и худородная панночка теоретически могла претендовать на место королевы (и тем утешалась в своих девичьих мечтаниях и слезах). Но для страны эти амбиции играли самую негативную роль. Результаты этого беспредела дворянских вольностей в Речи Посполитой проявились довольно быстро: в XVII веке слабнущее государство начинает распадаться – шведы отобрали Прибалтику, Россия – Украину и Белоруссию. В начале XVIII века королей на варшавский престол уже сажали на своих штыках правители соседних держав, и в конце XVIII столетия Речь Посполитая была уничтожена как государство, а ее территория разделена между Россией, Пруссией и Австрией. Польша сумеет возродиться только в 1918 году...
В XVI веке, при Курбском, Литва и Польша еще только вступали на этот роковой путь. Но степень самовластия панов и шляхты была очень высока, особенно по контрасту со «служилым» положением московского дворянина. Курбскому, с его жалобами на притеснения со стороны власть предержащих, несомненно, это вольности и свободы должны были импонировать.
Предатель на королевской службе
Оказавшись в эмиграции без каких-либо средств к существованию, Курбский мог рассчитывать только на милости короля Сигизмунда. Милости не замедлили быть, но они оказались не бесплатными. В права владельца новых земель, пожалованных королем, князь мог вступить только при участии в боевых действиях на стороне литовцев.
Уже в 1564 году Курбский сражается под Полоцком во главе отряда из московских перебежчиков и 200 человек наемной конницы. Только после данного похода, подтвердив свою лояльность Литве пролитием русской крови, он смог вступить в права держателя пожалованного ему Ковельского имения. В том же 1564 году Курбский командовал войском, громившим область вокруг Великих Лук.
Ретивость Курбского в боях против былых соотечественников породила в Великом княжестве Литовском легенды о его геройстве. В Рижском архиве хранится текст, рассказывающий о подвигах князя, видимо, относящихся к боевым действиям под Великими Луками в 1564 году. Курбский, благодаря хорошему знанию местности, окружил, загнал в болото и уничтожил русский отряд. После этого перебежчик обратился к королю с просьбой дать ему тридцатитысячное войско, с которым он готов пойти на Москву. Если Сигизмунд ему не доверяет, то Курбский готов к тому, чтобы его в походе приковали цепями к телеге, окруженной стрельцами. Пусть они застрелят его в ту же секунду, как заподозрят в измене! На этой телеге, с устрашающим эскортом с ружьями наперевес, князь намеревался возглавить литовскую армию в ее победоносном шествии к Москве[107]. Перед нами, судя по высокому стилю изложения, апокриф, но показательный для понимания образа Курбского.
О полугодовой службе Курбского в литовском войске в 1565 году известно из распоряжения Сигизмунда властям Луцкого и Кременецкого поветов выдать князю компенсацию за понесенные военные траты. На сейме в Трабах Курбский обязался выставить для армии 400 лошадей, что являлось второй цифрой после пана Я. Ходкевича (1200 лошадей) и намного превосходило пожертвования других видных литовских магнатов. Князь очень хотел заслужить одобрение литовских властей и старался изо всех сил.
К декабрю 1567 года относится свидетельство об отправке Курбским в армию 100 коней. Тогда же упоминается «рота» Курбского, которая служит в Ливонской земле. О выступлении Курбского на войну с московитами и наборе в его имении конного отряда в 100 человек упоминается в ноябре 1568 года. Возможно, князь также находился на военной службе в мае 1569 года.
В сентябре – октябре 1575 года Курбский водил свой отряд против крымских татар, вторгшихся на территорию Волыни. Отряд под командованием князя участвовал в обороне Волыни против татар также в 1577, 1578, 1580 годах.
В июне 1579 года князь начал собирать отряд для участия в большом походе против московитов в войске нового польского короля, знаменитого полководца и завоевателя Стефана Батория. Возможно, отряд Курбского мог в марте принимать участие в действиях войск Речи Посполитой в Ливонии под общим командованием Криштофа Радзивилла, а в июне – в операциях на коммуникациях русских войск под Полоцком в войске под общим командованием Николая Радзивилла и Каспара Бекеша. На время похода специальным монаршим указом были приостановлены все судебные дела против Курбского[108]. Это было для князя, который в то время фигурировал в нескольких уголовных делах, очень серьезным стимулом вступить в действующую армию. Королевским указом имение Курбского было освобождено в 1579 году от уплаты пошлин. На сэкономленные деньги князь нанял 86 казаков и 14 гусар, собрал из местных жителей ополчение, основу которого составила княжеская дворня, и двинулся воевать. Отряд Курбского действовал под Полоцком и Соколом.
Однако очень скоро отношения Стефана и Курбского испортились. Король в 1579 году на Варшавском сейме провел закон о найме во всех королевских имениях Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств гайдуков для армии. Набор проводили не местные помещики, а королевские ротмистры. Тем самым роль местной шляхты была резко принижена и свелась к поставкам живой силы, которой она больше не распоряжалась: ее мобилизовывали в любое время, в любом количестве, по королевскому усмотрению. Это сильно ущемляло прерогативы знати, привыкшей самостоятельно определять, не считаясь ни с какими нормами и требованиями, свой вклад в оборону Отечества.
Курбский расценил данный закон как удар по своему княжескому самолюбию. Он оказался не властен распоряжаться подданными даже в рамках Ковельского имения! Курбский предпринял бесполезную попытку саботажа, продиктованную унижением и отчаянием. Однако намерение не давать гайдуков было быстро и бескомпромиссно пресечено суровым по содержанию именным указом Батория, в котором Курбскому указали его место и объяснили, что за срыв армейского набора имение могут отнять столь же легко, как когда-то дали. Под угрозой немедленного королевского суда Курбский подчинился.
Возможно, отряд Курбского осенью 1580 года принимал участие в боевых действиях королевских войск в районе Великих Лук – Заволочья – Озер ища, хотя точных данных об этом нет. В июне 1581 года Курбский вновь должен был прибыть с собранным им отрядом в войско Стефана для участия в наступлении на Россию. Однако до Пскова, куда направлялась армия Речи Посполитой, князь не доехал. Он заболел и остановился в своем литовском имении Криничине. Его отряд повел дальше и командовал им во время псковской осады другой перебежчик на польской службе – Кирилл Зубцовский, служебник Курбского[109].
Трудно сказать с уверенностью, действительно ли Курбского одолели болезни. Или у него все же не хватило духу быть в рядах штурмующих Псков, а то не дай бог и Печерский монастырь, где был реальный шанс сойтись с оружием в руках на крепостной стене со старцами, которые еще недавно были его духовными наставниками и учителями... Мы можем строить только предположения на этот счет.
Возвращение князя с несостоявшейся для него войны в свое имение Миляновичи было обставлено очень картинно. Его везли на носилках, привязанных между двумя лошадьми, чтобы все видели тяжесть болезни воина Стефана Батория. Больше фактов участия Курбского в Ливонской войне нам неизвестно.
Помимо несения воинской службы Курбский в Литве должен был выполнять ряд гражданских обязанностей. Вельский сейм 4 июля 1565 года назначил Курбского ковельским державцей (старостой). В 1566 году он получил должность кревского державцы и занимал ее, возможно, до 1569/70 года (лишен на Люблинском съезде), хотя отдельные документы указывают на связь Курбского с должностью кревского державцы до 1571/72 года[110].
Курбский должен был участвовать в сеймах литовской шляхты. В декабре 1566-го – январе 1567 года он присутствовал на сейме в Вильне, где решался вопрос о повышении налогов на оборону. При подготовке в 1569 году заключения Люблинской унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского и образования Речи Посполитой на Волыни были составлены списки лиц, которые в определенное время были обязаны явиться во Владимир Волынский и принести присягу об унии с Польшей. Курбский назван в списке волынских жителей кревским старостой, однако на присягу он не явился по неизвестной причине. Он оказался в компании К. К. Острожского, А. Ф. Чарторыйского, Р. Ф. Сангушко, Н. А. Збаражского, князей Вишневецких и других, которых обычно принято причислять к «русской партии» в Литве.
Данные события очерчивают и круг политических симпатий Курбского, причем в несколько неожиданном ракурсе. Если с «русской партией» его, несомненно, объединяли общие интересы по защите православия и неприятию католицизма, то королю князь был обязан всеми земельными пожалованиями, и подобный афронт был мало похож на благодарность и верноподданство. Впрочем, возможно, князь к 1569 году успел хорошо усвоить принцип шляхетских вольностей и мог позволить держать себя в отношении Сигизмунда иначе, чем московский боярин перед Иваном Грозным.
В 1570 году Курбский участвовал в Варшавском сейме и в июле того же года – в заседании панов рады, на котором разбиралось дело Матея Рудомина. В марте 1573 года Курбский был избран от Волынской земли на элекционный сейм в селе Камень под Варшавой. 16 марта 1573 года Курбский участвовал в Берестечковском сейме, где был избран от Волыни делегатом на Варшавский элекционный сейм. 15 июля 1573 года он должен был присутствовать на заседаниях Луцкого сеймика. В сентябре 1575 года князь вместе с 50 воинами выехал к месту сбора Сумского сеймика, рассчитывая сразу после совещания выступить на защиту границ Речи Посполитой от татар. В октябре он уже был в походе вместе с отрядом Константина Острожского. В январе 1578 года Курбский участвовал в коронном сейме в Варшаве, созванном Баторием. Возможно, в сентябре 1578 года Курбский находился в Луцке на сеймике, на котором обсуждались реформы Батория в отношении обязанностей шляхты и введения новых должностных лиц в систему местного управления[111].
В заключение обзора службы Курбского в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой следует упомянуть еще об одной ее стороне – неформальной, но, наверное, самой важной. Князь неоднократно привлекался королем в качестве эксперта по «московскому вопросу» в моменты принятия важных политических решений. Ученые считали данную роль Курбского очень важной. Р. Г. Скрынников утверждал, что в конце 1560-х – начале 1570-х годов в европейских дипломатических кругах «в боярине стали видеть политика, способного решающим образом воздействовать на развитие событий в России». И. Ауэрбах даже предположила, что князь на период нахождения в роли «консультанта» при Сигизмунде освобождался от военной службы[112].
Трудно судить, сколь велика была роль таких консультаций. Курбский, несомненно, пытался предстать перед Сигизмундом компетентным специалистом, человеком, не утратившим своей влиятельности в России среди бывших соотечественников. Но насколько это соответствовало реальности, а насколько эмигрант выдавал желаемое за действительное, – неизвестно. Вряд ли будет правильным вслед за Иваном Грозным видеть в Курбском закулисного инициатора большинства политических интриг против России. В Великом княжестве Литовском хватало своих панов, умевших строить политические и разведывательные комбинации.
Какие достоверные факты деятельности Курбского на международной арене нам известны? Осенью и зимой 1569 года он встречался с посланником Священной Римской империи аббатом Циром и пытался внушить ему мысль о необходимости антимосковского объединения Польши, Литвы, Империи. Князь также обсуждал с Циром возможность союза России и Империи, направленного против Турции, нимало не смущаясь, что он – не официальный московский дипломат, а политический эмигрант, в России считающийся предателем![113]
В 1570 году, когда в Речи Посполитой распространился слух о смерти Ивана Грозного, Курбский был вызван Сигизмундом в Варшаву специально для консультаций, с кем из московских бояр в данной ситуации следует вести переговоры. Весной 1571 года Курбский опять был в Варшаве и обсуждал «московскую проблему» с панами рады. Б. Н. Флоря приводит свидетельство из переписки Сигизмунда II Августа и М. Ю. Радзивилла, что в конце 1570-го – начале 1571 года король рассматривал вопрос о назначении Курбского руководителем переговоров с московской знатью. Ученый показал, что Сигизмунд делал ставку именно на связи Курбского с антигрозненской оппозицией в России. Король предлагал послать в Московию агентов, которые должны были «убеждать главных людей к вольности и свободе вместо неволи и господства тиранов». При этом особая роль отводилась Курбскому – «человеку, принадлежащему к этому народу». Она заключалась в том, что князь мог бы склонить москвичей призвать Сигизмунда на русский трон[114].
Известно, что Курбский бывал при дворе во время приемов московских послов и, возможно, пытался как-то влиять на панов рады. Во всяком случае, как мы уже знаем, с 1580 года возможность встречи с перебежчиком на литовском посольском дворе предусматривалась. Однако предусмотрительность Посольского приказа оказалась излишней. В отчетах послов встреча дипломатов с Курбским зафиксирована всего однажды. 26 мая 1581 года на приеме в Вильно у короля Стефана посольства О. М. Пушкина князь присутствовал среди панов рады, стоял «назад всех панов»[115].
Как нам представляется, влияние Курбского на отношения Великого княжества Литовского и Московского государства в литературе преувеличивается. Под пером ряда историков на Курбского как бы переходит его собственный образ «шепчущего в уши ласкателя», только теперь жертвой закулисных переговоров, тайных наговоров и клеветы является Иван IV, а «шептателем» польскому королю – князь Андрей.
Как пример приписывания Курбскому столь масштабной роли в польско-русских отношениях следует упомянуть гипотезу российского историка А. А. Зимина. В 1572 году умер польский король Сигизмунд II Август, не оставивший наследников. Новый король должен был избираться путем особой процедуры – элекции. Среди других кандидатур был выдвинут и русский царь Иван Грозный. По Зимину, Курбский якобы был страшно обеспокоен (было отчего: судьбу князя в случае победы Ивана Васильевича на выборах представить было нетрудно). И именно для того, чтобы московский деспот проиграл, князь будто бы в 1573 году сочинил пропагандистский памфлет – «Историю о великом князе московском». В нем он рисовал портрет Грозного самыми черными красками и пугал польских выборщиков ужасным, кровавым ликом государя. Все это кажется очень вероятным, однако исследования последних лет доказали, что «История...» была написана не ранее 1578 – 1583 годов, а значит, связывать ее с периодом бескоролевья нет никаких оснований[116]. Образ Курбского – пропагандиста и агитатора на выборах – оказывается вымышленным.
Деятельность князя в период польского бескоролевья достаточно хорошо известна. Он проводил интенсивные консультации с неформальным лидером «русской партии» в Литве Константином Острожским. Возможно, правда, подобные контакты были вызваны не столько принципиальным стремлением повлиять на исход «элекции» (выборов), сколько естественной обеспокоенностью ситуацией, когда на престол претендовал «лучший друг» Курбского Иван Грозный. Правда, литовские паны обсуждали с царем проект амнистии всем политэмигрантам, в том числе и Курбскому. Но бывший боярин прекрасно помнил, как царь часто весьма своеобразно понимал, что значит: «отдать вину». Думается, что никакие гарантии, которые могли прозвучать из уст Грозного, не успокоили бы перебежчика, слишком хорошо знавшего своего былого государя.
Есть свидетельства и о несогласии Курбского с германским претендентом на польский престол. Якобы князь говорил о необходимости в случае победы кандидата от Священной Римской империи не допустить присоединения к Короне русских земель Великого княжества Литовского, то есть – разрушить Люблинскую унию. Есть сведения и о том, что Курбский мог поддерживать волынского князя Слуцкого, пытавшегося принять участие в политической борьбе в годы бескоролевья. Но, как мы видим, все эти действия далеки от полемической борьбы с «кандидатом в короли» Иваном Грозным. Князя куда больше интересовали местные, волынские проблемы и роль Волыни в новом политическом образовании под названием «Речь Посполитая».
Борец за православие
Великое княжество Литовское, куда в 1564 году бежал Курбский, находилось в кризисном состоянии. В начале XVI столетия в войнах с Московским государством была потеряна Северщина, в 1514 году – Смоленск, в 1563 году, как раз накануне бегства Курбского, – Полоцк. В противостоянии с Россией, несмотря на отдельные военные успехи (победа под Оршей в 1514 году, под Улой – в 1564 году), Литва демонстрировала все большую слабость. В 1563 году, после «Полоцкого взятия», впервые в истории московская конница вышла на Виленский тракт. Очень скоро, в 1569 году, угроза военного разгрома со стороны Москвы заставит Великое княжество Литовское пойти на слияние с Королевством Польским в единое целое – Речь Посполитую. Будет заключена Люблинская уния, которая вызовет среди литовской шляхты неоднозначную реакцию. Многие паны видели в ней, и небезосновательно, начало поглощения Польшей великого княжества.
Причиной слабости Литвы были внутренние противоречия. Они лежали, как уже говорилось, прежде всего в сфере политического устройства и религиозной жизни. Шляхетская демократия порождала большие сложности в мобилизации финансовых и людских ресурсов на нужды обороны. Зато внутри страны в борьбе за землю, крестьян, имения паны неограниченно применяли друг против друга военную силу. Религиозный плюрализм, которым Великое княжество Литовское по праву гордилось (и к Литве, и к Польше применимо определение: «государство без костров»), порождал сразу несколько линий противостояния среди населения: между католиками, православными, протестантами, иудеями и многочисленными еретиками.
Эмигрант Курбский оказался вовлечен и в земельные, и в конфессиональные конфликты. О его приключениях на чужбине речь пойдет ниже. В них землевладелец Курбский был втянут поневоле, частично в силу неудачного стечения обстоятельств, частично – из-за непонимания культуры и менталитета шляхты Великого княжества Литовского. С участием Курбского в духовно-религиозной борьбе в Великом княжестве Литовском дело обстояло несколько иначе.
Еще в России князь обсуждал с печорскими монахами проблему чистоты веры и полемизировал с протестантами. Одно из первых его сочинений – «Ответ Ивану многоученому о правой вере» – предположительно было адресовано дерптскому пастору Иоганну Веттерману. Князь был возмущен высказыванием реформаторского священника, будто бы православный Символ веры «неполон и несовершенен». Он обрушил на оппонента поток цитат из Священного Писания и Отцов Церкви.
Пастор Иоганн, искушенный в богословской полемике, попытался срезать Курбского постановкой вопроса, на который со времен Первого пришествия Христа нет ответа. Он сказал: «Я не знаю, что есть истина. Слишком много мы с вами об этом спорим... Думаю, что мы узнаем лишь на небесах, что такое истина». На это Курбский возразил со всем пылом неофита, которому ведомы все тайны этого мира: «Не обретет на небесах истины тот, кто в богословии придерживается испорченных догматов... если даже совершивших малые прегрешения предают анафеме, то что говорить о тех, кто не стремится соблюдать догматы древнего благочестия?» Одним словом, у пастора Веттермана нет даже шансов попасть на Небо и там познать истину: у него, как у неправоверного, одна дорога – в геенну огненную...
Курбский в своем сочинении буквально изничтожил протестантов: «О, воистину, вы – словно тростинка, колеблемая в разные стороны порывами ветра! О, дом ваш, построенный – и это всем видно – на песке! Это по вашей воле были допущены учителя, проповедующие ложное учение! Смутились вы и зашатались, словно пьяные, понадеявшись на хитрость и пустую философию... и поэтому вся ваша священная мудрость исчезла». Особенно князя возмутило, что впавшие в ересь немцы бреют бороду и усы, тем самым нарушая заповедь о создании человека по образу и подобию Божьему, а также отрицают учение о 7000-й дате и скорый Конец света. Он сравнил протестантов с «богоборными иудеями», ожидающими вместо Второго пришествия Христа – приход Дьявола.
Досталось от Курбского и римским папам («...ваших нынешних развращенных пап, живущих, словно свиньи, нечистым смрадным житием...»), и Лютеру («...вашего новоявленного обольстителя Лютера... волка в овечьей шкуре... этого истинного предвестника Антихриста... он, окаянный, соблазнил бесчисленное множество людей, поколебал великие царства и способствовал величайшим кровопролитиям во время междоусобных войн, восстав против апостолов и святых»). Князь вынес протестантам свой приговор: «Если вы не покаетесь и не вернетесь к древнему благочестию, то суждено вам познать огненную реку, волны которой, как говорят, с огромным шумом возносятся выше облаков, а в ней законопреступники подвергаются мучениям от Дьявола»[117].
Однако в подобных гневных отповедях в адрес униженных и покоренных ливонских лютеран было легко упражняться командующему русскими войсками в Ливонии. За его спиной была не только убежденность в правоте православия, но, в случае чего, и войско, способное физически вразумить еретиков. Попав в Литву, Курбский оказался в принципиально другой ситуации. Он был потрясен, обнаружив картину, метко охарактеризованную одним из литовских епископов в письме папе римскому в 1525 году: «У нас столько вер и религий, сколько голов, потому что совесть у всех разнуздалась». По образному выражению В. Андреева, православные в Литве видели себя как бы в кольце фронтов: с востока на них наступало магометанство с «тафиями безбожного Бохмита», с запада – «италианы зловерные» с Чистилищем и доказательством происхождения Святого Духа от Сына посредством «образов геометричных» и «немцы прегордые... с лютеровою прелестью, колесом фортуны, зодиями и альманахом»[118].
И Курбский ринулся в бой за православие.
Первые годы после бегства князю, видимо, было не до книг, хотя он и заботился о перевозе из России в Литву своей библиотеки. Литовский воевода А. Полубенский предлагал выменять ее на русских пленных, но ему отказали. Когда процесс адаптации к литовскому обществу утратил свою остроту, Курбский вновь обратился к книжности. Он нашел для себя новое поприще – борьбу за чистоту православия в условиях религиозного плюрализма Великого княжества Литовского. В самом начале 1570-х годов (до 1572 года) в его имении Миляновичи под Ковелем сформировался настоящий книжный центр, где создавались, переводились и переписывались разные сочинения, но в первую очередь – классика православной литературы. В кружок Курбского до 1575 года входил шляхтич Амброджий, затем М. А. Оболенский, а после его смерти в 1577 году – Станислав Войшевский[119].
По словам самого Курбского, идея создания такого кружка возникла у него в беседах с духовным учителем старцем Артемием, бежавшим из России из-за угрозы репрессий по обвинению в ереси. Он подарил князю сборник сочинений Василия Великого. Курбский заинтересовался, все ли сочинения святого переведены на русский язык. Старец ответил, что главные тексты, особенно о еретичестве, известны только в цитатах и не переведены. А нужда в них православного люда велика. Артемий эмоционально заявил: «Я хоть и старый, но если понадобится, то даже пешком, подпоясавшись, пойду из Слуцка туда, куда ты мне велишь, и охотно помогу тебе в переводе, поправляя славянский текст»[120].
Проблема переводов православной литературы действительно стояла весьма остро. Их отсутствие давало сильный козырь католикам, указывающим, что подлинный язык веры – латинский или греческий, а «на славянском языке никто не может достигнуть учености». Это «варварское наречие» не может быть основой культурного развития. Идеологи православия горячо протестовали против подобных оскорбительных инвектив. Иоанн Вишенский писал: «В славянском языке заключена такая сила, что его ненавидит сам дьявол». Поэтому выступления против славянского языка – это «рыкание сатанинского духа»[121].
После беседы с Артемием князь, несмотря на немалый возраст (около 40 лет), стал сам учить латынь и везде искал переводчиков. Он покупал книги, планируемые для перевода[122]. Курбский упоминает, что в числе первых были приобретены сочинения Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина и «Хроника» Никифора Каллиста. Князь буквально по-детски радовался, приобретая святые книги. Он чувствовал себя миссионером, несущим свет веры и истины погрязшим в ереси жителям Великого княжества Литовского.
Курбский окружил себя такими же увлеченными людьми. Князь Михаил Оболенский, чтобы достичь совершенства в переводах с латыни, три года учился в Краковском университете, а потом, покинув жену и детей, еще на два года уехал учиться в Италию. Ученика старца Артемия, Марка Сарыхозина, Курбский приглашал принять участие в работе Миляновичского кружка следующими словами: «Моя братская просьба к тебе: во имя любовного единения нашего Христа и его раба... прояви любовь к единокровной России, ко всему славянскому народу! Не поленись приехать к нам на несколько месяцев и помоги нам, невежественным и неопытным». При этом Курбский призывал Сарыхозина бросить выгодную службу у князя Слуцкого, раздать заработанные деньги и заняться духовным просвещением соотечественников.
Вместе с Амброджием в середине 1570-х годов Курбский переводил сочинения Иоанна Златоуста, объединенные в сборник под названием «Новый Маргарит»[123]. К весне того же 1575 года Курбский замыслил сам перевести «Богословие» Иоанна Дамаскина, третью и главную часть его догматического труда «Источник знания». К 1579 году князь перевел и другие части – «Диалектику» со статьей «О силлогизме» и отдельные фрагменты труда Дамаскина.
Переводческая деятельность Курбского увенчалась созданием на рубеже 1570 – 1580-х годов в его кружке свода житий святых, который в XVI веке являлся одним из самых полных собраний сочинений Симеона Метафраста у восточных славян[124]. Он появился в момент обострения конфессионального противостояния в Великом княжестве Литовском. В 1579 году в Вильно на польском языке были изданы Жития святых (Zywoty Swiftych) знаменитого Петра Скарги, которые тут же обрели большую популярность. Между тем агиографических сборников православного характера, по образцу макарьевских Великих Миней-Четьих, катастрофически не хватало.
В основу сборника Житий святых Миляновичского кружка, по мнению В. В. Калугина, было положено компилятивное собрание агиографической литературы картезианца Лаврентия Сурия («Достоверные повествования о святых» – De probates sanctorum historiis) в первом кельнском издании (1570 – 1575 годов)[125]. Рукопись Миляновичского сборника дошла до нас (ГИМ, Синодальное собрание, № 219) и оказывается единственным сохранившимся достоверным экземпляром рукописи из скриптория Курбского.
Кроме агиографических текстов Курбским и членами его кружка активно переводились фрагменты из словарей. Известны переводы латинского толкового словаря монаха-августинца Амвросия Калепино (1435 – 1511) и «Ономастикона» Конрада Геснера (1516 – 1565).
Вообще же список приписываемых Курбскому и его кружку переводов впечатляет: два отрывка из Цицероновых парадоксов, «Источник знания» Иоанна Дамаскина, «Слово Иоанна Златоуста на пентикостие о святом Дусе», 44 – 47-я беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна, «От другие диалектики Иона Спакинбергера о силлогизме вытолковано», «Диалог» патриарха Геннадия Схолария, творения Симеона Метафраста, отрывки из хроники Никифора Каллиста Ксанфопула, отрывки из хроники Евсевия Кесарийского, «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Епифания, епископа Кипрского о восстании из мертвых свидетельство», послание Игнатия Богородице и ответ ему Богородицы, произведения Василия Великого, Григория Богослова, Дионисия Ареопагита[126].
Однако одними переводами добиться торжества православия было невозможно. То, что до наших дней дошла всего одна оригинальная рукопись XVI века с текстами, вышедшими из-под пера членов Миляновичского кружка, свидетельствует о крайне узком круге читателей, знакомых с плодами переводческой деятельности Курбского и его коллег. Популярности не было, востребованности – тоже. Князь это видел и прекрасно понимал. Надо было идти в народ. Курбский решил заняться пропагандой истинной веры. Для этого было два пути: распространение своих сочинений «в массах» и участие в публичной полемике с католиками (главным образом иезуитами), протестантами и не дай бог еще и еретиками.
Князь принял вызов современности, но на этом поприще его ждало фиаско. В 1574 году в Вильно на средства братьев Кузьмы и Луки Мамоничей бывший московский первопечатник Петр Мстиславец (соратник Ивана Федорова, также эмигрировавший в Литву) основал типографию, выпускавшую православную литературу. Курбский пытался завязать с ней связи, даже вступил с Кузьмой Мамоничем в переписку по богословским вопросам. Однако Мамонич отнесся к инициативам Курбского без энтузиазма. Для него куда более значимой оказалась затеянная в 1576 году имущественная тяжба с Петром Мстиславцем, которая и привела к закрытию православной типографии в Вильно вплоть до 1583 года.
Чувствовавший себя на переднем крае борьбы за Святую веру в Литве, Курбский предлагал публично зачитывать его послание Мамоничу всем «правоверным виленским мещанам». В письме князь выражал свое возмущение происками некоего иезуита, «который извергал многочисленные ядовитые слова на святую нашу и непорочную веру, обзывая нас схизматиками». Курбский обрушился с критикой на католиков: «...они сами явные схизматики, пьющие из источников, замутненных их папами». В послании Курбского описывались способы борьбы с иезуитскими кознями. Собственно, способов было два. Первый – уклоняться от диспутов, не ходить на иезуитские проповеди, «ибо, как сказал апостол, коварные беседы развращают добрые нравы». Второй – призвать на помощь Курбского с его переводами, «...а мы к вам поспешим с тремя достойными свидетелями: с Дионисием Ареопагитом, с Иоанном Златоустом и с Иоанном Дамаскиным»[127].
Диалога с православными панами у Курбского не получилось. Виленская православная община восприняла претензии выскочки-москаля безо всякого энтузиазма. Во втором послании к Мамоничу князь, переживая какие-то неизвестные нам конфликты, раздраженно замечает, что святые книги, которые он рекомендует для чтения, надо читать «в трезвости, оставив пьянство». Иначе иезуиты и еретики-протестанты могут ленивых разумом панов, лежащих в привычном опьянении, «...пожрать и растерзать»[128]. Князь вновь призывал читать его письмо вслух в лучших православных домах Вильно. Но понимания он не нашел.
Не менее показательна ссора Курбского с князем Константином Острожским, лидером православной «партии» в Литве. Курбский лично перевел беседу Иоанна Златоуста (о вере, надежде и любви на слова апостола Павла) для «Нового Маргарита» и отослал Острожскому. А тот, видимо, показал кому-то из духовных лиц. И они скептически отнеслись к труду Курбского, что, в общем-то, было немудрено: в 40 лет изучение языков дается с трудом, и переводы Курбского чаще всего представляли собой грубый подстрочник и явно нуждались в редактировании. Новоиспеченный переводчик обиделся и обрушился на критиканов с обвинениями, что невежественные варвары ничего не смыслят в выдающемся переводе великого текста, а вместо этого «отрыгают нечистые и скверные слова».
Особенно князя уязвил совет Острожского переводить Златоуста не на русский, а на польский язык. Курбский в полемическом запале называл этот язык варварским – «польской барбарией», с помощью которой совершенно невозможно точно передать текст Златоуста. Заканчивалось послание цитированием высказывания Дионисия Ареопагита, что не подобает метать бисер перед свиньями, и советом – раз Острожский настолько невежествен, что не смог оценить высокого подарка Курбского, пусть отдаст перевод в какую-нибудь православную церковь[129].
Судя по сохранившимся свидетельствам, нельзя назвать удачными и попытки участия Курбского и его сторонников в публичных дискуссиях по религиозным вопросам. Например, на диспуте в резиденции князей Корецких в начале 1575 года князю и его сторонникам даже не дали произнести заготовленные речи, а обвинили в болтовне, в намерении победить в споре за счет его затягивания. Курбский в написанном после дебатов письме раздраженно бросил оппоненту, Кодиану Чапличу: «Гарцуй, господин, по стремнинам, как хочешь!» – и обвинил литовских панов в отступничестве от веры отцов. Чаплич защищает Лютера, возмущался князь, а этот Лютер не более чем монах-расстрига, и все, чему он может нас научить, – «как позабавиться с женой»[130]. Однако эффект от размахивания кулаками после драки был нулевым... Курбского не слушали или слушали с недоверием, и с этим ничего не удавалось поделать.
Во второй половине 1570-х годов Курбский продолжал участвовать в полемике по церковным вопросам и занимался разоблачениями неправедных воззрений своих адресатов. Наиболее экзотичной здесь выглядит гневная отповедь, которую он в январе 1576 года дал пану Василию Древинскому в ответ на поздравление с новогодним праздником. Шляхтич был обвинен князем в язычестве. Курбский потребовал не отмечать Новый год, а соблюдать христианские праздники – Рождество и Богоявление[131].
Концом 1575-го – началом 1576 года датируется послание Курбского Троцкому каштеляну Остафию Воловичу, заметной фигуре в русско-литовских переговорах 1570-х годов. Волович отрекся от православия и принял кальвинизм. Князь пришел в благоговейный ужас от этого поступка, призвал Воловича к покаянию и угрожал карами Господними.
В конце концов активность Курбского в борьбе за православие принесла определенные плоды – он начал считаться авторитетом в данных вопросах. Если в начале 1570-х годов Константин Острожский сомневался в переводческих способностях князя, то в 1577 году он уже обращался к нему за консультацией. В Вильне вышло польское издание книги Петра Скарги «О единстве церкви Божьей под одним пастырем». По поручению киевского воеводы антитринитарий Мотовилло сочинил ответ Скарге. Но вышедшее из-под его пера сочинение не во всем соответствовало православным канонам. Заподозрив это, Острожский отправил его на прочтение Курбскому как «эксперту».
Князь не смог сразу откликнуться на обращение из-за болезни, но сочинил подробный ответ осенью – зимой того же года. Правда, для Острожского он оказался неожиданным и даже обидным. В послании Курбского Мотовилло именовался «сыном Дьявола», помощником и верным слугой Антихриста, «духовным бесом». За Острожским князь признавал статус «христианского начальника», но считал его впавшим в дерзость и глупость, раз он укрывает у себя в доме такого «ядовитого дракона», как Мотовилло, и еще дает ему столь ответственные поручения! Сочинение антитринитария Курбский назвал «навозом», «неизлечимой гангреной». Острожскому предлагалось вернуться в лоно веры предков и изгнать из своего дома нечестивцев[132]. Таким образом, попытка примирения Курбского и Острожского на ниве общей борьбы за чистоту православия не состоялась: подобными выпадами и обличениями Курбский не мог снискать себе много друзей.
Причиной неудач просветительской деятельности Курбского была противоречивость настроений среди православного населения Великого княжества Литовского. Все были согласны только в одном: Православие нуждается в выработке адекватного ответа на вызовы времени – Реформацию, движение иезуитов, раскол православных христиан и т. д. Однако этот ответ искали в двух взаимоисключающих направлениях. Одни призывали восстановить древнее благочестие, обратиться к вере отцов и дедов и видели главную угрозу православию в любых новых веяниях. А. Грушевским очень точно переданы настроения этой группы: «Пусть бранят „дурную Русь“ за ее незнание модных писателей, зато у нее вместо диалектики – богомолебный и праведный Часословец, вместо риторики – Псалтырь, вместо философии – Октоих»[133]. Другие же, напротив, считали необходимым расширение культурных контактов, просветительскую и переводческую деятельность, участие в публичной полемике и т. д.
Эти подходы нельзя квалифицировать только как апологию православия как религии, отвергающей любые новые веяния, или – конфессии, способной к обновлению. Корни противоречия лежали глубже. Это был спор, что правильнее: внутреннее благочестие, духовное строительство или же – внешняя образованность, начитанность и искушенность «во многих писаниях». Нет ли в данной искушенности соблазна?
Курбский и его кружок оказались на грани этих двух тенденций. С одной стороны, для них было важным понятие старины. Апелляция к благочестию отцов и дедов – постоянный рефрен в полемических посланиях Курбского. С другой – переводческая деятельность, изучение «богомерзкой» латыни и соблазнительной западной учености неизбежно влекли за собой определенную культурно-религиозную диффузию в мировоззрении. Очень точно характер творчества и общественной деятельности Курбского определил В. В. Калугин, назвав его «просвещенным ортодоксом». По словам А. В. Каравашкина, «суть мифологии князя в этой противоречивости, она плоть и кровь его самоощущения»[134]. Поэтому в конечном итоге Миляновичский кружок оказался чуждым и для «традиционалистов» (среди которых, кстати, был и духовный наставник Курбского в Литве старец Артемий), и для «просветителей».
Если ортодоксией князь вполне соответствовал эпохе, то просветительством он в некотором смысле опередил время. Нельзя сказать, что у Курбского и его соратников при жизни была счастливая творческая судьба. Они встречали скорее непонимание и даже раздражение современников, не говоря уже об открытой вражде. Их труды оказались востребованы позже, только в XVII веке, когда сочинения Курбского начинают ходить в списках и в Речи Посполитой, и в России.
Глава шестая СПОР С ЦАРЕМ
Существовала ли переписка Курбского и Грозного?
Князь Курбский вошел в историю не благодаря своей биографии. Мы просто знаем о нем чуть больше, чем о сотнях других русских бояр и воевод, которые не оставили автобиографии, обширной переписки, не бежали из страны и не проходили по множеству судебных тяжб в соседней Литве. Однако если бы история жизни Курбского ограничилась только вышеперечисленными сюжетами – он не был бы знаменит в веках. Славу среди потомков князю принесла его знаменитая переписка с царем Иваном Васильевичем Грозным.
Хронология переписки такова. 30 апреля 1564 года князь Курбский бежал в Литву. Сразу после побега он написал царю свое Первое послание. Государь не замедлил с ответом. Первое послание Грозного Курбскому датировано 5 июля 1564 года.
Дальше в полемике большая лакуна. По всей видимости, Курбский сочинил какой-то ответ сразу по получении Первого послания Грозного, то есть около 1564 – 1565 годов. Но этот ответ до нас в первозданном виде не дошел. Установлено, что Курбский возвращался к редактированию своего Второго послания около 1569 – 1570 годов, когда в него были сделаны вставки с рассуждениями о скором Конце света (1569 год от Рождества Христова был 7077-м от Сотворения мира, то есть последней в XVI веке роковой седмиричной датой)[135]. Однако он отослал (или хотел послать) Второе послание царю не ранее 1579 года, вместе со своим Третьим посланием. Не исключено, что в 1579 году он возвращался к редактированию этого сочинения. Таким образом, Второе послание Курбского – небольшое письмо, в современном издании занимающее меньше двух страниц, – представляет собой сложный, многослойный текст, писавшийся несколько лет[136].
Иван Грозный, не получив от Курбского никакого ответа после 1564 года, вернулся к переписке в 1577 году. Повод был весомый: царские войска взяли ливонскую крепость Вольмар, ту самую, из которой весной 1564 года Курбский написал свое первое письмо, так оскорбившее государя. Царь вспомнил о беглеце и преисполнился торжеством. Он сочинил небольшое послание (Второе), в котором в основном повторил и развил идеи Первого.
Курбский в 1570-х годах, занимаясь переводами сочинений Отцов Церкви, с их помощью усвоил ряд идей, на основе которых сумел создать развернутую концепцию истории правления Ивана Грозного. Она отразилась в его Третьем послании царю, которое писалось вечерами, после боев, в лагере Стефана Батория под Полоцком и Соколом в 1579 году. Примерно в эти же годы князь приступил к написанию своего главного сочинения – «История о великом князе Московском», которое было завершено в 1579 – 1583 годах[137].
Все эти памятники являются для нас основным источником знаний и, главное, оценок (прежде всего моральных) правления Ивана Грозного. Вот уже 200 лет, начиная с Н. М. Карамзина, историческая наука смотрит на эпоху Ивана IV через оптику, заданную Курбским (или Грозным). Однако при изучении этих текстов существует одна большая проблема: были ли Курбский и Грозный их авторами и не является ли переписка поздней фальсификацией?
Дело в том, что оригиналов писем не существует. Мало того, нет и прижизненных копий. Самый ранний список Первого послания Курбского, сохранившийся в составе библиотеки странствующего монаха Ионы Соловецкого, датируется концом XVI – началом XVII века. Все остальные тексты известны в еще более поздних копиях – XVII – XVIII веков.
Естественно, что за время хождения переписки среди других памятников русской книжности XVI – XVII веков из нее был сделан ряд заимствований, отразившихся в разных сочинениях. Американский славист Эдвард Кинан обратил внимание на несколько таких произведений: это так называемые «Плач» и «Жалоба» монаха Исайи Каменчанина, написанные в 1560-х годах, «К читателю» князя Ивана Андреевича Хворостинина (1620) и письмо царю Михаилу Федоровичу князя С. И. Шаховского (1623 – 1625).
В 1971 году вышла сенсационная книга Кинана: ученый поставил схему развития переписки с ног на голову. Он утверждал, что взгляд на сочинения Курбского как источник заимствований для произведений Исайи, Хворостинина, Шаховского глубоко ошибочен. Напротив, именно князь Шаховской, будучи в опале, в 1623 – 1625 годы вырезал различные отрывки из сочинений Исайи и Хворостинина и «сшил» их в новое произведение, которое хотел отослать царю Михаилу. Однако государь снял опалу, и Шаховской, опасаясь, что гневное письмо его скомпрометирует, «замаскировал» свой труд под послание князя Курбского царю Ивану Грозному, якобы написанное в 1564 году. Мистификация понравилась, и в 1620 – 1630-е годы либо сам Шаховской, либо кто-то из его друзей сочинил «ответ Грозного Курбскому». А затем фальсификаторы придумали весь комплекс писем и «Историю о великом князе Московском». Получается, что все эти произведения были созданы в XVII веке. Ни Курбский, ни Грозный, по мнению Кинана, никогда ничего подобного не писали[138].
У книги Кинана завидная судьба. Дискуссия о ней продолжается и поныне, вот уже более 30 лет. Для ее опровержения вышло несколько десятков статей в России, США, Германии, Великобритании, Франции и даже две монографии – в России и Дании (!)[139]. Все основные пункты концепции американского слависта были опровергнуты, однако некое смятение в умах (особенно в зарубежной историографии) он породил. Западные слависты не то чтобы согласны с Кинаном – его аргументация не выдержала критики оппонентов, – но с подозрением относятся к аутентичности переписки по принципу: «Нет дыма без огня».
Конечно, сказался и стиль ведения Кинаном дискуссии – вплоть до начало 2000-х годов он резко и напористо реагировал почти на каждый выпад в свой адрес, помещая многочисленные опровержения. Некоторые исследователи просто не решались с ним связываться. В конце концов активность Кинана доказала ошибочность поговорки: «Сколько ни говори „халва“, во рту сладко не станет». Кинан столь одержимо твердил на страницах всей мировой научной периодики, что переписка Грозного с Курбским – подделка, что в конце концов «стало сладко»: многие ученые заняли уклончивую позицию: они открыто не поддерживали Кинана, но в то же время и не соглашались и с его критиками. Проблему подлинности переписки старались обходить стороной, потому что, «с одной стороны, нельзя не согласиться», но «с другой – невозможно не признать».
Тем не менее большинство исследователей продолжали использовать переписку в качестве главного источника по истории России XVI века. Здесь исследования Кинана сыграли положительную роль: для его опровержения был отмобилизован весь цвет российской исторической и филологической науки. В 1979 году в серии «Литературные памятники» вышло подготовленное на самом высоком научном уровне переиздание переписки (его подготовили Ю. Д. Рыков, Я. С. Лурье, В. Б. Кобрин под общей редакцией академика Д. С. Лихачева)[140]. Б. Н. Морозов обнаружил древнейший список ППК, датируемый концом XVI – началом XVII века и тем самым опровергающий все построения Кинана: он появился задолго до сочинений и Хворостинина, и Шаховского[141]. Б. Н. Флорей были обнаружены несомненные свидетельства существования переписки в XVI веке: «невежливая грамота» к царю, написанная Курбским, упоминается в русских посольских документах XVI века, подлинность которых неоспорима[142].
Однако, несмотря на опровержение гипотезы Кинана, проблема здесь есть. Раз перед нами не оригинал, а поздние копии, то неизбежна постановка вопроса: насколько точно эти копии отражают оригинал? Вмешивались ли в текст поздние переписчики? Если да, то в какой степени? Что в дошедших до нас текстах осталось от Курбского и Грозного, а что – продукт творчества анонимных «соавторов» XVII века?
Вопрос на самом деле непраздный, потому что сличение различных списков показывает: вмешательство в текст было, да еще какое! Письма существуют в нескольких редакциях, различающихся по содержанию и даже по объему. Скажем, краткая редакция Первого послания Грозного меньше пространной в несколько раз! Увы, современная наука не располагает адекватной методикой определения индивидуального авторского вклада в составление эпистолярных и литературных памятников, если они сохранились только в поздних списках. Правомерна постановка вопроса о неполной достоверности авторства Курбского, о степени принадлежности его литературного наследия и XVI, и XVII векам. Видимо, наиболее правильным будет следующий вывод: несомненно, что основа этих текстов – авторская, так же как невозможно отрицать поздние переработки произведений в соответствии с запросами и вкусами новой эпохи. Отсутствие списков XVI века говорит о том, что сочинения Курбского не были востребованы современной им культурной средой. Писатель Курбский в каком-то смысле опередил время, и его творчество оказалось гораздо созвучнее литературным и интеллектуальным запросам XVII века, чем и объясняется распространение рукописей сочинений князя именно в это время.
Так о чем же спорили Грозный и Курбский, самый зловещий тиран Московской Руси и первый русский диссидент?
Курбский начинает спор: «Выблядок не преступит церковный порог», или Как царь из хранителя православия превратился в слугу Сатаны?
«Я пишу к царю, изначально прославленному от Бога, пресветлому в православии, которому Господь даровал победы над многими царствами и который должен вести свой народ в Царствие Небесное и отвечать за него перед Христом, а в наши дни в наказание нам за наши грехи переродившемуся в еретика и союзника Дьявола и Антихриста, противопоставляющего себя истинному Богу... обладателю переродившейся совести, как будто грешник, пораженный от Господа проказой, совести, настолько испорченной, что подобную трудно найти даже у безбожных народов».
С этих слов Курбский начинает свой заочный поединок с царем.
В построении первой фразы Первого послания Курбского князь следовал стандартам эпистолярной культуры, определяющей стиль обращения к православному государю. Для посланий такого рода характерно наличие так называемого «богословия» – преамбулы, которая содержала бы формулу Божественного происхождения царской власти, объявляла высокие цели и задачи, стоящие перед российским монархом. Именно это Курбский и делает в первых строках Первого послания, определяя царя как прославленного Богом и пресветлого в православии. А затем князь выворачивает «богословие» наизнанку с помощью приема антитезы. И шокированный читатель видит на том месте текста, где положено находиться прославлению Божественного характера царской власти, обращение к Ивану IV как представителю антихристианских сил.
Обвинение было страшным. Оно влекло за собой угрозу смут и мятежей: обязанностью любого православного человека было не подчиняться царю-еретику. Чем же Курбский обосновывал свои слова?
Во-первых, из державы русского царя злыми силами изгоняются лучшие люди – например, сам князь Курбский. Называя себя гонимым, он как бы присваивал участникам переписки определенные роли: безвинно изгнанный из отечества праведник, обличающий впавшего в грех правителя, и сблизившийся с дьявольскими силами царь-еретик, преследующий подлинных христиан. Теперь на князя переходили все библейские характеристики гонимых истинных последователей Иисуса, а на Ивана IV – черты гонителей христианства.
Во-вторых, царь совершает несправедливости и злодейства, уничтожая лучших людей на Руси. Данное обвинение содержит столь высокий эмоциональный накал, что процитируем его целиком: «За что, царь, ты истребил лучших людей из богоизбранного народа, Нового Израиля (Руси), и воевод, данных тебе от Бога для побед над твоими врагами, уничтожил различными способами, и победоносную святую их кровь проливал в Божьих церквях, что есть великий грех и преступление, характерное для язычников, истребляющих христиан, и обагрил их мученической кровью церковные пороги, и на верных слуг и соратников, хотящих тебе добра, по евангельскому слову душу за тебя полагающих, неслыханные в веках муки, и смерти, и гонения задумал, ложно обвиняя православных в изменах и колдовстве, и других непотребных вещах, и с большим старанием стремишься перевернуть весь миропорядок: свет обратить в тьму, а тьму объявить светом, и сладкое называть горьким, и горькое – сладким, этим ты совершаешь грех, за который, по пророку Исайе, последует Божий Суд и страшная кара и тебе, и твоему народу?»
В Средневековье люди верили, что царь может принять на себя грехи всего народа. Но эта формула могла быть и вывернута наизнанку: еще в Библии говорилось, что за грехи правителя несут наказание его подданные. Это они будут гибнуть от эпидемий, нашествия иноплеменных, голода и бедствий – за вину государя перед Господом.
В данном контексте обвинение Курбского звучало особенно зловеще: к 1564 году, в условиях затягивающейся Ливонской войны, на пороге опричнины, многие русские люди могли задумываться над тем, что Бог их за что-то карает. Кто-то потерял из-за пограничного набега литовцев жену и детей. Кто-то вернулся домой на побывку и обнаружил, что, пока он лил кровь за государево имя, поместье запустело, крестьяне разбежались, а дворянская семья сгинула невесть куда. Кто-то попал в царскую опалу – в 1564 году Иван Грозный предпринял первую за последние 15 лет масштабную «чистку» Боярской думы: впервые за эти годы ни боярство, ни окольничество не было пожаловано ни одному человеку, зато из думы по разным причинам, в том числе из-за репрессий, выбыло девять бояр и два окольничих, то есть почти четверть ее состава![143]
Мышление средневекового человека в условиях кризиса было милосердным для психики: раз нам стало плохо – то так нам и надо, это наказание за грехи. Надо покаяться, искупить их, и черные дни пройдут. Господь милостив. И тут Курбский объясняет: во всем виноват царь Иван, ставший еретиком, это за его грехи гибнет Русь православная! Какие мысли могли проснуться в головах? Страшно и подумать... И это могло особенно обеспокоить Ивана Грозного.
В-третьих, Курбский обвиняет царя в черной неблагодарности: князь служил ему верой и правдой, а Иван Грозный в ответ обрушил на него страшные репрессии и вынудил бежать из страны. Курбский утверждал, что он абсолютно невинен: «Я умом своим прилежно размышлял, и совесть мою призывал в свидетели, и искал, и смотрел, и мысленно разглядывал себя самого, и так и не понял и не нашел, чем же я перед тобой виноват и грешен».
В ужасном отношении Грозного к Курбскому особенно проявилось грехопадение царя: «И каких только гонений я от тебя не претерпел! И каких только бед и напастей ты мне не причинил! В каких неправдах и изменах ты только меня не обвинял! А все приключившиеся от тебя беды по порядку не могу и перечислить, потому что их слишком много, и горем объята душа моя. Но в целом могу сказать: всего я был тобой лишен и из Божьей Земли прогнан... Но за блага, которые я принес для тебя, ты воздал мне злом и на мою любовь к тебе ответил ненавистью, не допускающей примирения».
Лживость Курбского очевидна. Из достоверно установленных фактов его биографии известно, что он вовсе не был безвинным. Совесть князя, к которой он столь пафосно апеллировал, лукаво молчала. Как уже говорилось, нет никаких сведений и о гонениях и репрессиях против Курбского до его бегства из России, можно лишь предполагать «малое слово гневно», некую размолвку с царем, никак, впрочем, не отразившуюся на карьере наместника Русской Ливонии. Нет никаких данных и об имущественных конфискациях, Курбский отнюдь не был «всего лишен». И, наконец, князь сам бежал, а вовсе не был изгнан. Но Курбский с такой энергией и литературным мастерством описал свои страдания и злодейства неблагодарного государя, что историки почему-то предпочитают верить ему, а не Ивану Грозному...
Полагая свою роль в истории русской мысли равной царю Давиду в истории создания Библии, Курбский считал, что единственным справедливым судьей в его отношениях с царем может быть только сам Иисус Христос: «Или ты, царь, мнишь себя равным бессмертному Богу, соблазнившись в небывалую ересь? Будто ты уже не хочешь отвечать перед неподкупным судьей, надеждой всех христиан, богоначальным Иисусом, который будет судить весь мир по высшей правде, и при этом его суд не минует прегордых гонителей, которые будут наказаны за все свои прегрешения до их пределов, как сказано в Писании. Это Он, Бог мой Христос, сидящий на херувимском престоле справа от Величайшего из Высших, – судья между тобой и мною».
Князь обещал продолжить праведную борьбу с позабывшим истинную веру царем, опять-таки прибегая к высоким сравнениям себя с христианскими святителями: «Кроме того, царь, хочу тебе сказать, что ты уже не увидишь лица моего до дня Страшного суда, как нечестивые иудеи не увидели лица апостола Павла, который ходил среди них и проповедовал Божественные истины. И не думай, что я буду молчать обо всем приключившемся: до конца своей жизни буду непрестанно выступать против тебя».
Конечным итогом этой борьбы должно стать осуждение души Ивана Грозного и ее низвержение в ад на грядущем Страшном суде: «Не радуйся нашей гибели и изгнанию, не хвались своей победой над безвинно убиенными и заключенными и прогнанными вопреки Божьей справедливости, победой, которая на самом деле не победа: погубленные тобою стали христианскими мучениками за веру, на Страшном суде во время снятия пятой печати встанут у престола Господа и будут обличать тебя перед Богом день и ночь!»
Обвинения Курбского очень патетичные, но, как нетрудно заметить, напрочь лишены конкретики. Он говорит о жертвах репрессий, но не называет их поименно. Он утверждает, что царь впал в страшные грехи, но о них пишет тоже очень неотчетливо. Все, что можно понять из перечня конкретных преступлений Грозного (помимо обвинения в гонениях и казнях), – это что царь окружил себя советниками-еретиками, которые шепчут ему в уши дурные советы. Они выступают губителями «души твоей и телу, которые подвигают тебя на Афродитский грех, блудодеяние и даже жертвуют для этого своими детьми, поступая хуже молящихся Крону, пожиравшему собственных детей».
Что в данном случае имеет в виду Курбский? С «Афродитскими грехами» более-менее ясно. Под ними Курбский понимал развратную половую любовь. На это, в частности, указывает употребленный им термин «дела», который придавал обороту отрицательный смысл (ср.: «блудодеяние»). Склонность Ивана IV, женатого шесть или семь раз, к «афродитским делам» неоднократно подчеркивали современники.
В XVI веке к «блудным» грехам и разврату относились: сексуальная жизнь в запрещенные церковью дни (пост, праздники, суббота и воскресенье и некоторые другие дни недели, чаще всего среда и пятница), сношения с чужими женами или растление девиц, сношения с иноверными, использование различных сексуальных поз (разрешалась только позиция «на коне» – мужчина сверху; «грех сзади» считался признаком языческого отступничества от своей веры, а «женщина сверху» – нарушением мирового порядка, поскольку со времен Евы жена должна занимать подчиненное положение), все виды нетрадиционных половых отношений (оральный, анальный и мануальный секс, в том числе «грех есть целоваться, язык в рот воткнув жене»), половые сношения с родственниками, «блудные помыслы», переодевание в несвойственную своему полу одежду, бритье бороды (за такое уподобление себя женщине человек мог быть предан анафеме), сон без ночной одежды, участие в «игрищах» с «песнями бесовскими, гуслями, сопелями и играми нечистыми», «блевание от объедения или перепития» или после поедания «хлеба богородичного», «грех есть помочиться на человека», «грех есть мочиться с другом, пересекаясь струями», «грех мочиться на восток», и даже блудным грехом был «смех до слез»[144].
Мирян, запятнавших себя блудом и развратом, запрещалось допускать к причастию (по рекомендации святого Василия, вплоть до 15 лет!). Иоанн Постник предписывал наказывать за это трехлетним постом в сочетании с 250 земными поклонами в день. Независимая русская традиция, апокрифически возводимая непосредственно к Христу, предусматривала от восьми до десяти лет строгого поста в сопровождении тысячи земных поклонов в день. Однако на практике наказания были менее жесткими и варьировались в зависимости от типа и масштабов прелюбодеяния. Самым суровым являлось наложение трехлетнего поста без поклонов либо двухлетнего поста при 200 земных поклонах. Если прелюбодей не успел раскаяться и умер, то он лишался права на христианское погребение.
Примечательно, что церковь придавала контролю за сексуальной нравственностью большее значение, чем за социальные прегрешения: так, на исповеди предписывалось в первую очередь очень подробно расспрашивать о проступках в половой сфере. Священникам выдавались специальные вопросники, насчитывающие по нескольку десятков весьма детализированных пунктов. А лишь затем нужно было вопрошать об убийстве, воровстве и других преступлениях против общества.
На Руси кара за сексуальные прегрешения была жестче для лиц старше 30 лет, так как считалось, что они являются образцом для молодых. Также более строго преследовались рецидивы данных проступков. Наказание нарушавшего подобные заповеди царя должно было быть потому серьезнее, что он являлся нравственным примером для своих подданных. Считалось, что своими прегрешениями он «предает род человеческий Сатане». Курбский специально заострил внимание на данных грехах Грозного, чтобы усилить в глазах читателя впечатление от его антихристианского облика и придать вес своим обвинениям. Тем более что разнообразные проступки царя в этой сфере, видимо, действительно имели место.
Гораздо непонятнее ситуация с таинственными «Кроновыми жрецами» в окружении царя. Речь должна идти о какой-то ситуации, когда отец жертвует сыном, отдает его на погубление государю, причем это погубление не разовое, а осуществляется систематически. Единственная известная нам ситуация при дворе Ивана Грозного в это время, к которой можно предположительно отнести данный сюжет, – намек на жертву А. Д. Басмановым своего сына Федора для чувственных утех царя. При дворе ходили слухи, зафиксированные в произведениях иностранцев, о гомосексуальной связи Грозного с его молодым фаворитом Ф. А. Басмановым[145].
Данные обвинения Курбского лежат в русле его обличения «супротивства» и греховности государя. Содомия (средневековое название гомосексуализма) считалась страшным грехом, хотя, судя по ряду свидетельств, имела довольно широкое распространение в средневековом обществе. Само понятие возникло из библейского рассказа о грешных городах Содоме и Гоморре (Быт. 18: 20 – 19: 29). Поскольку в Библии не конкретизируется характер прегрешений жителей этих городов, то средневековыми теологами из аристотелевской философии было заимствовано понятие о содомском грехе как любом сексуальном поведении, отсутствующем в естественном, животном мире (сюда в первую очередь попадала однополая любовь).
Правда, этого оказалось недостаточно, и церковь дополнила определение еще одним признаком: противоестественными считаются любые сношения, не предполагающие зачатие детей. Кроме того, в гомосексуализме видели потрясание основ существующего миропорядка. Правильно, когда женщина подчиняется мужчине, но мужчина не должен «покорять» таким образом другого мужчину, нарушать предписанные Господом тендерные роли, «феминизировать» своего партнера. Это являлось покушением на установленную Богом земную иерархию[146].
Обличению содомии были посвящены многочисленные поучения и 33-я глава «Стоглава», по которой в качестве наказания полагалось отлучение от церкви (до покаяния и отказа от своих страстей). Святой Василий предлагал в качестве наказания 15-летнюю епитимью, однако обычно практиковались двух-трехлетние епитимьи, рекомендованные в правилах святого Иоанна Постника. Данный проступок видели причиной Божьего гнева, насылаемого на христиан.
Таким образом, обвиняя царя в склонности к содомии, Курбский намекал сразу на два православно-этических согрешения Ивана IV: во-первых, он, как потрясатель основ христианского миропорядка, должен быть отлучен от церкви, пока не прогонит «ласкателей», губящих его «душу и тело». Иначе, во-вторых, именно его непристойное поведение послужит причиной «пагубы» и бедствий для всего православного народа.
Интересно, что с призывом бороться с содомией и обличением этого греха между 1547 и 1551 годами обратился к Ивану IV его духовный наставник протопоп Сильвестр[147]. Примечательно, что в ответном послании царь, парируя буквально каждое обвинение Курбского, на данный пассаж ответил невнятно, заявив, что «губителей же душе нашей и телу нет у нас». При этом Грозный не отрицал своей склонности к плотским прегрешениям, но оправдывался тем, что «хотя и порфиру ношу... но, подобно всем людям, я немощен в усмирении плоти, и отягчен ее зовом по естеству...» и «все мы человеки»[148].
Кто в послании Курбского мог иметься в виду под злокозненными боярами? Накануне введения опричнины в число приближенных к царю входили бояре А. Д. Басманов-Плещеев, В. М. и Д. Р. Юрьевы, И. Ф. Мстиславский, И. Д. Вельский, Л. А. Салтыков, П. И. Шуйский и др.[149] И Курбским на страницах его «Истории...», и в независимых русских летописях негативное влияние на царя в начале 1560-х годов, вызвавшее введение опричнины, приписывалось представителям двух родов: Басмановых-Плещеевых и Юрьевых-Захарьиных. Курбский в своей «Истории...» под шурьями-ласкателями определенно имел в виду В. М. и Д. Р. Юрьевых: «...паче же шурья его и другие с ними нечестивые губители всего тамошнего царства».
Пискаревский летописец приписывает учреждение опричных порядков «злому совету» В. М. Юрьева и А. Д. Басманова[150]. Именно А. Д. Басманов играл ведущую роль на этапе организации и первых лет существования опричнины. Скорее всего, здесь говорится о нем или о его сыне Федоре. Вероятно, можно в данном отрывке усмотреть намек и на Юрьевых. Определеннее что-либо сказать трудно, так как далеко не все тайны двора Ивана IV нам известны.
Между тем узнать эти тайны было бы небезынтересно: по мнению Курбского, среди этих зловредных приближенных царя и находился самый настоящий Антихрист, который и сбил царя с пути истинного и способствовал его антихристианскому перерождению: «И слышал я от Святого Писания, что от Дьявола будет пущен на христианский род губитель, зачатый в блуде богоборный Антихрист, и сам знаешь, сам видишь в своем окружении советника, всем известного, который ныне шепчет ложь в уши царевы и проливает кровь христианскую, как воду, и погубил до конца уже всех сильных во Израили, цвет твоего богоизбранного народа, как будто он по своим делам соратник Антихриста: не годится тебе потакать таким, о, царь!».
Антихрист (греч. ’αντιχριδτοs – «противохристос») – в христианстве противник Иисуса Христа, носитель абсолютного греха («человек беззакония, сын погибели»), противящийся всем Божьим заповедям и превозносящийся превыше всего, выдающий себя за Господа Бога (2 Фес. 2: 3 – 4). Он воплощает в себе абсолютное отрицание веры в Христа (1 Ин. 4:3; 2 Ин. 1:7). Однако при этом Антихрист – не сам Сатана, а лишь его посланник, земной человек, принявший, по выражению толкователя Нового Завета Феофилакта Болгарского, всю дьявольскую силу.
Относительно происхождения и времени появления Антихриста Священное Писание не дало однозначных ответов. Из него явственно следует лишь то, что Антихрист придет перед Вторым пришествием Христа и 42 месяца процарствует на земле, но будет сражен Иисусом, вторично сошедшим на Землю. Однако средневековые теологи (Августин Блаженный, Феодорит Киррский и др.) путем толкований дали развернутую трактовку жизни и деятельности Антихриста. Согласно ряду легенд, он родится от монахини, нарушившей обет безбрачия, или от кровосмешения (инцеста), или от блудницы, лицемерно выдающей себя за девственницу. Именно такую трактовку приводит в Первом послании царю Курбский.
Почему Курбский, перечисляя все тиранства и антихристианские деяния Ивана Грозного, обращается к образу Антихриста?
Для этого надо вновь обратить внимание на эсхатологические пророчества. Например, в Тибуртинской Сивилле, составленной при Константине II (337 – 340), повествование построено в виде толкования сновидения 100 сенаторов о десяти солнцах. Каждое солнце обозначало одно из человеческих поколений или родов, в 9-м фигурировал Константин Великий. Согласно Сивилле, явится последний царь, rex Graecorum cujus nomine et animo Constans, который отомстит за христиан, и в его царство будет мир и великое плодородие. Но в этот благословенный век и родится Антихрист из колена Данова. С севера обрушатся нашествием народы, закованные Александром Македонским. Тогда царь придет в Иерусалим и на Голгофе передаст свое царствование Богу и Отцу. Это вызовет кратковременное вокняжение Антихриста, но затем его бесславную гибель и пришествие Христово.
Таким образом, если признать существование в Московской Руси идеи, что православный царь является проводником русского народа в Царствие Небесное и нарастание эсхатологических настроений в начале 1560-х годов, то смысл обвинений Курбского становится понятен и особенно опасен для царя. В том, что грядет скорое Второе пришествие Христа, были согласны и князь Андрей, и царь Иван. И оба были убеждены, что к нему надо готовиться. Только Курбский видел эту подготовку в покаянии и соблюдении благочестия, а Грозный – в активизации роли православного государя как наместника Бога на земле, вплоть до организации казней грешников «в последние времена».
Но! Накануне Конца света должен появиться не только «последний царь», но и Антихрист. Грозный был готов стать «последним царем» и приступил к исполнению этой роли. Но Курбский ставил вопрос: не соблазн ли это? Не стал ли обратившийся в «супротивство» царь на самом деле слугой, предтечей Антихриста и чуть ли не самим Антихристом?
При этом он напрямую не обвиняет царя (хотя характеристики, даваемые им Грозному, аналогичны атрибутам Антихриста), но говорит о появлении возле государя некоего льстивого советника, с которым-то и можно отождествить Антихриста. К сожалению, личность этого советника достоверно не идентифицируется. Самым аргументированным является предположение, что речь идет об уже упоминавшемся А. Д. Басманове.
Однако непонятно, почему Курбский называет этого советника «выблядком», незаконнорожденным. Историк Р. Г. Скрынников предложил следующее объяснение. Отец Алексея, Данила Басманов, попал в плен к литовцам в 1514 году и так и умер за границей. Первое воеводское назначение А. Д. Басманов получил очень поздно – в 1544 году, то есть, судя по датировке пленения отца, в 30-летнем возрасте, что нетипично для дворян того времени. Возможно, он родился позже или долго не мог добиться никаких постов из-за слухов о своем рождении от другого отца?[151] Предположение, конечно, очень зыбкое – нет никаких гарантий, что до нас дошли все сведения о службах Басманова. Мы уже писали, что о начале службы того же Курбского сведения также путаные и имеют лакуны. Видимо, это общая ситуация для того времени – начальные этапы карьеры, как маловажные, плохо фиксировались в документах.
Так или иначе, образ Антихриста служит Курбскому в качестве дальнейшей аргументации главной идеи своего послания: доказать «супротивный», нехристианский характер власти Ивана IV. Слова князя об Антихристе в окружении государя несли непосредственную угрозу для трона: по средневековому менталитету, присяга на верность царю, вступившему в союз с Антихристом, утрачивала силу. Долг христианина заключался не в покорности такой власти, а во всяческом противодействии и борьбе с ней. Любой пострадавший при этом становился святым мучеником.
Тема «выблядков» в конце Первого послания получает неожиданное продолжение. Уже после своей подписи под посланием Курбский неожиданно возвращается к письму и помещает одну-единственную библейскую цитату. Но такую, что царь буквально взвился. Филолог В. М. Сергеев обратил внимание, что ответ на основной текст Первого послания занимает в послании Ивана Грозного 18 процентов текста, а ответ на две строчки постскриптума Первого послания – 15 процентов[152]. Чем же Курбский сумел так сильно задеть царя?
Курбский написал: «В законе Господнем первом написано: „Моавитянин, и аммонитянин, и выблядок до десяти родов во церковь Божию не входит“ и прочая». Это – слегка искаженная цитата из библейской книги Второзакония (Втор. 23: 2 – 3). Моавитяне и аммонитяне – ближневосточные племена. По легендам, праотцы этих племен родились от кровосмешения (моавитян – между Лотом и его старшей дочерью (Быт. 19: 36 – 37), а аммонитян – от сына Лота Бен-Амми, рожденного в кровосмешении с его младшей дочерью).
Почему же тема кровосмешения оказалась столь болезненной для царя? Вряд ли его могли настолько задеть намеки на «нечистое» происхождение его первосоветника А. Д. Басманова. Поэтому возникло предположение, что Курбский намекнул на какое-то неприятное обстоятельство, касающееся самого царя.
Историк В. Б. Кобрин сделал предположение, что слова князя могли относиться и к самому Ивану IV. В подтексте, скрытом за библейской цитатой, ученый видел указание Курбского на незаконность развода Василия III и заключения нового брака, от которого и родился Иван IV[153].
Иван IV был рожден в 1530 году во втором браке Василия III с литовкой Еленой Васильевной Глинской, заключенном в январе 1526 года. Перед этим царь развелся и в ноябре 1525 года насильно постриг в монахини свою первую жену, с которой прожил 20 лет, Соломонию Сабурову, по причине ее «неплодства». Развод великого князя был фактом беспрецедентным и вызвал конфликт Василия III с православной церковью. Тем более что пострижение великой княгини было скандальным: она не хотела в монастырь, во время ритуала пострижения не проявляла никакого христианского смирения, срывала с себя монашеское платье и топтала его. Соломония покорилась своей судьбе только после того, как испытала чудовищное потрясение: один из приближенных Василия III публично побил ее, русскую государыню, кнутом! К тому же дело могло обернуться куда хуже: во время «сыска о неплодстве», который Василий учинил против Соломонии, выяснилось, что несчастная женщина, отчаявшаяся в попытках завести ребенка, обращалась к колдуньям и ворожеям. Это пахло костром: колдовство на великого князя, пусть даже и с таким благим намерением, чтобы он наконец-то смог зачать ребенка, могло караться смертной казнью. Монастырь в этой ситуации был «меньшим злом»...
Примечательно, что Курбский, начиная свою «Историю...» с описания развращения и «облютения нравов» русских государей как следствия развода Василия III «против Закона Божия», говорит, что против развода также выступал его родственник С. Ф. Курбский. Последнего за это Василий III «от очей отогнал, даже и до смерти его»[154].
Все это, казалось бы, подтверждает предположение о том, что Курбский намекал на развод Василия III и считал Ивана IV, рожденного во втором браке, «выблядком». Однако, возможно, обвинение Курбского было еще более оскорбительным. Определение «выблядок» могло быть намеком... на некоторую неясность происхождения самого Ивана IV!
Дело в том, что после развода с Соломонией и женитьбы на Елене Глинской детей опять не было. Можно себе представить переживания Василия III. По стране тем временем начинают гулять крайне тревожные слухи, будто бы Соломония в обители родила сына! В суздальский Покровский монастырь срочно едет правительственная комиссия с одним-единственным вопросом: был ли мальчик?!
Мальчика не нашли. Но определенная загадка здесь есть: когда уже в советское время археологи вскрыли гробницу Соломонии в Покровском монастыре, они нашли рядом кенотаф – пустое захоронение, по размерам могилы предназначенное для ребенка до 10 – 12 лет. В нем лежала кукла, одетая в детскую рубашечку со следами крови. Ложная могила была засыпана известью.
Что это такое? Почему в могиле детская кукла? Почему такое языческое захоронение оказалось рядом с гробницей Соломонии? Был ли это след каких-то психических отклонений, связанных с тем, что бывшая великая княгиня, страстно хотевшая ребенка и фактически безвинно поплатившаяся за это жизнью, стала играть в куклы? Или же ребенок действительно был, его тайно спасли от государевых следователей, организовав ложное захоронение? Наверное, эту драматическую тайну русской истории мы никогда не узнаем...
Между тем после свадьбы Василия III и Елены Глинской проходил год за годом, а желанного наследника все не было. Нетрудно себе представить чувства Елены: она имела возможность воочию убедиться, что на Руси бывает с бесплодными великими княгинями. Причем ни в чем не виноватыми: после второго брака стало ясно, что причина – в Василии III. Мы можем только догадываться, что происходило в великокняжеских покоях осенью 1529 года. Может, произошло чудо, и после 24 лет бесплодия Василий внезапно обрел способность к зачатию. А может, Елена, боясь повторения судьбы Соломонии, решила: ребенок должен быть. Любой ценой. В конце концов во дворце достаточно здоровых молодых мужчин. Взгляд ее остановился на князе И. Ф. Овчине-Телепневе-Оболенском...
В пользу данной версии, в частности, свидетельствуют записки иностранных современников, С. Герберштейна и П. Одерборна, которые зафиксировали в своих сочинениях слух о незаконнорожденности Ивана Грозного. На это также указывает появление наследственных психических заболеваний в роду Рюриковичей, начиная с Ивана Грозного и его потомства (его брат Юрий – слабоумный, сам царь – параноик, его дети: Федор – слабоумный, Дмитрий – эпилептик). До этого ничего подобного в роду русских великих князей не было, что показывает на испорченную наследственность, возможно, кем-то привнесенную. Среди родственников Овчины-Телепнева-Оболенского бытовали прозвища, свидетельствующие о странностях в поведении и отклонениях в психическом развитии[155].
Именно Телепнев был сделан Еленой Глинской своим соправителем после смерти Василия III в 1533 году, а в 1538 году, вслед за гибелью Елены (по некоторым данным, ее отравили), он сразу же был низвергнут, посажен в тюрьму, где и умер.
Версия о незаконнорожденности Ивана IV, несомненно, носит легендарный характер. Ее право на существование полностью отрицают антропологи, считая, что черты лица «средиземноморского типа» Иван IV мог унаследовать только от Софьи Палеолог, что доказывает родство Грозного с Василием III[156]. Но для изучаемого случая реалистичность или лживость легенды совершенно не важна. В любом случае, несомненен факт бытования в XVI веке подобных слухов. Есть и русские свидетельства. В произведениях публициста XVI века Ивана Пересветова, в аллегорической форме отобразившего ряд моментов российской истории, об Иване IV говорится: «...и приидет на него охула от всего царства его... и будут его государя хулити, не ведая его царского прирожения».
Поэтому нельзя исключить, что в постскриптуме Курбский делал очень болезненный для царя выпад, намекая на слухи и легенды о неясном происхождении самого Ивана Грозного. Это придавало бы концепции князя о «супротивстве» государя законченный характер: Иван Васильевич оказывался недостойным титула православного царя и близким к Антихристу по всем статьям. В таком случае понятна столь острая и нервная реакция Грозного на постскриптум Первого послания Курбского. В то же время царь по понятным причинам не мог ответить Курбскому: «Врешь, я не выблядок!» И стороны обменивались колкостями, делая таинственные намеки, над разгадкой которых бьются историки.
«Спор глухих»: ответ царя Ивана
Ответ царя Ивана Васильевича на словесные эскапады беглого боярина последовал незамедлительно – он был готов уже в июле 1564 года. Только вот его облик и содержание не могут не поражать. Во-первых, он был примерно в 20 раз больше по объему. Во-вторых, этот огромный текст был... совсем про другое. Такое ощущение, что Иван Грозный отвечал вовсе не на письмо Курбского. Это впечатление очень точно передано знаменитым русским историком В. О. Ключевским: «Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника. „За что бьешь нас, верных слуг своих?“ – спрашивает князь Курбский. „Нет, – отвечает ему царь Иван, – русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи“. В такой простейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки»[157].
Что же ответил Грозный Курбскому?
Естественно, что первым делом надлежало отмести обвинения в еретичестве. Что Иван IV и сделал. Он объявил себя и свой род восходящим к Владимиру Крестителю, носителем «искры Благочестия» Российского царства. Царь – воплощение «истинно православного христианского самодержавства», находится, как и все правители России, под особым покровительством Бога.
Однако особо развивать данную мысль было невозможно, и Грозный это понимал. Если Курбский твердит, что царь – «супротивный», вероотступник, а Грозный на это отвечает, что он хороший, праведный, спор просто заходит в тупик. Исходя из того, что лучший вид защиты – нападение, Иван Васильевич в свою очередь обрушился на Курбского... с обвинениями в вероотступничестве и еретичестве! Это он, князь перебежчик – губитель христианства и, стало быть, союзник Антихриста! И тогда все его выпады против Грозного – не более чем лукавое умышление, обман, служение Дьяволу, попытка оклеветать праведного русского царя.
Уже в первых строках Иван дал исчерпывающую характеристику Курбскому, которая и определила весь тон письма: «Ответ бывшему прежде (приверженцу) истинного православного христианства... ныне же – отступнику от честного и животворящего креста Господня и губителю христиан, и примкнувшему к врагам христианства, отступившему от поклонения божественным иконам (так! – А. Ф), и поправшему все священные установления, и святые храмы разорившему (так! – А. Ф), осквернившему и поправшему священные сосуды и образы...» Очевидно, что Курбский никогда не был иконоборцем, да и к июлю 1564 года он еще не успел повоевать на стороне Великого княжества Литовского и разорить какие-либо православные храмы. Царь приписывает князю прегрешения, которых он не совершал. Но для него это неважно: создавая образ вероотступника Курбского, он точно так же прибегал к набору литературных штампов, как и его оппонент.
Грозный продолжал изничтожать Курбского. Он обвиняет его в погублении собственной души, «поверив словам своих бесами наученных друзей и советчиков». Князь назвал царя «супротивным», то есть богоотступником, – царь заклеймил князя и его друзей как «бесов»: «подражая бесам, раскинули против нас различные сети, и, по обычаю бесов, всячески следят за нами, за каждым словом и шагом, принимая нас за бесплотных, и посему возводят на нас всяческие поклепы и оскорбления, приносят их к вам и позорят на весь мир... вы, словно смертоносная ехидна, разъярившись на меня и душу свою погубив, поднялись на церковное разорение».
Эти слова указывают нам на новые грани конфликта Курбского и Грозного. Во-первых, царь считал обиженным и жертвой репрессий себя, а не Курбского. А князь под его пером выступал злодеем, который осмелился унижать своего государя и помыкать им! Во-вторых, видно, что между Иваном и князем Андреем действительно был какой-то конфликт – но его корни лежали в духовно-этической сфере. Курбский сумел как-то особенно болезненно задеть самолюбие царя, разбудить его комплексы, возникшие еще в детстве. На протяжении всего послания Иван неоднократно возвращается к этой теме: «Ни в чем нам воли не было, но все делали не по своей воле... Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Петрович Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца, и положив ногу на стул, а на нас не взглянет – ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую кичливость? Как исчислить подобные бессчетные страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя».
Да, перенести то, что подданные не смотрят на тебя со страхом, как раб на господина, для Ивана Грозного, наверное, действительно было трудно. Так и до душевной травмы недалеко. А сколько таких кичливых подданных, столько и ужасных страданий... В этих словах Грозного откровенно проглядывает болезненно самолюбивый тиран и деспот.
Примечательно, что Курбский включается царем в некую группировку, объединяемую местоимением «вы». В нее мнительный государь записал всех «кичливых» бояр и воевод, начиная со своего детства и вплоть до предопричных лет (поскольку Иван неоднократно подчеркивает, что безобразия, в которых виновны Курбский и его товарищи, не прекратились «и до сего дня»). Например:
«...Ты требуешь от человека больше, чем позволяет человеческая природа... но более всего этими оскорблениями и укорами, которые вы как начали в прошлом, так и до сих пор продолжаете, ярясь как дикие звери, вы измену свою творите – в этом ли состоит ваша усердная и верная служба, чтобы оскорблять и укорять?.. осуждаете меня, как собаки... так же как эти святые страдали от бесов, так и я от вас пострадал!»
«Насколько сильнее вопиет на вас наша кровь, пролитая из-за вас: не из ран и не потоки крови, но немалый пот, пролитый мною во многих непосильных трудах и ненужных тяготах, произошедших по вашей вине! Пусть не кровь, но немало слез было пролито из-за чинимого вами зла, оскорблений и притеснения, сколько вздыхал я в скорби сердечной, сколько перенес из-за этого поношений, ибо вы не возлюбили меня... И это вопиет на вас к Богу моему: несравнимо это с вашим безумием... все, что было посеяно вашей строптивой злобой, не перестает жить и непрестанно вопиет на вас к Богу!»
Казалось, что конфликт лежит сугубо в бытовой сфере – что некие приближенные указывали государю, что ему есть, пить, что делать с женой и вообще как дышать: «Так было и во внешних делах, и во внутренних, и даже в мельчайших и самых незначительных, вплоть до пищи и сна, нам ни в чем не давали воли, все свершалось согласно их желанию, на нас же смотрели как на младенцев». В этом-то и заключалось преступление и измена Курбского и его соратников: «В том-то и причина и суть всего вашего злобесного замысла, ибо вы с попом решили, что я должен быть государем только на словах, а вы бы с попом – на деле».
«Супротивство» Грозного – на самом деле не еретичество, не вероотступничество, а освободительный бунт против изменников, которые пытались нарушить установленный Господом миропорядок и подчинить рабам царя. Иван гневно пишет: «Разве это и есть „совесть прокаженная“ – держать свое царство в своих руках, а своим рабам не давать господствовать? Это ли „против разума“ – не хотеть быть под властью своих рабов? И это ли „православие пресветлое“ – быть под властью и в повиновении у рабов?»
В отличие от Курбского, который был в своих высказываниях достаточно абстрактен, царь был предельно конкретен – если уж речь зашла об изменниках, то назовем их поименно. Грозный именует их носителями «вашей собачьей власти» и объединяет с Курбским следующих лиц: священника Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестра, окольничего Алексея Федоровича Адашева и боярина Дмитрия Ивановича Курлятева. Под пером царя эти люди предстают злодеями, которые запугали юного и чистого монарха «детскими страшилами» и фактически правили страной от его имени, при этом совершая все те преступления, о которых писал Курбский. Тем самым Иван нашел гениальный ответ на обвинения в различных преступлениях. На обличения Курбского он ничтоже сумняшеся заявляет: «Да, преступления были. Но это не я. Это – ты и твои друзья!»
Присмотримся повнимательнее к предполагаемым «преступникам» и «друзьям Курбского». Как мы уже писали, факт участия самого князя в политической жизни Русского государства вызывает большие сомнения: он слишком подолгу бывал на фронтах и слишком мало – при дворе. Курбский чисто физически не мог «править» Россией от имени царя и входить в какую-либо правительственную группировку. Вряд ли, будучи ее членом, он не вылезал бы из воеводских назначений на окраинах страны.
Итак, поп Сильвестр. Фигура в русской истории известная, хотя откровенно дутая. Руководствуясь словами Ивана Грозного, некоторые историки были склонны видеть в нем «доброго гения» русской истории:
«Протоиерей придворного собора, пришелец из Великого Новгорода, овладевает царем и царством, царем – чудовищем зла, одно имя которого наводило на всех ужас, царством, только что сплоченным из разных уделов, расстроенным десятилетнею почти анархиею, целые 13 лет (1547 – 1560) заправляет царем и царством, становится гением, ангелом-хранителем царя и возводит царство на высоту, какой оно не достигало в течение всей предшествовавшей исторической жизни. Явление беспримерное в нашей истории. По одному этому Сильвестр – великая нравственная политическая сила»[158].
Некоторые историки стремились увидеть в возвышении Сильвестра не обычный политический фаворитизм, а попытку внесения принципиальных новшеств в модель государственного устройства России. Дальше всех здесь пошел Д. Н. Альшиц, высказав мнение, что Сильвестр был специально возвышен для «демократизации» государственного управления (sic! – А. Ф.) и «олицетворял стремление светских и духовных сил к созданию ограниченной монархии, номинально возглавляемой добрым царем»[159].
В то же время в ряде работ высказывалась критика концепции политического всемогущества Сильвестра в 1550-е годы. Наиболее развернуто данная точка зрения представлена в работах американского историка А. Н. Гробовского. Он пришел к выводу, что «единственная группа или партия, которую священник (Сильвестр. – А. Ф.) когда бы то ни было возглавлял, состояла из лиц, завербованных историками правления Ивана Грозного, начиная с С. М. Соловьева». По его мнению, историки «смешивают близость Сильвестра к власти с обладанием ею». Надо отличать Сильвестра реального, действовавшего в 1550-е годы, от образа Сильвестра переписки Грозного и Курбского, сформировавшегося в 1560 – 1570-е годы. Этот образ – не отображение реальной личности, а «аргумент в споре». Первоисточником сведений о «всевластии» благовещенского священника были произведения Грозного, а слова Курбского в его поздних произведениях (Третьем послании царю и «Истории...») есть всего лишь «вывернутые наизнанку» тезисы Первого послания Грозного. Сильвестр Грозного относится к Сильвестру Курбского как «тип к антитипу». Произведения Курбского созданы в своеобразном жанре антижития: их цель – показать «грехопадение некогда праведного царя»[160].
Что мы реально знаем о Сильвестре? Он родился в конце XV века, то есть оказался при дворе Ивана Грозного уже в довольно преклонных летах. В Новгороде Великом священник имел мастерскую, специализирующуюся на книжном и иконном деле, торговле, ювелирном искусстве, изготовлении церковной и книжной утвари. Дата появления Сильвестра в столице не установлена. Первое достоверное его упоминание в качестве священника московского Благовещенского собора относится к 1546 году. По всей вероятности, он переехал из Новгорода вскоре после назначения новгородского архиепископа Макария московским митрополитом, то есть после 1542 года.
Стоит отметить, что Сильвестр, вопреки распространенному мнению, никогда не был духовником Ивана IV, по крайней мере официальным. До конца 1547 года им оставался Федор Бармин, затем, в 1548 – 1549 годах, его сменил Яков Дмитриевич, а в 1550 – 1562 годах этот пост занимал Андрей, будущий митрополит Афанасий. В качестве служителя благовещенского клира после пожара 1547 года Сильвестр был назначен старостой для надзора над правильным восстановлением храмовых и церковных росписей в Кремле. Здесь ему довелось пережить неприятный эпизод биографии: в 1553/54 году по доносу дьяка И. М. Висковатого он оказался замешан в деле о церковной ереси, якобы проявившейся в восстановленных росписях.
Данное обстоятельство очень важно для оценки реальной роли Сильвестра при дворе. Фигуре всесильного временщика плохо соответствует то, что по требованию какого-то дьяка собирается собор, на котором звучат страшные обвинения в адрес человека, который, если верить Грозному, вертит царем будто марионеткой! При этом сам обвинитель, Висковатый, потерпевший на соборе сокрушительное поражение, очень легко отделался: никакого влияния на его служебную карьеру проигрыш процесса не оказал. Если бы Сильвестр в действительности «правил Русскую землю», то такая развязка истории выглядела бы ненормальной. В 1554 – 1560 годах И. М. Висковатый и соратник Сильвестра – А. Ф. Адашев вместе проводили многие важные дипломатические переговоры. Сближение этих людей, в свете собора 1553/54 года, если бы Адашев и Сильвестр были бы «заодин», совершенно необъяснимо.
В конце 1550-х годов Сильвестр удалился в Кирилло-Белозерский монастырь. Ему было тогда не менее 65 – 70 лет. Здесь он и умер между 1568 и 1573 годами.
Сильвестру приписывается составление целого ряда поучительных посланий, а также составление или редактирование в 1546 – 1552 годах знаменитого «Домостроя» – этого устава домашней жизни[161]. В свете этого обвинения Ивана Грозного, возможно, не были столь беспочвенны – судя по этим текстам, Сильвестр был склонен к чтению нотаций и занудной мелочной регламентации частной жизни. При благоприятных обстоятельствах священник придворной церкви имел возможность попытаться «повоспитывать» царя – если, конечно, царь был готов его слушать... Болезненно самолюбивый человек, которым, несомненно, был Иван Грозный, мог не просто усмотреть в таких нотациях бестактность и несоблюдение субординации, но сделать далекоидущие выводы о стремлении «злобесного попа» подчинить волю государя и от его имени править страной, держа царя «за младенца».
Если нет никаких следов государственной деятельности Сильвестра, кроме облыжных обвинений со стороны Грозного и последующего панегирика Курбского (о нем речь пойдет ниже), то с окольничим Алексеем Федоровичем Адашевым ситуация несколько сложнее. В чине стряпчего он впервые появляется на страницах источников в начале 1547 года. В разряде свадьбы Ивана IV он назван в числе лиц, мывшихся с Грозным в бане и стеливших новобрачным Ивану и Анастасии постель. В 1550 году он краткое время занимал должность государственного казначея, но его карьера на этом поприще не задалась. Свое возвышение Адашев начал с «Казанского взятия» 1551 – 1552 годов. В ходе данной кампании он продемонстрировал незаурядные дипломатические способности. Именно Адашев от имени русской стороны 6 августа 1551 года передал Шигалею условия, на которых тот получал казанский престол. Он же вел дальнейшие переговоры с марионеточным ханом и в феврале 1552 года предъявил ультиматум о сдаче Казани на милость Ивану IV. Ему пришлось и повоевать: именно Адашев руководил подготовкой знаменитого подкопа под стены крепости в сентябре 1552 года.
В 1553 году Адашев вошел в состав Боярской думы во втором по значению думном чине окольничего и оставался им до своей смерти. Таким образом, он не смог повторить карьеры отца (тот был боярином). Однако Адашев, по-видимому, действительно играл очень весомую роль в политической жизни, далеко выходящую за рамки его невысокого статуса в Боярской думе. В деловой документации 1550-х годов фигурируют три человека, которые формально не занимали высоких руководящих постов, но от имени которых издавались различные государственные жалованные грамоты (иногда при этом можно встретить формулировку, что они «приказывали царевым словом»). Это А. Ф. Адашев, Л. А. Салтыков и Ф. И. Умной-Колычев[162]. Этот феномен уникален и позволяет согласиться с тем, что Адашев действительно обладал исключительными полномочиями, которые он мог получить только непосредственно от царя.
В 1550-е годы Адашев вместе с дьяком И. М. Висковатым участвовал практически во всех дипломатических переговорах с Астраханью, Великим княжеством Литовским, Ливонией, Швецией. На этом он, собственно говоря, и погорел. В 1558 году по желанию царя Россия ввязалась в Ливонскую войну. Будучи весьма неглупым человеком, хорошо искушенным во внешней политике, Адашев сразу понял, чем грозит России война на два фронта: ливонский и крымский. К тому же Ливонская война стремительно превращалась из локального конфликта с ничтожным Ливонским орденом в столкновение с коалицией европейских держав.
Адашев не то чтобы был категорически против войны за Прибалтику – он был за разумность и постепенность, за то, чтобы Россия в этих конфликтах рассчитывала свои силы. Этот трезвый подход трагическим образом не соответствовал экстремистским настроениям царя, который рвался объявить войну всей Европе и воспринимал любую неудачу своих воевод или проступок дипломатов как измену. А Адашев такой проступок совершил: во время очень важных для России переговоров с Данией, на которых русская сторона в перспективе хотела добиться признания легитимности своих захватов в Прибалтике хоть одной европейской страной, Адашев в марте 1559 года согласился по просьбе Дании заключить в Ливонии шестимесячное перемирие. Он сам рассматривал это как не более чем временную, тактическую уступку. Дипломат рассчитывал, во-первых, на большую сговорчивость Дании, во-вторых – на «вразумление» Ливонии. Мол, почувствуют ливонцы разницу между военным и мирным временем и не захотят продолжать войну, а выполнят все требования России.
Адашев ошибся. Ливония использовала перемирие как передышку для найма солдат в германских землях, мобилизацию собственных сил и, главное, – для интенсивных переговоров и консультаций с европейскими странами, в частности – с Королевством Польским и Великим княжеством Литовским. В октябре 1559 года из Юрьева-Ливонского князь А. Ростовский сообщил: ливонцы атаковали позиции русской армии на месяц раньше истечения перемирного срока...
Иван Грозный приказал воеводам идти на выручку осажденному Юрьеву. Из Ливонии приходит весть о поражении под Юрьевом русского сторожевого полка под началом 3. И. Очина-Плещеева. По распутице, наспех, из Москвы выступают полки во главе с П. И. Шуйским. Лишь в декабре ливонский магистр снял осаду и отошел от Юрьева. Резкое обострение ситуации в Ливонии было расценено Иваном IV как следствие ошибок, совершенных русскими дипломатами в ходе переговоров 1559 года.
Ситуация была усугублена еще и личной трагедией государя. Во время получения известий из Ливонии Иван IV находился в Можайске с семьей: Анастасией, Иваном и Федором. 1 декабря 1559 года, обуреваемый беспокойством, он по бездорожью и плохой погоде срочно возвратился в Москву. Путешествие оказалось роковым для царицы Анастасии: не выдержав его тягот, «грех ради наших царица недомогла». Простуда и лихорадка, полученные в пути, вызвали резкое ухудшение здоровья, обострили давно копившиеся болезни. Через несколько месяцев жена Ивана, единственная женщина, которую он искренне любил и которая могла обуздывать его крутой нрав, умерла. По отзывам современников, от горя царь облысел...
Все эти события подписали приговор Адашеву. Прямой его вины здесь не было. В условиях, в которых в начале Ливонской войны действовала русская посольская служба, разрываясь между политической целесообразностью и необходимостью исполнять абсурдные указы малокомпетентного в дипломатии государя, не делать ошибок было трудно. Удивительно другое – что этих ошибок было еще не так много. В смерти Анастасии Адашев тем более не виновен.
В начале 1560 года Алексей Федорович был отправлен на ливонский фронт, где успел немного повоевать, отличился при взятии крепости Феллин. Здесь он был оставлен на воеводстве, но проиграл местнический спор О. В. Полеву и был переведен в Юрьев-Ливонский под начало князя Д. Хилкова. Там Адашев и умер от горячки в конце 1560-го – начале 1561 года[163].
Как мы видим, перед нами действительно очень яркая личность, незаурядный политик и дипломат, чьи реальные властные прерогативы в 1554 – 1560 годах в самом деле выходили за рамки традиционных полномочий среднестатистического русского окольничего. В то же время говорить о том, что он «правил» Русской землей, будет неоправданным преувеличением. Следов этого нет. Такими же, как Адашев, «неформальными» правами по выдаче жалованных грамот от своего имени обладали Л. А. Салтыков и Ф. И. Умной-Колычев, которые не только не были репрессированы в 1560 году, но вскоре получили повышение по службе.
Третий «недоброхот» и соратник Курбского, поименно названный Иваном Грозным, – Дмитрий Иванович Курлятев, князь, боярин. С ним даже проще, чем с Адашевым и Сильвестром. Биография князя известна, и в ней нет места признакам всесильного временщика. Он происходил из княжеского рода Оболенских. Одно из первых его упоминаний относится к февралю 1535 года, когда он командовал сторожевым полком в походе на Литву из Стародуба. В июле 1537 года он служил на коломенском рубеже третьим воеводой полка правой руки и в том же месяце расписан в разряде по «казанской украйне» вторым воеводой в городе Владимире-на-Клязьме. В сентябре 1537 года в походе на Казань он уже второй воевода полка правой руки. В июне 1539 года в «коломенском выходе» князь назначен вторым воеводой сторожевого полка, в 1540 году – вторым воеводой передового полка. В декабре 1541 года он упоминается третьим воеводой в Серпухове.
Затем его имя на несколько лет исчезает из разрядов, и вновь мы видим Д. И. Курлятева первым воеводой передового полка в мае 1548 года. В марте 1549 года по «казанским вестям» он уже командовал полком правой руки. Осенью этого года он был оставлен на Москве вместе с Владимиром Старицким и другими боярами во время отъезда царя. В дни «Казанского похода» 1552 года Курлятев служил в Новгороде, в 1553 году переведен в Казанскую землю вторым воеводой большого полка.
Известно несколько случаев участия князя в государственных делах. 18 января 1555 года Курлятев присутствовал на заседании комиссии, принявшей приговор о татебных делах. 5 мая 1555 года боярам Д. И. Курлятеву и И. М. Воронцову, казначеям Ф. И. Сукину и X. Ю. Тютину было поручено контролировать исполнение указа о сыске долгов. В июле 1555 года при выходе на Коломну Курлятев входил в свиту царя. В октябре 1555 года он – второй воевода большого полка на южных рубежах. В июне 1556 года князь вновь в свите царя выходил к Серпухову, в 1557 и 1558 годах вместе с И. Д. Вельским командовал обороной южных границ, являясь вторым воеводой большого полка.
В 1559 году князь оказался воеводой Юрьева-Ливонского, то есть фактически – наместником завоеванных прибалтийских земель. При несостоявшемся в 1559 году выходе Грозного на Оку, согласно разрядам, Курлятева планировали оставить на Москве. В 1560 году боярин был сперва назначен первым воеводой в Туле, потом вторым воеводой большого полка и, наконец, – первым воеводой в Калуге, то есть главнокомандующим вооруженными силами на южной границе.
В 1562 году Курлятев был назначен воеводой в Смоленск. Дальнейшие события не совсем ясны. Власти обвинили его в попытке бегства в Литву (этакий предшественник Курбского). Князь же оправдывался, что он просто заблудился в незнакомой местности и «поехал не той дорогой». Трудно сказать, кто был прав. В 1562 году, на волне военных успехов России, когда, казалось бы, Великое княжество Литовское будет вот-вот сломлено, бегство туда выглядит способом изощренного самоубийства. Под прифронтовым Смоленском же любая дорога могла вести «не туда», и сфабриковать ложное обвинение было нетрудно. С другой стороны, кто его знает, что происходило в боярских головах в 1562 году...
29 октября 1562 года Иван IV «...положил свою опалу на боярина на князя Дмитрия Курлятева за его великие изменные дела, а велел его и сына его князя Ивана постричь в чернецы и отослать на Ковенец в монастырь под начало, а княгиню князя Дмитрия Курлятева и двух княжен велел постричь... а, постригши их, велел везти в Каргополь в Челымский монастырь».
На этом сведения о Курлятеве обрываются. Суть упреков в его адрес со стороны царя понять трудно. За ними стоят какие-то психологические комплексы и тщательно скрываемые личные обиды мнительного царя. Следов же политической деятельности Курлятева, которую царь мог счесть «изменной», не обнаружено.
А что же царь считал изменой помимо «кичливости»? Можно ли реконструировать конкретные исторические эпизоды, в которых Курбский «со товарищи» провинились перед царем?
Самым ярким из них является, наверное, обвинение в заговоре с целью свержения Ивана Грозного в марте 1553 года. Об этих событиях нам известно из трех источников: Первого послания Грозного (1564) и двух приписок к летописи – Лицевому летописному своду, сделанных в 1570-е годы.
Согласно сведениям Первого послания Грозного, главными заговорщиками якобы выступили соратники Курбского А. Ф. Адашев и Сильвестр, хотевшие, «как Ирод», погубить царского сына царевича Дмитрия и возвести на престол двоюродного брата царя князя Владимира Андреевича Старицкого.
Согласно приписке к летописной статье под 1553 годом, 1 марта 1553 года Иван IV заболел. В его ближайшем окружении недуг сочли смертельным, и дьяк И. М. Висковатый «воспомяну государю о духовной». По завещанию Грозного, престол должен был отойти младенцу, царевичу Дмитрию, который был еще в пеленках. Приписка указывает, что среди бояр возник раскол: часть безоговорочно присягнула Дмитрию, некоторые колебались. Несколько членов думы открыто заявили, что не хотят следовать воле Ивана IV, ибо присяга Дмитрию-младенцу фактически означает на многие годы регентство Захарьиных-Юрьевых (как ближайших родственников его матери, Анастасии).
1 марта присягнули бояре И. Ф. Мстиславский, В. И. Воротынский, И. В. Шереметев-Большой, М. Я. Морозов, Д. Ф. Палецкий, Д. Р. и В. М. Юрьевы, дьяк И. М. Висковатый, к вечеру – думные дворяне А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков. Под предлогом болезни от присяги уклонились боярин Д. И. Курлятев и печатник Н. А. Фуников-Курцев. Последние двое и боярин Д. Ф. Палецкий начали двойную игру и стали подбивать князя Владимира Андреевича воспользоваться случаем и занять престол. Намерения заговорщиков были, несомненно, «изменными» по отношению к Ивану IV и Дмитрию, хотя понятно и их желание передать престол не младенцу, а взрослому человеку, доказавшему, по крайней мере, свою воинскую храбрость.
Владимир собрал свой двор и одаривал дворян деньгами. Увидев в этом недвусмысленное стремление к перевороту, бояре перестали допускать князя к постели больного государя. На сторону Старицкого, согласно приписке, перешел священник Сильвестр. Автор интерполяции здесь помещает рассказ об узурпации Сильвестром всей власти в государстве, называет его главным советником и вдохновителем действий Владимира Андреевича. Требования священника допустить князя к царю были отвергнуты, «и с той минуты была вражда между боярами и Сильвестром и его советниками».
2 марта в Передней избе И. Ф. Мстиславский и В. И. Воротынский приводили к крестоцелованию большую часть Боярской думы. Недовольство при этом выражали боярин И. М. Шуйский (отказался целовать крест в отсутствие государя) и окольничий Ф. Г. Адашев (отец А. Ф. Адашева, будущего знаменитого окольничего). Последний высказал вслух мысль, беспокоившую, видимо, многих бояр: присяга Дмитрию означает переход власти к клану Юрьевых и его лидеру – Д. Р. Юрьеву. После этого заявления «были между боярами брань великая и крик и шум велик и слова многие бранные».
Перед боярами с речью выступил государь. После этого И. М. Висковатый и В. И. Воротынский привели к присяге остальных бояр. Недовольство происходящим проявляли Владимир Андреевич, его мать Ефросинья Старицкая, бояре И. И. Турунтай-Пронский, П. М. Щенятев, С. В. Ростовский, Д. И. Оболенский. 12 марта последними присягнули Д. И. Курлятев и Н. А. Фуников-Курцев. Мятеж завершился[164].
В Синодальном списке, являющемся, как ныне доказано, частью одной с Царственной книгой лицевой летописи о событиях правления Ивана IV, под 1554 годом помещена приписка, совершенно иначе трактующая события марта 1553 года. Согласно ее версии, в 1553 году реального заговора и мятежа не было!
Как утверждает данная интерполяция, в июле 1554 года в Литву попытался бежать боярин С. В. Ростовский. При его поимке и допросе и всплыли подробности, придавшие в глазах мнительного царя событиям 1553 года характер «заговора» и «мятежа». Год назад бояре только обсуждали возможность воцарения Владимира Андреевича, и то, видимо, очень «кулуарно». Никаких отказов от присяги и других мятежных действий у постели больного царя не было. После выздоровления Грозного перепуганные несостоявшиеся заговорщики скрыли свои замыслы, и они всплыли только при допросе под пыткой С. В. Ростовского в 1554 году.
Князь назвал своих единомышленников: П. М. Щенятева, И. И. Турунтай-Пронского, Куракиных, Д. И. Оболенского, П. С. Серебряного, С. И. Микулинского. Любопытен состав следственной комиссии, вырвавшей у беглеца роковые признания: И. Ф. Мстиславский, И. В. Шереметев-Большой, Д. И. Курлятев, М. Я. Морозов, Д. Ф. Палецкий, А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков, Д. Р. и В. М. Юрьевы, Н. А. Фуников, И. М. Висковатый[165]. Картина оказывается еще более запутанной: в комиссию включены лица, названные в приписке 1553 года мятежниками, – Д. И. Курлятев, Н. А. Фуников, Д. Ф. Палецкий, колебавшиеся А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков.
Таким образом, версии источников о «мятеже» марта 1553 года, имеющиеся в распоряжении ученых, взаимоисключают друг друга. Расположим их в хронологическом порядке:
1) вариант Первого послания Грозного (1564 год): А. Ф. Адашев и Сильвестр как главные мятежники;
2) вариант приписки к Царственной книге 1553 года (вторая половина 1570-х – начало 1580-х годов): вдохновитель мятежа – Сильвестр, советник Владимира Андреевича. Главные действующие лица – Владимир Старицкий, Ефросинья Старицкая, бояре – Д. И. Курлятев, Д. Ф. Палецкий, И. М. Шуйский, окольничий Ф. Г. Адашев, печатник Н. А. Фуников-Курцев. Мятежникам сочувствуют И. И. ТурунтайПронский, П. М. Щенятев, С. В. Ростовский, Д. И. Оболенский. До вечера 1 марта колебались А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков, но в итоге сохранили верность государю;
3) вариант приписки к Царственной книге 1554 года (вторая половина 1570-х – начало 1580-х годов): мятежа не было. Во время болезни царя группа бояр обсуждала вариант перехода власти к Владимиру Старицкому. В нее входили С. В. Ростовский, П. М. Щенятев, И. И. Турунтай-Пронский, Д. И. Курлятев, П. С. Серебряный, С. И. Микулинский, Куракины. Никаких практических действий заговорщики не предпринимали. Их планы случайно открылись через год при допросе беглеца-неудачника С. В. Ростовского, выдавшего всех своих единомышленников.
Самое замечательное, что все эти три взаимоисключающие версии, по всей видимости, принадлежали перу одного и того же человека – Ивана Васильевича Грозного. Именно он был автором Первого послания Курбскому, и именно он, по наиболее доказательной версии Д. Н. Альшица, был автором приписок к лицевым сводам 1570-х годов.
Так что же происходило в Московском Кремле в марте 1553 года?
Мы можем с уверенностью сказать только одно – что-то происходило. Какие-то потрясения вокруг престола, связанные с именами Ивана IV, Владимира Старицкого, Дмитрия, несомненно, были. На них указывает существование сразу трех крестоцеловальных записей на верность трону, взятых с Владимира Андреевича 12 марта 1553 года, в апреле и мае 1554 года[166]. После 1553 – 1554 годов происходят серьезные кадровые перестановки в составе правящих кругов. Все это свидетельствует о каких-то важных событиях, но их конкретная история без введения в оборот новых источников будет реконструироваться, к сожалению, лишь гипотетически.
Проблема в том, что названные в приписке к Царственной книге и Первом послании Грозного «недоброхоты» царя – Д. И. Курлятев, Ф. Г. Адашев, Сильвестр, Владимир Андреевич, Д. И. Оболенский, С. В. Ростовский, колебавшиеся А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков – не только не поплатились в 1553 году за свои «мятеж» и «предательство», но, наоборот, возвышение многих из них, да того же А. Ф. Адашева, начинается как раз с 1553 года. А вот роль Д. Р. и В. М. Юрьевых, сохранивших, согласно приписке, верность государю, напротив, после 1553 года начинает стремительно падать.
В свете вышеприведенного анализа – насколько адекватными были данные обвинения Ивана Грозного? Перед нами опять некая тайна его двора. Все, что мы можем с уверенностью сказать, – что эта тайна существует. Что она скрыта за намеками, передергиваниями и клеветническими измышлениями в источниках. Мы можем строить гипотезы. Но не более того...
Рассмотрим другие обвинения царя, менее явные и с гораздо большим трудом проверяемые по источникам.
Первое – обвинение Курбского и его сторонников в расхищении богатств государства, которыми изменники расплачиваются с гонителями и хулителями несчастного царя, «подражателями бесов»: «Вы же за эти злодеяния раздаете им многие награды нашей же землей и казной, заблуждаетесь, считая их слугами, и, наполнившись этих бесовских слухов, вы, словно смертоносная ехидна, разъярившись на меня и душу свою погубив, поднялись на церковное разорение».
Что имел в виду царь, можно только гадать. Если буквально понимать его слова, то среди князей и бояр существовала некая группировка, которая платила людям, следившим за государем и изводившим его мелочной регламентацией и опекой. За таковые преступные деяния, направленные на превращение царя в «младенца», они получали щедрые раздачи из государственной казны и земельного фонда. Но злодеи во главе с Курбским заблуждаются, если думают, что эти «подобные бесам» личности служат изменным боярам (а кому, по мнению Грозного, служат в действительности – из письма неясно). В «смертоносном яде своего умысла» Курбский и его соратники дожились уже и до разорения церквей.
Данная фантасмагорическая картина, рисуемая царем, не находит никакого подтверждения в других источниках. Не обнаруживается ни малейших следов ни подобного казнокрадства, ни разорения церквей, ни жуткого заговора среди бояр и их наймитов – каких-то практикующих психотерапевтов. Это не означает, что при дворе не было никаких противоречий между знатью и Иваном Грозным – другое дело, как мнительный царь с параноидальным мышлением вообразил себе характер этих конфликтов.
Следующее обвинение Грозного в адрес Курбского и его сотоварищей – «война с Литвой вызвана вашей же изменой, недоброжелательством и легкомысленным небрежением». Строго говоря, это не так, хотя здесь можно хотя бы догадываться, какие именно проступки знати могли вызвать такие оценки. Великое княжество Литовское и Королевство Польское вынашивали давно планы захвата Ливонии. После 1552 года эти планы стали претворяться в жизнь. В конце 1550-х годов истекало очередное перемирие России и Великого княжества Литовского. Король Сигизмунд решил этим воспользоваться и под угрозой отказа от продления перемирия и развязывания тем самым русско-литовской войны добиться от России невмешательства в ливонский вопрос и «свободы рук» в Прибалтике.
3 марта 1559 года в Москву прибыло посольство от Сигизмунда во главе с Василием Тишкевичем. Оно привезло предложения, разработанные при дворе Сигизмунда в декабре 1558 года. Послам предписывалось начать с обсуждения вопроса о создании польско-литовско-русской антимусульманской коалиции – проекта военно-политического союза против Крымского ханства и Турции. Далее дипломаты должны были заявить, что для создания такого союза надо урегулировать старые территориальные споры между Россией и Литвой, продлить перемирие. И когда русские приступят к обсуждению перемирия – литовские дипломаты должны были нанести удар. Им предписывалось высказать претензии в нападении на Ливонию, на архиепископа Вильгельма Бранденбургского, родственника Сигизмунда.
Таким образом, литовской стороной заранее планировалось высказывание требования к России прекратить войну в Ливонии. Реакцию на подобный демарш нетрудно было предвидеть: русская сторона ответила бы в стиле «не ваше дело». Инструкции Сигизмунда абсолютно недвусмысленны: высказать обвинение в агрессии против Ливонии в конце дебатов, тем самым поставив переговоры под угрозу срыва.
Поэтому те историки, которые вслед за Иваном Грозным винят руководителей русской посольской службы, в частности А. Ф. Адашева, в неудачном ведении переговоров, не учитывают того факта, что посольство Тишкевича ехало не продлять перемирие, не договариваться, а – обострять отношения. Чего Адашев не мог предвидеть и тем более – дезавуировать. Все показывает на то, что московские дипломаты не ожидали вмешательства Сигизмунда в ливонский вопрос.
На переговорах Адашев предложил заключить мир по принципу, кто чем владеет, при этом «для доброго согласия не будем добиваться возврата прародителевых своих отчин, города Киева и иных городов русских». Таким образом, Москва в 1559 году была готова в обмен на вечный мир и антитатарский союз закрепить в «вечном» договоре отказ даже от декларации своих прав на русские земли, входившие в состав Великого княжества Литовского. Это – принципиальное изменение позиции. Ведь за десять лет до этого как раз Москва и слышать не хотела о мире, который связал бы ей руки в будущем «поиске своих вотчин». Теперь же Россия была готова отдать Киев и другие земли в обмен на мир с Литвой и невмешательство Сигизмунда в ливонский вопрос.
Однако литовцы наотрез отказались мириться без решения территориальной проблемы. В обоснование своей позиции они даже привели притчу из Златоструя: «У некоего человека в подворье была змея, да съела у него дети и жену, да еще захотела с тем человеком вместе жить. И тот нынешней мир тому же подобен: съевши жену и детей, съесть и его самого». Адашев в сердцах обозвал речи литовцев «гнилыми семенами», которые и «во сне не пригрезятся». Но позиция Тишкевича была твердой: мир возможен, только если Россия вернет Смоленск, Северские земли, Стародуб, Новый Городок, Путивль, Почап, Брянск, Рыльск, Чернигов, Вязьму, Дорогобуж, Рославль, Мглин, Дронов и Попову Гору. Эти захваты послы назвали «грехами предков» Грозного, и, пока он их с души не сведет, мира не будет.
10 марта 1559 года Тишкевич заявил, что Сигизмунд требует прекратить войну в Ливонии и остановить нападение на его родственника, рижского архиепископа Вильгельма. Потрясенный Иван Васильевич оказался перед перспективой войны на два фронта. Все, что он смог сделать, – это отправить послов домой, в отместку приказав не давать им меда и заявив, что Россия старое перемирие додержит, а там «как Бог даст». Адашев был отстранен от переговоров, и ответ послам давал И. М. Висковатый.
23 января 1560 года пред очами Ивана Грозного предстал посол Мартын Володкевич с ультимативным заявлением: немедленно прекратить войну в Ливонии, ибо Ливония принадлежит Великому княжеству Литовскому. Посол попросил встречи с Адашевым и Висковатым. Иван велел им встретиться в дьячьей избе Висковатого. Володкевич сообщил, что в Литве победила партия сторонников войны и что надежды на мир призрачны. Адашев и Висковатый, выполняя поручение царя, пытались доказать правомочность нападения России на Ливонию. 30 января они передали содержание бесед Грозному, после чего тот отправил посла восвояси без грамоты и без обеда.
В июле 1560 года первые отряды воинов великого княжества перешли литовско-ливонскую границу. Литовских войск было мало – от 800 до 2 500 человек. Но серьезные столкновения с русской армией случились только через год – в августе 1561 года город Тарваст в Ливонии после пятинедельной осады был взят литовцами, русский гарнизон пленен. Литовцы еще разоряли керепетские и юрьевские «места», входившие в русскую зону оккупации, и Новогородский уезд. С этого события берет начало новая русско-литовская война 1561 – 1570 годов, которую, впрочем, Россия выиграет.
1 ноября 1561 года русских воевод – Т. М. Кропоткина, Н. Путятина и Г. Е. Трусова-Большого – с позором отпустили из взятого Тарваста. Неизвестно, что для них оказалось хуже: литовский плен или московская свобода. Иван Грозный расценил сдачу Тарваста как предательство: «И как торваские воеводы пришли из Литвы к Москве, и царь и великий князь положил на них опалу свою для того, что они литовским людям город сдали, и разослал их государь по городам в тюрьмы, а поместья их и вотчины велел государь взять и раздать в раздачу».
Таким образом, для данного обвинения царя – в том, что война с Литвой началась из-за ошибок и нерадения русских воевод, – с точки зрения царя, основания были. События, которые он имел в виду, реконструируются достаточно определенно. Другое дело, что истинная подоплека данных событии показывает предвзятость и несправедливость царского гнева.
Следующая претензия царя связана с вовлечением государя в какие-то неправильные церковные обряды: «Если же ты вспоминаешь о том, что в церковном предстоянии что-то не так было и что игры бывали, то ведь это тоже было из-за ваших коварных замыслов, ибо вы отторгли меня от спокойной духовной жизни и по-фарисейски взвалили на меня едва переносимое бремя, а сами и пальцем не шевельнули; и поэтому было церковное предстояние нетвердо, частью из-за забот царского правления, вами подорванного, а иногда – чтобы избежать ваших коварных замыслов».
Примечательно, что Курбский ни в каких «играх» царя не упрекал. Он говорит о «бесовских пирах», о пролитии крови на церковных порогах, о глумлении над монахами («ангельским образом»), «Афродитском грехе» и «Кроновых жертвах». Все это слишком серьезно и никак не подходит под определение «игры». Тем более, как явствует из слов царя, эти таинственные ритуалы (забавы) как-то связаны с церковными обрядами, причем они разыгрывались перед народом: «Что до игр, то, лишь снисходя к человеческим слабостям, ибо вы много народа увлекли своими коварными замыслами, устраивал я их для того, чтобы он (народ. – А. Ф.) нас, своих государей, признал, а не вас, изменников... подобно тому, как Бог разрешил евреям приносить жертвы, – лишь бы Богу приносили, а не бесам». Что ж это за публичные «игры», с помощью которых царь переманивал народные массы из-под влияния изменников – Курбского с боярами, срывая их коварные замыслы, но при этом был вынужден нарушать какие-то церковные обычаи? Что здесь имел в виду Иван Грозный и, главное, в каких словах Курбского он усмотрел намек на эти «игры» – понять невозможно.
Грозный заявил, что «сильных во Израили мы не убивали, и не знаю я, кто это сильнейший во Израили». Царь абсолютно категоричен: «не предавали мы своих воевод различным смертям, а с Божьей помощью имеем мы у себя много воевод и помимо Вас, изменников. А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить».
Царь тут, несомненно, лукавит. Кто именно подвергся репрессиям в предопричные годы и, следовательно, может быть сближен с «сильными во Израили»? В 1560 году пострадали боярин И. С. Воронцов (по частному доносу Ф. И. Сукина), окольничий А. Ф. Адашев (сослан на фронт), дьяк И. Г. Выродков, а также, возможно, постельничий И. В. Вешняков и священник Сильвестр (правда, по другим данным, он спокойно удалился в монастырь, об этом далее пишет и Грозный: «Поп Сильвестр ушел по своей воле»).
В 1561 году репрессиям подверглись боярин В. М. Глинский, а также тарвастские воеводы Т. М. Кропоткин, Н. Путятин и Г. Е. Трусов-Большой. В 1562 году был насильственно пострижен в монахи боярин Д. И. Курлятев (по обвинению в попытке отъезда в Литву). В аналогичном преступлении были обвинены боярин И. Д. Вельский и его спутники Б. Ф. Губин-Моклоков, И. Я. Измайлов, Н. В. Елсуфьев. В заточении оказались князья А. И. и М. И. Воротынские, у них были конфискованы земли. Пострадали также князь И. Ф. Гвоздев-Ростовский и, вероятно, – боярин В. В. Морозов.
1563 год был ознаменован двумя крупными процессами: «старицким» и «стародубским» «изменными делами». По доносу дьяка Савлука Иванова у князя Владимира Андреевича Старицкого был конфискован двор, его мать – Ефросинья Старицкая – отправлена в ссылку. По этому же делу казнили князя И. Шаховского-Ярославского. По «стародубскому» следствию пострадали В. С. Фуников-Белозерский, И. Ф. Шишкин, Д. Ф. и Т. Д. Адашевы, П. И. Туров, Федор, Андрей и Алексей Сатины (родственники А. Д. Адашева).
В 1564 году гонениям подверглись бояре И. В. Шереметев-Большой, М. П. Репнин и Ю. И. Кашин (последние двое, видимо, убиты по приказу царя), князья Д. Ф. Овчина-Оболенский, Н. Ф. и А. Ф. Черные-Оболенские, П. И. Горенский-Оболенский.
Таков перечень опальных Ивана IV в предопричные годы. Царь лгал, когда говорил, что «не предавал своих воевод различным смертям». Другое дело, что Грозный считал жертв репрессий не «своими воеводами», а предателями, которым воздалось по заслугам: «А мук, гонений и различных казней мы не для кого не придумывали; если же ты вспоминаешь об изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде казнят».
Курбский пытался изобразить отношения между государем и подданными как конфликт тирана с антихристианскими наклонностями и «новых мучеников», причем мучеников прежде всего за веру или, по крайней мере, за чистоту заповедей и христианской морали. Для Ивана это было опасное обвинение, он представал в крайне невыгодном свете. Поэтому Грозный резко отмел религиозную подоплеку конфликта: «Мучеников за веру у нас нет». Царь посмеялся над словами Курбского, что он «оболгал православных»: «Если уж я оболгал, от кого же тогда ждать истины? Что же, по твоему злобесному мнению, чтобы изменники не сделали, их и обличить нельзя? А облыгать мне их для чего? Что мне желать от своих подданных? Власти, или их худого рубища, или хлебом их насытиться? Не смеха ли достойна твоя выдумка?.. Кто же, имея разум, будет без причины казнить своих подданных?»
Грозный, верный своему принципу – возводить на Курбского те же самые обвинения, о которых князь писал в своем Первом послании, – помещает пространный рассказ о злодейских изменах, убийствах воевод и бояр, расхищении государственной казны, разорении страны и разрушении православия. Все это происходило в России с малолетства Ивана Грозного до начала 1560-х годов, когда царь наконец-то нашел в себе силы расправиться с внутренними врагами. И во всем виноваты князья, бояре, соратники и родственники Курбского, Адашева и другие личности, «подобные бешеным собакам».
Несмотря на заверения в заботе и теплых чувствах по отношению к подданным, царь Иван о них в принципе крайне невысокого мнения: «Было мне в это время восемь лет, и так подданные наши достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом... сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца, и воевод перебили. Дворы, и села, и имущества наших дядей взяли себе и водворились в них. И сокровища матери нашей перенесли в Большую казну, при этом неистово пиная ногами и тыча палками, а остальное разделили».
Не выдержав засилья зла, царившего в России несколько лет, пишет Иван Грозный, «пребывая в такой скорби и не будучи в состоянии снести эту тягость, превышающую силы человеческие, мы, расследовав измены собаки Алексея Адашева и всех его советников, нестрого наказали их за все это: на смертную казнь не осудили, а разослали по разным местам». Все эти измены, по мнению царя, свершались «ради блеска золота». Поэтому Грозный сравнивает поступки Курбского и других с «иудиным окаянством». Они предали царя, как Иуда предал Христа.
В отношении самого Курбского позиция царя была поистине иезуитской. Буквально в начале своего послания царь заявил: «Не полагай, что это справедливо – разъярившись на человека, выступить против Бога... Или мнишь, окаянный, что убережешься? Нет уж! Если тебе придется вместе с ними (литовцами. – А. Ф.) воевать, тогда придется тебе и церкви разорять, и иконы попирать, и христиан убивать; если где и руками не дерзнешь, то там много зла принесешь и смертоносным ядом своего умысла. Представь же себе, как во время военного нашествия конские копыта попирают и давят нежные тела младенцев!»
Таким образом, царь перевел личный конфликт с Курбским в плоскость фундаментальной проблемы человеческого бытия – проблемы спасения души. И здесь Грозный открыто издевался над князем: «Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а дар благой? В конце концов все равно умрешь... почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни?»
Трусости и лицемерию князя Грозный противопоставил поведение его холопа Василия Шибанова, доставившего к царю послание Курбского: «Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил свое благочестие, перед царем и перед всем народом стоя, у порога смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть».
Главный вывод Ивана Грозного: «Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не бояре и вельможи!» На основе этого заявления, сделанного за полгода до знаменитого отъезда в Александровскую слободу, историки называют Первое послание Грозного «программным документом опричнины». Благодаря полемике с Курбским царь сам для себя сформулировал обвинения в адрес «внутренних врагов». Можно было приступать к «наведению порядка» и искоренению «измены».
«Неистовых баб басни!»: Курбский не хочет спорить с царем-невеждой
А что на все это отвечает князь Курбский?
А ничего.
Содержание его ответного, Второго послания царю с этой позиции необъяснимо. Так или иначе, но Иван Грозный создал серьезный ответ на первоначальный выпад Курбского, причем атакующий ответ, содержащий много серьезных обвинений в адрес уже самого князя. Если это клевета и ложь – то Курбский должен был бы их разоблачить и обелить себя. Если же царь сказал правду – то тем более требовалось найти слова, что-то придумать, чтобы не дать Ивану Васильевичу одержать верх в споре.
Между тем Курбский пишет в своем Втором послании совершенно о другом. Он вновь обрушивается на царя с критикой, но ругает его на этот раз... за неумение писать письма! Мол, царь – невежда и не знает эпистолярного этикета! Князь писал:
«Твое послание, посвященное очень многим вопросам и столь шумно их обсуждающее, я получил, и уразумел, и понял, что оно было написано, как будто ты в припадке необузданного гнева, не помня себя, изрыгал непотребные, злые, ядовитые слова. Такое писание недостойно не только для царя, который считает себя столь великим и славным во всем мире, но даже и для простого, ничтожного воина.
Это проявилось и в твоей неискусности, когда ты, ослепленный яростью и лютой злобой, безыскусно нахватался цитат из Святого Писания, причем цитировал не отдельными строчками и стихами, как положено искусным и ученым в писании посланий, умеющим в немногих словах передавать глубокий смысл, но сверх всякой меры излишне многословно, навязчиво, крикливо, многословно цитируя целые книги, притчи, послания святых мужей!
И вместе со священными текстами тут же ты пишешь о постелях, шубах и прочей бесчисленной мелкой ерунде, как будто передаешь выдумки вздорных баб! И пишешь так невежественно и дико, что над этим будут смеяться и дивиться не только ученые и искусные люди, но и простолюдины, и даже дети! И осмеливаешься писать так в чужую землю, где, между прочим, живут некоторые люди, знающие не только грамматику и риторику, но и диалектику и философию!»
Второе послание Курбского, как неоднократно отмечалось исследователями, было написано с ориентацией на западные каноны эпистолографии[167]. По удачному выражению В. В. Калугина, оно является своего рода «литературным манифестом» писателя-западника. Курбский исповедовал европейские принципы эпистолографии и упрекал Грозного в писательской «неискусности» именно с этих позиций.
«Неистовых баб басням», как князь расценил писательское мастерство Ивана Грозного, Курбский противопоставил образовательный минимум в средневековой Европе – так называемый trivium. Он включал в себя три науки: грамматику, риторику и логику (диалектику). Второй ступенью образования был так называемый quadrivium, состоявший из арифметики, геометрии, музыки и астрономии. После этого высшего курса наук обычно шло специальное богословское образование.
Trivium и quadrivium входили в «семь свободных искусств» (artes liberates, ingenuae, bonae). Они включали в себя шесть пришедших из древности наук {disciplinae liberates): грамматику, риторику, арифметику, музыку, геометрию и астрономию, а также три собственно философские науки (disciplinae philosophicae): логику, физику и этику, объединенные в одну, седьмую, науку для школьного употребления (из них, по сути, оставалась одна логика).
Курбский не просто ссылался на европейскую ученость. Он был непосредственно знаком со всеми важнейшими ее разделами. Князь изучил основные понятия классической риторики: pronuntiatio (произнесение), inventio (нахождение материала), dispositio (его расположение), memoria (запоминание), а также elocutio (учение о выразительных средствах речи – стилистических фигурах, тропах, эвфонии)[168]. Особое значение Курбский придавал риторике, так как видел в ней средство донесения «разума», мудрых советов до правителей.
Под грамматикой в Средневековье понималось изучение латинского и греческого языков. Латынью Курбский к концу жизни овладел настолько, что сам делал с нее переводы довольно объемных текстов. Известен также научный трактат Курбского о правилах пунктуации («О знаках книжных»).
Что же касается философии, то, судя по сочинениям Курбского, он знал философские сочинения Аристотеля, Цицерона, Парменида, Эпикура, Платона, Эразма Роттердамского, Кирилла Александрийского. Он прекрасно ориентировался в патристике и произведениях христианских теологов. На страницах его трудов фигурируют имена Филона Александрийского, Григория Нисского, Оригена, Фомы Аквинского, Григория Паламы, Августина Блаженного, Амвросия Медиоланского, Лютера и др.
Из обличения невежества царя и его незнания этикета сочинения писем вытекала несколько неожиданная претензия, которую во Втором послании высказал князь: «И вместо того, чтобы утешить меня, пережившего столько бед и напастей, ты ко мне, безвинному изгнаннику, обратился с таким посланием!» Интересно, как Курбский мог рассчитывать на утешения со стороны царя, после того как наговорил ему столько гадостей? Однако же, как ни парадоксально, рассчитывал!
Несколько, казалось бы, неожиданная претензия Курбского к царю-тирану – почему он обрушился на князя с обличениями и ответными обвинениями – во многом объясняется стремлением беглого боярина вести дискуссию в «образованном», «риторском» духе. В европейской эпистолографии в подобных случаях был принят особый жанр письма: «epistola consolatoria exilii» («послание, утешающее в изгнании»). Помимо западных образцов князь опирался на известный на Руси с XI века жанр «утешной грамоты», заимствованный древнерусской литературой из византийской книжности, развивавшей традиции античных риторик. Курбский же получил вовсе не «утешительный» ответ, что, помимо эмоциональной обиды, вызвало обвинение в адрес Ивана IV в незнании законов эпистолярного жанра. По выражению академика Д. С. Лихачева, «Курбский пишет Грозному с высот своей новой образованности. Его позиция, которую он стремился занять в своих письмах по отношению к Грозному, – это позиция утонченного и вкусившего западной образованности интеллигента, поучающего грубого неуча»[169].
Закончив поучение, Курбский быстренько сворачивает повествование: «Я хотел сперва ответить тебе на каждое твое слово, царь... но удержал руку с пером... Я все возлагаю на Божий суд... Промолчу я и потому, что недостойно благородным браниться, как будто невежественным рабам. Тем более не подобает нам, христианам, извергать из уст непристойные и злые слова...»
Учеными давно отмечена смысловая загадочность Второго послания Курбского: почему князь сразу не отверг «клевету», содержащуюся в Первом послании Грозного, как он делал это позже в Третьем послании и «Истории...», а лишь ограничился критикой литературных способностей царя, обличением его невежества и вторичными, по сравнению с Первым посланием, апелляциями к Божьему суду? Ответ Курбского на фоне пространного и насыщенного конкретными обвинениями Первого послания Грозного выглядит абсолютно беспомощно. Возможно, он поэтому и не отправил его царю. Курбский понимал, что первый раунд спора он проиграл.
Возможно, князь пытался сочинить более обстоятельный ответ, который до нас не дошел. Курбский неоднократно с 1565 по 1579 год возвращался к тексту своего небольшого по объему Второго послания царю, но так и не удовлетворился ни одним получившимся вариантом. По всей видимости, в это же время Курбский задумывает большое произведение, направленное против Ивана Грозного, и начинает собирать для него материал[170].
«А ты дальноконнее поехал»: апофеоз Ивана Грозного
13 июля 1577 года начался поход Ивана IV на Ливонию, который, по замыслу царя, должен был расчленить ее территорию и тем самым решить исход войны. Глава администрации Речи Посполитой в Ливонии Григорий Ходкевич располагал всего четырехтысячным войском. Поэтому все, что он мог делать, – отступать. От короля Стефана, занятого в 1577 году осадой поднявшего мятеж города Гданьска, никакой помощи не поступало.
Гарнизоны ливонских крепостей насчитывали от нескольких десятков до, в лучшем случае, нескольких сотен воинов. Было очевидно, что они не выдержат ни осад, ни штурмов. Так и вышло: крепости открывали ворота одна за другой, предпочитая плен неизбежной гибели в случае сражения. 16 июля сдался Мариенгаузен, который обороняло всего... 25 человек. 24 июля, увидев под стенами вверенной ему крепости московские войска, комендант города Люцина заявил о своем горячем желании немедленно перейти на русскую службу и приказал открыть ворота. 27 июля пала крепость Резекне, 9 августа – Динабург. Их гарнизоны были «милостиво» приняты Иваном IV в ряды русской армии.
8 августа 1577 года комендант Вольмара Александр Полубенский сообщил в Речь Посполитую о военной катастрофе в Ливонии. Замки оказались не готовы к обороне, войск не хватало, сами ливонцы и отряды курляндского герцога Кетлера воевали плохо. Без помощи королевской армии Ливония падет, как пал в свое время Полоцк. Помощи не последовало. 12 августа копыта коня русского царя ступили на берег Западной Двины. Здесь были взяты Крейцбург и Левдун. 20 августа сдался Зессвеген, 21-го – Шванебург, 22-го – Беран.
Кампания была бы триумфальной, если бы ее не омрачило одно обстоятельство. При подходе к Кокенгаузену Иван IV узнал, что еще 15 августа 1577 года гарнизоны Кокенгаузена и Вендена перешли под покровительство Магнуса – датского принца, правителя вассального герцогства в Ливонии.
Герцогство Магнуса было образовано в Ливонии в 1560 году. В 1559 году в Дании вспыхнул конфликт короля Фридриха II и его младшего брата Магнуса из-за Голштинии. Фридрих решил удовлетворить интересы Магнуса за счет далекой Ливонии и в сентябре 1559 года, по Нюборгскому соглашению, купил за 30 тысяч талеров остров Эзель. К Дании отошли и владения Курляндского епископства. Магнус получил титул епископа Эзельского и Курляндского и стал готовиться к отъезду в свои новые владения. При этом он официально отказался от претензий на Голштинию. Теперь Датское королевство получило законный повод ввести войска на земли ордена. В апреле 1560 года отряд 19-летнего Магнуса высадился под Аренсбургом, приступив к реализации Нюборгского соглашения 1559 года.
Иван Грозный сквозь пальцы смотрел на возникновение в Ливонии датской зоны оккупации и некоего герцогства, подвластного датской короне. Дания была далеко, и в случае, если бы Россия всей мощью своей военной машины навалилась бы на Эзель, от владений Магнуса очень быстро ничего бы не осталось. Все стороны это прекрасно понимали. Но датскому королю нужно было куда-то сплавить Магнуса... Северная Эстония традиционно рассматривалась в Копенгагене как сфера своих интересов. Россия же была заинтересована в Дании как единственном европейском государстве, которое было готово официально признать русскую аннексию ливонских земель (если Москва не будет возражать против существования герцогства Магнуса). В 1562 году между Россией и Данией был подписан мирный договор – первый (и единственный!) договор с европейской державой, легитимизировавший существование Русской Ливонии.
Иван Грозный пошел дальше, женил Магнуса на дочери князя Владимира Андреевича Старицкого и сделал своим «голдовником» – то есть вассалом. В 1570 году Магнус фактически разорвал связи с датской короной и стал союзником и подданным русского царя. Московские и датские войска сражались в Ливонии вместе. Однако герцог, ставший «королем Ливонии», на своей шкуре испытал особенности характера Ивана Васильевича, что на европейского герцога произвело совершенно сокрушающее впечатление. Магнус решил, что такого сюзерена ему не надо, и в августе 1577 года преподнес царю сюрприз. Фактически его действия означали мятеж и измену.
В грамоте, адресованной государю, Магнус писал, что это именно ему, истинному господину Ливонии, сдались Венден, Голбин, Левдун, Борзун, Ленавард, Куконос и другие – в общей сложности 18 крепостей. Тем самым датчанин присваивал себе лавры победителя в войне, которую царь Иван считал своим триумфом. Грозный был оскорблен тем, что герцог украл у него победу: получалось, что успехами русского оружия в Ливонии воспользовалась Дания. Грозный написал Магнусу крайне резкое послание, в котором требовал выполнения Псковского соглашения 1577 года. В противном случае датчанин может убираться – либо на остров Эзель, принадлежавший датской короне, либо – за море, в Копенгаген.
Жертвами доверия к Магнусу стали присягнувшие ему жители ливонских городов. Отряд окольничего Петра Татева взял Кокенгаузен и устроил там резню в наказание «за измену» в пользу датского герцога. 1 сентября та же участь постигла Вольмар, взятый Богданом Вельским. 5 сентября пал Венден, в котором также прошли массовые казни. Современник событий Рейнгольд Гейденштейн так описывал взятие крепости Ашераден по соседству с Венденом:
«В Ашерадене собралось огромное множество людей обоего пола и всякого сословия, в особенности же много женщин и девиц; там же находился ландмаршал, человек почтенный и по летам и по тем высшим должностям, которые некогда он занимал. Московский князь, перебив без разбора всех, способных носить оружие, не воинственный пол, женщин и девиц, отдал татарам на поругание; затем прямо отправился в Венден. Находившиеся там жители, перепуганные слухом о таком жестоком поступке московского князя, заперли ворота. Магнус, вышедший за них просителем с униженным видом и умолявший на коленях о помиловании, ползая у его ног, был обруган князем, который даже ударил его в лицо. Убедившись, что влияние Магнуса нисколько не может послужить к их спасению, так как даже ему самому угрожает опасность, и видя себя со всех сторон окруженными и обманутыми вероломным неприятелем, жители под влиянием гнева, страха и отчаяния подложили под здания порох, и от этого взрыва погибло огромное множество людей обоего пола, всякого возраста и сословия, и почти весь цвет знати ливонской, сколько ее еще оставалось до сих пор»[171].
Среди пленных оказался князь Александр Полубенский – недавний комендант Вольмара, незадолго до прихода русских войск арестованный горожанами и выданный людям Магнуса. 10 сентября во взятом Вольмаре царь закатил грандиозный пир, на котором присутствовал в качестве почетного гостя сам Полубенский и другие сдавшиеся русской армии знатные литовцы.
Город Вольмар для Грозного был известен в первую очередь тем, что отсюда в 1564 году было отправлено Первое послание Курбского. Воспоминание об этом дало толчок эпистолярному творчеству царя: 12 сентября появляются точно датированные четыре послания Ивана IV: предводителям враждебной Речи Посполитой королю Стефану Баторию и литовскому магнату Яну Ходкевичу, а также адресованные изменникам-эмигрантам: Иоганну Таубе, Элерту Крузе и Тимохе Титерину. Как заметил Б. Н. Флоря, «никакой необходимости в посылке этих грамот не было и никаких практических последствий они иметь не могли. Но в этот момент триумфа, когда, несмотря на все трудности, царь почти добился достижения цели, к которой стремился много лет, Иван не мог отказать себе в удовольствии взяться за перо, чтобы указать изменникам на то, сколь тщетными оказались все их направленные против него интриги, в каком жалком положении оказались они сами»[172]. Пятым его адресатом оказался князь Андрей Курбский. Таким образом, после почти 13-летнего перерыва, не получив от Курбского никакого ответа, царь Иван возобновил переписку с ним. Можно предположить, что Второе послание Грозного Курбскому также было составлено 12 сентября 1577 года.
Содержание письма весьма примечательно. Грозный однозначно признает, что он грешник, сравнимый по масштабам беззаконий с самыми отъявленными негодяями библейской истории. Но он предлагает Курбскому объяснить: почему же тогда Господь не спешит покарать преступного монарха? Почему Иисус явно на стороне русского царя, что неопровержимо доказывается его победами в Ливонии? Почему деяния царя перевешивают его грехи? А его обличители, в том числе и Курбский, которые мнят себя богоугодными, с позором бегут прочь от победоносной христианской хоругви Ивана IV?
Объяснение было простым: царь искренне считал, что чем тяжелее и страшнее грехи – тем больше эффект от покаяния. Государь совершает богоугодные поступки, прославляет своими победами православие – и поэтому Бог дает ему шанс покаяться и спастись. Грозный сравнил себя с библейским царем Иудеи Манассией. Тот впал в ересь, восстановил культовые возвышения (высоты), разрушенные его отцом Езекией, возвел жертвенники Ваалу, устроил священные рощи (дубравы) и даже в Иерусалиме соорудил жертвенники и алтари «всему воинству небесному». В долине сына Енномова он проводил обряд прохождения через огонь для своих сыновей, возвысил гадалок, ворожеев, вызывателей мертвецов и т. д. (2 Пар. 33: 1 – 8). Царь-еретик также пролил много невинной крови (4 Цар. 21: 16). Легенда приписывает ему даже убийство пророка Исайи.
Однако Манассия был свергнут и в кандалах отвезен в Вавилон. Он воспринял это как Божье наказание за свершавшиеся им непотребства и покаялся в тюрьме (2 Пар. 33: 12). Бог простил раскаявшегося грешника и вернул его на иерусалимский престол: «...и познал Манассия, что тот Господь есть истинный Бог» (2 Пар. 33: 13). По возвращении он обратился в истинную веру, немедленно разрушил все языческие святилища и восстановил жертвенник Господень (историю его царствования см.: 4 Цар. 21: 1 – 18; 2 Пар. 33: 1 – 20).
Иван пишет, что он также совершал все мыслимые и немыслимые преступления (кроме религиозного «отступления» – от еретичества Грозный резко отмежевался). Но Манассия сумел спастись, потому что вовремя покаялся, – и в этом смысл аналогии с библейским царем, которую приводит Грозный. Царь писал, что его покаяние будет ценнее для Христа, чем 99 праведников: какой грешник спасется!
В доказательство царь также приводил евангельские притчи о том, что пастух бросит стадо из 99 овец, но будет искать одну заблудшую (Лк. 15: 3 – 6), и что некая жена, имевшая 10 драхм и потерявшая одну из них, не будет рада своему достатку, пока не найдет потерю (Лк. 15: 8 – 9). Грозный, ссылаясь на эти притчи, утверждал: это он – заблудшая овца и потерянная драхма. Спасению «заблудшего государя» Господь будет рад куда больше, чем десятков душ праведников. Царь утверждал: «Если и больше песка морского беззакония мои, но надеюсь на милость Божию: в пучине своей милости может он потопить мои беззакония».
Повторяя обвинение в узурпации Адашевым, Сильвестром и княжескими родами данной от Бога царской власти, Грозный дополнил его очень резким выпадом. С помощью цитаты из Книги Иова царь намекает, что своевольная русская аристократия состоит на службе не у кого иного, как у Дьявола! Эта сатанинская служба проявилась в узурпации богоданной царской власти.
Царь возвращается к некоторым темам, поднятым в Первом послании Курбского и своем Первом послании Курбскому, но его новые высказывания только еще больше запутывают дело. Так, Грозный выдвигает обвинение изменников-аристократов в убийстве царицы Анастасии. При этом он не указывает на конкретного убийцу, «юницу» извели абстрактные «вы»: «А и с женою меня про что разлучили? Только бы вы у меня не отняли бы юницы моей, тогда бы Кроновой жертвы не было». Нельзя же понимать эти слова так, что, если бы не умерла жена, царь бы не познал грех гомосексуализма с Федором Басмановым при молчаливом потворстве этому отца-сводника, Алексея Басманова, а виноваты в этом Курбский, Адашев, Сильвестр и другие придворные! А как еще их понимать? Сам Иван Грозный так прокомментировал эту ситуацию: «А если ты, Курбский, скажешь, что я не утерпел после смерти жены и чистоты не сохранил – то все мы человеки». Одновременно он обвинил Курбского... в изнасиловании жены некого стрельца: «А ты для чего взял стрелецкую жену?»
Вопрос о причинах смерти царицы Анастасии на самом деле достаточно сложен. С одной стороны, она могла быть вызвана естественными причинами. В жизни царицы присутствовал целый ряд факторов риска, которые должны были серьезно подорвать ее здоровье. Прежде всего это частые беременности, протекавшие неблагополучно, потому что многие из них заканчивались либо быстрой смертью ребенка, либо рождением младенца с отклонениями. Выйдя замуж в начале 1547 года в возрасте около 14 лет, в августе 1549 года она родила Анну, в марте 1551 года – Марию (обе скончались во младенчестве), в октябре 1552 года – Дмитрия (погиб от несчастного случая в младенческом возрасте), в марте 1554 года – Ивана (выжил и вырос, но имел репутацию болезненно жестокого человека с психическими отклонениями), в феврале 1556 года – Евдокию (умерла во младенчестве) и в мае 1557 года – слабоумного царевича Федора. Перенеся за 13 лет шесть беременностей, царица не могла сохранить здоровье.
Кроме того, Анастасия была вынуждена часто сопровождать царя в богомольных поездках по монастырям – в любую погоду, во все времена года, на любые расстояния. Роковая болезнь случилась с ней как раз во время последней поездки в Можайск в конце 1559 года. Болезнь, видимо, продолжалась весь 1560 год, поскольку в рассказе о московском пожаре 17 июля 1560 года упоминается, что Анастасию от огня эвакуировали в село Коломенское «с великой нужею, занеже болезнь ее бысть велика зело». 7 августа 1560 года организм устал бороться с многочисленными недугами и государыня скончалась. Ей было, как показал анализ костных останков, не более 24 – 30 лет.
Однако ситуация резко запуталась после исследования останков Анастасии уже в наши дни. В ходе анализа останков были получены ошеломляющие результаты. Образец волос царицы показал высокие концентрации солей ртути. Отходы савана на дне могилы также содержали ядовитый металл. Таким образом, как отмечено в акте судебно-химического исследования останков Анастасии Романовой, «возможной причиной смерти царицы Анастасии могло быть отравление солями ртути»[173]. Примечательно, что аналогичные результаты показало исследование останков матери Ивана Грозного, Елены Глинской, в отношении кончины которой также бытовала версия отравления боярами.
На вопрос, откуда в останках ртуть, нет однозначного ответа. Существует три версии. Первая – мы очень мало знаем о химическом составе косметики средневековой Руси. Анастасию могло погубить неумеренное использование румян и белил, к которым она, видимо, нередко прибегала, чтобы лучше выглядеть после многочисленных родов. Вторая – как известно, ртуть была в свое время обнаружена и в останках самого Ивана Грозного[174]. Это послужило основанием для предположения, что царь болел сифилисом, который в те времена лечили ртутными мазями. Естественно, что он заразил жену и она получала такое же лечение. Третья – Анастасия действительно была отравлена, и обвинение в этом преступлении возвели на Адашева и Сильвестра, справедливо или нет – неизвестно.
Если верна версия об отравлении Анастасии солями ртути, то травить ее должны были начать в 1556 – 1557 годах. Все, конечно, зависит от дозы, но обычно от отравления ртутью в той консистенции, которая обнаружена в останках царицы, больные умирают на третий-четвертый год после попадания яда в организм. Это еще больше запутывает ситуацию, потому что никаких намеков на покушение на убийство царской супруги в 1556 – 1557 годах источники не содержат.
Между тем на протяжении трех-четырех лет царица должна была испытывать страшные страдания, еще более ужасные от того, что несчастная женщина не понимала, что с ней происходит. Она страдала головными болями, быстро уставала, испытывала частые перепады настроения – от беспричинного веселья до внезапных слез и меланхолии. Резкие звуки, запахи, яркий свет страшно раздражали Анастасию. Она все чаще забывала самые простые вещи. По ночам она мучительно ворочалась, не в силах заснуть. Нервная система постепенно разрушалась, царица жила с постоянным чувством страха, страдала робостью, застенчивостью, все больше боялась окружающих. Из-за этого она «уходила в себя», часами прислушивалась к своему самочувствию, стала мнительной, подозрительной. У нее постоянно тряслись пальцы рук, болел живот, был изъязвлен рот. В последней фазе заболевания царицу мучили галлюцинации, припадки, похожие на эпилептические, внезапные крайне болезненные судороги. От этих мучений Анастасия отупела, лишилась всех эмоций и ждала избавительницу-смерть. Поскольку такое состояние длилось долго, можно представить, что пережил любящий ее супруг – Иван Грозный. Так действительно можно сойти с ума...
Перед нами еще одна тайна двора Ивана Грозного, которая вряд ли будет когда-либо раскрыта. Думается, что бесперспективно искать ответ на нее, пытаясь угадать, кому было выгодно отравить Анастасию. На сегодняшнем уровне наших знаний мы не можем дать однозначного ответа, была ее смерть естественной или насильственной и кто в ней виновен. Как верно заметила археолог Т. Д. Панова, изучавшая останки первой русской царицы, «смерть Анастасии Романовой стала причиной опал и казней придворных, но был ли тогда наказан истинный виновник ее гибели – этого мы уже никогда не узнаем».
«Ампутируй гангрену своей души и воспрянь от летаргического сна»: Курбский ставит точку в споре
После прихода к власти в Речи Посполитой в 1575 году Стефана Батория в Ливонской войне постепенно происходил перелом. 1576 – 1578 годы король потратил на улаживание конфликтов внутри страны, реформирование армии и системы ее комплектования и финансирования, дипломатические усилия по укреплению международного положения. Он даже отдал Ивану Грозному в 1577 году на растерзание Ливонию. Благодаря политике Стефана к 1579 году Речь Посполитая серьезно окрепла и перешла в наступление. Оно оказалось успешным. Армия Батория громила русских. Правда, происходило это в основном благодаря не польским гусарам и литовской шляхетской коннице, а европейским наемникам, которых Стефан в большом количестве призвал под свои знамена – преимущественно венграм и германцам, а также итальянцам, французам, даже шотландским стрелкам.
Поляки и литовцы были для воинов Ивана Грозного врагом знакомым, которого не раз бивали. А вот европейские профессиональные военные, наемники, продавшие свои шпаги Стефану Баторию, оказались противником новым и сильным. Европейцы, переживавшие так называемую «военную революцию», пришли в Россию носителями принципиально новой, прогрессивной военной тактики. Армия Ивана Грозного по сравнению с ними была отсталой, феодальной. Русские воины смогли их остановить только на третьем году войны под стенами Пскова в 1581 году. Боевые действия 1579 – 1580 годов происходили при полном преимуществе армии Батория. Пали Полоцк, Сокол, Озерище, Велиж, Великие Луки, враг осадил псковские пригороды и в конце концов дошел до самого Пскова.
Курбский, как уже говорилось, воевал под Полоцком в 1579 году, участвовал во взятии этой крепости и боях под соседним Соколом. Прямо там, в лагере, он написал новое письмо царю, которое, казалось бы, должно было поставить точку в затянувшемся споре. В эти же годы князь обдумывал замысел большого антигрозненского сочинения – «История о великом князе Московском». Оно было закончено в начале 1580-х годов. Идеи, изложенные в Третьем послании Курбского и «Истории...», сходны, поэтому можно объединить эти сочинения.
К этому времени Курбский сильно изменился. Во-первых, он успел основательно подзабыть свою былую родину. Жизнь князя в Литве была слишком бурной и разнообразной, полной новых впечатлений. На этом фоне воспоминания о прошлом, к тому же далеко не всегда приятные, тускнели и либо исчезали вовсе, либо заменялись личными мифами, в которые сам эмигрант искренне верил.
Теплых чувств к православной России у Курбского осталось мало. Слишком много он успел повоевать с русской армией, слишком долго убеждал себя и своих читателей, что этой заблудшей страной правит тиран-еретик, который превратил ее в мрачное царство невежества и разгула дьявольских сил. Курбский теперь верил только в это. Для него Святорусское царство, о котором он писал в первых своих посланиях с невыразимой нежностью и болью, погибло навсегда. Шансов у России нет. Поэтому у Курбского изменилось отношение ко всему русскому: все лучшее в прошлом, его погубил Иван IV. Царь истребил святых мужей и лучших воевод – «избранных во Израили». Вместо них остались одни «калеки». Поэтому князь злорадствует и торжествует, описывая унижения русских пленных, которых, связанными, бросают к ногам гордых воинов Речи Посполитой. Он радуется, когда русская армия разбита и бежит. Она «...как будто состоит не из людей, а становится подобным стаду овец или стае зайцев, не имеющих пастуха, которые боятся гонимого ветром листа». Эмигрант пишет об «огромном и вечном стыде» царя и «всей Святорусской земли», о «сраме народов – сынов русских».
К тому же к концу 1570-х годов Курбский приобрел солидный философский багаж. Вместе с Амброджием в середине 1570-х годов Курбский переводил сочинения Иоанна Златоуста, объединенные в сборник под названием «Новый Маргарит». К весне того же 1575 года Курбский замыслил сам перевести «Богословие» Иоанна Дамаскина, третью и главную часть его догматического труда «Источник знания». К 1579 году князь перевел и другие части – «Диалектику» со статьей «О силлогизме» и отдельные фрагменты труда Дамаскина. Если раньше князь критиковал Ивана Грозного главным образом на основе Священного Писания и некоторых теологических трудов, то теперь его теоретические знания значительно расширились.
Эти тексты были необычайно важны для формирования мышления Курбского. До этого, несмотря на определенную начитанность и большой энтузиазм, мышление Курбского все же было достаточно хаотичным. Он считал Ивана IV отступником от правильной веры, «ненастоящим царем». Для обличения Ивана Грозного князь использовал библейские цитаты и аналогии из церковной истории. Себя он мыслил, как он сам писал в письме пастору Иоганну, подражателем библейского Давида. Но концепции, четкого сценария драмы мировой истории, действующими лицами которой были тиран Иван и праведник Курбский, до 1570-х годов у эмигранта еще не было.
Именно при работе над переводом «Нового Маргарита» князь довел до апогея свою идею о погублении Святорусского царства предтечей Антихриста – Иваном Грозным. Он обосновал разработанную в деталях концепцию исторической катастрофы. По его мнению, православной вере угрожают два «дракона»: внешний и внутренний. «Внешний дракон» – это гонитель христиан, царь-тиран, подобный язычнику Нерону. Основам православной веры он не опасен, а только сплачивает христиан в противостоянии деспоту.
Однако гораздо опаснее «дракон внутренний». Это замаскированный враг, который рядится в личину христианского государя и тайно изнутри разрушает православную державу. Он сумел подменить основы истинной веры и насаждает ересь, поклонение страстям и служение Сатане. Причем внешне царь выступает защитником православия и даже якобы борется за его чистоту, но под флагом этой борьбы он на самом деле преследует праведников – «новых христианских мучеников». Цель этого прислужника Дьявола и его пособников – превратить Святорусское царство, последнее богоизбранное царство, в огромную вотчину Антихриста[175].
В. В. Калугин пришел к выводу, что именно из «Богословия» Иоанна Дамаскина Курбский заимствовал образ царя-мучителя, связанный с концепцией о приходе в мир Антихриста. Этот образ князь и положил в основу разоблачения неправедных деяний Грозного. Даже биографию царя Курбский в своей «Истории...», написанной в начале 1580-х годов, изображал по образцу биографии Антихриста у Дамаскина. Антихрист родится от блуда (и Грозный родился от второго, неблагочестивого брака Василия III). Он будет «воспитан в тайне» (и детство Ивана протекало отнюдь не по-царски, в «срамных» забавах). В начале своего правления Антихрист «повинуется доброхотам» (и Иван Грозный правит, повинуясь советам праведников, так называемой «Избранной раде»). Затем он начинает гонения на праведников и церковь, являет свое истинное лицо и вступает на явный Антихристов путь. Заканчивается и «Богословие» Дамаскина, и «История...» описанием грядущего с небес во всей славе Христа и гибелью Сатаны и его приспешников[176].
Именно в Третьем послании царю и «Истории...» Курбский окончательно сформулировал свою знаменитую концепцию «двух Иванов» – «хорошего» царя Ивана во времена правления «Избранной рады», когда он находился под контролем праведников А. Ф. Адашева и Сильвестра, и «плохого», лютого тирана, которым царь стал после того, как злые советники-«ласкатели» оклеветали «святых мужей» и в России возгорелся «пожар лютости». Курбский в «Истории...» очень колоритно описывает, каким образом Сильвестр сумел смирить буйный и жестокий нрав 17-летнего царя Ивана. Он обманул подростка, «открывая ему чудеса и как бы знаменья от Бога, – не знаю, истинные ли, или так, чтоб запугать, сам все это придумал... ведь часто и отцы приказывают слугам выдуманными страхами отпугивать детей от чрезмерных игр с дурными сверстниками. Так и блаженный, я полагаю, прибавил немного благих козней, которыми задумал исцелить большое зло... блаженный этот, хитрец ради истины... душу великого князя он исцелил было и очистил от ран проказы, а развращенный нрав поправил, наставляя то так, то этак на верный путь»[177].
Принципиальное изменение трактовки Курбским русской истории на страницах его поздних сочинений заключалось в следующем. Как отметил К. Ю. Ерусалимский, в более ранних текстах Курбского «Избранные во Израили» лучшие мужи государства выступают пассивными жертвами царского произвола. Князь еще не утверждает, что они «правили Русской землею». Зато теперь он принимает идею царя, что в их руках действительно была сосредочена власть. Только если для Грозного это были придворные-узурпаторы и изменники, то под пером Курбского они превратились в правительство праведников, «Избранную раду».
Святые правители (Адашев, по словам Курбского, был вообще «ангелам подобен») прежде всего обратили царя к благочестию: «...они настраивают царя на покаяние и, очистив его внутренний сосуд, приводят, как положено к Богу... и возводят его, прежде окаянного, на такую высоту, что многие соседние народы вынуждены удивляться его обращению и благочестию... назывались же тогда эти его советники избранной радой». Они устроили в стране праведный суд, давали справедливые награды воеводам (воистину это «воздаяние по заслугам» было идеей фикс Курбского), разогнали из окружения царя плохих подданных: «А паразиты или тунеядцы, то есть прихлебатели или застольные дружки, которые живут фиглярством и шуточками... не только не получали тогда наград, но изгонялись вместе со скоморохами и им подобными скверными и коварными людьми»[178].
Благодаря этим святым советникам царя Россия стала успешно бить мусульман, восторжествовало православие. Однако царь не оценил великой Божьей благодати: «что же после этого устраивает наш царь? Когда с Божьей помощью храбрецы защитили его от враждебных соседей, тогда он и воздал им: тогда самой злобой отплачивает он за самую доброту, самой жестокостью за самую преданность, коварством и хитростью за добрую и верную их службу». Клеветники обвинили Адашева и Сильвестра в том, что они извели царицу Анастасию колдовством. При этом суд над ними был заочный – царя убедили в том, что с членами «Избранной рады» больше нельзя видеться: заколдуют и царя, не сходя с места. Адашев отправился воеводой на фронт, а Сильвестр – в монастырь. С этого момента в стране разворачивается форменный террор. И князь посвящает большую часть своего главного труда – «Истории...» – составлению мартиролога новых христианских мучеников, избиенных от злобесного царя. Их перечень столь велик, что разбит на три главы – отдельно князья, отдельно священнослужители и отдельно дворяне. Курбский подробно описывает виды казней и кошмарные истории кровавых расправ над лучшими людьми государства.
При этом Курбский, как это ни поразительно, ни словом не упоминает ни о введении опричнины, ни о ее отмене. Ему было надо подогнать дату изменения политики царя под удаление от двора Сильвестра (конец 1550-х) и смерть Адашева (1560/61). Было бы странно утверждать, что царь подождал четыре года, а потом в 1565 году начал опричный террор. Реальная история не вписывалась в придуманную схему, согласно которой царь превращался в слугу Сатаны после удаления от него праведных советников. Поэтому Курбский, разоблачая преступления царя, в угоду авторскому замыслу умудрился умолчать об опричнине – самом страшном из деяний Ивана Грозного...
В исторической концепции Курбского неповиновение Грозному принимало характер «Священной войны» с Антихристом. Всякий погибший от рук царя превращался в христианского мученика: «Верой служа своему царю и христианскому обществу, какую плату получили они здесь от свирепого и бесчеловечного царя? Разве не воздаст им Христос, не их украсит мученическими венцами?.. А потому, без сомнения, поедут они или поплывут на облаках навстречу Господу в первом воскресении»[179].
Насколько историческая концепция Курбского отражает реалии отечественной истории? У ученых нет однозначного ответа на этот вопрос. Одни склонны доверять князю и пишут русскую историю «по Курбскому»: рассматривают «Избранную раду» как реальное «правительство А. Ф. Адашева – Сильвестра». Другие считают, что «Рада» была выдумана Курбским, когда он сочинял концепцию правления Ивана Грозного по схеме, вычитанной у Иоанна Дамаскина[180]. Истина, как всегда, где-то посредине: легендарность известий Курбского о правительстве «ангелоподобных мужей» очевидна, и в то же время, видимо, и Сильвестр, и особенно Адашев действительно играли неординарную роль при дворе. Только в чем именно она заключалась – мы больше догадываемся и строим гипотезы. Вот уже более 200 лет ученые, поэты, политики, просто люди, неравнодушные к судьбам России, вчитываются в сочинения Грозного и Курбского в поисках правды о прошлом, в поисках ответов на извечные вопросы русской истории.
А это значит, что спор царя Ивана и князя Андрея не закончен, а продолжается. Курбский неоднократно обещал положить свои грамоты, обличавшие царя-тирана, с собой в гроб. Но они не исчезли во мгле веков вместе с его могилой, а, наоборот, обрели самостоятельную жизнь. Пока нас будет интересовать история Ивана Грозного – мы будем помнить и о Курбском. Место царя и опального князя в исторической памяти можно охарактеризовать словами булгаковского Иешуа, обращенными к Понтию Пилату: «Мы теперь всегда будем вместе, – говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом вставший на дороге всадника с золотым копьем. – Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня, – сейчас же помянут и тебя».
Глава седьмая ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ МОСКОВСКОГО ЭМИГРАНТА
Волынский землевладелец
Князь Курбский прошел в своей литовской биографии три стадии. Поначалу он чувствовал облегчение от того, что вырвался из «адовой твердыни», связанную с этим радость по поводу вновь обретенных перспектив в Великом княжестве Литовском. Затем наступил период горького разочарования в своем новом месте обитания. Его сменила «фаза ассимиляции», сопровождаемая осмыслением различий между Московией и Литвой, старой родиной и приютившей эмигранта страной[181].
Насколько Курбский усвоил новые, литовские реалии, а насколько в его действиях проявлялись «родимые пятна» московского землевладельца? Нам кажется, нет оснований говорить о создании Курбским на Волыни некоего «московского вотчинного анклава», по крайней мере, в правовом отношении. Князь быстро стал ориентироваться в особенностях местного судопроизводства и административной системы. Довольно легко он усвоил и стиль поведения литовских панов по отношению к соседям, когда они пытались отнять друг у друга все, что плохо лежит, используя для этого как апелляцию к королю – судебные иски, так и прямое насилие, захваты земель и людей с использованием вооруженной силы. Изображение Курбского как «дикого помещика», нецивилизованного грубияна-московита вряд ли уместно. В способности к жестокости и произволу он мало отличался от других землевладельцев Великого княжества Литовского и скорее даже уступал им.
Однако нельзя отрицать и другого: Курбскому, получившему в Великом княжестве Литовском земельные пожалования от своего сюзерена, было необычайно важно воссоздать, хотя бы в своих собственных глазах, высокий статус владетельного князя, во второй половине XVI века уже во многом подзабытый в Московской Руси. Отсюда и его вызывающее поведение, кичливость, нежелание исполнять не только распоряжения волынских властей, но и королевские указы. Даже в отношении именных приказов и Сигизмунда, и Стефана Батория Курбский всегда уступал только «у последней черты», когда монарший гнев грозил вылиться в реальные жесткие санкции.
Документы повествуют о красочных эпизодах, когда князь клялся оборонять свои земли от посягательств на них любой ценой и даже приказывал ловить слуг своих соседей и пытать их, не лазутчики ли они и не собираются ли их хозяева напасть на имения «москаля» – прямо князь-суверен в кольце враждебных держав!
Какими землями в Литве обладал Курбский? 4 июля 1564 года ему была выдана королевская грамота на владение Ковельским имением (вотчиной князей Любартовичей-Сангушков). Князь не стал собственником, а получил имение в так называемую «крулевщину». Имение принадлежало короне и давалось во временное владение по личному распоряжению короля за особые заслуги. По Литовскому статуту 1529 года для обретения полученных земель в собственность нужно было согласие коронного сейма. Однако сам беглый боярин не был согласен со своим фактическим статусом временного держателя земель. Он называл себя «отчинным господином на Ковлю» и подписывался титулами «князя Ковельского» и «князя Ярославского». Он раздавал ковельские земли мелким дворянам на условии несения ими службы в составе личного двора бывшего московского воеводы.
Во владении Курбского в составе Ковельского имения были: замок в Ковеле, замок в местечке Вижве, дворец в Миляновичах и 28 деревень. Все это делилось на три волости: Ковельскую, Вижовскую и Миляновичскую. Ковельскую волость составляли: город Ковель, села Гридковичи, Гойшино, Хотешово, Нюйно, Красная Воля, Мошчоная, Дубовая, Облапы, Вербка, Шайно, Бахово, Скулин, Стебли, Мостища, Верхи. В Вижовскую входили: местечко Вижва и села Старая Вижва и Воля. К Миляновичской относились: местечко Миляновичи и села Порыдубы, Селище, Годевичи, Зело во, Туровичи и Клевецкое[182]. Волость была довольно многолюдной: это видно из того, что в стычках с соседями ковельцы могли выставлять ополчение до трех тысяч человек, вооруженных пушками.
Курбский быстро ощутил разницу между держанием имения в Великом княжестве Литовском и владением вотчиной в Московском государстве. Он столкнулся с явлениями, в Московии второй половины XVI века уже подзабытыми, – например, самовольным захватом земель. 3 мая 1566 года датировано донесение Богуша Корецкого, старосты Луцкого, Браславского и Винницкого, что «приезжал ко мне его милость князь Андрей Михайлович Курбский» и жаловался, что окрестные паны «земли и оседлости свои около волости моей Ковельской открытою силою заселяют, присоединяют к своим имениям и присвояют земли, принадлежащие к имениям моим Ковельской волости: поля, сенокосы, дубравы, боры и леса, нарушая вековечные границы и размежевание»[183].
Курбский был обескуражен. Подавая жалобу, он как-то не учел разницу между русскими властями и администрацией Великого княжества Литовского. Добиться справедливости и помощи от чиновников во все времена и во всех странах было трудно, но если уж воеводы Ивана Грозного обещали уладить проблему – она решалась, хотя и не всегда гуманным способом. Богуш Корецкий встретил князя-эмигранта крайне любезно, посочувствовал ему и торжественно записал жалобу в специальную книгу. Этим помощь властей и ограничилась. Теоретически можно было возбудить против обидчиков дело, но судебные перспективы земельных тяжб всегда туманны, да и «князь ярославский» к 1566 году еще не проделал духовную эволюцию по превращению из гордого воеводы в сутягу.
Поэтому ничего не оставалось, как вспомнить боевое прошлое. Конечно, несколько смущало то, что раньше Курбский воевал за Казань и Ливонию, а теперь предстояло сражаться за смединский сенокос. Но у каждого этапа жизни свои битвы. По приказу Курбского его люди, Иван Келемет и Постник Вижевский, собрали отряд ковельских крестьян, вооружили их и отправились мстить обидчикам. Судя по материалам уголовного дела, которое возбудили против людей Курбского по жалобе менее щепетильного в вопросах сутяжничества князя Александра Федоровича Чарторыйского, ковельские крестьяне отвели душу: они разоряли пасеки, грабили, насиловали, избивали безоружных жителей Смединской земли.
Правда, Курбского, не нашедшего отзывчивости у властей и решавшего проблему самым примитивным, зато действенным путем насилия, ожидал неприятный сюрприз. Так вести себя в Великом княжестве Литовском было нельзя. 14 мая на дворе князя объявился следователь, сообщивший, что налетчиков ждет суд. А король запретил Курбскому чинить подобные нападения на соседей. Курбский произнес очень патетическую речь, что он ни на кого не нападает, а только защищает свою землю. Спорная территория – земля не Смединская, а Вижовская. Поэтому всех, кто проникнет в нее и объявит Смединской, князь велит ловить и вешать. Действия Келемета он полностью одобряет и поддерживает, захваченного имущества и угнанного скота возвращать не велит. Жалобу Чарторыйского торжественно записали в городские книги, и на этом инцидент пока что оказался исчерпанным. Курбский мог праздновать свою первую победу, одержанную им в качестве землевладельца Великого княжества Литовского.
20 августа 1566 года датирован другой королевский указ, предписывавший Курбскому вернуть сено, похищенное его людьми из-под Крево, из местечек Донневичи и Михалевичи. В ноябре 1567 года уже сам Курбский подавал в суд на соседей из-за похищения сена и угона скота из его села Порыдубы. Он жаловался на потраву сенокосных лугов, «крывды и шкоды» со стороны семейства сендомирского каштеляна Станислава Матеевского, а конкретно – его жены Анны и детей Станислава и Каспара. Этот конфликт не обошелся без взаимных нападений отрядов слуг, вооруженных стычек, раненых и избитых людей. Дело тянулось долго. Курбского и Матеевского пытался рассудить еще Варшавский сейм в 1570 году. Окончательно дело было урегулировано в пользу Курбского только в мае 1571 года.
Причиной подобных инцидентов было появление на Волыни нового и достаточно крупного землевладельца, которое нарушило сложившуюся систему землеустроения. Ситуация обострялась необходимостью несения с имений земской службы во время войны с Московией, платежа специальных военных податей. И стороны норовили свалить платеж на соседа или сделать его за счет сборов со спорных территорий. Курбский здесь был уязвимой и легко поддающейся на провокации фигурой. Значительная часть населения Ковельской волости юридически не подчинялась князю. Отдельные населенные пункты и даже категории населения обладали привилегиями, дарованными короной, и эмигрант-москаль был им не указ.
Королю Сигизмунду был не нужен подобный «очаг напряженности» на Волыни. Было очевидно, что новый князь не сумел найти общего языка с местными властями, а Волынские паны не преминут воспользоваться незнанием москалем литовских обычаев и правовых норм и отнимут у него те земли и имущество, какие удастся. То, что конфликт очень быстро перешел в вооруженную фазу с грабежами и убийствами, говорило о необходимости его скорейшего и радикального разрешения. Король решил вывести развоевавшегося «князя Ковельского» из-под юрисдикции местных властей и судов (урядов).
26 января 1567 года Сигизмунд издал указ о неподсудности князя и его людей волынским властям и местным судам. Теперь они не имели права принимать жалобы на разбойные действия князя и его людей. Требовать управы на «москаля» можно было только перед лицом королевского суда[184]. В распоряжении от 25 февраля 1567 года монарх четко обозначил статус Ковельского имения. Подчеркивались его принадлежность короне и права Курбского как временного держателя с обязанностью несения военной службы. В грамоте указывалось, что пожалования на Волыни даются взамен вотчин, утраченных при бегстве из России. Высшей судебной инстанцией для князя-эмигранта объявлялся король. Поскольку Курбский отныне владел Ковелем от имени короны, то он должен был нерушимо соблюдать все королевские привилегии, данные ранее на эти земли. 8 сентября 1567 года князь получил право передавать жене по веновой записи свои земельные владения, что резко подняло его шансы как потенциального жениха.
Позже владения Курбского расширились: 23 ноября 1568 года ему была пожалована вожделенная Смединская волость. Правда, король Сигизмунд слегка слукавил: на волости «висел» долг в 1000 коп грошей, которые в свое время сам Сигизмунд II Август задолжал князю Александру Чарторыйскому. И теперь, чтобы стать полноправным владельцем, эту сумму вместо короля должен был внести Курбский! 27 июля 1568 года он также получил ленное право на десять сел в Упитской волости. Королевские пожалования оформлялись в виде акта, в котором подчеркивался добровольный выбор Курбского лучшего вместо худшего: «Наслышавшись и достаточно осведомившись о милости нашей господарской, щедро и постоянно оказываемой нами всем подданным государств наших, оставил свои имения и все свое движимое имущество, какое имел, в земле великого князя московского, отказался от службы и приехал к нам на службу» (перевод Н. Д. Иванишева, из королевской грамоты о пожаловании Смединской волости)[185]. К 1569 году относится известие о лишении Курбского сел Воикяны возле Кревского замка и Доркишки под Трабами, которые король передал пану М. П. Сапеге. Видимо, первоначально они были пожалованы Курбскому около 1567 года за вступление в должность кревского старосты.
Курбский усвоил уроки 1566 – 1567 годов, правила игры по захвату чужих имений, безнаказанному насилию над слабыми. Историки в качестве примера подобного самовольства часто приводят историю с ковельскими евреями. 9 июля 1569 года, в субботу, когда у евреев был шаббат (что было потом особо подчеркнуто в жалобе ковельских горожан), урядник Курбского Келемет ворвался с вооруженным отрядом в еврейское местечко и устроил погром. Были схвачены Юска Шмойлович, Авраам Яковлевич и некая женщина по имени Агронова Богдана. Принадлежащие им лавки и дома были запечатаны. Несчастных арестантов отвели во двор к Курбскому и посадили в яму с водой, где в изобилии водились пиявки. Вопли жертв были слышны далеко за стенами замка.
Ковельские евреи пожаловались властям, но, как водится, раньше понедельника городские учреждения не открылись, а пиявки сосали кровь из арестантов уже двое суток. Во вторник, 12 июля, Курбский имел удовольствие увидеть перед своими дверьми очередного представителя судебных органов, возного Павла Григорьевича Оранского, которого, ввиду серьезности дела, сопровождал вооруженный шляхтич Елизар Зайцев. Курбский и Келемет решили проблему просто: приказали запереть двери. Униженный Оранский топтался у входа в замок, слушая крики, доносящиеся из ямы с пиявками. Он попал в сложную ситуацию: для того, чтобы вломиться в замок силой, шляхтич Зайцев был недостаточной боевой единицей. Но отступить тоже было невозможно: возного окружили кричащие и размахивающие руками родственники и друзья несчастных, требуя от представителя властей сделать хоть что-нибудь.
Шум и гам у входа в замок надоели Курбскому. Поэтому ворота открылись, и из них вразвалочку на замковый мост вышел герой дня, урядник Иван Келемет. Ковельские евреи обратились к нему с речью: «Милый Келемете! По какой причине ты безвинно и бесправно поймал братью нашу, ковельских евреев, посадил их в жестокое заключение?» Келемет удивился вопросу. Его ответ стоит процитировать целиком:
«...Но разве пану не вольно наказывать подданных своих, не только тюрьмою или другим каким наказанием, но даже смертью? А я что ни делаю, все то делаю по приказанию своего пана, его милости князя Курбского; ибо пан мой, князь Курбский, владея имением Ковельским и подданными, волен наказывать их, как хочет, а королю, его милости, и никому другому нет до того никакого дела».
Несомненное сходство данного высказывания со знаменитым политическим афоризмом Ивана Грозного: «Своих холопов хочу – жалую, хочу – казню» было замечено историками. Общим местом многих сочинений, как научных, так и публицистических, стал вывод о двойственности натуры князя Курбского. Мол, на словах он был за свободу и уважение человеческой личности, но на практике поступал так же жестоко, как его идейный оппонент – Иван IV.
Но в данном эпизоде следует видеть не столько перенос на литовскую почву «диких московских порядков», сколько как раз довольно типичный для Великого княжества Литовского произвол вельможного пана в отношении слабых и бесправных подданных. Как выяснилось при дальнейшем разбирательстве, Келемет только прикрывался высокими лозунгами. На самом деле перед нами акт самого вульгарного рэкета образца 1569 года: приятель Келемета, ковельский мещанин Лаврин, иудей, перешедший в христианство, попросил его выбить денежный долг в 500 коп грошей у неких ковельских евреев. Келемет оказался отзывчивым, тем более что выбивание долгов сулило неплохой куш. Это был сговор Лаврина и урядника Курбского, не более того.
13 июля замок Курбского посетил коширский урядник Мартын Некрашевский. По его просьбе Келемет выпустил евреев из водяной ямы. Они, плача, стояли посреди двора, все покрытые следами укусов пиявок. Однако стоило Некрашевскому уехать, как Келемет снова отправил их в заточение.
Делать было нечего: городской суд не мог справиться с разошедшимся слугой Курбского. Пришлось, как нередко в подобных случаях, жаловаться прямо королю Сигизмунду II. Монарх издал специальный указ (!), предписывавший выпустить евреев из заточения. 14 августа приказ зачитали Келемету. Он страшно рассердился: «Зачем вы мне это читаете? Король мне не указ, мой господин – Курбский!» Урядник выгнал и еврейскую делегацию, и возного Тихона Оранского, который привез декрет. Все, что сумели сделать власти, – в очередной раз записать рассказ о происшедшем в городские книги.
Несчастные вышли из ямы с пиявками только 23 августа, просидев в ней в общей сложности 44 дня. Произошло это после того, как Курбский приказал выполнить королевское распоряжение. Князь заявил, что ковельские евреи пострадали за дело. Правда, 500 коп грошей выкресту Лаврину должны не они, а некий Агрон Натанович, который пустился в бега. Но трое жертв Келемета имели неосторожность в свое время записаться в поручители Агрона Натановича, за что и поплатились. Кроме того, Авраам Яковлевич взял у Курбского право сбора с населения Ковельской волости некоего «побора»[186]. То ли «побор» собирался плохо, то ли сборщик действительно проворовался, но Курбский решил, что от него утаивают деньги, – и на сцене появился пан Келемет с его подручными...
При чтении материалов дела ковельских евреев не оставляет ощущение мизерабельности происходящего. Человек, который когда-то управлял всей Русской Ливонией, герой взятия Казани, смельчак, осмелившийся бросить вызов самому Ивану Грозному, – считает какие-то мелкие деньги, откровенно по-бандитски выколачивает долги и наслаждается, когда по его приказу издеваются над слабыми. Поистине, князь Курбский зажил в Великом княжестве Литовском другой жизнью.
Князь-разбойник?
Судя по всему, московского эмигранта и его дерзких людей в округе не любили. В конце 1569 года произошла стычка между людьми Матея Рудомина и Курбского, в ходе которой были убитые и раненые, и дело затем даже разбиралось литовской радой панов в присутствии Курбского. В августе 1570 года разразилась настоящая «малая война» между слугами Курбского и Андрея Вишневецкого за спорные владения, вызванная попыткой перекройки существующих границ имений. В январе 1571 года Курбский лично участвовал в тяжбе с Дмитрием Андреевичем Козеком в имении Осмиговичи.
2 октября 1571 года во Владимире-Волынском был избит и ограблен урядник князя Иван Келемет с семьей. Он посетил город по служебной необходимости: в суде рассматривались бумаги по очередной тяжбе против Курбского. Когда, решив все дела, он отправился обратно, внезапно выяснилось, что Иван Келемет – личность во Владимире-Волынском необычайно популярная. Ради него звонили колокола, а ландвойт Маковский приказал запереть городские ворота, чтобы не выпустить дорогого гостя. За Келеметом погналась толпа горожан. Он сумел-таки выехать из города и около мили удирал по полю от преследователей, но был настигнут. Его, жену и слуг били, с них срывали одежду и драгоценности, пытались сломать бричку и украли из нее сундук с имуществом и шкатулку с деньгами. Келемету сильно повезло, что он сумел-таки вырваться от нападавших и бежать. Однако представители местных властей, «по ненависти», не хотели брать у него жалобу на нападение и грабеж. Заявление урядника во Владимире просто не приняли, и ему пришлось довольствоваться записью о происшествии луцкого старосты[187].
Келемету в этот раз повезло. Но в конце концов он не сносил головы. Владимир-Волынский оказался для него роковым городом. 9 марта 1572 года, во время очередной поездки, он был убит.
Келемет приехал во Владимир для разбирательств по очередной судебной тяжбе Курбского с городским писарем Якимом Васильевичем, а также для закупки зерна. Он остановился в доме мещанина Василия Капли и расположился со своими спутниками на отдых, который, однако, оказался непродолжительным: во дворе раздались шум, лошадиное ржание и громкие ругательства. Келемет выглянул в окно и обнаружил группу людей, привязывающих лошадей. К своему ужасу, он узнал в них слуг князя Булыги, с которым у его господина, Курбского, были неприязненные отношения. К тому же ругань и гогот слуг перекрывали пьяный рев самого Булыги, явно искавшего подходящий объект, чтобы покуражиться всласть.
Келемет попросил Каплю тихонько перевести его на другую квартиру, поспокойнее. Капля так и сделал, но это не осталось незамеченным для слуг Булыги. Они были столь же нетрезвы, как и их господин, и жаждали общения. Слуги вломились в комнату на новой квартире, куда еще не успел переехать Келемет. Капля пытался их урезонить, но они нарывались на ссору. Крича, что никуда не уйдут из-за какого-то «москаля», слуги кинули в Келемета бутылкой с водкой. «Москаль» не полез в карман за словом, дав исчерпывающую непечатную характеристику всем присутствующим. Началась драка, затем засверкали ножи и сабли. Хозяин дома спрятался под лавку, а Келемет геройски вышвырнул дебоширов из квартиры. Он запер двери, но слуги Булыги крикнули подмогу, взялись за оружие, стали рубить бердышами окна и двери и стрелять из луков и пищалей. Улучив момент, из окон стали выпрыгивать слуги Келемета. Убийцы с радостными воплями гонялись за ними по всему рынку.
На штурм занятой «москалем» квартиры людей повел сам Булыга. В схватке урядник Курбского погиб, его четверо спутников получили увечья и ранения. Смерть Келемета описана следующим образом: «... у него на голове ран немало: почти вся голова изрублена, а на левой руке два пальца средние, между большим и мизинцем, отрублены, а мизинный палец надрублен, а на правой ноге, близь самого лона, рана насквозь пулею простреленная». Над смертельно раненным урядником был с поличным застигнут сам князь Булыга с окровавленным кортиком в руке. Нападавшие, по словам очевидцев, придавали своим действиям какой-то демонстративный характер: так, князь Дмитрий лично картинно отсек у мертвого Келемета палец с драгоценным перстнем.
Имущество было разграблено, причем, судя по содержащейся в следственном деле описи на нескольких листах, оно было весьма богатым: много денег, серебряные кубки, «кафтан алого сукна, подшитый куницами», посеребренная и позолоченная конская сбруя, «черный бархатный колпак, подшитый соболями», «украшенный жемчугом воротник московский, за который на Москве плачено 12 рублей», «сабля булатная в серебряной позолоченной оправе, на которой было четыре с половиною гривны серебра, за эту саблю заплачено в Константинополе 30 червонцев» и т. д.
Суд над убийцами Келемета оказался лишь заочным. За него присудили как за убитого шляхтича штраф в 100 коп грошей литовских («годовщину») и возмещение материального ущерба в 147 коп грошей. Курбскому надлежало получить компенсацию за его имущество, похищенное у Келемета, в 105 коп грошей, хотя всех убытков Курбскому было причинено на 1 243 копы и 44 гроша. Всего, считая компенсацию раненным в драке слугам Келемета, с Булыги надлежало взыскать 1 655 коп, 50 грошей и 4 пенязя. В случае его несогласия платить суд постановил конфисковать имение князя-разбойника в пользу Курбского.
Булыга не смог или не захотел платить. При посредничестве К. Острожского, В. Загоровского и других панов он заключил с Курбским мировую сделку, по которой обязался выплатить 600 грошей и отсидеть в тюрьме Владимирского замка один год и шесть недель. В случае призыва на военную службу Булыга от отсидки освобождался. Имение он терял только в том случае, если бы вовремя не внес сумму в 600 грошей[188].
Но эмигранты вовсе не всегда оказывались жертвами разбушевавшихся панов. Например, сам Курбский выступал в откровенно разбойничьей роли в 1572 году при насильственном захвате имения Туличев у Николая Лысаковского. Князь захватил Туличев и не желал отдавать его под тем предлогом, что грамоту на имение Борзобогатые-Красенские получили от Сигизмунда II Августа. В 1572 году король умер, и распоряжение Сигизмунда надо было подтвердить у нового монарха. Пришедший к власти в 1575 году Стефан Баторий издал требуемый приказ, но Курбский велел не открывать двери гонцам, привезшим 15 июля 1578 года короневский декрет. Около каждого въезда в имение их встречала толпа, вооруженная кольями и палками, и грозила избить. И возный Демьян Мокренский был вынужден просто воткнуть копию указа в створ ворот и убраться восвояси. Спорный населенный пункт был отобран в январе 1590 года, уже после смерти Курбского, у его потомков.
В феврале 1572 года Курбский с вооруженным отрядом выезжал к границам имений Вишневецких, демонстрируя готовность силой защищать все поползновения на свои земли. Выезд сопровождался стычкой с людьми Вишневецкого из-за угона стада скота. Опять были убитые и раненые. В июле-августе 1572 года Курбскому приходилось разбирать несколько жалоб на своих людей, которые обвинялись в нападениях на местное население. Князь неизменно защищал своих слуг и ради них не боялся идти на конфликт с судебными и административными властями Владимира-Волынского.
Курбский чувствовал себя в окружении врагов и вел себя по принципу «на войне как на войне». В октябре 1572 года его слуга Щастный Поюд по приказу своего господина поймал мирно проезжавшего стороной Федора, слугу Богуша Корецкого. Курбский расценил это как «взятие языка», сначала отдал пленного своим воинам на разграбление, а потом приказал его пытать и мучить, задавая все время один и тот же вопрос: «Не замышляют ли на него напасть соседние паны?»[189]
Во время поездки из Луцка в Ковель 5 июня 1573 года князь получил известие о готовящемся на него покушении со стороны засевшего в ближайшем лесу Демьяна Романовича Гулевича. Ковельский владелец изготовился прорываться с боем, но нападение не состоялось.
Подобные угрозы не останавливали Курбского. В 1574 году он напал на имение Трублю, принадлежавшее Кузьме Порыдубскому, держал его с семьей в заточении шесть лет, а имение пожаловал своему слуге Петру Вороновецкому. 17 июня 1574 года Курбский обсуждал в Миляновичах с Яном и Андреем Монтолтами новые обстоятельства конфликта с А. Вишневецким из-за взаимных нападений на спорные земли. 27 июня ковельский владелец получил указ нового польского короля Генриха, который решил спор с Вишневецким в пользу последнего. Курбский данного постановления не признал, и от очередного противостояния с властями его спасло только бегство Генриха во Францию в июне 1574 года, что позволило не выполнять распоряжения этого странного короля, промелькнувшего на польском престоле.
Правда, в отсутствие монарха все имущественные споры должен был решать местный суд. Однако он не торопился с принятием решений и ждал появления нового властелина. Между тем в Луцком и владимирском судах копились взаимные жалобы Курбского, Вишневецкого, их людей. Волынский сейм 5 мая 1575 года принял решение спустя четыре недели после элекции нового короля начать рассмотрение всех скопившихся дел и апелляций в специально создаваемом суде последней инстанции (депутатском суде). Но его заседания не могли начаться ранее ноября 1575 года.
Поэтому под Ковелем вновь и вновь звучали выстрелы, лилась кровь. В августе 1575 года между Курбским и брацлавским воеводой, князем Андреем Ивановичем Вишневецким, развернулась настоящая война. 7 августа на ковельские земли напал отряд, состоявший из урядников, слуг, бояр и видуцких и соминских крестьян под командованием самого Вишневецкого. Под селами Порыдубы и Селище был захвачен и угнан принадлежавший крестьянам скот. Слуги Курбского, посланные вступиться за крестьян, были избиты, а несколько из них – Яким Невзоров, Елисей Близневич, возможно, еще кто-то – убиты. Люди Вишневецкого похитили также четырех ковельских мещан, судьба которых оказалась неизвестна.
Курбский на следующий день, 8 августа, подал жалобу во Владимирский уряд на «наезд» Вишневецкого (судебный термин того времени, принятый в Великом княжестве Литовском). 13 августа исполнявший обязанности стольника Подляшской земли Григорий Семенович Оранский отправился для разбирательства в Зачернецкое имение Вишневецкого, где выслушал прямо противоположную версию событий: 7 августа отряд урядников и слуг Курбского во главе с Кириллом Зубцовским, с которыми было несколько сот вооруженных крестьян, конных и на возах, напал на земли вокруг Зачернецкого дворца Вишневецких, разогнал крестьян, собиравших сжатый хлеб в копны. Захватчики стали грузить хлеб на возы. Урядник Вишневецкого, Григорий Петрович Матеевский, попытался отбить награбленное, но был встречен огнем из ружей и луков. При отступлении сторонники Вишневецкого убили одного «кгвалтовника» (разбойника), Меньшого Москвитина, и поймали четырех нападавших крестьян (а не ковельских мещан!), которых и отправили во владимирскую тюрьму. Люди Курбского увезли 266 копен и 16 снопов жита.
У оборонявшихся было много раненых и лошадей, которых предъявили для осмотра Оранскому. Крестьяне наперебой демонстрировали простреленные руки, ноги, колотые и резаные раны. Никто не погиб. Только крестьянин Гаврила Лукьянович, стороживший хлеб, пропал без вести. Оранского отвели на место происшествия, где он видел разметанные копны, следы от возов, признаки боя, валяющиеся по полю стрелы и, наконец, труп Москвитина, который был брошен в том же месте, где его убили. Подляшский стольник был убежден всеми этими свидетельствами в несомненной виновности людей Курбского.
Однако проводивший в тот же день следствие в Ковельском имении Курбского земский возный Владимирского повета Хацко Чуват Туличевский объявил, что видел свидетельства одновременного нападения на села Порыдубы и Селище отряда Вишневецкого. Возному показали дорогу, на которой оказалась разрыта земля от прогона большого количества скота, следы боя под Порыдубами, много крови на земле, труп боярина Елисея Близневича, заколотого копьем, раненых крестьян и «хребты синие, плетьми избитые, и на руках знаки от веревки» у порыдубских и селищских пастухов, связанных во время грабежа[190].
Таким образом, похоже, что стороны обменялись ударами. Искать же правых и виноватых в подобных «спорах на меже» было совершенно бесполезно, что прекрасно понимали во Владимирском уряде. В жалобах панов друг на друга истину от напраслины отделить было очень трудно. Кроме прямых нападений друг на друга дворяне еще практиковали возведение клеветнических обвинений в подобных нападениях в судебных инстанциях, требуя возмещения действительного и мнимого ущерба. Спор Курбского и Вишневецкого оказался окончательно улажен компромиссным королевским решением уже при Стефане Батории, которое было оглашено 18 октября 1578 года.
А пока до мира было далеко. 6 октября 1575 года на большой дороге между Берестечком и Николаевым берестечские мещане, Войтех и Андрей Остаховичи, напали на миляновичского урядника Василия Калиновского, который по приказу Курбского вез деньги, выданные князем для организации сопротивления вторгнувшимся на Волынь крымским татарам. Калиновский и его спутник Стефан Туровицкий были жестоко изранены, обобраны до нитки и замертво брошены в чистом поле.
Разбой не прошел незамеченным. Берестечский урядник Лукаш Малаховский арестовал налетчиков. Однако когда горожане узнали, что ограблены слуги Курбского, то Остаховичей таинственным образом случайно выпустили из тюрьмы. При этом конфискованное у разбойников награбленное имущество горожане присвоили себе. Тяжелораненого Василия Калиновского (позже следователи насчитают на его теле 18 ран) в одной рубахе вывезли в лес и просто бросили под первый попавшийся куст – авось сам умрет, пусть скажет спасибо, что не добили.
Этот эпизод наглядно показывает, насколько Курбского и его людей не любили в округе. С этой ненавистью поделать было ничего нельзя. Курбский жаловался властям, но все, чего добился, – что его очередной рассказ был записан в луцкие городские книги. Имела ли эта история какие-то последствия для разбойных берестечковцев – неизвестно.
Роковая женщина князя Курбского
Если захваты соседских имений и войны с соседями Курбскому в принципе удавались, несмотря на потери верных слуг, то на другом поприще – приумножении владений путем выгодной женитьбы – его постигла неудача, сильно испортившая ему последние годы жизни. Осенью 1570 года князь женился на княгине Марии Юрьевне Козинской, урожденной Гольшанской. Для литовской дворянки это был уже третий брак. От первого, с Андреем Якубовичем Монтолтом, у нее были дети Андрей и Ян. От второго, с луцким каштеляном Михаилом Тишковичем Козинским, – дочь Варвара.
Невеста была богатой. Совместно с сестрой, Анной Юрьевной Мыльской (женой О. К. Мыльского), она владела половиной родового имения Голбшанских Дубровицы, а после 1576 года по решению суда захватила его полностью. К владениям Гольшанских относилось также имение Шептали, за которое с 1571 года шла тяжба с королевским писарем М. В. Ясенским. От Александра Полубенского Мария получила имения в Звоне Великом Дубровицком. В ее распоряжении оказались земли покойных мужей, Монтолта и Козинского. Бывшей Гольшанской достались от Монтолта имения Жирмоны и Болтеники в Лидском повете и Орловнишки в Ошмянском повете, а от Козинского – имение Осмиговичи во Владимирском повете.
Для Курбского это был, конечно, лакомый кусок. К тому же брак с Гольшанской вводил князя в родственные связи с видными литовскими родами: Сангушков, Збаражских, Сапегов, Соколинских, Полубенских, Воловичей, Монтолтов, самих Гольшанских и т. д. Это был шаг к попаданию в слои высшей магнатерии, к представителям которой обращались: «вельможный» или «ясновельможный» пан. По словам К. Ю. Ерусалимского, для Гольшанской и Курбского «рождение ребенка, причем необязательно сына, позволило бы... создать могущественную династию с обширными владениями в Литве и на Волыни»[191].
Марии же требовалось «крепкое мужское плечо». Запутанная история ее земельных владений неизбежно порождала конфликты с соседями. А как мы уже могли убедиться на примере того же Курбского, главным аргументом в поземельных спорах в Великом княжестве Литовском была сила. Если судиться Гольшанская еще могла сама, то воевать с соседями и водить против них вооруженные отряды дворни ей было затруднительно. На наемников и слуг не всегда можно было положиться. Нужен был муж, желательно с опытом ведения боевых действий.
Но у Марии было слишком много оставшихся в живых родственников. Они, как потенциальные наследники Гольшанской, восприняли появление нового, третьего, мужа безо всякого энтузиазма. Делиться им совершенно не хотелось. Особенно негодовали дети от первого и второго браков. Между Гольшанскими не прекращались семейные свары и дележ имущества, и Курбский волей-неволей оказался в них втянут. Вражда резко обострилась после того, как в 1576 году по завещанию Мария оставила все Курбскому, выделив своим детям лишь одно незаложенное село (Болтеники) и два заложенных (Орловнишки и Жирмоны), которые еще предстояло выкупить. Остальная доля сыновей состояла в дюжине серебряных ложек, посуде, старых доспехах и 19 лошадях. Поскольку, если верить преамбуле завещания, оно было составлено княгиней в момент «посещения от милосердного Бога тяжкою болезнью», детям Марии следовало поспешить поставить на место зарвавшегося москаля, на которого невесть за что свалились такие материальные блага.
Тем более что вскоре после появления этого столь выгодного для Курбского завещания отношения между супругами резко обострились. Причины этого нам неясны, остается только строить предположения. Историк 3. Опоков считал, что диковатый Курбский пытался обращаться со своей новой женой в стиле московской пословицы: «Люби жену, как душу, а тряси, как грушу»[192]. С гордыми княгинями это не проходило, отсюда – конфликты, завершившиеся для Курбского плачевно. Правда, данная точка зрения основана главным образом на поздних обвинениях, которые Мария возводила на своего супруга задним числом, добиваясь развода.
По меткому замечанию К. Ю. Ерусалимского, к тому времени «хорошо они жили друг с другом или плохо – стало уже частью судебной игры». Никаких доказательств склонности князя в семейной жизни к рукоприкладству и насилию, кроме заявлений Гольшанской и ее сторонников, не существует. Мария обвиняла Курбского, что он избивал ее палкой, уже в 1578 году, когда они разводились. Зато, по отзывам современников, «ругался князь так, что его слова вызнавали устно на допросах и не вносили в судебные книги с указанием, что свидетель в случае надобности их может сам произнести»[193]. Тут на руку Марии играла и репутация князя как москаля, который по определению должен быть грубым и жестоким тираном даже в отношении своей жены, о чем в Европе XVI века существовала целая система мифов, идущих еще от С. Герберштейна и его последователей.
К. Ю. Ерусалимский подчеркивал, что, вопреки некоторым утверждениям, Курбский и Гольшанская изначально жили вместе и согласованно действовали в борьбе за имущество Марии, что предполагает довольно высокую степень если не гармонии, то, по крайней мере, согласия по принципиальным супружеским вопросам. И. Ауэрбах, напротив, обратила внимание, что уже в «Новом Маргарите» (около 1575 года) Курбский посвятил несколько пассажей рассуждениям о вражде мужчин и женщин[194].
Н. Д. Иванишев связывал размолвку между Марией и князем Андреем с увлечением Курбским науками и переводами церковных текстов: «Такой образ жизни должен был наскучить Марии Юрьевне. Чтобы освободиться от власти угрюмого Москвитянина, она решилась отнять у него имения»[195], выкрала документы на владение землями и отослала их в Дубровицы своему сыну Яну Монтолту. До этого родственники Марии и она сама обвиняли Курбского, что это он выкрал у княгини пустые бланки с печатями и подписями, которые позволяли оформлять любые сделки как бы от имени Гольшанской. Курбский же утверждал, что бланки были украдены с неизвестной целью его слугой Матвеем Гинейком, и даже сделал соответствующее заявление во Владимирский уряд, чтобы предъявление таких бланков считалось недействительным.
Заметим, однако, что в источниках ничто не указывает на то, что брак Курбского сгубило чрезмерное увлечение мужа науками, якобы ненавистными жене. Напротив, Н. Г. Устрялов, основываясь, кстати, тоже на поздних рассказах Курбского, причиной ссоры считал чрезмерное пристрастие Марии к любовным похождениям, за что супруг даже был вынужден посадить ее под замок[196].
И. Ауэрбах назвала и «книжную», и «сексуальную» версии спекуляциями и показала на примере сходной тяжбы (связанной, кстати, с сыном Марии Андреем Монтолтом), что в основе вражды лежали имущественные споры. При этом ссылки на «несходство характеров», супружескую измену и физическое насилие были лишь инструментарием, который литовская шляхта часто использовала в судебных тяжбах по вопросам раздела собственности между родственниками, для обеления или очернения сторон в глазах судей[197]. Эти обвинения были скорее ритуально-семиотическими, чем реальными. Спор о дележе владений между супругами обязательно сопровождался взаимными обвинениями в прелюбодеянии (что, впрочем, не исключало и реальности подобных измен и даже специального провоцирования их).
В отношении причин распада брака московского эмигранта и литовской княгини мы навсегда останемся в области догадок. Но нам кажется, что самое простое объяснение лежит на поверхности: супруги просто-напросто не поделились. Главной причиной конфликта Курбского, Гольшанской и Монтолтов стала проблема дележа собственности, которую Мария сама и создала своим странным завещанием, ограничивавшим сыновей в праве на наследство. Вскоре она, видимо, раскаялась в своем решении, но изменить его можно было уже только ценой разрыва с Курбским.
Недаром в 1578 году, уже при разводе, Гольшанская возвела на Курбского уже совершенно фантастическое обвинение, что он избивал ее и держал под замком с целью выбить некоторое количество пустых бланков с подписью княгини. Не выдержав избиений, Мария якобы дала такие бумаги, и Курбский пустился от ее имени заключать земельные сделки и делить ее имущество. Поэтому Гольшанская просит признать целый ряд актов, скрепленных поддельными бланками, недействительными. Данное обвинение вряд ли можно воспринять всерьез – для подобных сделок поддельных бланков было недостаточно, афера вскрылась бы достаточно быстро. Но показательно, что Мария хотела аннулировать невыгодные для нее земельные сделки, совершенные в период ее замужества с Курбским, причем именно те, где она ограничивала в правах своих сыновей.
К. Ю. Ерусалимский выдвинул версию, что уже в 1576 году отношения князя с сыновьями Гольшанской, Монтолтами, испортились: «Курбский методично лишил пасынков прав на недвижимость. То есть он рассчитывал кем-нибудь их заменить». Опираясь на глоссу к «Новому Маргариту» (комментарий Курбского к слову «всыновление»), историк реконструирует причину конфликта – ею якобы оказывается желание Курбского завести от Гольшанской собственного наследника. А Мария в своем третьем браке оказалась бесплодной (с последним обстоятельством, по Ерусалимскому, была связана ее склонность к ворожбе). Воспользовавшись болезнью княгини, Курбский вырвал у нее духовную грамоту (тестамент), в которой Монтолты лишались наследства, и «потерял уважение супруги, заставив ее подписать поспешное и несправедливое завещание».
В качестве альтернативной версии причин раздора К. Ю. Ерусалимский называет «обостренное недовольство соседями», развившуюся «на имущественной почве» чуть ли не паранойю Курбского, вызванную постоянными стычками и судебными разбирательствами. Когда еще и с женой начались проблемы дележа собственности, нервы у князя не выдержали, он сорвался, и началась эскалация конфликта. Версии об отвращении Курбского к колдовским занятиям Марии или о садизме и женоненавистничестве «москаля» К. Ю. Ерусалимский считает маловероятными[198].
Данные гипотезы, объясняющие причины распада брака Курбского и Гольшанской, действительно выглядят намного убедительнее, чем все предлагавшиеся ранее. Хотя далеко не все элементы реконструкции, предложенной ученым, находят свое документальное подтверждение. Наиболее сомнительным выглядит тезис о наследнике – нигде и никогда Курбский не упрекал Гольшанскую в бесплодии.
В этом плане вызывают интерес для изучения мировоззрения Курбского попытки К. Ю. Ерусалимского проанализировать тендерные аспекты мировоззрения князя на основе его сочинений. Ученый пришел к выводу об определенном женоненавистничестве беглого боярина: «Женщины, по Курбскому, – объект и источник мужской слабости, плотского удовольствия и греха».
С этим тезисом ученого трудно согласиться. Заметим, что якобы имевшая место трактовка Курбским связи с женщиной как греха не помешала князю в своей жизни заключить три брака, причем ни один фактически не был расторгнут: свою русскую жену Курбский при бегстве бросил на произвол судьбы, и ее биография неизвестна (слова Курбского, что она умерла в заточении от «тоски», могут быть риторическим оборотом); брак с Гольшанской так и не был расторгнут полностью в юридическом плане (во всяком случае, у Марии были все возможности оспорить законность решения о разводе), а Александра Семашка пережила своего мужа. Судя по высказыванию Грозного («Ты для чего взял силой стрелецкую жену?»), сексуальная жизнь князя-женоненавистника не ограничивалась законными браками. Насколько высказывания Курбского отражали его личную позицию, а насколько были данью средневековой морали (в принципе воспринимающей женщину как «сосуд греховный»), трансляцией общепринятых штампов – еще предстоит уточнить.
Так или иначе, первые сведения о неблагополучии в доме Курбских относятся к августу 1577 года. 9 августа в имение Миляновичи приехали возный Луцкого повета Григорий Вербский и возный Владимирского повета Оранский Тихонович. Они должны были проверить донос Андрея Монтолта, будто бы князь Курбский избил свою жену, посадил ее в заточение, и неизвестно, выжила ли она после этих надругательств.
Незваных гостей в имение не пустили. К Курбскому разрешили пройти только Вербскому. Он застал князя в постели, больным. Мария смирно сидела рядом. Она подтвердила факт своей свободы и добровольного нахождения в доме князя, но была немногословна. Князь приказал ей ответить представителю властей, и она только и сказала: «Что мне и говорить, милостивый князь, когда и сам возный видит, что и я сижу». Курбский обвинил в попытках «извести» Марию ее сыновей, которые ждут не дождутся наследства. Супруга эти слова не подтвердила, но и не опровергла. После чего возные уехали, сделав вывод, что жалоба Андрея Монтолта не подтвердилась[199].
Однако, видимо, согласие между супругами было лишь внешним, демонстрируемым для некстати нагрянувших представителей власти. Можно предположить, что между Андреем Монтолтом и Марией существовали какие-то договоренности, направленные против Курбского. 25 августа Курбский подал в Луцкий уряд жалобу об обнаружении похищения важных документов на имения. По словам князя, бумаги выкрала Мария и передала своим сыновьям. Ее сын якобы с ватагой вооруженных разбойников разъезжал вокруг владений Курбского в надежде встретить его в чистом поле и убить.
Кроме того, князь при домашнем обыске нашел в сундуке Гольшанской «мешочек с песком, волосьем и другими чарами», полученный от колдуньи. То, что он стал объектом ворожбы, особенно огорчило и ужаснуло Курбского. Напрасно Мария оправдывалась, что она хотела колдовством добиться любви охладевшего и обозленного князя, спасти их брак...
12 сентября 1577 года Андрей Монтолт напал на Скулинскую землю, разгромил сторожку и сжег 660 досок, припасенных для изготовления бочек. Кроме того, пан Монтолт украл 60 топоров, десять пил и два кухонных котла[200]. Курбский не замедлил пожаловаться властям о разбое: подобные инциденты были ему только на руку. По приказу князя были предъявлены свидетельства злодейства: обгоревшие концы бочечных досок, синяки на шеях сторожей.
28 декабря 1578 года конфликт между супругами Курбскими стал необратимым: князь привлек власти для допроса жены. Унижение, которое пережила княгиня, когда ее допрашивал возный Владимирского повета Хацко Туличевский, исключало дальнейшую возможность примирения (да и какая жена простит мужа, если для выяснения внутрисемейного вопроса он вызовет полицейских?). Мария утверждала, что она ничего не крала. Она как жена имеет право распоряжаться семейными бумагами, и, озаботившись проблемой их сохранности, она отдала их на хранение пану Федору Достоевскому с тем наказом, чтобы он ни в коем случае не отдавал их Курбскому, а только самой княгине – лично в руки[201].
Тем временем разгорался имущественный спор Курбского с родственниками Марии – О. К. Мыльским и Г. Ю. Гольшанской. Его должен был прояснить Пинский суд в январе 1578 года. Но начало работы суда всячески затягивалось самим Курбским под разными предлогами. Князь даже был оштрафован за неуважительную неявку. 18 февраля стороны заключили соглашение о необходимости мирного урегулирования всех спорных вопросов на третейском суде 9 мая 1578 года. Поскольку, таким образом, важные имущественные решения принимались без участия Марии Гольшанской, сразу после развода 2 августа 1578 года она заявила о незаконности всех переговоров Курбского с Мыльским и другими ее родственниками.
Но это случится позже, в августе. А весной 1578 года проблема Марии, видимо, заключалась в том, что у нее на руках были не все нужные бумаги. 4 мая 1578 года она подослала в Ковельское имение свою служанку Раину и ее брата Матвея. Мария приказала им найти и принести документы на Ковель и Дубровицу. Все деньги, которые воры при этом могли найти, им дозволялось забрать себе в качестве награды. Княгиня сама провела налетчиков внутрь замка. Она притворилась, что уезжает молиться в монастырь, а сама тайком вернулась и открыла калитку. Матвей до ночи пролежал в пустых санях, стоявших подле заветной кладовой, а как стемнело, отправился вместе с сестрой на дело.
Кража оказалась неудачной. Воры сумели вынести решетку, буквально вбили окно вместе с рамой внутрь кладовой, сломав при этом крепежные железные полосы. Однако, попав внутрь, жадный и глупый Матвей кинулся набивать карманы золотыми и серебряными вещами из сундуков, позабыв про какие-то там бумаги. Он украл местами вызолоченный серебряный кубок, 24 серебряные позолоченные запонки, «лысину» (налобное украшение) из лошадиной сбруи, перстень и немного денег. Вор сумел бежать, но его сестру Раину арестовали.
27 июня 1578 года Раину судили судом господина, которым выступил Курбский, и приговорили к выдаче головой Кириллу Зубцовскому, управлявшему Ковелем. Поскольку воровка была «повинна смерти», помиловать ее мог только пострадавший – которым назначили Зубцовского. Курбскому, видимо, очень понравилось исполнять роль судьи над подданными в своем имении, хотя, строго говоря, Раина была служанкой Марии, а не его рабыней. Зубцовский же не стал проявлять кровожадности: поскольку Раина не могла возместить ущерб от кражи в 90 польских злотых, то она должна была год служить Зубцовскому, а потом отпускалась на все четыре стороны.
На суде Раина отрицала свои первоначальные показания, якобы данные «по горячим следам», сразу после ареста. Она заявила, что ничего не крала и вещи, которые она якобы вернула после кражи, она никогда раньше не видела[202]. 2 августа 1578 года Мария Гольшанская подала официальную жалобу, что Курбский силой отнял и удерживает у себя ее служанку Раину, а также велел своему слуге Тоньке изнасиловать ее в заточении. Несчастная не выдержала надругательств и оговорила себя, боясь их продолжения. Но суд уже состоялся, в расчет было взято только ее первое признание. Главным аргументом для судей оказалось то, что «сам пан Курбский сказал...»[203].
Таким образом, на Марию через осуждение Раины было возведено обвинение в краже, неизвестно каким способом добытое. Оно оказалось усугубленным и более серьезной инвективой в чернокнижии: Курбский теперь обнародовал уже упоминавшиеся сведения, что еще в прошлом году нашел среди вещей княгини мешочек «с песком, и с волосьем, и с иными чарами».
Последняя фраза выдает, что одной из причин конфликта было реальное или выдуманное экзальтированной княгиней охлаждение к ней Курбского – раз ради восстановления его любви она, княгиня, обратилась к бабке-колдунье из простонародья. Впрочем, обнародование факта ворожбы только год спустя после его обнаружения может говорить и о том, что Курбский решил дискредитировать супругу вымышленным обвинением в связях с чародеями.
У нас нет «независимых» свидетельств развратного поведения Марии или ее причастности к колдовству, но если рассматривать как доказательство прецедент, то семейство Гольшанских – Монтолтов грешило и распутством, и ворожбой. В июне 1580 года в Луцком земском суде рассматривалось дело о похождениях Анны Монтолтовны, дочери Яна Монтолта, падчерицы Марии Гольшанской и внучки Марии Курбской-Гольшанской. Здесь мы видим тот же набор преступлений: ворожба на супруга, причем вплоть до попыток отравить его с помощью яда черной ящерицы, которым сдобрили специально приготовленного жареного леща, распутство с прислугой, побеги с молодыми мальчиками и т. д.[204]
Курбский, выражаясь современным языком, тщательно собирал компромат на жену. Например, он документально зафиксировал факт, что она специально спаивала его слугу Симона Марковича Вешнякова, подбивая убежать от хозяина. Бывший боярин не поленился подать об этом специальное заявление во Владимирский уряд. В свою очередь, родственники Марии стремились зафиксировать в разных властных структурах заявления, что Курбский Марии «бои, мордерство и окрутенство безо всякое причины ей чинил, не для чего иного, чтобы получить назад его бумаги о правах на имения»[205].
В июне 1578 года Мария все еще находилась под домашним арестом в Ковеле и призывала своего сына выкрасть ее, хотя бы и силой. Однако у сыновей хорошо получалось только гонять по полю безоружных крестьян и жечь брошенные ими доски. Штурм Ковеля оказался им не по зубам. Все ограничилось громким бахвальством и угрозами в адрес Курбского.
Слухи о конфликте дошли до короля, который вызвал Курбского во Львов в июле 1578 года и принял решение о разводе князя с Гольшанской и принудительном разделе имущества с помощью третейского суда. Развод, оформленный в августе во Владимире, проходил трудно. В первоначальной мировой записи за Курбским до 31 декабря 1578 года оставалось Дубровицкое имение, пока княгиня не выплатит долг в 1 200 коп грошей литовских. До 17 декабря 1578 года Мария удерживала за собой имение Шешоли. Если до этого срока она не расплатится за Дубровицы, то Шешоли отходят к Курбскому, или же княгиня должна внести за них новый залог в тысячу коп грошей. Для Курбского это был небольшой, но успех: данным решением он освобождался от выданных при заключении брака финансовых обязательств («веновой записи») в 17 тысяч коп грошей, но должен был вернуть Марии Дубровицкое имение, которое принадлежало ей до брака.
Имения Шешоли и Крошты оставались у князя в пожизненном владении, а после его смерти отходили Марии или ее родственникам (что делало очень соблазнительным эту смерть поторопить). Стоит подчеркнуть, что князь под угрозой крупных штрафов не мог делать в заложенных имениях никаких хозяйственных работ и по первому, даже устному, обвинению в порче имущества обязан был являться в суд для объяснений. Причиной тому был ряд прецедентов, упоминавшихся Марией в одной из жалоб: Курбский, пока суд да дело, начал раздавать отдельные земли Дубровицкого имения своим слугам. Помимо земельного размежевания, бывшие супруги довольно долго и мелочно делили посуду, одежду, сундуки, драгоценные вещи, церковную утварь, дворовых людей и т. д., вплоть до сумочек с чесноком (!) и церковных свечей[206].
Судебные решения, раздел имущества и развод не принесли мира в отношения Андрея Курбского с Марией и ее родственниками. Недаром на суде княгиня называла в сердцах бывшего мужа «окрутником» (извергом, жестоким мучителем). Как только княгиня Мария уехала из Ковеля и тем самым оказалась вне досягаемости москаля, ее родичи развернулись вовсю. Минский воевода Н. Сапега решил отобрать экипаж Курбского, в котором из имения увезли разведенную супругу с ее скарбом. Вельможа перебил руки и ноги ковельскому кучеру и торжественно провозгласил «месть Курбскому» целью своей жизни. Правда, когда Курбский послал спросить, надо ли эти слова понимать как объявление смертельной вражды, Сапега струсил и объявил, что пошутил.
Мария же сразу после развода засыпала власти заявлениями, в которых обвиняла своего бывшего супруга в целом комплексе разнообразных преступлений – от незаконного удержания чужого имущества, подделки документов до изнасилования ее служанки Раины слугой Курбского по приказу его господина. Сколь объективны были эти обвинения, мы не знаем. Все они оказались дезавуированы, как только Курбский полностью отдал Дубровицкое имение Яну Монтолту и отказался от намерения вытребовать с Марии ее денежные долги. Княгиня тут же отказалась от своих обвинений. И даже Раина заявила, что ее никто не насиловал[207].
Бракоразводный процесс Курбского получил даже международный резонанс: из Москвы пристально следили за перипетиями литовской жизни «самого главного эмигранта». В 1579 году московские послы П. И. Головин и К. Г. Грамотин докладывали царю:
«А на Курбского от короля опала не бывала, а была на него от короля и от панов от больших кручина за то, была за ним жена, княгиня Дубровицкая, сестра двоюродная пана Остафия Воловича, а в приданных за нею был город Дубровицы с поветом. И Курбский княгини не любил и не жил с нею. И били на него челом королю Остафий Волович да братья жены его, что с женою не живет, держит ее у себя в неволе, а именем приданым владеет великим. И король за ним посылал, а велел ему быть у себя в Варшаве и с княгинею, да велел ему со княгинею развестись, имение у него приданое велел отнять, и что он Остафию учинился недруг, да и король из-за того его не любит. А живет Курбский в городке в Ковеле. А любил его один тот пан виленский Ян Иеронимович (Ходкевич. – А. Ф), а ныне и тот его не любит из-за Остафия Воловича»[208].
«Пусть злой много на свете не живет»: смерть Курбского[209]
Неудачный брак с Гольшанской ничему не научил Курбского, и он с упорством, достойным лучшего применения, продолжал наступать на одни и те же грабли. В 1579 году он женился в третий раз, теперь выбрав жену не столь знатную и не столь обремененную скандальной родней, зато молодую и энергичную. Александра Петровна Семашка происходила из рода Семашек и Боговитинов и состояла в родстве с небогатыми шляхтичами Загоровскими.
По сравнению с Гольшанской ее приданое было ничтожным: 800 коп грошей. Чтобы не позориться браком со столь бедной невестой, Курбский пошел на подлог и объявил, что получил приданого 6 тысяч, после чего торжественно записал на юной супруге вено в 12 тысяч. Князь принял участие и в судьбах запутавшихся в долгах родственников Семашки: выкупил у ее братьев, Яроша, Василия и Петра, имение Добратино и тут же передал его жене Александре как бы в залог за 1 600 коп грошей литовских, которые он у нее якобы занял.
Александра оказалась более удачной партией, чем Гольшанская. Во всяком случае, она не судилась с мужем, не пыталась украсть у него имущество и не ворожила на него. Однако если на семейном фронте жизнь Курбского некоторым образом стабилизировалась, последние годы его жизни счастливыми назвать нельзя. Можно сказать, что его дни протекали от одной судебной тяжбы до другой. 17 марта 1579 года Луцкий городской суд рассматривал спор Курбского и Андрея Монтолта по делу о нападении на лесничего княжеского имения в Скулине. На суде Монтолт выступил с резкими и оскорбительными личными выпадами против Курбского. 24 марта слуги Курбского избили и ограбили возного Владимирского повета Голуба Сердятицкого, по поводу чего также было разбирательство. Судебные дела накапливались, и 29 июня король, рассчитывавший на выступление Курбского в составе войска в Полоцкий поход, даже был вынужден издать специальное постановление о приостановлении всех дел против Курбского из-за его отправки на фронт. Однако это не помогло: уже 16 ноября в Варшаве разбирался очередной финансовый спор Курбского, на этот раз с панами М. Л. Секунским и Я. Збаражским.
Другой крайне неприятной историей было разбирательство между Курбским и королевским секретарем Василием Борзобогатым-Красенским по поводу денег, потраченных князем на наем отряда для армии Речи Посполитой. За вербовку в 1579 году 86 казаков и 14 гусар на четверть года, которую они должны были провести в боях под Полоцком, Курбский заплатил 1 700 польских злотых. На эту сумму с его имений были списаны налоги, о чем дана соответствующая квитанция. Но сумма податей оказалась меньше. И Курбский захотел получить полную компенсацию за затраты на наемников. 10 февраля 1580 года было возбуждено дело о возврате князю части потраченных средств.
Однако сборщик податей по Волынской земле, Василий Борзобогатый-Красенский, отказался удовлетворять данный иск и покрывать издержки, понесенные Курбским. Обиду князя можно себе представить: в сущности, его ограбили, и кто – власти страны, его приютившей и на его же деньги нанимающей войска для войны с его былой родиной. Видимо, Курбский сумел в своих жалобах дойти до короля. 10 октября 1581 года, спустя почти полтора года после начала дела, последовал приказ Стефана Батория к луцкому старосте Александру Пронскому взыскать с Красенского недостающую сумму силой. Гнев короля вызвало то, что Красенский успел отчитаться в том, что деньги, полагающиеся Курбскому, уже выданы и потрачены, то есть был заподозрен в растрате. В условиях военного времени, когда для найма войска был важен каждый грош, подобное поведение королевского секретаря прямо граничило с изменой. Красенскому приказали расплачиваться за долги не из общих налоговых сборов с Волынской земли, как полагалось изначально и как того требовал Курбский, а со своих личных имений.
20 марта 1581 года королевский суд в Варшаве постановил обязать Курбского вернуть имение Трублю Кузьме Порыдубскому, у которого, как говорилось выше, московский князь отнял земли в 1574 году и передал их своему слуге Петру Вороновецкому. Показательно, что на суде представитель Курбского, Николай Суликовский, утверждал, что Порыдубский – подданный боярин Курбского и потому князь может сделать с ним все, что ему заблагорассудится. О каком суде между господином и слугой вообще может идти речь? Однако Стефан рассудил иначе: Порыдубский был объявлен «слугой конным панцырным», получившим земли еще при Василии Ковельском и королеве Боне. Поэтому Курбский должен отдать Кузьме все имение Порыдубы и выдать компенсацию за тюремное заключение и прочие обиды[210].
Видимо, череда подобных потрясений и побудила Курбского к составлению 5 июня 1581 года первого варианта завещания. Несмотря на то что по жалованной грамоте 1567 года Ковельское имение оказывалось коронным и в случае смерти владельца должно было отходить в казну (за исключением случая, когда на имение мог претендовать наследник мужского пола, подхватывавший и службы отца, и получения потомками женского пола веновой записи на Ковельском имении), Курбский, будто в России, завещал свои земли дочери и жене, а опекунами над ними назначил кравчего Великого княжества Литовского Константина Острожского, брата жены Василия Семашка, и Кирилла Зубцовского. При этом он ссылался на некие грамоты, по которым ему разрешено завещать имение супруге и дочери.
Обращает на себя внимание, что Курбский щедро завещал соратникам, друзьям, родственникам и слугам деньги, доспехи, драгоценные вещи. Но нет никакого упоминания о книгах. Или Курбский по каким-то причинам не счел нужным говорить о них, либо перед нами свидетельство духовного одиночества князя в конце его жизни. Он понимал, что никому из его родственников и друзей книги и рукописи не нужны...[211] Видимо, после смерти Курбского его библиотека просто осталась в доме. Какие-то книги вплоть до 1611 года хранились у его дочери Марии[212].
И женитьба на Александре Семашке, и появление завещания резко осложнили положение Курбского с той стороны, откуда он этого совсем не ждал. Мария Гольшанская, рассчитывавшая (кстати, тоже вопреки королевской жалованной грамоте 1567 года) на наследование Ковельским имением, увидела, что оно буквально ускользает из рук. И возбудила иск о незаконности ее развода с Курбским! Она вовсе не хотела опять за него замуж. Но для нее было важно признание незаконным брака Курбского и Александры Семашки, а также лишение прав на наследство их детей. В 1580 году у Курбского и Семашки родилась дочь Мария, а в 1582-м – сын Дмитрий.
Гольшанская подала Стефану Баторию жалобу на несправедливость судебного решения о разводе, вынесенного в 1578 году. Стороны должны были явиться на королевский суд в Варшаву 19 января 1581 года. Но из-за отъезда короля разбор тяжбы начался только 5 июня. Мария объявила, что развод 1578 года недействителен. Курбский парировал это напоминанием о назначенном в 1578 году штрафе в 17 тысяч коп грошей за возобновление процесса. Гольшанскую это не остановило: она упирала на то, что ее вина в 1578 году доказана не была. Поэтому инициатором развода оказывался Курбский, и, следовательно, по разделу V, артикулу 18 Литовского статута бывшей жене, как невиновной в разводе, должно быть возвращено все имущество. Княгиня вспомнила даже то, что Курбский – «чужеземец», и потому постановления суда 1578 года не имеют силы, иностранцев судит только сам король.
Чтобы добить бывшего мужа, Мария потребовала признания его настоящих и возможных детей от Семашки «заблудными», а самого князя обвинила одновременно в незаконном разводе и двоеженстве. Как заметил К. Ю. Ерусалимский, в «этой „вилке“ особенно опасным для него было первое обвинение, поскольку оно подкреплялось отсутствием отпускного договора о взаимном согласии на повторный брак будущего супруга»[213].
Мария была готова уже торжествовать победу. Но королевский суд не вынес никакого решения. В документах 1578 года развод однозначно квалифицировался как добровольный, и пренебречь этим было нельзя. Власти Речи Посполитой переложили рассмотрение дела на церковные круги, поручив его митрополиту Киевскому и Галицкому Онисифору Петровичу по прозвищу «Девочка» и владимирскому епископу Феодосию. Церковный суд по делу о разводе Курбского был назначен на 23 июля.
Понимая уязвимость своего положения, князь попытался сражаться с настырной княгиней давно проверенным оружием. Он решил возвести на бывшую жену обвинение в прелюбодеянии и распутстве. Курбский срочно нашел свидетелей, которые показали, что Мария еще в 1577 году неоднократно изменяла своему мужу со слугой Жданом Мировичем (в оригинале – «псоту чинечи», в переводе Н. Д. Иванищева – «лежала с ним на кровати и делала мерзость»). Ранее, говорили свидетели, мы скрывали похождения Марии, потому что Курбский не хотел позора, публичного бесчестья своей жены. Теперь, мол, молчать больше не можем! И расскажем всю-всю правду.
Показания свидетелей, собранные 20 июля 1581 года, – Ивана Семеновича Ласковича-Чернчицкого и Тимофея Зыка Князского – почти дословно совпадают. Они выступали очевидцами, подсматривающими в щели за интимными ласками Ждана Мировича и княгини. От их показаний отличается рассказ возного Яроша Котельницкого, который менее скабрезен, зато содержит новую деталь. Когда возный вошел в комнату, где находились любовники, Мирович сперва угрожал ему оружием, а затем он и Мария дали взятку, чтобы Котельницкий помалкивал[214].
Трудно сказать, пытался ли Курбский оклеветать княгиню или в основе этих свидетельств лежали реальные факты – ведь в 1578 году Ждан Мирович действительно бежал от Курбского к Марии и она отказалась его выдать. Вероятно, их связывали какие-то отношения. К. Ю. Ерусалимский справедливо отметил, что «...вся история запретной любви бывшей жены производит впечатление фабрикации, и вряд ли она воспринималась иначе в середине 1581 года. Впрочем, в любом случае это надо доказать, что сегодня сделать не проще, чем тогда; и даже в качестве фальшивки весь этот сор может быть пригодным» для замыслов Курбского[215].
Правда, обманутый муж, видимо, не очень надеялся либо на надежность свидетелей, либо на лояльность к нему церковного суда. Доказательство прелюбодеяния Гольшанской означало, что с ней можно развестись, но не открывало дорогу к браку с Семашкой. Возможно, угрожая ославить княгиню как неверную супругу, Курбский надеялся, что она поумерит претензии и отзовет иск. Но испугать обвинением в разврате Марию, пережившую три замужества, было трудно. Она продолжала жаловаться королю, что церковные власти не хотят покарать ее обидчика.
Сам же Курбский сказывался больным, принимал повестки в суд, демонстративно лежа в постели, и под этим предлогом отказывался выезжать из имения на разбирательство его дела митрополитом. Заседания, назначенные на 17 января и 16 марта 1582 года, сорвались из-за неявки ответчика. При этом Мария обвиняла Курбского, что он симулирует болезнь, на самом деле его видели в разных местах, а от суда он уклоняется по злому умышлению. В отсутствие князя 15 февраля митрополит принял решение в пользу Марии Гольшанской. Развод князя был признан незаконным, его третий брак оказался под угрозой запрещения. Но и Семашка, и ее дети все же унаследовали фамилию и имения Курбского. Князь, как явствует из признания Марии Гольшанской в Новгородском суде 27 августа 1582 года, выплатил бывшей жене большие денежные суммы, и, видимо, это как-то снизило ее напор. В предсмертном завещании Курбского от 24 апреля 1583 года сказано, что он заключил с Марией мировую сделку на вечные времена, поэтому она не может больше предъявлять претензии на его имущество.
Между тем продолжались другие разбирательства Курбского с соседями. 29 августа 1581 года Курбский приказал выступить вместе с ним на войну боярину Яцку Осовецкому из имения Осовец. Осовецкий отказался подчиниться Курбскому, после чего ему было предложено в течение восьми недель покинуть свои владения как нежелающему нести с имения воинскую службу. Осовецкий подал во Владимирский уряд жалобу, что люди Курбского насильно изгнали его из имения и пограбили все имущество. Действительно, 31 октября ко вельский урядник Курбского, Гаврила Кайсаров, во главе вооруженного отряда ворвался в имение Осовец, избил плетьми жену хозяина Прасковью Андреевну (урожд. Мокренскую), выгнал семью Осовецкого в чистое поле, захватил имение и разграбил его.
Суд над Курбским и его людьми состоялся в марте 1582 года. Представитель князя, пан Михаил Дубницкий, пытался упирать на уже знакомую формулу: если имение Осовец принадлежит Ковельскому имению, то владелец Ковеля, в данном случае Курбский, является полным господином над своими подданными и волен карать их за отказ служить конфискацией имения. Однако Осовецкий апеллировал к пожалованию имения еще королевой Боной, что делало его неподсудным владельцу Ковеля, а на Курбского автоматически возводило обвинение в самоуправстве. Однако Владимирский уряд не решился вынести вердикт по делу и передал его в королевский суд. 24 сентября 1582 года по декрету Стефана Батория Осовецкий был восстановлен в правах на имение Осовец, а Курбскому было приказано компенсировать ему все обиды и издержки.
Зимой 1582 года продолжалась тяжба с Василием Красенским. По указу Стефана Батория, Курбский мог в уплату долга потребовать с него имение Красное. Однако тут же выяснилось, что имение заложено Василием... своей жене, панне Ганне Красенской и поэтому средством выплаты долга Курбскому быть не может. Сам Василий заявил, что готов уплатить 420 злотых, которые якобы и полагались москалю за понесенные им убытки.
При этом Красенский виноватым себя не чувствовал и говорил, что сознательно не расплачивался с князем Андреем, поскольку получил сведения, будто бы тот специально занижает размеры податей, собираемых им в своих имениях, подает для отчета неверные цифры, а потом еще хочет по суду получить неправомерную компенсацию! Оскорбленный таким заявлением, Курбский при встрече с Красенским под Красным 19 февраля 1582 года не стал брать предложенных ему 420 польских злотых и квитанции о расчете с казной. По его мнению, ему были должны 920 коп грошей литовских, как это значилось в постановлении Луцкого уряда. Люди Красенского оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия и не пустили в Красное ни Курбского, ни представителей Владимирского уряда, прибывших для исполнения королевского указа.
Дальнейшие события напоминали плохой фарс. Победитель России в Ливонской войне Стефан Баторий оказался не в состоянии справиться с закусившим удила паном Красенским. Король издавал один за другим приказы волынской шляхте собрать ополчение, атаковать имение строптивого дворянина и силой заставить его заплатить долг. Дело, по мнению Стефана, дошло до последней ступени права, то есть до подготовки королевского декрета об объявлении Красенского вне закона во всей Речи Посполитой (Литовский статут 1566 года, раздел IV, артикул 67). По мнению И. Ауэрбах, в этом эпизоде наглядно проявилась недееспособность «дворянской республики» Речи Посполитой в ее «золотой век». Реализация права на практике зависела от военной силы «клиентов магната», и даже король был бессилен с этим что-либо поделать.
Однако шляхта не спешила вступаться за москаля и внимать королевским призывам, что свидетельствует о неприязненном отношении к Курбскому на Волыни. Только 11 августа 1582 года небольшой отряд под командованием возного Луцкого повета Франца Бромирского двинулся к имениям Красенского – Красному, Колнатичам и Ставрову. Однако на защиту Красенского выступили две роты жолнеров под началом пана Белявского и пана Василия Жоравницкого, Старостина луцкого, а также отряд волынской шляхты во главе с Францем Крушем, Янушем Угримовским и др. Красенский и его боевая супруга разделили свое войско по всем правилам военного искусства на три отряда, в каждом из которых были конница, пехота и артиллерия, и перекрыли все подходы к имению. Представители властей были встречены орудийным огнем, после чего бежали[216].
На этом Курбский бросил добиваться от Красенского выплаты долга. Судя по некоторым данным, князь-эмигрант был не единственной жертвой подобных махинаций бывшего королевского секретаря. Но Стефану Баторию так и не удалось «власть употребить» и справиться со строптивым шляхтичем, что очень ярко демонстрирует уровень послушания монаршей власти в Речи Посполитой в конце XVI века.
В июле 1582 года началась тяжба Курбского с крестьянами села Смединского, от имени которых жалобу во Владимирский городской суд подали крестьяне Трофим Савичев и Петр Жукович. В документе говорилось, что Курбский ввел для крестьян чрезмерные поборы, отнял борти и часть земель, ограбил крестьян, которые пытались подать на него жалобу. Селяне дошли до короля и получили от него грамоту, в которой монарх призывал Курбского прекратить незаконные действия. Но князь, узнав об этом, якобы приказал своим слугам, Федору Зыку Князскому с товарищами, отнять указ Батория.
Началось следствие. Федор Зык Князский категорически заявил, что он впервые слышит о каких-то королевских листах. В уряд поступила информация, будто бы 18 июля, получив монарший указ, направленный против Курбского, крестьяне на радостях стали всем показывать его в корчме. Но услышали скептические отклики, что все равно пана не одолеть и «ничего с этим листом они не сделают». В корчме началась драка, и в ней крестьяне сгоряча случайно порвали лист, а потом решили свалить его исчезновение на происки слуг князя Курбского.
Правда, 16 октября 1582 года Курбскому был-таки вручен новый королевский лист с требованием прекращения бесчинств и выплаты компенсации смединским крестьянам. Но этот документ, видимо, являлся ответом на вторую, июльскую, жалобу крестьян. Курбский объявил обвинения клеветой, а поведение крестьян, через голову господина подающих на своего пана жалобу королю, квалифицировал как бунт. В ходе следствия, которое проводилось возным повета Владимирского Жданом Цирским и шляхтичами Богданом Пеевиским и Яковом Лисоевским, выяснилось, что крестьяне не могут подтвердить своих претензий. Они недовольны высокими поборами, но эти налоги оказались в большей степени связаны с общегосударственными сборами на оборону, чем с эксплуатацией со стороны Курбского. Факты же грабежей и насилий не подтвердились. Воодушевленные своей победой, слуги Курбского заявили, что эти смединские крестьяне сами хороши, постоянно дерутся друг с другом и насилуют девок. Таким образом, эту тяжбу Курбский выиграл.
В октябре 1582 года на Курбского со стороны Настасьи Вороновецкой было возведено обвинение в заказном убийстве. Будто бы он 9 августа 1582 года приказал своему слуге, Ивану Постнику Туровицкому, застрелить ее мужа, Петра Вороновецкого, который приехал к Курбскому в Миляновичи по делам. Убийство было организовано, по мнению вдовы, для захвата имения Порыдубы, которым управлял Вороновецкий. Анастасия после этого подверглась гонениям со стороны Курбского, аресту, грабежу и была вынуждена ночью, взяв только детей, бежать в имение волынского воеводы Андрея Вишневецкого. Даже жалобу на Курбского она подала тайно, в Кременецкий, а не Владимирский уряд, опасаясь появляться во Владимире, где ее искали «шпионы Курбского»[217].
Правда, вскоре вдова и предполагаемый заказчик убийства помирились (запись об этом помещена между 4 и 6 марта 1583 года). Настасья признала, что Петр Вороновецкий был убит «в ночи на дороге» под Миляновичами неизвестными лицами «под именем князя Курбского», и сняла все свои обвинения. Князь же компенсировал женщине, успевшей к этому времени вторично выйти замуж (за Григория Петровича Котова, слугу Андрея Вишневецкого), материальные убытки, понесенные ею после бегства Иосифа Пятого Тороканова-Калиновского. Курбский поручил последнему заботу о выморочном имуществе Вороновецкого, а Тороканов взял да и сбежал со всем скарбом, который должен был хранить. И ковельскому владельцу пришлось платить по чужим счетам.
Оставлять поступок Тороканова безнаказанным Курбский не собирался. И хотя вор сумел взять у короля Стефана «заручный лист», охранную грамоту, и даже переслал ее Курбскому, князь добился разоблачения негодяя и объявления его в розыск как разбойника 18 февраля 1583 года. Тороканов в долгу не остался и 27 февраля пытался распространить сфабрикованный им документ, будто Петр Вороновецкий был убит по приказу Курбского Иваном Постником Туровицким, а теперь ковельский владелец «заказал» тому же Ивану Постнику убить и Тороканова. Будто бы Курбский сказал: «Завяжи ему губу».
Тороканов далеко не ушел. 4 марта он напал на крестьянина деревни Калиновцы Федьку Заснита, ограбил его, избил и отнял лошадь. Курбский тут же велел подать новую жалобу на Тороканова, теперь уже как на разбойника. В течение десяти дней беглеца поймали, и 14 марта Владимирский уряд начал разбор его дела. Тороканов заявил, что он мстил Курбскому, поскольку князь отнял у него имение Калиновец и движимое имущество. Арестованный отрицал, что он «рукоданный слуга» Курбского, и настаивал на своей независимости и социальном статусе свободного землянина. Однако никаких документов, подтверждающих его права на имение Калиновец, Тороканов представить не смог, в отличие от Курбского, который предъявил королевскую жалованную грамоту. Правда, Владимирский суд решил проявить осторожность и присудил Курбского к принесению присяги, что Тороканов действительно является его беглым слугой. Если князь присягнет, то может забирать арестанта и делать с ним, что хочет.
Понимая безнадежность своего положения, 26 марта Тороканов заявил, что все его обвинения в адрес Курбского ложны, что он действительно беглый слуга, виноватый перед своим господином, и обязуется в кратчайшие сроки уничтожить все документы и записи в официальных градских книгах, которые он делал, чтобы сфабриковать обвинения против Курбского. Если Тороканов этого не исполнит – князь может посадить его в тюрьму и сделать с ним все, что заблагорассудится[218].
Победа в тяжбе с провинившимся слугой оказалась последним жизненным успехом Курбского. Князя одолевали болезни, и было ясно, что не за горами тот самый Божий суд, которым он когда-то грозил царю Ивану. По завещанию, составленному 24 апреля 1583 года, Курбский оставлял свои имения жене, Александре Семашке, и детям, Марии и Дмитрию. Он обращался к королю с просьбой разрешить эту передачу в знак признания заслуг князя перед Речью Посполитой. Опекунами над вдовой назначались киевский воевода Константин Острожский, королевский кравчий и староста владимирский Станислав Красицкий, королевский обозный и староста любомский и болемовский, шурин Курбского Василий Семашко и свояки Курбского, земский подсудок луцкий Иван Хрепницкий и городничий луцкий Кирилл Зубцовский[219].
Семашке достались: замок Ковель, прилежащие к нему дворцы: Гридковичи, Шайно, Хотешово, Нюйно, Туличев – с селами Красная Воля, Мошчоная, Дубовая, Облапы, Гойшино, Вербка, Бахово, Стебли, Мостища, Смедино, слободка Верхи; замок Вижва с селами Старая Вижва, Воля; двор Миляновичи с местечком и фольварками миляновичскими, с селами Порыдубы, Селище, Годевичи, Зелово, Туровичи, Клевецкое. Таковы были владения Курбского на момент его смерти.
Курбский умер между 3 и 23 мая 1583 года в Ковеле и был погребен в монастыре Святой Троицы в Вербке, у ног его духовника, отца Александра. В XIX веке после специальных изысканий, производившихся по приказу Киевского Военного Подольского и Волынского генерал-губернатора, был найден каменный саркофаг, предположительно расположенный над могилой князя Андрея. К сожалению, сегодня нам не известно ничего о каких-либо следах захоронения Курбского в Ковеле, и возможность обретения его останков крайне маловероятна. Поэтому мы вряд ли узнаем, как выглядел оппонент Ивана Грозного. Для портретного ряда русской истории это, вероятно, такая же утрата, как и разрушение в гробнице черепа первой жены царя Анастасии Романовой, исключающее реальность реконструкции облика женщины, оказавшей столь глубокое влияние на царя.
Вдова Курбского, Александра Семашка, не смогла удержать за собой Ковельское имение: 5 мая 1590 года вышел декрет Сигизмунда III о возврате имения в казну. Оскорбительно звучали слова: «Подсудимая сторона не может доказать, что покойник был принят обывателем Великого княжества Литовского, напротив того, пожалованная князю Курбскому грамота потому оказывается противозаконною, что дана ему, как чужеземцу, без согласия сейма и без дозволения сословий княжества Литовского». Таким образом, после смерти Курбскому было отказано в принадлежности к обществу Речи Посполитой. Пока шла Ливонская война, его переезд из Московии был нужен для пропагандистских целей. Не лишними оказались и его полководческие таланты, знания как «эксперта» по России Ивана Грозного. Но спустя восемь лет после Ям-Запольского перемирия все уже было забыто. Показательно, что за память Курбского не вступился никто из опекунов, назначенных им в завещании над Александрой Семашкой и его детьми. Хотя они при жизни явно симпатизировали Курбскому, были в курсе его деятельности в защиту православия на Волыни. Посмертное пренебрежение и забвение – вот итоговая цена, которую Речь Посполитая заплатила московскому эмигранту за его измену.
Ковельское имение тогда же, 5 мая 1590 года, было решено передать во владение Андрею Фирлею, каштеляну малогостскому. 13 мая княгиня Александра пыталась оспорить решение суда об отобрании имения, о чем подала жалобу во Владимирский городской суд[220]. Однако бумага даже не успела начать свой ход по бюрократическим инстанциям. На рассвете 15 июня 1590 года гайдуки Фирлея ворвались в Ковель, разогнали дворню, убили несколько слуг княгини. Саму вдову выгнали со двора, посадив на подводу, за которой в одних ночных рубашках бежали избитые слуги. А 2 июля 1590 года королевский дворянин Щасный Дремлик сообщил об аресте Александры Курбской по обвинению в хищении из Ковеля оружия и церковной казны[221].
Судьба потомков Курбского не была яркой. Дочь Мария вышла замуж за мелкого литовского чиновника – упитского подкомория Миколая Визигерда. Она довольно рано умерла – ее завещание зафиксировано в упитских судных книгах под 1611 годом, то есть в возрасте чуть более 30 лет. У нее были сын Януш и дочь Кристина. Сын Дмитрий вел борьбу за имения отца, проиграл ее и влез в большие долги. Он часто закладывал имеющиеся земли и занимал крупные денежные суммы. Был эпизод, когда ему даже было нечем внести необходимые платежи при выходе сестры замуж и свадьба чуть не сорвалась. В 1600 – 1605 годах он воевал в Ливонии в составе военных экспедиций Я. К. Ходкевича, затем исполнял мелкие административные поручения. Дмитрий оставил двух сыновей: Андрея и Яна.
Внук Курбского Андрей служил в войске Речи Посполитой, несколько раз отличился в войне с Россией. Пиком его карьеры была должность виленского гродского судьи, которую он занимал в 1654 – 1655 годах. Однако наступление русской армии произвело необычайное впечатление на молодого Андрея Курбского, и он совершил поступок в стиле деда, только в противоположном направлении: в 1656 году он вступил в переписку с князем М. Шаховским, воеводой царя Алексея Михайловича, об условиях перехода на русскую службу. В 1657 году Андрей Курбский даже принял православие, крестившись под именем Миколая. Однако отъезд не состоялся: внук оказался благоразумнее деда и не стал испытывать незавидную судьбу эмигранта. Остаток жизни Андрея прошел в земельных тяжбах, умер он в 1668 году.
Другой внук, Ян Курбский, в своей жизни также занимался в основном войной и судебными разбирательствами по земельным вопросам (причем вошел в конфликт даже со своим братом Андреем). Скончался он в 1672 году, оставив завещание, в котором просил похоронить его без «светской помпы»[222].
Потомков мужского пола внуки Курбского не оставили, и в 1670-е годы в Речи Посполитой их род был объявлен выморочным. Но интересно появление в России в конце XVII века самозваных потомков Курбского. В 1683 году в Россию приехал из Речи Посполитой дворянин АлександКрупский, который принял православие под именем Яко ва. В 1685 году в России оказывается и его брат – тоже Александр. Видимо, чтобы получить большое жалованье, а также возвысить свое положение, Крупские объявили себя потомками знаменитого князя Андрея Михайловича Курбского, воеводы Ивана Грозного. Это произвело необходимый эффект: хорошим жалованьем для шляхтича Речи Посполитой, в 1680-е годы (то есть уже после окончания войны России с Польшей 1654 – 1667 годов) выехавшего на службу в Россию, считалось 20 рублей. Александр-Яков же получил 50 рублей, лисий кафтан, персидские шелковые штаны и другую одежду на 34 рубля 10 алтын и 3 деньги, а впоследствии – 100 рублей на постройку своего двора и чин стольника.
На самом деле Крупские принадлежали к витебской шляхте. Ни Андрей Михайлович, ни его потомки никогда не владели землями под Витебском. История и генеалогия потомков князя Андрея восстанавливается по документам с высокой степенью точности, и в ней нет места «неучтенным» братьям Александрам. Мотивы самозванства очевидны: превращение из никому не известных шляхтичей Крупских в «князей Курбских» давало серьезные преимущества.
Однако судьба «Лжекурбских» не была счастливой: старший брат был в 1693 году осужден за убийство жены, порот кнутом и сгинул, а младший в 1701 году попал под следствие, против него в Преображенском приказе велось «слово и дело государево». В итоге он оказался в Пафнутьевом Боровском монастыре «для того, что он был без ума». Монахи почему-то не ограничили доступ арестанта к спиртному, и Яков в обители стремительно спился. Архимандрит Корнилий сажал его на цепь, бил плетьми, однако на праздник Рождества Яков умудрился вновь напиться и «нападал на монахов». Архимандриту он отомстил тем, что обвинил его в хуле на учрежденное царем Петром новое дворянское платье, моду и реформы вообще. Дело вновь дошло до Преображенского приказа, клеветника разоблачили, пороли кнутом и сослали «в ыной монастырь». Больше никаких сведений ни о потомках Курбского, ни о «лжекурбских» в источниках не содержится.
Но через несколько десятилетий сочинения князя Андрея прочтет Херасков, и родится литературный герой Курбский, а через столетие со страниц трудов Карамзина в историю шагнет и сам Андрей Михайлович Курбский.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕХ ПОСЛАНИЙ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
Помещаемые ниже тексты ни в коей мере не претендуют на дословность перевода лексических единиц. Эти качества в полной мере представлены в уже существующих работах[223]. Вниманию читателей предлагается попытка интерпретационного прочтения посланий Андрея Курбского Ивану Грозному, являющаяся как бы обобщающим результатом герменевтического комментирования данных памятников. Обоснование правомерности именно таких интепретаций сделано нами в исследовании: Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 1997. С. 163 – 585.
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
[Я пишу к] царю, [изначально] прославленному от Бога, пресветлому в православии, [которому Господь даровал победы над многими царствами и который должен вести свой народ в Царствие Небесное и отвечать за него перед Христом], а в наши дни в наказание нам за наши грехи [переродившемуся в еретика и союзника Дьявола и Антихриста, противопоставляющего себя истинному Богу],что понимают [те, кто способны это понять],обладателю переродившейся совести, [как будто грешник, пораженный от Господа проказой], [совести, настолько испорченной],что подобную трудно найти даже у безбожных народов.
Но более об этом [отступлении царя от православия] я не буду писать так, как следовало бы об этом по порядку [подробно] сказать, но, горько страдая из-за гонений от твоей власти и из-за [несчастий, которые я тяжело переживаю в своем] сердце, дерзну сказать тебе [хотя бы] немногое.
За что, царь, ты истребил лучших людей из [богоизбранного народа, Нового] Израиля, и воевод, данных тебе от Бога [для побед] над твоими врагами, уничтожил различными способами, и победоносную святую их кровь проливал в Божьих церквях, [что есть великий грех и преступление, характерное для язычников, истребляющих христиан],и обагрил их мученической кровью церковные пороги, и на [верных слуг и соратников],хотящих тебе добра, [по евангельскому слову] душу за тебя полагающих, неслыханные в веках муки, и смерти, и гонения задумал, ложно обвиняя православных в изменах и колдовстве, и других непотребных вещах, и с [большим] старанием стремишься [перевернуть весь миропорядок]:свет обратить в тьму, а тьму [объявить] светом, и сладкое называть горьким, и горькое – сладким, [этим ты совершаешь грех, за который, по пророку Исайе, последует Божий Суд и страшная кара и тебе, и твоему народу]!
А чем провинились перед тобой и чем прогневали тебя [люди],которые стояли за христианство? Не они ли разорили [некогда] прегордые царства и сделали их тебе во всем послушными? [А ведь] у этих царств наши предки [когда-то] были в рабстве! Не претвердые ли ливонские города усилием их разума тебе от Бога были покорены?
[Разве] ты нас за это [достойно] наградил тем, что начал истреблять целыми родами?
Или ты, царь, мнишь себя [равным] бессмертному Богу, соблазнившись в небывалую ересь? Будто ты уже не хочешь отвечать перед неподкупным судьей, надеждой всех христиан, богоначальным Иисусом, который будет судить весь мир по [высшей] правде, и [при этом его суд] не минует прегордых гонителей, которые будут наказаны за все свои прегрешения [до их пределов],как сказано в Писании.
Это Он, [Бог мой] Христос, сидящий на херувимском престоле справа от Величайшего из Высших, – судья между тобой и мною.
И каких [только] гонений [я] от тебя не претерпел! И каких [только] бед и напастей ты мне не причинил! В каких неправдах и изменах ты [только] меня не обвинял! А все приключившиеся от тебя беды по порядку не могу и перечислить, потому что их слишком много, и горем объята душа моя. Но в целом могу сказать: всего я был [тобой] лишен и из Божьей Земли прогнан.
Не выпросил [подобострастными] словами, не умолил тебя рыданием со многими слезами, не получил от тебя никаких милостей с помощью ходатайств архирейских чинов. Но за блага, [которые я принес для тебя],ты воздал мне злом и на мою любовь [к тебе ответил] ненавистью, [не допускающей] примирения.
Кровь моя, которую я за тебя проливал, как воду, [свидетельствует против тебя] перед Богом моим.
Бог [видит то, что написано] в сердце [человека].Я умом своим прилежно размышлял, и совесть мою [призывал] в свидетели, и искал, и смотрел, и мысленно разглядывал себя самого, и [так и] не понял и не нашел, чем же [я перед тобой] виноват и грешен.
Возглавляя твое войско, [всю землю] ходил и исходил и никогда не принес тебе никакого бесчестья, но только для твоей славы добывал одни победы пресветлые, одерживать которые помогал ангел Господень, и никогда полков своих спиной к врагам не поворачивал, но со славою одолевал их на похвалу тебе, [как и положено воеводе православного воинства].
И так не один год и не два, но многие годы я трудился, [проливая свой] пот, терпя [трудности],и мало видел [свою мать],родившую меня, и со своей женой мало был, и из отечества своего постоянно уезжал, но все время [пребывал] в дальних и пограничных городах, воюя против врагов твоих, и претерпевал много разных трудностей и [мучений] (болезней) [моей человеческой натуры],этому Господь мой Иисус Христос свидетель; и часто был ранен от варварских рук в различных битвах, и [теперь] имею все тело, изувеченное ранами. И тебе, царь, всего этого как будто и не было, но только нестерпимую ярость и горчайшую ненависть как огнедышащая (разожженная) печь являешь нам!
Я хотел по порядку перечислить все ратные дела мои, которые я сотворил во славу тебе, [царь],но потому не буду этого делать, что Бог и так хорошо о них знает. Он воздает за подобные дела, и не только за них, [столь великие деяния],но даже за [такую малость, как за] чашу холодной воды, [поданную жаждущему].
Кроме того, царь, хочу тебе сказать, что ты уже не увидишь лица моего до дня Страшного Суда, [как нечестивые иудеи не увидели лица апостола Павла, который ходил среди них и проповедовал Божественные истины].И не думай, что я буду молчать [обо всем приключившемся]:до конца своей жизни буду непрестанно выступать против тебя, обращаясь к Троице, [превыше которой никого нет],в нее я верую и призываю в помощь мать Владыки ангелов, мою надежду и заступницу, Владычицу Богородицу, и всех Святых, избранников Божьих, и господина моего князя Федора Ростиславича, [который имеет нетленное тело, ничуть не изменившееся за многие годы, испускающее из гроба благоухание,[божественный] аромат, и благодатию Святого Духа источающее[поток] чудес исцеления, как ты, царь, и сам хорошо знаешь].
Не думай, царь, не считай в своих лживых размышлениях нас [уже] погибшими, избиенными от тебя без вины и изгнанными вопреки [Божьей справедливости].
Не радуйся [нашей гибели и изгнанию],не хвались своей победой [над безвинно убиенными и заключенными и прогнанными вопреки Божьей справедливости], [победой, которая на самом деле не победа]:погубленные тобою [стали христианскими мучениками за веру, на Страшном Суде во время снятия пятой печати встанут] у престола Господа и будут обличать тебя перед Богом день и ночь!
Если и хвалишься [свершаемым тобой злом] в гордыне своей, и [даже в преддверии окончания] последнего, быстропроходящего века умышляешь на христианский род мучительные казни, и еще больше надругаешься [над православными],глумясь над «ангельским образом» [принявших монашество], [делая это] по совету твоих «ласкателей» и сотрапезников [1 вариант: «несогласным», то есть не соответствующим облику истинных христиан; 2 вариант: «бесосогласным», то есть подобным бесам] твоим боярам, губителям души твоей и телу, которые подвигают тебя на Афродитский грех, блудодеяние и [даже] жертвуют [для этого] своими детьми, поступая хуже молящихся Крону, [пожиравшему собственных детей].И так происходит [до сих nop!]
А это писание, политое слезами, велю с собой во гроб положить, готовясь к Суду с тобой пред Богом моим, Иисусом. Аминь.
Написано в городе Вольмаре, принадлежащем господину моему королю Сигизмунду Августу, от него надеюсь получить многие пожалования и быть утешен во всех моих скорбях его государевой милостию и помощью мне моего Бога.
И слышал я от Священного Писания, что от Дьявола будет пущен на христианский род губитель, зачатый в блуде богоборный Антихрист, и [сам знаешь, сам видишь в своем окружении] советника, всем известного, который ныне шепчет ложь в уши царевы и проливает кровь христианскую, как воду, и погубил [до конца] уже [всех] сильных во Израили, [цвет твоего богоизбранного народа],как будто он по своим делам соратник Антихриста: не годится тебе потакать таким, о, царь!
В изначальном Законе Божьем написано: «Моавитянин и аммонитянин и рожденный от блуда в течение 10 поколений недостоин войти в Храм Божий», [а ты, нечестивый правитель, оскверняешь богоизбранную Русь, Новый Израиль, Святорусское царство]!
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВТОРОГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
Краткий ответ Андрея Курбского на [не в меру] пространное послание великого князя московского.
Твое послание, [посвященное очень многим вопросам и столь шумно их обсуждающее],получил, и уразумел, и понял, что оно [было написано, как будто] ты [в припадке] необузданного гнева, [не помня себя],изрыгал [непотребные, злые],ядовитые слова. [Такое писание] недостойно не только для царя, который [считает себя] столь великим и славным во всем мире, но даже и для простого, ничтожного воина.
[Это проявилось и в твоей неискусности царя, когда ты, ослепленный] яростью и лютой злобой, [безыскусно] нахватался [цитат] из Священного Писания, [причем цитировал] не отдельными строчками и стихами, как положено искусным и ученым [в писании посланий, умеющим] в немногих словах [передавать глубокий смысл],но сверх всякой меры излишне многословно, навязчиво, крикливо, [многословно цитируя] целые книги, притчи, послания [святых мужей!].
[И вместе со священными текстами] тут же [ты пишешь] о постелях, шубах и прочей бесчисленной [мелкой ерунде],как будто [передаешь] выдумки вздорных баб! [И пишешь] так [невежественно и дико],что над этим будут смеяться и дивиться не только ученые и искусные люди, но и простолюдины, и даже дети! [И осмеливаешься писать] так в чужую землю, где, [между прочим],живут некоторые люди, знающие не только грамматику и риторику, но и диалектику и философию!
Мало того, [ты не стесняешься так писать] мне, человеку, чье смирение [достигло немыслимых пределов],очень сильно оскорбленному, несправедливо изгнанному и с тех пор [скитающемуся по миру].Я хотя и сам много грешил, но [сердце мое обладает особым духовным взором, способным отличать Добро от Зла],и речь моя не невежественна, [как у тебя!].А ты мне [пишешь] так осуждающе и [скандально],порицая меня и грозя [карами, на которые сможет только в будущем осудить высший],Божий Суд.
И вместо того чтобы утешить меня, пережившего столько бед и напастей, ты ко мне, безвинному изгнаннику, обратился [с таким посланием]!Ты, наверно, забыл и пренебрег словами библейского пророка: «Не оскорбляй человека, попавшего в беду, ему достаточно своих горестей», [чтобы ты их усугублял].
Бог тебе за это судья. Но так едко, язвительно, за глаза нападать на меня, ни в чем не повинного человека, когда-то в юности бывшего твоим верным слугой! Не верю, чтобы это было угодно Богу, [как ты утверждаешь].
И не знаю даже, чего же ты теперь от нас хочешь. Ты ведь не только погубил разными способами князей, выводящих свой род от великого Владимира, не только разграбил все их движимое и недвижимое имущество, которое осталось после грабительских деяний твоего отца и деда, но и отнял все до последних нательных рубашек. [А ведь мы] скажу, [не боясь своей] дерзости, в соответствии с евангельской заповедью [твои бесчинства приняли со смирением],не прекословя твоему прегордому царскому величеству.
Я хотел сперва ответить тебе на каждое твое слово, царь, и мог бы ответить избирательно, [на отдельные обвинения],потому что по благодати Бога моего, Иисуса Христа, познал латинский язык, [высокий язык ученых и ораторов],который я уже ближе к старости моей выучил здесь, [в Великом княжестве Литовском].Но удержал руку с пером по той же причине, о какой писал тебе в предыдущем письме. Я все возлагаю на Божий Суд. Поразмышляв, [я решил],что лучше здесь, [в земной жизни],промолчать, зато, представ перед престолом моего Господа, Иисуса Христа, вместе со всеми погубленными и гонимыми тобой, [не боясь своей] дерзости, [свидетельствовать против тебя].Так говорил Соломон: «[Придет час],когда предстанут праведники перед лицом своих мучителей», и Христос будет их судить, и будут праведники дерзко [обличать] своих мучителей и обидчиков. Ты и сам знаешь, что этот суд будет нелицеприятен [и справедлив],и для каждого человека будет определено, насколько он был лукав, а насколько праведен. А свидетелем этого выступит совесть каждого, которая будет говорить и свидетельствовать [обо всех грехах].
[Промолчу я] и потому, что недостойно благородным браниться, как будто [невежественным] рабам. Тем более не подобает нам, христианам, извергать из уст непристойные и злые слова, я об этом неоднократно говорил и раньше. Лучше, как я решил, возложить мою надежду на всемогущего Бога, прославляемого и поклоняемого в Троице, поскольку он видит [чистоту] моей души и что я не считаю себя перед тобой ни в чем виновным. Поэтому подождем немного, поскольку я верую, что мы уже на самом пороге [Последних времен],ждем скорое [Второе] пришествие надежды всех христиан, Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа.
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
Ответ недостойного Андрея Курбского, князя Ковельского, на второе послание царя великого московского.
Пребывая из-за твоих гонений в изгнании и в убожестве, [пишу тебе],опустив твой великий и пространный титул. Ведь таким ничтожным, [как я],к тебе, царь, не подобает обращаться [столь торжественно],только [равным монархам, в посланиях] от царей к царям прилично употреблять [полные и пространные титулы].
А то, что [ты] исповедуешься передо мной, как положено перед священником, то я этого недостоин, потому что я простой человек, воинского чина, и только краем уха могу тебя услышать, тем более что я и сам многими и бесчисленными грехами отягчен.
В любом случае, было бы достойно возрадоваться и возвеселиться не только мне, некогда твоему верному рабу, но и всем правителям и народам христианским, если бы твое покаяние было истинным. [Например],как покаяние Манассии, о котором говорят, что после многих кровавых преступлений и нечестья покаялся и до конца жизни жил праведно, соблюдая Закон Господен, и более никого не обидел. В Новом Завете рассказывается о достойном похвалы покаянии Закхея, который вчетверо вернул все, чем кого обидел. О, если бы твое покаяние соответствовало этим священным примерам, которые [ты так любишь] приводить как из Ветхого, так и из Нового Завета!
А ты в своем послании, в последующих [словах] проявил себя не только не соответствующим [этим примерам],но, [что] поразительно и вызывает удивление, явил миру хромоту на обе ноги и испорченность своего «внутреннего человека», [то есть испорченность своей совести и своих представлений о Боге. И тем более удивительно, что ты так проявил себя в послании, адресованном] в земли твоих врагов, где много мужей, искушенных не только в общей философии, но сильных в знании Священного Писания: и [ты перед ними] то впадаешь в уничижение, то беспредельно, сверх всякой меры возносишься!
Господь говорит своим апостолам: «Даже если и все заповеди исполните, [все равно не возноситесь, а смиренно] говорите, что вы [не более чем] ничтожные рабы [своего Господа]». А вот Дьявол учит нас, грешных, каяться только на словах, а в сердце, [в глубине души] себя превозносить и приравнивать к прославленным святым мужам.
Господь же повелевает никого до суда не осуждать и сперва извлекать бревно из своего ока, а [только] потом – сучок из ока брата твоего. А Дьявол подучивает только на словах проблеять слова, выдаваемые за покаяние, а на деле только превозноситься и гордиться бесчисленными беззакониями и кровопролитиями и [даже] не только проклинать [всеми] почитаемых святых мужей, но и обвинять их в связи с дьявольскими силами, как некогда в древности евреи называли Христа льстецом и служителем Вельзевула, князя бесов. Будто бы Иисус изгонял бесов его именем. Подобно этому можно увидеть в твоем послании, в котором ты правоверных и святых мужей называешь дьяволом, [истинных служителей Господа, носителей благодатных даров],которых вел [в их деяниях] сам Святой Дух, не стесняешься обвинять в отступлении от слов великого апостола: «Никто не называет Иисуса Господом, только Духом Святым», [как каких-то еретиков].
А ведь кто оклеветал правоверного христианина, не его оклеветал, но самого Святого Духа, пребывающего в нем, и навлек на свою голову неотмолимый грех, как сказал сам Господь: «Если кто возводит хулу на Духа Святого, не простится это ему ни при этой жизни, ни в будущей».
А что к тому же [ты делаешь] еще более гнусное и прескверное? Исповедника твоего упоминаешь и клевету на него умышляешь, а ведь это он твою царскую душу к покаянию привел, [возложил на себя] твои грехи и носил их на своей шее, очистил тебя покаянием от явных скверн и, будто безгрешного и чистого, поставил перед чистейшим царем Иисусом Христом, Богом нашим!
И ты так воздаешь [твоему исповеднику] по его смерти? О чудо! Как же [пылает] в тебе зависть, внушенная твоими презлыми и лукавыми льстецами, и не угасает даже после смерти святых и достойных мужей, [на которых она была возведена].Не боишься, царь, [разделить] проклятие Хама, который смеялся над наготой его отца? И если такое [наказание было наложено за надругательство над родившим тебя] отцом, то [что же последует за выступление] против отца духовного? На его [мелкие проступки] не стоит обращать внимания, если что и случилось из-за человеческой слабости. Как твои льстецы и угодники клеветали на этого священника, лгали, будто он стращал тебя не истинными, а ложными видениями.
Воистину, и я скажу, льстец он был, коварен и хитроумен, хитростью исторг тебя из сетей дьявольских и [из рук] Сатаны и привел тебя к Христу, Богу нашему. То же самое и мудрые врачи творят, когда бритвами вырезают наросты в ранах и мертвые ткани аж до живого тела и потом потихоньку лечат и исцеляют больных.
Так же и он делал, пресвитер, блаженный Сильвестр, видя недуги твои душевные, застарелые за многие годы и трудные для исцеления. Как говорят некоторые мудрецы: «[Если] злые обычаи в душах человеческих застаревают за многие годы и становятся естественными, [то] их трудно исцелить». Так и он, преподобный, из-за трудности исцеления твоего недуга использовал [особые средства],язвительными словами нападая на тебя и порицая, будто резал бритвой твои нечестивые нравы наказанием жестоким. Он помнил слово пророка: «Лучше претерпевать раны, наносимые [ради твоего блага] твоим другом, чем ласки врага».
Ты же не вспомнил об этих [словах],будучи совращен презлыми и лукавыми, отогнал [Сильвестра] от себя, – тем самым отогнал Христа, [Бога] нашего – потому что он, как уздой крепкой и поводьями, сдерживал [присущие тебе] невоздержанность и непомерную похоть и злобу.
[На примере истории Сильвестра] сбылось сказанное Соломоном: «Накажи [человека, который способен стать] праведным, и [он это] с благодарностью примет», и, кроме того: «Обличай праведного, и [он] возлюбит тебя». [Умный в ответ на обличения возлюбит мудрость, а глупца не стоит и поучать, только наживешь беду].Последующие же стихи умолчу, оставляя [вспомнить их] твоей царской совести, ведь ты искусен в знании Священного Писания. [Ты сам из него поймешь, в чем твой грех] и потому я, ничтожный, и не очень бичую язвительными словами твое царское величество, а делаю что могу, да избегну свары, поскольку недостойно нам, воинам, браниться, как рабам.
А ведь [ты] мог бы и [сам] вспомнить, как во время благочестивых дней твоих все было хорошо, по благодати Божьей, благодаря молитвам святых и [бого]избранному совету достойнейших советников твоих. И как потом прельстили тебя злые и коварные льстецы, губители тебя и твоего Отечества, которые приносят беду [хуже смертельной неисцелимой болезни]!Такие болезни и [бедствия] и были Богом насланы [на тебя и твою страну],голод, эпидемии, и [самое ужасное – нашествие иноплеменных, грозящих] варварским мечом, [известным мстителем, которого Бог насылает] на нарушивших его Закон. [К этому добавь твоего] города Москвы внезапное сожжение, и опустошение всей Русской земли, и что горше и стыднее всего – падение души царя, [забывшей о своих высоких обязанностях защищать своих подданных],бегство царя, некогда бывшего храбрым. Некоторые здесь нам рассказывают, что в этом позорном бегстве ты, прячась от татар со своими опричниками, [так далеко забрался] в [дикие] леса, что чуть с голоду не умер.
А [крымский хан],измаильский пес, раньше, когда ты богоугодно слушался нас, ничтожных слуг твоих, [боялся выступать против нас] и не мог найти себе места, бегая [от русских полков] по всему Дикому Полю. Ты платишь [хану] огромную и тяжкую дань, надеясь, что он, [получив ее, нападет на Речь Посполитую],и тем самым науськиваешь его проливать кровь [твоих братьев]-христиан. А мы, воины твои, раньше дань ему платили своими саблями, и бусурманские головы [знают цену этой дани].
А ты называешь нас изменниками, потому что мы были насильно вынуждены тебе приносить присягу на верность, [а потом ее не соблюли]. [Ведь у вас, в Московии],есть обычай, если кто не присягнул, умрет мучительной смертью. Поэтому [на это обвинение] мой тебе ответ: все мудрые согласны с тем, что если кто не по своей воле приносит присягу или дает клятву, [а потом ее нарушает],— то не тот совершает смертный грех, кто преступил клятву, а тот, кто насилием вынудил его дать эту клятву. Разве ты не совершал такого насилия? [А мы только поступили по евангельской заповеди],ведь кто не спасается бегством от жестокого гонения [тирана],поступает как самоубийца, [свершающий смертный грех],и нарушает Господний завет: «Если вас гонят из этого города – убегайте в другой». Пример тому показал Господь Иисус Христос, Бог наш, спасаясь от смерти и от преследований богоборцев-иудеев, [которым ты, царь, подобен в своих поступках, преследуя праведников, на которых лежала Господня благодать, и безвинных благородных мужей! В том, что ты с твоими опричниками подобен богоборным фарисеям, и проявляется твое «супротивство» Богу]!
А что ты говоришь, что я разгневался на человека, а стал мстить Богу, и разорял и жег христианские церкви, на это я тебе отвечу: на нас не клевещи и исправь [ложь, написанную тобой в] послании. [Вспомни],ведь и Давид был вынужден из-за гонения со стороны Саула вместе с нечестивым царем-[филистимлянином] воевать землю Израиля. [Так и моя судьба сходна с его судьбой].Только я был послан [в поход] не нечестивым, а христианским царем, и исполнял твои приказы, действовал по твоим распоряжениям. И, признаюсь в своем грехе, по твоему приказу воевал Витебск и его округу и сжег там 24 христианские церкви. Так же и [по приказу] короля Сигизмунда Августа был вынужден воевать волость Великих Лук. И [хотя] мы вместе с князем [Богушем] Корецким очень стерегли, чтобы [татары-мусульмане, бывшие в нашем войске],церквей христианских не жгли и не разоряли. И, по правде, из-за множества войска, которого с нами было 50 тысяч и среди которого было много как варваров-мусульман, так и еретиков, врагов Креста Христова, [мы не уследили],и в наше отсутствие нечестивые сожгли одну церковь с монастырем. Да свидетельствуют о том монахи, которые были отпущены нами из плена!
А потом, спустя примерно год, твой враг, крымский хан, присылал, и молил короля, и просил нас, чтобы мы вместе пошли походом на ту часть Русской земли, которая находится под твоей властью. Я, хотя мне и король велел поддержать [хана],отказался: не захотел и представить такое безумие, что я, [христианин],под мусульманскими знаменами пошел войной на землю христианскую с чужим царем, неверным. Потом и сам король этому удивился и похвалил меня, что я не уподобился безумным, ранее дерзнувшим на это, [таким, как ты, у которого в войске мусульмане служат и который вместе с крымским ханом хочет напасть на христиан].
А что ты пишешь, будто бы царицу твою околдовали и тебя с ней разлучили, [умертвив ее, и что это сделали] вышеназванные [святые] мужи, и я в этом участвовал, так я не хочу даже отвечать на это обвинение от имени этих святых, ибо их дела [сами о себе вопиют],словно трубы, [и свидетельствуют] об их святости и добродетели. Но за себя отвечу коротко, поскольку если смолчу на твою великую неправду, то получится, что я виноват в том, в чем ты меня клеветнически обвиняешь.
Хоть я и многогрешный, и недостойный, но ведь я был рожден от благородных родителей, принадлежу к роду великого князя смоленского Федора Ростиславича, как твое царское величество знает из русских летописей. И князья того рода не имели обычая [губить свой род, как будто сами] есть свое тело и пить кровь своих братьев, не то что некоторые, для которых это с древности в обычае: как первым выступил в Орде Юрий Московский против святого великого князя Михаила Тверского. А прочие подобные случаи еще свежи в памяти и стоят перед глазами. Что стало с князьями Угличскими и Ярославскими и прочими их родичами? Как они всеми родами истреблены и погублены? Об этом и слышать тяжело, ужасно! [Младенцы] оторваны от материнской груди, [князья были] заключены в мрачных темницах и долгие годы погибали в заточении, [как, например],Дмитрий-внук, [несмотря на то что он] блаженный и боговенчанный!
А твоя жена, царица Анастасия, мне, убогому, близкая родственница, и смотри о нашем родстве на краю листа написано: Борис Иванович Морозов родил двух Тучковых: Василия и Иоанна. От Иоанна произошла Ирина, мать Романа, от которого и происходит Анастасия, царица. Василий же родил Михаила, отца моей матери Марии. [Так что мы с ней одного рода, а у нас не в обычае убивать родственников, и я невиновен в ее смерти].
А о Владимире [Андреевиче Старицком],своем брате, вспоминаешь, будто бы хотели тебя свергнуть, а его возвести в государи, воистину, об этом и не помышляли, тем более что он был того и недостоин. А я еще тогда понял, как ты будешь ко мне относиться, когда ты насилием выдал замуж мою сестру за своего брата [Владимира],заставив ее породниться с вашим издревле кровопийственным родом.
А что повсюду бахвалишься и возносишься, будто бы окаянных ливонцев поработил якобы силой животворящего креста, [и в этом проявилось покровительство Бога],– не знаю и не думаю, чтобы это было угодно христианству: [не под Господним Крестом ты шел, но],скорее, под крестом разбойников, [распятых вместе с Христом. И не было тебе никакого покровительства Бога]:еще король наш с трона своего не двинулся, и вся шляхта еще в домах своих пребывала, и все королевское войско [при королевском дворе] стояло, а уже хоругви [твоего воинства] во многих городах были поломаны неким Жабкой, а в Кеси, стольном граде – латышами. И это [доказывает],что они не Христовы кресты, а [кресты, подобные тому, на котором был распят нераскаявшийся] разбойник. [Они противны христианству],их носят [не перед истинно верующими],а перед разбойниками!
Гетманы же польские и литовские еще и не начали подготовку к выступлению против тебя, а твои окаянные воеводишки, правильнее сказать – калеки, из-под твоих [разбойничьих] крестов были выволочены связанными конскими поводьями и [показаны] здесь, на великом сейме, на котором многие народы бывают, где над ними все смеялись и надругались, окаянный [царь],на [огромный] и вечный стыд твой и всей Святорусской земли и на срам народов – сынов русских.
А что пишешь о Курлятеве, о Прозоровских и Сицких, и, не знаю каких, драгоценных вещах, и [каких-то подарках] за упокой души, вспоминая и [прегрешения, о которых не говоришь прямо, а прячешься за слова] «Кроновы» и «Афродитовы дела», и стрелецких жен, – все это достойно только насмешек, [как над] россказнями пьяных баб, на это [даже] отвечать не следует, как учил премудрый Соломон – глупцу отвечать не подобает. Тем более что всех вышеназванных, да и не только Прозоровских и Курлятевых, но и бесчисленных благородных [мужей] сожрала [твоя] жестокость, а вместо них остались калеки [и уроды],которых ты силишься назначать на воеводские должности и упрямо выступаешь против разума и Бога. [А ведь за такие грехи правителей Господь наказывает народы],исчезают [целые] города, которые трепещут в ужасе не только от одного [вражеского] воина, [появившегося под их стенами],но пугаются даже гонимого ветром [древесного] листа. [Это наказание грозит твоему Отечеству за твои грехи. А ведь если бы Господь из-за тебя не отвернулся, не оставил свой народ, он был бы непобедимым. А теперь все наоборот],как пишет во Второзаконии пророк Моисей: «за беззакония [царя его] войско гонимо, и уже один враг разгоняет тысячу [русских].А двое прогонят десять тысяч [твоих воинов]».[И близок день погибели и тебя, нечестивый государь, и твоих богомерзких слуг].
В том своем послании ты пишешь, что ты ответил на мое письмо, [но от меня нового ответа не дождался],но ведь и я давно уже на твое пространное послание отписал тебе да не смог отправить из-за неправильного обычая, практикуемого в твоих землях. Ты затворил Царство Русское, как в Аду, [ограничив данную от Бога человеческую свободу и тем самым опять выступив против Бога. Ведь люди, странствующие из страны в страну],как говорит Иисус Сирах, [отмечены особой Божественной благодатью],а ты, если кто поедет из твоей земли в чужие земли, того сразу называешь изменником и если [успеваешь] поймать его на границе, то [приказываешь] казнить. [Увы], и здесь, [в Речи Посполитой],уподобясь тебе, поступают столь же жестоко. И поэтому я долго не мог отправить свой ответ тебе. А теперь пошлю к твоему величеству и ответ на твое последнее письмо, и мой старый ответ на твое пространное послание.
И если ты проявишь мудрость, то спокойно, без гнева прочтешь их [и постигнешь смысл моих слов].Я только молю тебя: не дерзай больше [так] писать к слугам другого государя, которые умеют дать достойный ответ, чтобы [не про тебя оказались] слова одного мудреца: «Хотел только говорить, но не хотел никого слушать», [так вот и прислушайся] к ответу на твои речи.
А что пишешь, будто бы я оказался мятежником против своего государя и хотел овладеть твоей землей, и за это называешь меня изменником и беглецом, на это и отвечать не буду, потому что эти слова – явная ложь и клевета. Так же и на другие [твои напрасные и лживые слова] не буду отвечать, потому что хочу написать [не такое невежественное послание, как у тебя, а написать] достойный ответ. И поэтому я должен сократить свое послание, чтобы оно не выглядело неумелым из-за излишних слов. А разрешение нашего спора возлагаю на нелицеприятный суд Господа нашего, Иисуса Христа, как неоднократно уже говорил об этом в моих первых посланиях к тебе. К тому же не хочу я, недостойный, с твоим царским величеством устраивать свару.
Посылаю тебе две главы, взятые из сочинений премудрого Цицерона, знаменитого римского [первосоветника, который жил тогда, когда] римляне владели всем миром. Цицерон [так же, как и я],писал этот ответ своим недругам, которые называли его изгнанником и изменником, так же, как твое величество, не сдерживая своей неистовой жестокости, нас, несчастных, издали стреляешь огненными стрелами своей клеветы, понапрасну и попусту.
Андрей Курбский, князь Ковельский.
В ком есть благочестие, тому ничто не может помешать вести [блаженную],богоугодную жизнь. Из премудрой книги Цицерона, называемой «Парадоксы», ответ против Антония.
Я никогда не мог подумать, что Марк Регул [мог бы быть] опечаленным, несчастливым и скорбящим, потому что знал: хоть и замучили его карфагеняне, но не сломили ни его мудрости, его сана, его веры, его твердости и других доблестей, ни его сущности. Он был вооружен помощью великих добродетелей и огражден [от врагов множеством качеств, сближавших его с преподобными мужами].Поэтому, когда было растерзано его тело, его сущности (его душе) [враги не могли ничего сделать].Я видел и Мария, который в счастливые дни казался одним из счастливейших людей, а в дни испытаний [проявил себя] как один из достойнейших мужей: ни один смертный не мог бы вести себя более благословенно, [по божьим заповедям]. [А ты],неистовый, и не знаешь, какие силы дает подобие [преподобным мужам]!Ты сам провозгласил себя преподобным, а чего на самом деле достоин, не понимаешь! Никто не может быть благословенным и совершенным, если сам себя считает совершенным и только в себе самом предполагает все высшие качества. Он надеется, что [его] разум и [умение] мыслить могут принести счастье, но [на самом деле] он ничего не знает, ни в чем не уверен, что ему известно, даже ни в одном дне. Ты грозишь смертью или изгнанием тому человеку, ибо, каким ты его считаешь, таким он и будет (? – А. Ф).
А что со мною случится в том неблагодарном отечестве, то произойдет с не только запрещавшим, но с отрекающимся. А чем занимался, что делал, в чем [приложил столько] трудов и мышления моего, то воистину не совершил ничего такого, чего бы сам не понимал, и уже нахожусь на той [высоте],которую не поколеблют ни превратности счастья, ни неправда врагов. Смерть ли мне грозит? Ее могу, в самом деле, получить от людей. Или же изгнание? Но оно будет моим уходом от злых. Смерть страшна тем, для кого с ней все погибает, но не тем, чья слава умереть не может. А изгнание страшно тем, у которых место жизни [представляется как ограниченное пространство],а не тем, для которых вся земля – [дом].
Тебе, окаянному, грозит исчезновение всего того, что ты [необоснованно считаешь] (мнишь) в себе блаженными, [лучшими своими качествами].Тебя терзают страсти. Ты мучаешься днем и ночью! Тебе мало того, что у тебя есть, а то, что есть, ты тоже боишься потерять. Тебя мучает совесть из-за твоих злых дел. Тебя пугают суды и законы: куда ни посмотришь, словно кусачие звери, тебя окружают неправды и не дают тебе покоя. Это все потому, что со злым, глупым и гнусным не может быть ничего хорошего, доброго. А достойный муж, мудрый и храбрый, не может пребывать в ничтожестве. И такого не бывает, чтобы достойная жизнь преподобного человека не получила бы похвал. И не нужно опасаться, если твою жизнь превозносят и хвалят. А бояться надо, если ты и твоя жизнь – окаянные. Поэтому то, что достойно похвалы, тому подобает быть благословенным, и цветущим, и всем желанным.
Против Клодия, который несправедливо изгнал Цицерона из Рима. Глава 7.
Все глупцы неистовствуют, [как ты сейчас].Но я тебя изображу в истинном свете: ты не глупец, хотя и бываешь им часто, не злой человек, [хотя ты зол всегда],но главные твои черты – ты безумен и неистов в своем безумстве. Разум мудреца, как крепостной стеною, защищен величием знания, [опытом переживания разных сторон человеческой жизни],презрением к счастью, всяческими добродетелями. Будет ли побежден и низложен тот, кого нельзя выгнать из града? Ибо что есть град? Всякое ли сборище лютых и ненавидящих друг друга людей? Всякое ли сборище разбойников и бродяг, собравшихся вместе?
Наверно, ты будешь спорить. [Но я уверен, что это не истинный] град, если в нем не соблюдаются законы, попраны суды, пренебрегают обычаями предков, когда, после того как вельможи изгнаны мечом, сенат перестал быть представителем общего дела. Это не град, а сборище разбойников, и, благодаря тебе, их вождю, они бесчинствуют на площади, и остатки сообщников заговора Катилины приобрели твою зверообразную злость. И это был град? Не из града я был изгнан, [потому что его так нельзя назвать].Когда я был приглашен в город, тогда в республике была должность бургомистра, был не только сенат, который сейчас разогнан, но было волеизъявление свободного народа, были законы управления, на которых стоит град, [вспомни об этом. А что теперь из себя представляет Рим?]
Но смотри, как я презрел стрелы твоего разбоя. О том, что ты насылаешь и напускаешь на меня злобные напасти, я всегда знал, но ты не осмеливался меня [открыто] тронуть, разве что когда крушил стены или пытался злым огнем поджечь мой дом, надеясь, что мы погибнем или сгорим. Ничто это, не мое и ни кого-либо еще, что может быть утрачено, отнято или погублено. Если бы ты сумел уничтожить непоколебимость моего ума, мои труды, усилия, советы, которыми [римская] община стоит, [никем] не побеждаема, если бы ты стер бессмертную память о тех делах, что будут жить вечно, и, более того, если бы лишил меня самого ума, из которого исходят [эти благодеяния и] советы, тогда бы я мог говорить о своей обиде на тебя. Но ты все этого не сотворил, [да и не был способен сделать это],и моим славным возвращением я обязан [тебе] и тем обидам, [которые ты пытался мне причинить],а вовсе не изгнанию, [которое могло бы стать] переломным [в моей жизни].
Поэтому я всегда был гражданином, и всего более тогда, когда мои здоровые советы [слушал] окрестный народ, [и они его] выручали, [и поэтому я и был настоящий],лучший гражданин. Ты же не достоин называться гражданином, потому что никто одновременно не может быть врагом [Рима] и его гражданином. Или же ты отличаешь врага от гражданина по происхождению и занимаемой должности, а не по разуму различаешь их? Ты устроил убийства на площади, твои вооруженные злодеи захватывали церкви, зажигали [неповинные] дома и святые церкви. Если ты гражданин, то почему [мятежник] Спартак считается врагом Рима?
Можешь ли ты считаться гражданином, если из-за тебя град [чуть] не прекратил существование? И меня называешь изменником, хотя это твое имя? А ведь с моим изгнанием [из Рима] была изгнана и республика! [Может быть],перестанешь беситься и рассмотришь свои поступки? [Неужели] ты никогда не посмотришь на свои дела, а будешь оценивать только свои [громкие] слова? [Или] тебе неизвестно, что изгнание неповинного — большее злодеяние, чем казнь?
Свой же путь, которым я теперь иду, я выбрал ради высоких и светлых дел, которые делал раньше. Всех злодеев и безбожников, которые считают тебя своим вождем, по закону требуется предать изгнанию. Они уже по своей сути изгнанники, хотя еще и не покинули своей страны. Или пока по всем законам ты не будешь осужден, как изменник, ты себя не будешь считать таковым? Ведь любого, кто нападает с оружием в руках, считают врагом. Перед [стенами] сената нашли твой меч. Или ты не убил человека? Убил. Или ничего не поджигал? Девичий дом сгорел от твоей руки. Разве ты не захватывал Божьи церкви? Не выводил свои полки на площадь? Но что я говорю об общеизвестных устоях и законах, которые все ты преступил. Корнитиций, друг твой, о твоем преступлении издал закон: если кто обманом проникнет в дом Доброй богини во время религиозной церемонии, тот преступник. Но ты, сотворивший это, даже хвастаешься своим преступлением!
Как же ты, изменивший столь многим законам и изгнанный ими [из круга граждан],не гнушаешься меня – изменника? Ты утверждаешь, что ты находишься в Риме? Нет, ты не в Риме, ты в каком-то странном месте пребываешь. [По это не значит, что ты не должен соблюдать его законы].
Смотри, о, царь, внимательно: как языческие философы, [не зная христианской мудрости],естественным путем [сумели] постичь такую правду и дивную мудрость, [обнаружив способность к первозданной, присущей от рождения и потому наиболее правильной мудрости].Как сказал апостол [Павел: они вели поиск истины в сердцах с помощью совести, которая и смогла подсказать им верный выбор, который и нам надо сделать накануне Второго Пришествия Иисуса Христа].И, благодаря [этой способности постигать высшую мудрость, римляне] по воле Бога и завладели всем миром, [чего ты, грешник, тщетно добиваешься].А мы только на словах христиане называемся, но не можем постичь правду, открывшуюся даже книжникам и фарисеям, не то что людям [древности],которые жили по естественным законам [и искали правду в своем сердце].
О горе нам! Что мы ответим [Господу] нашему, [Иисусу] Христу, на [Страшном] Суде? И чем мы оправдаемся? [Ведь всем известны знамения Божьего гнева].Как спустя один или два года после моего первого послания к тебе я видел насланное Богом [наказание] за дела твои и [сотворенное твоими собственными] руками – [постыдную] и сверх всякой меры позорную победу над тобой и воинством твоим, которой погубил ты славу блаженной памяти русских князей, прародителей твоих и наших, царствовавших [некогда] в веникой Руси блаженно и славно. И мало того что ты [ничего не понял],не устыдился и не осознал свой позор, насланное Господом наказание и обличение, на которые я тебе указывал в своих более ранних письмах, то есть жестоких казней, насылаемых [на Русь] из-за твоего беззакония. [Ведь] таких никогда в Руси не бывало. [Это] и [столичного града] Отечества твоего, славного града Москвы сожжение безбожными мусульманами. [Но ты не просто проявил душевную глухоту, но подражаешь нечестивым правителям: упорствуешь в своих грехах и не желаешь прислушиваться к гласу праведников],как некогда сопротивлялся Богу прескверный фараон. [Ты, как и он],показываешь свое ожесточение против Бога и совести, попирая истинную совесть, которая [изначально] вложена Богом в каждого человека и служит недреманным оком и неусыпным стражем душе и уму человека, спасая его душу [ради ее бессмертия и спасения].
И какие еще безумия ты творишь и на что дерзаешь? Не стыдишься писать нам, будто бы тебе, сражающемуся против врагов твоих, помогает сила животворящего креста! [Неужели ты в самом деле] так думаешь? О, человеческое безумие, или, точнее, развращение души от подхалимов, любимых твоих льстецов!
Очень этому удивляются все живущие, кто разумен, особенно же те, кто знал тебя в прежние времена, когда ты жил по Господним заповедям, окружил себя избранными достойными мужами. Ты тогда не только был храбрый и мужественный подвижник, страшный своим врагам, но [был проникнут духом Священного Писания, жил по нему и] был его святостью и чистотой освящен. [А теперь] в какую бездну глупости и безумства ты оказался низвергнут из-за развращения твоих льстецов. Ты даже лишен здравой памяти, [раз сам не помнишь этого].
Как же ты не вспоминаешь откровений священных книг, которые написаны для нашего поучения, что скверным и лукавым ни всемогущий Бог, ни Его святыня – Крест – не помогают? [Я тебе напомню]:в Ветхом Завете рассказывается, как Бог осушил Иордан [для прохода войска Иисуса Навина] с Ковчегом Завета и с другими бывшими у него вещами, сотворенными во славу Господню, которые назывались Святая Святых. [И когда иудеи носили вокруг] Иерихона [Ковчег Завета и трубили в трубы],его стены, [никогда никем не одоленные],рухнули. Непобедимые цари, царствовавшие над многими народами, и сильные великаны исчезали от [гнева] Господня. [Помнишь ли ты],как из-за одного греха Ахара Господь разгневался на весь Израиль [и наслал на него поражение от иноплеменных]:50 язычников вышли на гору против воинов Израиля, а тогда все войско Израиля состояло из 600 тысяч славных мужей, от 20 до 60 лет от роду, и все разбежались, как [растекается пролитая] вода. Так случилось при Моисее и Иисусе [Навине].
А что случилось во времена других пророков, Самуила и Давида? А когда весь Израиль мог пасть перед врагами своими из-за скверны и лукавства сынов пресвитера Илии, и за это [иудеи были разбиты филистимлянами и даже потеряли Ковчег Завета], язычники взяли в плен Святыню Господню? Обо всем этом по порядку писать в своем послании не буду из-за излишней долготы, тем более считаю тебя знающим Священное Писание [и способным без труда понять, о чем я говорю].
Об этом кратко говорится в Ветхом Завете, что Святыня Господня являет помощь добрым и богоугодным, а [для] прескверных и злых кровопийц, наоборот, [выступает орудием Божьего наказания].А в Новом Завете [вместо этих примеров] крестная сила нам, христианам, дана в помощь, как Константину Великому, когда он был еще язычником и непросвещенным, явилось знамение Животворящего креста, написанное на небе звездами, руководящее и наставляющее его к благочестию и обещающее пресветлую победу над гордым Максентием.
А ведь тот же Константин Великий, уже давно пребывая в правоверии, тоже [согрешил и прислушался к шептаниям в ухо] подхалимов и скверных льстецов и велел без вины заковать в оковы трех мужей, ранее посланных от него в Верхнюю Фригию для усмирения местного населения. И это он сделал из-за навета, ложной клеветы соблазненного золотом епарха, и в ту же ночь приказал умертвить их, связанных, заточенных в темницу. И тогда скорый помощник в беде, еще пребывающий в своем телесном, [а не только духовном воплощении],Святой Николай [Мирликийский],призываемый ими молитвой на помощь в их беде, явился в спальню царскую через затворенные двери, как некогда Христос к ученикам и апостолам, и сказал ему с укором: «О, цесарь! Непотиана, Урса и Герпилиона, без вины тобой осужденных и закованных, вели быстрее освободить. Если не сделаешь этого, объявляю тебе непримиримую вражду, и скоро последует [насланное Богом] постыдное поражение твое и позорная гибель твоя и твоего рода!» Подробнее об этом пишет Святой Симеон Метафраст в истории Святого Николая, в его Житии, – я думаю, что в вашей Руси еще не переведено это подлинное Житие этого всемирного светоча.
А твоего величества жестокость [пожрала] ни одного Непотиана и двух других неповинных, но бесчисленное [множество] благородных воевод и полководцев, великих своей родовитостью, пресветлых в делах и разумениях и искусных в военном деле и устроении полков с самой своей юности. И всех вышеназванных мужей, которые были лучшими и крепчайшими в борьбе с врагами, различными видами смертей растерзал и погубил со всеми их родами без суда и без права, прислушавшись к словам только одной стороны, злых льстецов, губителей Отечества!
И, погрязнув в подобных злодеяниях и кровопролитиях, посылаешь в чужую землю огромную армию [несчастных] христиан, под чужие грады, без искусных и опытных военачальников, без мудрого и храброго верховного военачальника. И это для войска всего губительнее и подобно мору. [Оно как будто состоит] не из людей, а становится подобным стаду овец или стае зайцев, не имеющих пастуха, которые боятся гонимого ветром листа. Я в первом своем послании уже говорил о калеках твоих, которых ты бесстыдно пытаешься сделать воеводами вместо вышеназванных храбрых и достойных мужей, погубленных и разогнанных тобой.
А теперь к тому добавил и другой позор для предков твоих, еще более постыдный и в тысячу крат более худший: великий град Полоцк, со всей церковью, то есть с епископом и клиром, и с воинами, и с населением ты предал. А град тот ты ранее добыл грудью своей, уже не говорю, [чтобы потешить твое самолюбие, что на самом деле он был взят] нашей верной службой и многими усилиями: тогда, [в 1563 году],когда добывал Полоцк, ты еще не всех до конца погубил и разогнал.
Ныне же, со всем своим войском, как одинокий трус и изменник, за лесами укрылся, трепещешь и прячешься, хотя никто и не преследует тебя, только твоя совесть внутри [твоей души] вопиет, обличая все твои скверные дела и бесчисленные кровопролития. Тебе только и осталось, что браниться, как пьяной холопке. А что на самом деле достойно для царского сана, то есть суд праведный и оборона [своих подданных],то это все исчезло молитвами и советами лукавого иосифлянина Вассиана Топоркова, который тебе советовал, шептал в ухо: «Не держи советников умнее себя». [Так же] тебе советовали и другие лукавые, как монахи, так и мирские. И какую славу ты получил от этих советов?
[Вот такую] «светлую победу», [а на самом деле позорное поражение, а не победу,] принесли тебе [твои окаянные льстецы, ту самую кару],которой грозил Константину Великому Святой Николай, требуя освобождения трех [неповинных] мужей. И тебе [самому] множество раз твой исповедник, блаженный Сильвестр, [говорил об этом же],порицая тебя и поучая в твоих непотребных делах и коварных нравах. А ты, [вместо благодарности за наставление на истинный путь],с ним и после его смерти непримиримо враждуешь. Разве ты не читал библейского пророка Исайи: «Лучше терпеть наказание розгой или жезлом от друга, чем ласковые поцелуи от врага!»
Вспомни же первые дни [своего царствования] и возвратись [в это благодатное время].Почему ты с непокрытой головой, [являя всему миру свои язвы],бесстыдно выступаешь против своего Бога? Разве не настал час образумиться и покаяться, и вернуться к Христу, [которого ты отринул]? [Сделай это],пока ты еще не покинул свое тело, [пока не попал в Ад],потому что после смерти не сумеешь это сделать, ведь нет в Аду исповеди, и бесполезно каяться. Ты ведь бывал и мудрым и, как я думаю, знаешь, что душа состоит из трех частей: [словесной (сознание), бессловесной (чувства) и звериной].И знаешь, что смертные части, [которые приводят человека к греху (бессловесная и звериная)],должны подчиниться [бессмертной (словесной)].Если же не знаешь, то научись у мудрых, и покори, и подчини звериную часть [своей души той части, которая есть] образ и подобие Бога. Во все времена люди так спасались, подчиняя худшее лучшему. Почитай об этом в книге блаженного Исаака Сирина и в книге премудрого Иоанна Дамаскина. [Только] я думаю, что в твоей [невежественной] земле она еще полностью не переведена с греческого языка, а здесь, [в Великом княжестве Литовском],она целиком переведена и очень тщательно выправлена.
А как ты от чрезмерной надменности и гордыни, возомнив, что ты мудр и можешь выступать учителем для всего мира, пишешь в чужую землю и к чужим подданным, поучая их! Или ты никогда не слышал слов великого апостола Павла: «Ты кто такой, чтобы судить или повелевать чужому слуге?» И последующие слова: [«Чужой раб только перед своим Богом стоит или падет. И будет возвеличен, ибо силен Бог возвеличить его»].Уже пора твоему величеству обратиться к смирению и кротости и прийти в чувство: уже время! Ты ведь уже ближе телом к гробу, а бессмертною душой и разумом – к Божьему Суду, чем к [повседневной] суетной жизни. Аминь!
Написано [это послание] в славном городе Полоцке, принадлежащем государю нашему, светлому королю Стефану, прославленному в богатырских подвигах, на третий день по взятии города. Андрей Курбский, князь Ковельский.
Если пророки плакали и рыдали о гибели града Иерусалима и о его церкви прекраснейшей, созданной из красивейших камней, и о его погибающих жителях, то разве не достойно восплакать о [погибели твоей души],разорении града Бога Живого, или твоей церкви телесной, которую создал Бог, а не человек, [то есть о твоем отпадении от христианства]!
Когда-то в[твоей душе] пребывал Святой Дух, потому что она была вычищена похвальным покаянием и вымыта чистыми слезами. От нее чистая молитва, как воскурение мирра или фимиама, восходила к Господнему престолу. В ней, как на твердом основании правоверной веры, творились благочестивые дела. И царская душа, как голубица с посеребренными крыльями, между церковными рамами блистала, [как некогда иудеи во дни благополучия походили на самую чистую и прекраснейшую из птиц, со снежной белизной крыльев, а в дни печали и бедствий, вызванные грехами Израиля, иудеи покрылись стыдом и поношением. Когда-то твоя душа] была чиста и светлее злата, благодатью Святого Духа украшена добрыми делами, прославляющими и укрепляющими [дело] Христово, его [жертву и пролитую за нас] драгоценную кровь, которыми он нас выкупил [из сетей] Дьявола!
Вот такой раньше бывала твоя церковь телесная! И поэтому все добрые следовали [за твоими] крестоносными христианскими хоругвями. Варварские народы не только городами, но целыми царствами покорялись тебе, и перед полками христианскими архангел [Михаил],хранитель, выступал [во главе] твоего воинства, осенял его и защищал всех, [имевших в сердце] страх Божий, по всем пределам нашего государства, как говорил святой пророк Моисей, «устрашая врагов и низвергая их». Это было тогда, подчеркну, когда с избранными мужами ты сам был избран, с преподобными – преподобен и с безгрешными – безгрешен, как говорил блаженный Давид, и животворящего креста сила помогала тебе и воинству твоему.
Когда же развращенные и лукавые [слуги Сатаны] развратили тебя, ты стал врагом [христианской веры] и вернулся, как пес, на первую блевотину, на свои ранние грехи, по совету и разуму твоих любимых льстецов, которые душу твою осквернили различными нечистотами, но более всего – [содомским грехом] и другими злодействами, о которых-то и сказать [вслух] нельзя. С помощью этих [грехов] наш губитель, Дьявол, род человеческий издавна [ввергает в пучину порока],делает перед Богом мерзким и гнусным и ведет к окончательной погибели. Вот это теперь и с твоим величеством случилось: вместо избранных и преподобных мужей, говоривших тебе правду, не стыдясь этого, [Дьявол] преподнес тебе мерзких прихлебателей или льстецов, вместо достойных и сильных полководцев – гнуснейших и богомерзких Вельских с товарищами, и вместо храброго воинства – служителей тьмы, или твоих опричников, питающихся [человеческой] кровью, которые темнее тьмы [и еще хуже, чем служители Ада].Вместо богодухновенных книг и священных молитв, которыми ранее наслаждалась твоя бессмертная душа и освящался твой царский слух, – [теперь] ты слушаешь скоморохов с безбожными бесовскими песнями, оскверняющими твой слух и делающими тебя глухим [к постижению Божественной мудрости].
Вместо блаженного пресвитера [Сильвестра], который бы приблизил тебя к Богу чистым покаянием, и других советников, часто беседовавших с тобою на духовные темы, как нам здесь рассказывают, не знаю, [правда это или нет, будто бы ты] колдунов и языческих жрецов из далеких стран к [своему двору] собираешь и заставляешь их гадать [о будущем, будут ли в нем] счастливые дни. Так же делал скверный и богомерзкий Саул. Отвернувшись от Божьих пророков, он обратился к женщине-чародейке, прорицательнице, и требовал от нее предсказания, и в своих бесовских мечтах хотел, чтобы она показала ему видение пророка Самуила, вызванного из царства мертвых. [Смысл этого деяния] хорошо объяснил Святой Августин в своих книгах. И что [с Саулом] за это сталось? Сам прекрасно знаешь. Пришла погибель и ему, и его дому царскому, как пророчествовал блаженный Давид: «Не пребудут долго перед очами Бога те, кто поклоняются власти беззакония и издают невыполнимые и невыносимые законы». [Так же и царь Иван издает невыносимые, тяжелые для исполнения законы, которые и сам не соблюдает, и этим схож; с евангельскими фарисеями, гонителями Христа.]
И если погибают цари или правители, которые делают жестокие распоряжения и издают невыполнимые законы, то уж тем более должны погибнуть со всем домом те, кто не только издают невыполнимые повеления и законы, но и делают свою землю пустой, и целыми родами губят своих подданных, не щадя и младенцев, сосущих материнское молоко. [И это вместо того, что настоящие] правители должны за своих подданных проливать свою кровь, защищая их от врагов! [Наоборот],говорят, [что ты приказываешь] собрать непорочных девиц и всюду возишь их с собой на подводах, нещадно растлевая их чистоту, не удовлетворившись уж своими то ли пятью, то ли шестью женами. И невозможно высказать, какими ужасными [способами] ты растлеваешь их чистоту. О беда! О горе! В какую глубочайшую пропасть наш враг Дьявол низвергает и влечет нашу волю и власть над собой.
[И еще множество других преступлений ты совершаешь],как нам рассказывают приходящие из твоей земли, в тысячи раз более гнусные и богомерзкие, но я не буду о них писать ради сокращения моего послания, ожидая [решения нашего спора с тобой на] высшем Суде [Иисуса] Христа, и, возложив персты на свои уста, только поражаюсь и горько плачу, [когда слышу о твоих преступлениях].
А ты еще мнишь, несмотря на твои тяжкие и непростительные грехи, что тебе и твоему войску помогала сила Животворящего креста? Нет, ты – приспешник [Антихриста],который от начала времен сопротивляется Богу и ангелам его, желая погубить всех Божьих тварей и все [человечество]!Что же ты так долго не можешь насытиться христианской кровью, [которую проливаешь без зазрения] совести? И что ж ты так долго не можешь очнуться от [тяжкого сна твоей души],и не [оставишь Антихриста],и не перейдешь [в число истинных слуг] Бога и человеколюбивых ангелов его?
Вспомни же первые дни своего царствования, как ты тогда блаженно и[богоугодно] царствовал! Не губи же [своим нераскаяньем, своими грехами] себя и род свой! Как сказал [пророк] Давид: «Любящий неправду ненавидит свою душу», [то есть перед тобой выбор: погубить свою душу, упорствуя в неправде, или же избегнуть погибели, вернувшись на праведный путь].Ведь те, кто обливаются христианской кровью, уже скоро исчезнут со всем своим родом, [ибо грядет Божий Суд]!Почему же, [спрашиваю тебя еще раз],ты так долго лежишь распростершись и храпишь на своем болезненном одре, как будто объят летаргическим сном?
Очнись же и воспрянь! Никогда не поздно покаяться, [даже на пороге самой смерти],если есть у тебя [власть над своими грехами] и воля. Это вложено в нас Богом и не отымется ради [надежды] на наше исправление к лучшему. Прими от Бога противоядие, которым, говорят, спасаются даже от неисцелимых смертоносных ядов, которыми ты от своих прихлебателей и их отца – Антихриста давно уже был напоен. Если кто того лекарства вкусит своим сердцем, то, как писал Иоанн Златоуст в первом страстном слове, рассказывая о покаянии апостола Петра: он раскаялся в своем страшном преступлении, отречении от своего Господа, и был прощен, и покаяние и было Божественным лекарством, и по его принятию посылаются к Богу умиленные молитвы через особых послов – искренние слезы. Мудрому этих слов достаточно, чтобы все понять. Аминь.
Написано в Полоцке, городе нашего государя, короля Стефана, после победы под Соколом, на четвертый день. Андрей Курбский, князь Ковельский.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО
1528, октябрь или ноябрь — у Михаила Михайловича Карамыша-Курбского и Марии Михайловны Тучковой родился старший сын – князь Андрей.
1547 — начало службы при царском дворе.
1549, ноябрь – 1550, февраль — в чине стольника в есаулах участвует в походе на Казань.
1550 — включен в число «избранной тысячи» – тысячи лучших дворян страны, записанных в специальную «Тысячную книгу». Он в ней значится сыном боярским 1-й статьи по Ярославлю.
1550, август – 1551, зима — воевода в г. Пронске на южной границе Руси.
1551, май — второй воевода полка правой руки на южной границе.
Полк стоял у Зарайска.
Октябрь — второй воевода в полку, посланном в Рязань для укрепления ее на случай возможного набега татар.
1552, июнь — второй воевода полка правой руки на южной границе.
Полк стоял под Каширой.
Июнь – июль — второй воевода полка правой руки в боях с крымскими татарами под Тулой. «Боевое крещение» князя Курбского.
Август – октябрь — второй воевода полка правой руки при осаде Казани. Участвовал в рукопашных боях. Получил тяжелые ранения. Смертельно ранен брат Курбского, Иван. Он был отвезен в Ярославль и там умер.
1553, май – июнь — сопровождал царя в его свите во время «Кирилловского езда» – богомольной поездки Ивана Грозного с семьей по монастырям.
Октябрь — первый воевода полка левой руки на южной границе.
Полк стоял под Коломной.
Декабрь — первый воевода сторожевого полка в карательном походе в Казанскую землю.
1553 – 1556 — один из воевод, командовавших проведением карательных акций и боевыми действиями против партизанских отрядов в Казанской земле.
1555 — у Курбского родился сын.
1556, июнь — первое упоминание с боярским чином. Вошел в Боярскую думу. Во время царского выхода с войсками к Серпухову на южный рубеж значится в свите царя.
Октябрь — первый воевода полка левой руки на южной границе.
Полк стоял у Калуги.
1557, май — второй воевода полка правой руки на южной границе.
Полк стоял у Каширы.
1558, январь – февраль — первый воевода сторожевого полка в карательном походе по Ливонии от псковской границы до Ивангорода вдоль Чудского озера.
Июнь – август — командир передового полка во время летней военной кампании в Ливонии. Участвует в многочисленных боях.
Декабрь — воевода в Туле.
1560, март — второй воевода полка правой руки на южной границе.
Май — первый воевода большого полка, командующий крупным воинским соединением в Ливонии. Войска под командованием Курбского разбили ливонцев под Вайсенштейном и разорили провинцию Гарриен.
Август — участник битвы под Эрмесом, боев под Дерптом, Венденом, Вольмаром, походов в направлении Риги, а также осады и взятия ливонской крепости Феллин.
Не ранее конца августа — воевода в Мценске.
1560, осень – 1561, весна — второй воевода полка правой руки на южной границе.
1562 — один из пяти воевод Великих Лук. Во главе небольших отрядов несколько раз ходил походами в земли Великого княжества Литовского. Сжег посады и окрестности Витебска и Сурожа. Получил ранение.
1562 – 1564 — переписка с Вассианом Муромцевым, монахом Псково-Печерского монастыря. В письмах обсуждались богословские и эсхатологические проблемы, духовный и политический кризис в России. Курбский жалуется на несправедливые гонения со стороны властей.
Август — командующий русскими войсками в битве с поляками и литовцами под Невелем.
1562, декабрь – 1563, февраль — третий воевода сторожевого полка во время Полоцкого похода, осады и взятия Полоцка.
1563, январь — начало переписки Курбского с витебским воеводой М. Ю. Радзивиллом о переходе князя на сторону Великого княжества Литовского.
1563, апрель – 1564, апрель — воевода в Юрьеве-Ливонском, наместник Русской Ливонии.
1563 — вел переговоры с представителями ливонского дворянства об условиях выдачи ему особой привилегии со стороны Ивана IV. Переговоры закончились неудачей. Участвовал в переговорах с Ригой об условиях перехода города на сторону Москвы, также безрезультатно.
1564, январь — получил от короля Сигизмунда II Августа гарантии получения вознаграждения в случае бегства из России.
30 апреля — бегство из России, из Юрьева-Ливонского. Создание в эмиграции в Вольмаре Первого послания Ивану Грозному.
Июль — Иван Грозный сочинил первое ответное письмо Курбскому. Курбский получил во владение от короля Сигизмунда II Ковельское имение.
Сентябрь — участвует в составе армии Великого княжества Литовского в боях с русскими войсками под Полоцком и Великими Луками.
1565 — служба в армии Великого княжества Литовского.
4 июля — назначен ковельским державцей (старостой) по решению Вельского сейма.
Начало работы над Вторым посланием Ивану Грозному.
1566 — назначен кревским державцей.
1566, декабрь – 1567, январь — участник сейма шляхты Великого княжества Литовского в Вильне.
1567 — в Ливонии воюет специальная «рота Курбского», собранная и снаряженная в его волынских имениях.
1568 — в имениях Курбского набран специальный отряд для отправки на русско-литовский фронт.
Ноябрь — пожалован Смедынской волостью и селами в Упитской волости.
1569 — работа над составлением Второго послания Ивану Грозному.
Май — служба в армии Великого княжества Литовского.
Лето – осень — участник политической деятельности «русской партии» на Волыни в преддверии заключения Люблинской унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского.
Осень — лишен должности кревского державцы. Встречи с посланником Священной Римской империи аббатом Циром, на которых обсуждалась перспектива заключения союза Польши, Литвы, империи против России.
1570 — участник Варшавского сейма.
Вторая женитьба на княгине Марии Юрьевне Козинской, урожденной Гольшанской.
1572 — формирование в имении Курбского Миляновичи кружка православных книжников и литераторов. Начало переводческой и литературной деятельности кружка. Курбский силой захватил соседнее имение Туличев.
1573, март — участник Берестечковского сейма. Избран делегатом от Волыни элекционного сейма под Варшавой.
Июль — участник Луцкого сеймика.
1574 — в Вильно основана православная типография братьев Мамоничей и Петра Мстиславца. Курбский вступил в переписку с Мамоничами.
1575 — участвует в обороне Волыни от нападения крымских татар.
Переводит сочинения Иоанна Златоуста, вошедших в сборник «Новый Маргарит».
Начало работы над переводом «Богословия» Иоанна Дамаскина.
Сентябрь — участник Сумского сеймика.
1577 — участвует в обороне Волыни от нападения крымских татар.
Иван Грозный пишет Второе послание Андрею Курбскому.
1578 — участвует в обороне Волыни от нападения крымских татар.
Январь — участник коронного сейма в Варшаве.
Август — развод с Марией Гольшанской.
Сентябрь — участник Луцкого сеймика.
1579 — завершение перевода сочинений «Диалектика» и «О силлогизме» Иоанна Дамаскина.
Работа Миляновичского кружка под руководством Курбского над созданием агиографического свода – сборника житий святых, переведенных с книги картезианца Лаврентия Сурия «Достоверные повествования о святых».
Составление Третьего послания Курбского Ивану Грозному.
Третья женитьба Курбского – на Александре Петровне Семашке.
Июнь – сентябрь — участие в составе армии Речи Посполитой в боях с Россией под Полоцком и Соколом.
1580 — участвует в обороне Волыни от нападения крымских татар.
Отряд, набранный в имениях Курбского, ведет бои в составе королевской армии с русскими войсками в районе Великих Лук – Заволочья – Озерища.
Май – участник переговоров русского посольства О. М. Пушкина с дипломатами Речи Посполитой.
У Курбского родилась дочь Мария.
1581 – 1583 — суд с Марией Гольшанской о признании незаконным расторжения второго брака Курбского. Князь добился мировой сделки и подтверждения своего развода.
Работа над написанием «Истории о великом князе Московском».
1581, июнь — вызван в армию Речи Посполитой для участия в походе на Псков, но из-за болезни вернулся обратно в Ко вельское имение.
1582 — у Курбского родился сын Дмитрий.
1583, 24 апреля — Курбский составил завещание.
Между 3 и 23 мая — смерть князя Андрея Курбского.
БИБЛИОГРАФИЯ
Основные источники
Абрамович Д. И. К литературной деятельности мниха камянчанина Исайи. СПб., 1913 (Памятники древней письменности и искусства. Т. 181). 8 с.
Акт Литовской метрики о бегстве князя А. М. Курбского // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1914. Ч. 19. Кн. 2. С. 284 – 286.
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. 1334 – 1598 гг. VIII + 551 + 43 с.
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3. 1544 – 1587 гг. VIII + 316 + 17 + 14 с.
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1863. Т. 1. 1361 – 1598 гг. 301 + 15 с.
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11. XVI век: Сочинения царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. 684 с.
Выписка из Посольских книг о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487 – 1572 гг. // Памятники истории Восточной Европы. М.; Варшава, 1997. Т. 2. С. 15 – 276.
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578 – 1582). СПб., 1889. 86 + 312 с.
Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина, А. В. Назаренко; вступ. ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. 430 с.
Голохвастов Д. П., Леонид[Кавелин].Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 1974. ПО с.
Домострой / Сост. В. В. Колесов. М., 1990.
Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1846. Т. 1. III + 400 + 18 +14 с.
Житие Сильвестра папы Римского в агиографическом своде Андрея Курбского / Сост., предисл., коммент. В. В. Калугина. М., 2003. 228 с.
Иванишев Н. Д. Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. Киев, 1849. Т. I. 394 с; Т. П. 412 с.
Книга посольская метрики Великого княжества Литовского, содержащая в себе дипломатические сношения Литвы в государствование короля Сигизмунда Августа (с 1545 по 1572 год) / Изд. М. Оболенским, И.Даниловичем. М., 1843. 480 с.
Книга посольская метрики Великого княжества Литовского, содержащая в себе дипломатические сношения Литвы в государствование короля Стефана Батория (с 1573 по 1580 год) / Изд. М. Погодиным, Д. Дубенским. М., 1845. 285 + 5 с.
Курбский А. М. История о великом князе Московском / Предисл., вступ. ст., пер. Н. М. Золотухиной; коммент. Р. К. Гайнутдинова, Н. М. Золотухиной. М., 2001. 161 с.
Морозов Б. А. Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца XVI – начала XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 г. М., 1987. С. 277 – 288.
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. II (с 1533 по 1560 год) / Изд. под ред. Г. Ф. Карпова // Сборник Русского исторического общества. СПб., 1887. Т. 59. XV + 629 + 98 с.
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. III (1560 – 1571 гг.) / Изд. под ред. Г. Ф. Карпова // Сборник Русского исторического общества. СПб., 1892. Т. 71. V + 807 с. + 234 стб.
Памятники литературы Древней Руси: конец XV – первая половина XVI в. М., 1984. 768 с.
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг. текста Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыкова. М., 1993. 432 с.
Полное собрание русских летописей. Л., 1978. Т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Вельский летописцы. 303 с.
Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29: «Летописец начала царства». Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. 288 с.
Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 13: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. 532 с.
Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. 368 с.
Полное собрание русских летописей. СПб., 1841. Т.З: Новгородские летописи. 308 с.
Полное собрание русских летописей. СПб., 1848. Т. 4: Новгородские и псковские летописи. 364 с.
Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева, Я. С. Лурье; пер. и коммент. Я. С.Лурье. М.; Л., 1951. 620 с.
Посольская книга по связям России с Польшей (1575 – 1576 гг.) // Памятники истории Восточной Европы: Источники XV – XVII вв. М.; Варшава, 2004. Т. 7 / Сост. Л. В. Соболев. 158 с.
Разрядная книга 1475 – 1598 г. М., 1966. 614 с.
Разрядная книга 1475 – 1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М.,1977. С. 189 – 406.
Разрядная книга 1475 – 1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 407 – 610.
Святой Георгий Победоносец в агиографическом своде Андрея Курбского / Сост., предисл. В.В. Калугина; подг. текстов и коммент. В. В. Калугина, О. А. Тимофеевой. М., 2004. 284 с.
Сочинения князя Курбского. Т. 1: Сочинения оригинальные / Подг. текстов Г. 3. Кунцевича // Русская историческая библиотека. Пг., 1914. Т. 31. 698 с.
Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI века / Подг. к печати А. А. Зимина. М.; Л., 1950. 436 с.
Устрялов Н. Г. Сказания князя Курбского / 3-е изд. СПб., 1868. XLIV + 458 с.
Флоря Б. Н. Иван Грозный ... претендент на польскую корону // Исторический архив. 1992. № 1. С. 173 – 182.
Флоря Б. Н. Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3. С. 143 – 145.
Цеханович А. А. Сочинения князя Курбского и полемические антикатолические традиции древнерусской письменности: К проблеме изучения источников // ВИД. СПб., 2000. Т. 27. С. 19 – 31.
Шумаков С. Акты Литовской метрики о князе А. М. Курбском и его потомках // Книговедение. 1894. № 7 – 8. С. 18 – 22.
The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia. 1564 – 1579 / Ed. by J. Fennell. Cambridge, 1955. IX + 275 p.
Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Fьrsten Kurbskij / Engl. Von Karl Stдhlin. Leipzig, 1921 [Quellen und Aufsдtze zur russischen Geschichte. H.3]. 175 s.
Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Ubersetzung des Fiirsten Andrej M. Kurbskij (1528 – 1583) / Hrsg. von J. Besters-Dilger unter Mitarbeit von E. Weilier, F. Keller und H. Miklas. Freiburg, 1995. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris: Fontes et Dissertationes. T. 35). 196 s.
Eismann W. О silogizme vytolkovano: Eine Ubersetzung des Frursten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann Spangenbergs. Wiesbaden, 1972. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris: Fontes et Dissertationes. Bd. 9.). XIII + 102 p.
Ivan de Lerrible: Epitres aves le Prince Kourbski / Lrad. D. Olivier. Paris, 1959. 176 p.
Ivan den Skraekkelige: Brevveksling med Fyrst Kurbskij. 1564 – 1579 / Ov. Af B. N0rretranders. Munksgaard, 1959. 140 s.
Kurbskij A. M. Novyj Margarit: Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfembutteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Giessen, 1976 – 1990. Bd.l – 4. Lfg.l – 17 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen).
L’idea di Roma a Mosca secoli XV – XVI: Fonti per la Storia del pensiero sociale Russo = Идея Рима в Москве XV – XVI веков: источники по истории русской общественной мысли. Roma, 1993. LXXXVII + 449 s.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567 – 1569). Viesuju reikalu kniga 9. = Литовская метрика. Книга публичных дел 9 (1566 – 1574). Vilnius, 2001. 279 s.
Lietuvos Metrika: Knyga N. 532 (1569 – 1571). Viesuju reikalu knyga 10 = Литовская метрика: Книга публичных дел 10. Vilnius, 2001. 155 s.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566 – 1574). Uzrasymu kniga 51. = Литовская метрика. Книга записей 51 (1566 – 1574). Vilnius, 2000. 486 s.
Listy Ivana Hrozneho / Prelozili H. Skalova a B. Jlek. Praha, 1957. 144 s.
Listy krуla Zygmunta Augusta do Radziwillow / Opr. Irena Kaniewska. Krakуw, 1997. 648 s.
Prince A. M. Kurbsky’s History of Ivan IV / Ed. by J. Fennell. Cambridge, 1965. 326 p.
Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmodska i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. L. 1. 63 + 6 + XXIX + 385 s.; L. 2. 572 s.
Литература
Альшиц Д. H. Начало самодержавия в России. Л., 1988. 241 с.
Андреев В. Очерк деятельности князя А. М. Курбского на защиту православия в Литве и на Волыни. М., 1873. 88 с.
Архангельский А. С. Борьба с католичеством и пробуждение Южной Руси к концу XVI в. // Киевская старина. 1886. Т. XV. Июнь. С. 243 – 260.
Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI – XVII вв.: Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI – перв. пол. XVII в. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1888. Кн. 1. Отд. 1. С. 1 – 135.
Балухатый С. Д. Переводы кн. Курбского и Цицерон // Гермес. Пг., 1916. № 5 – 6. С. 109 – 122.
Бартошевич Ю. Князь Курбский на Волыни // Исторический вестник. СПб., 1881. L. 6. С. 65 – 85.
Бахрушин С. В. «Избранная Рада» Ивана Грозного // Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. L. 2. С. 336 – 351.
Беляева Н. П. Материалы к указателю переводных трудов А. М. Курбского // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. С. 115 – 136.
Богатырев С. Н. Ближняя дума в третьей четверти XVI в. // Археографический ежегодник за 1992 год. М., 1994. С. 119 – 133; Археографический ежегодник за 1993 год. М., 1995. С. 94 – 112; Археографический ежегодник за 1994 год. М., 1996. С. 64 – 81.
Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. 539 с.
Виноградов А. В. Внешняя политика Ивана IV Грозного // История внешней политики России. Конец XV – XVII век / Отв. ред. Г. А. Санин. М., 1999. С. 134 – 246.
Владимиров П. В. Новые данные для изучения литературной деятельности князя Андрея Курбского // Труды IX Археологического съезда в Вильне 1893 г. М., 1897. Т. 2. С. 308 – 316.
Володихин Д. М. Продолжение спора об «Избранной раде» // Русское средневековье. 1999. Духовный мир. М., 1999. С. 130 – 132.
Гладкий А. И. «История о великом князе Московском» А. М. Курбского как источник «Скифской истории» А. И. Лызлова // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1982. Т. 13. С. 43 – 50.
Гладкий А. И., Цеханович А. А. Курбский Андрей Михайлович // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2 (Вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1. С. 501 – 503.
Горский С. Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курбского. Казань, 1858. 449 с.
Горфункель А. X. Книжная культура в письмах кн. Андрея Курбского // Palaeoslavica. Cambridge, 1998. Vol. 6. P. 88 – 93.
Граля И. Иван Михайлов Висковатый: Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. 520 с.
Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998. С. 7 – 76.
Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (история одного мифа). Лондон, 1987. 206 с.
Ерусалимский К. Ю. Андрей Курбский и Иван Грозный: Борьба филологий по поводу двух работ А. В. Калугина // Russia Mediaevalis. Mьnchen, 2001.Т. X.l. S. 303 – 324.
Ерусалимский К. Ю. Изучение в российской историографии 1991 – 2003 гг. культурных и литературных связей Великого княжества Литовского: (А. М. Курбский и курбскиана в историографии рубежа веков) // Вялгкае княства Лiтоускае: Гiсторыя вывучэння у 1991 – 2003 гг.: Матэрыялы мiжнароднага круглага стала: (16 – 18 трауня 2003 г., г. Гродна). Мшск, 2006. С. 26 – 34.
Ерусалимский К. Ю. Историческая память и социальное самосознание князя Андрея Курбского // СОЦIУМ: Альманах соцiальноi исторii. Киiв, 2005. Вип. 5. С. 225 – 248.
Ерусалимский К. Ю. История одного развода: Курбский и Гольшанская // СОЦIУМ: Альманах соцiальноi истори. Ки1в, 2003. Вип. 3. С. 149 – 176.
Ерусалимский К. Ю. Как была сделана «История» А. М. Курбского: Проблемы хронологии текста // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2004. Вып. 11. С. 591 – 618.
Ерусалимский К. Ю. Потомки А. М. Курбского // У источника: Сборник статей к 70-летию С. М. Каштанова. М., 2005. С. 356 – 357.
Ерусалимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича Курбского о княжеской власти и русских князьях IX – середины XVI века // СОЩУМ: Альманах соцiальноi истори. Ки1в, 2004. Вип. 4. С. 71 – 100.
Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского: Исследование книжной культуры. М., 2008.
Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. 270 с.
Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986. 331 с.
Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958. 498 с.
Зимин А. А. Когда Курбский написал «Историю о великом князе Московском»? // Труды отдела древнерусской литературы. М., 1962. Т. 18. С. 305 – 312.
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 535 с.
Зимин А. А. Первое послание Курбского Ивану Грозному: (Текстологические проблемы) // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 31. С. 176 – 201.
Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 511 с.
Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. 348 с.
Калайдович К. Записка о выезде в Россию правнуков князя Андрея Михайловича Курбского // Северный архив. Журнал истории, статистики и путешествий, издаваемый Ф. Булгариным. 1824. Ч. 12. № 19. С. 1 – 6.
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. 415 с.
Калугин В. В. Когда родился князь Андрей Курбский // Архив русской истории. М., 1995. Вып. 6. С. 241 – 242.
Калугин В. В. Литературный кружок кн. Андрея Курбского в восточнославянских землях Речи Посполитой // Slavia Orientalis. Krakуw, 1996. Posznik XLV. N. 1. S. 45 – 50.
Калугин В. В. Рукопись из скриптория князя Андрея Курбского // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 108 – 163.
Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей Курбский. М., 2000. 417 с.
Каравашкин А. В., Филюшкин А. И. События и лица Священной истории в посланиях Ивана Грозного и Андрея Курбского: (Опыт герменевтического комментария) // Русская религиозность: Проблемы изучения. СПб., 2000. С. 84 – 92.
Кистерев С. Н. Князья Ярославские и Псков в первой половине XVI в. // У источника. М., 1997. Сборник статей в честь Сергея Михайловича Каштанова. Ч. 2. С. 359 – 379.
Клосс Б. М. Избранные труды. М., 2001. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV – XVI вв. 488 с.
Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. 174 с.
Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии: XV – XVI вв. М., 1995. 238 с.
Лихачев Д. С. Курбский и Грозный – были ли они писателями? // Русская литература. 1972. № 4. С. 202 – 209.
Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского (царь и «государев изменник») // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 183 – 213.
Лихачев Д. С. Существовали ли произведения Грозного и Курбского? // Лихачев Д. С. Великое наследие. Л., 1979. С. 376 – 393.
Лурье Я. С. О возникновении и складывании в сборники переписки Ивана Грозного с Курбским // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 33. С. 204 – 213.
Лурье Я. С. Первое послание Ивана Грозного Курбскому: (Вопросы истории текста) // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 31. С. 202 – 234.
Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 214 – 249.
Морозов Б. Н. Первое послание Курбского Ивану Грозному в библиотеке странствующего монаха Ионы Соловецкого (к вопросу о распространении переписки в конце XVI – XVII в.) // Culture and Identity in Muscovy, 1359 – 1584. M., 1997 (UCLA Slavic Studies. New Series. Vol. III). C. 475 – 494.
Морозов С. А. О структуре «Истории о великом князе Московском» A. М. Курбского // Проблемы изучения нарративных источников по истории русского средневековья. М., 1982. С. 34 – 43.
Назаров В. Д. О структуре «Государева двора» в середине XVI века // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 40 – 53.
Никитин А. Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III // Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998. С. 77 – 118.
Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948. 442 с.
Оболенский М. А. О переводе князя Курбского сочинений Иоанна Дамаскина // Библиографические записки. 1858. Т. 1. № 12. Стб. 365 – 372.
Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбский. Киев, 1872. 119 с.
Осипова К. С. «История о великом князе Московском» Андрея Курбского в Голицынском сборнике // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 33. С. 307 – 310.
Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы: История, судьба, тайна. М., 2003. 222 с.
Пиотровский М. П. Князь А. М. Курбский. Историко-библиографические заметки по поводу последнего издания его «Сказаний» // Ученые записки императорского Казанского университета. 1873. № VI. С. 1 – 52.
Рыков Ю. Д. «История о великом князе Московском» А. М. Курбского и опричнина Ивана Грозного // Исторические записки. М., 1974. Т. 93. С. 328 – 350.
Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках Первого послания Курбского Ивану IV // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 31. С. 235 – 246.
Рыков Ю. Д. Князь А. М. Курбский и его концепция государственной власти // Россия на путях централизации: Сб. статей / Отв. ред. B. Т. Пашуто. М., 1982. С. 193 – 198.
Рыков Ю. Д. Редакции «Истории» князя Курбского // Археографический ежегодник за 1970 год. М., 1971. С. 129 – 137.
Саркисова Г. И. Очерк VIII. Беглый боярин Андрей Курбский и его послания // От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994. С. 248 – 270.
Сергеев В. М. Структура текста и анализ аргументации первого послания Курбского // Методы изучения источников по истории русской общественной мысли периода феодализма. М., 1989. С. 118 – 130.
Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. М., 1915. 494 с.
Синицына Н. В. Исайя Каменец-Подольский и Максим Грек: (Из истории русской культуры второй половины XVI в.) // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 205 – 210.
Скрынников Р. Г. Бегство Курбского // Прометей. М., 1977. Вып. 11. С. 294 – 300.
Скрынников Р. Г. К вопросу о происхождении сходных мест в Первом послании Курбского царю Ивану IV и сочинениях Исайи // Русская литература. 1977. № 3. С. 65 – 76.
Скрынников Р. Г. Курбский и его письма в Псково-Печерский монастырь // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1962. Т. 18. С. 99 – 116.
Скрынников Р. Г. О заголовке Первого послания Ивана IV Курбскому и характере их переписки // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. С. 219 – 227.
Скрынников Р. Г. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. 136 с.
Скрынников Р. Г. Подложна ли переписка Грозного и Курбского? // Вопросы истории. 1973. № 6. С. 53 – 69.
Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. 571 с.
Смирнов И. И. Очерки политической истории русского государства 30 – 50-х годов XVI века. М.; Л., 1958. 516 с.
Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007. 624 с.
Филюшкин А. И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная рада». М., 1998. 352 с.
Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. 262 с.
Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский // Вопросы истории. 1999. № 1. С. 82 – 96.
Филюшкин А. И. Причины «Полоцкого взятия» 1563 г. глазами современников и потомков // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2005. Сер. 2: История. Вып. 3. С. 20 – 31.
Филюшкин А. И. Князь А. М. Курбский и Ливонская война // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 2: История. Вып. 3. С. 21 – 31.
Филюшкин А. И. Бегство Курбского: оценки источников и стереотипы историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 2: История. Вып. 4. С. 8 – 17.
Филюшкин А. И. Логика спора Ивана Грозного с Андреем Курбским // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1998. Сб. 9 / Отв. ред. Е. Б. Рогачевская. С. 236 – 263.
Филюшкин А. И. Экзегетика древнерусских нарративных памятников и проблема герменевтической интерпретации текстов (На примере Первого послания Андрея Курбского Ивану Грозному) // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. № 2 (8). С. 26 – 34.
Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. 403 с.
Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978. 274 с.
Хорошкевич А. Л. Задачи русской внешней политики и реформы Ивана Грозного // Реформы и реформаторы в истории России. М., 1993. С. 25 – 36.
Хорошкевич А. Л. Великий князь и его подданные в первой четверти XVI в. // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX вв. М., 1994. Ч. II. С. 163 – 174.
Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. 622 с.
Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV и боярский «мятеж» 1553 г. // Отечественная история. 1994. № 3. С. 24 – 41.
Цеханович А. А. К переводческой деятельности князя А. М. Курбского // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1985. С. 110 – 114.
Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30 – 80-е годы XVI века. СПб., 2002. 535 с.
Шмидт С. О. К истории переписки Курбского и Ивана Грозного // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 147 – 151.
Шмидт С. О. К изучению «Истории» князя Курбского (о поучении попа Сильвестра) // Славяне и Русь. М., 1968. С. 366 – 374.
Шмидт С. О. К изучению «Истории» Курбского // Культурное наследие Древней Руси. Л., 1976. С. 147 – 153.
Шмидт С. О. Новое о Тучковых (Тучков, Максим Грек, Курбский) // Исследования по социально-политической истории России. Л., 1971. С. 129 – 141.
Шмидт С. О. О «жестокой летописи кн. Курбского» // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания: Сборник научных трудов / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 2000. С. 406 – 415.
Шмидт С. О. Правительственная деятельность А. Ф. Адашева // Ученые записки МГУ. М., 1954. Вып. 167. С. 42 – 61.
Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. 557 с.
Шмидт С. О. Сочинения Курбского в культурном обиходе российской аристократии пушкинской эпохи // История и письменная культура Древней и Новой России. Сборник статей, посвященный 60-летию Ю. Д. Рыкова. М., 2008.
Шмидт С. О. Становление московского самодержавства. М., 1973. 359 с.
Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996.
Эскин Ю. М. Местничество в России XVI – XVII вв.: Хронологический реестр. М., 1994. 265 с.
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 447 с.
Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. М., 1889. 215 с.
Angermann N. Studien zur Fivlдndpolitik Ivan Groznyj’s. Marburg, 1972. 176 s.
Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij: Leben in osteuropдischen Adelsgesellschaften des 16. Jarhunderts. Mьnchen, 1985. 499 s.
Auerbach I. Further Findings on Kurbskii’s Fife and Work // Russian and Slavic History / Edited by Don Karl Rowney and G. Edward Orchard. Columbus, Ohio State University. 1977. P. 238 – 250.
Auerbach I. Gedanker zur Entstenhung von A. M. Kurbskijs «Istorija о velikom knjaze Moskovskom» // Canadian-American Slavic Studies. Arisona State University. 1979. Vol. 13. № 1 – 2. S. 166 – 171
Auerbach I. Identity in Exile: Andrei Mikhailovich Kurbskii and National Consiousness in the Sixteenth Century // Culture and Identity in Muscovy, 1359 – 1584 / Ed. by A. M. Kleimola, G D. Fenhoff. Moscow, 1997. (UCFA Slavic Studies. Vol. III). P. 11 – 25.
Auerbach I. Ivan Grosnyj, Spione und Verrдter im Moskauer Russland und das Grossfьrstentum Fitauen // Russian History = Russe Historie. Irvine, 1987. Vol. 14. Nr. 1 – 4. S. 25 – 27.
Backus O. P. A. M.Kurbsky in the Polish-Fithuanian State (1564 – 1583) // Acta Balto-Slavica. 1969 – 1970. Vol. 6. P. 78 – 92.
Bogatyrev S. Battle for Divine Wisdom. The Rhetoric of Ivan IVs Campaign against Polotsk // The Military and Society in Russia, 1450 – 1917 / Ed. by E. Lohr and M. Poe. Leiden, Boston, Kцln, 2002. P. 325 – 342.
Bogatyrev S. The Sovereign and His Counsellors. Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350s – 1570s. Helsinki, 2000. 298 p.
Freydank D. A. M. Kurbskij und die Epistolographie seiner Zeit // Zeitschrift fur Slawistik. Berlin, 1976. Bd. 21. H. 3. S. 319 – 333
Goldblatt H. Formal Structures and Textual Identity: The Case of Prince Andrei M. Kurbskii’s First Letter to Tsar Ivan IV Groznyi // Russian History = Russe Histoire. 1987. Vol. 14. №.1 – 4. P. 155 – 178.
Grobovsky A. N. The «Chosen Council» of Ivan IV: a Reinterpretation. N.Y., 1969. 171 p.
Halperin Ch. Cultural Categories, Councils and Consultation in Moscow // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. №. 4. P. 664 – 673.
Kappeler A. Ivan Grozny im Spiegel der auslдndischen Druckschriften seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des westlichen Russlandbildes. Frankfurt/M., 1972. 298 s.
Keenan E. «Apocryphal – Not Apocryphal» – Apocryphal! // Canadian-American Slavic Studies (spring 1982). Vol. 16. № 1. P. 95 – 112.
Keenan E. Ivan IV and the «King’s Evil» // Russian History = Histoire russe. 1993. № 1/4. S. 5 – 13.
Keenan E. Semen Shakhovskoi and the Condition of he Ortodoxy // Harvard Ukrainian Studies. 1988. Vol. 12/13. к. 795 – 815.
Keenan E. The Karp – Polikarp Conundium: Some Light on the History of Ivan’s First Letter // Essays in Honor of A. A. Zimin / Цd. by D. C. Waugh. Columbus, 1985. P. 203 – 231.
Keenan E. L.[Рец. на кн.] Skrynnikov R. G. Perepiska Groznogo i Kurbskogo. Paradoxy Edvarda Kinana // Kritika. Cambridge; Mass. 1973. Vol. X. № 1. P. 1 – 36.
Keenan E. L. Comment on Dr. Auerbach’s Paper // Russian and Slavic History / Edited by Don Karl Rowney and G. Edward Orchard. Columbus, Ohio State University. 1977. P. 252 – 255.
Keenan E. L. Putting Kurbskij in his Place; or: Observations and Suggestions Concerning the Place of the History of the Muscovity in the History of Muscovite Literary Culture // FOG. 1978. Bd. 24. S. 131 – 162.
Keenan E. L. The Kurbskii – Groznyi Apocrypha: The seventeenth century Genesis of the Correspondense, attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV. Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1971. 241 p.
Kirchner W. The rise of the Baltic question / Second edition. Westport, 1970. 283 p.
Kleimola A. M. Kto kogo: Patterns of Duma Recruitment. 1547 – 1564 // Forschungen zur osteuropдischen Geschichte. Berlin, 1986. Bd. 38. S. 205 – 220.
Kollmann N. Kinship and Politics: The Making of the Moscovite Political System. 1345 – 1547. Stanford, 1987. 324 p.
Norretranders B. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. Copenhagen, 1964. 134 p.
Pelensky J. Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438 – 1560s). Mouton, 1974. 225 p.
Perrie M. The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. N.Y., 2001. 256 p.
Rossing N., Ronne B. Apocriphal – nor Apocriphal? A Critical Analysis of the Discussion Concerning the Correspondence Between Tsar Ivan IV Groznyj and Prince Andrej Kurbskij. Copenhagen, 1980. 226 p.
Russ H. Moskauer «Westler» und «Dissidenten» // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht: 11. – 17. Jahrhundert / Herausgegeben von Dagmar Herrman unter Mitarbeit von Johanne Peters, Karl-Heinz Korn und Volker Pallin. Mьnchen: Fink, 1988. S. 179 – 216.
Waugh D. C. The Lessons of the Kurbskii Controversy. Regarding the Study and Dating of old Russian Manuscripts // Russian and Slavic History / Edited by Don Karl Rowney and G. Edward Orchard. Columbus, Ohio State University. 1977. P. 218 – 237.
Фотографии
Царь Иван IV Грозный поражает казанского хана Едигера. Миниатюра из «Казанской истории», список ХVII в.
Ярославский колокол, по преданию, отлитый по приказу князя Андрея Михайловича Курбского. Современное фото
Надгробие князя Ивана Михайловича Курбского (брата Андрея Курбского), умершего от ран, полученных при штурме Казани в 1552 году. Ярославль, Спасо-Преображенский монастырь. Современное фото
Русская поместная конница. Немецкая гравюра ХVI в. из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна
Казань. Немецкая гравюра ХVII в.
Знамя русских войск во время Полоцкого похода 1563 года. Прорись с оригинала, хранящегося в Оружейной палате
Русский конный воин. Немецкая гравюра ХVI в.
Татарские воины. Немецкая гравюра ХVI в.
Полоцк. Гравюра ХVI в.
Развалины орденского замка и крепости Феллин, в осаде которой в 1560 году принимал участие Андрей Курбский. Современное фото
Готард Кетлер, последний магистр Ливонского ордена
Миколай Радзивилл
Остатки городской стены Дерпта (Юрьева). Возможно, через подобную стену в 1564 году перелезал князь Курбский во время своего побега в Ливонию. Современное фото
Василий Шибанов рассказывает Ивану Грозному о бегстве Курбского. Миниатюра Лицевого летописного свода. 1570-е гг.
Панорама ливонской крепости Риги. 1547 г. В книгах Рижского магистрата сохранилась самая древняя запись о бегстве Курбского в 1564 году
Ивану Грозному сообщают о приходе литовских войск под Полоцк в 1564 году и о присутствии среди воевод неприятельской армии Андрея Курбского. Миниатюра Лицевого летописного свода. 1570-е гг.
Столица Королевства Польского Краков. Польская гравюра ХVI в.
Польский король Сигизмунд II Август. Гравюра ХVI в.
Польский король Стефан Баторий. Гравюра ХVI в.
Варшава. Польская раскрашенная гравюра ХVI—ХVII вв.
Царь Иван Васильевич Грозный. Портрет из «Титулярника». Вторая половина ХVII в.
Воины Великого княжества Литовского. Гравюра ХVI в.
Конный воин Великого княжества Литовского. Гравюра ХVI в.
Столица Великого княжества Литовского Вильно. Гравюра ХVI в.
«Летучий листок» – европейская листовка 1580 года о взятии армией Речи Посполитой Великих Лук
Рукопись Первого послания Андрея Курбского Ивану Грозному по списку Государственного исторического музея, собр. Уварова, № 301
Рукопись Второго послания Андрея Курбского Ивану Грозному по списку Государственного исторического музея, собр. Уварова, № 301
Рукопись Третьего послания Андрея Курбского Ивану Грозному по списку Государственного исторического музея, собр. Уварова, № 301
Князь Андрей Курбский. Рисунок С. Эйзенштейна
Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Андрей Курбский (Михаил Названов) и Иван Грозный (Николай Черкасов)
Примечания
1
Подробнее об истории хождения рукописного наследия Курбского в XVII – XIX вв. см.: Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского: Исследование книжной культуры. М., 2008 (в печати). Выражаю благодарность К. Ю. Ерусалимскому за возможность познакомиться с его исследованием в рукописи.
(обратно)2
[Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. СПб., 1833.
(обратно)3
Назовем только наиболее важные издания: Сочинения князя Курбского. Т. 1: Сочинения оригинальные / Подг. текстов Г. 3. Кунцевича // Русская историческая библиотека. СПб., 1914. Т. 31; Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева, Я. С. Лурье; пер. и коммент. Я. С.Лурье. М.; Л., 1951; Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подг. Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. М., 1993 (далее – ПИГАК); Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век: Сочинения царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. СПб., 2001; Курбский А. М. История о великом князе Московском / Предисл., вступ. ст., пер. Н. М. Золотухиной; коммент. Р. К. Гайнутдинова, Н. М. Золотухиной. М., 2001; Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского: Исследование книжной культуры; Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Fьrsten Kurbskij / Engl. von Karl Stahlin. Leipzig, 1921 [Quellen und Aufsдtze zur russischen Geschichte. H. 3]; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia. 1564 – 1579 / Ed. by J. Fennell. Cambridge, 1955; Listy Ivana Hrozneho / Prelozili H. Skalovб a B. Jlek. Praha, 1957; Ivan den Skraekkelige: Brevveksling med Fyrst Kurbskij. 1564 – 1579 / Ov. Af B. N0rretranders. Munksgaard, 1959; Ivan de Terrible: Epitres aves le Prince Kourbski / Trad. D. Olivier. Paris, 1959; Prince A. M. Kurbsky’s History of Ivan IV / Ed. by J. Fennell. Cambridge, 1965; Lettere e testamento di Ivan il Terribile / A cura di D. S. Lichacev e I. S. Lur’e. Milano, 1972; Kurbskij A. M. Novyj Margarit: Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfembьtteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Giessen, 1976 – 1990. Bd. 1 – 4. Lfg. 1 – 17 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen); etc.
(обратно)4
Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007. С. 157.
(обратно)5
Шмидт С. О. Сочинения Курбского в культурном обиходе российской аристократии пушкинской эпохи // История и письменная культура Древней и Новой России. Сборник статей в честь Ю. Д. Рыкова. М., 2008 (в печати).
(обратно)6
Перевод текста С. Окольского, выполненный Л. И. Щеголевой, опубликован в приложении к монографии В. В. Калугина: Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 344 – 345.
(обратно)7
О Сборниках Курбского см. исследование: Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского: Исследование книжной культуры. М., 2008.
(обратно)8
Там же.
(обратно)9
О Сборниках Курбского см. исследование: Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского: Исследование книжной культуры. М., 2008.
(обратно)10
Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен. СПб., 1789. Т. 5. Ч. 2. С. 12. Прим. 12; С. 87. Прим. 64; С. 93. Прим. 67.
(обратно)11
Цит. по: Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского...; подробнее о B. Ф. Тимковском см.: Ерусалимский К. Ю. Книга Василия Тимковского о князе Курбском // Источниковедение и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию служения С. О. Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 380 – 383; он же. «Ужасный перелом служебному пути»: В. Ф. Тимковский и движение декабристов // Археографический ежегодник за 2001 год. М., 2002. С. 140 – 158.
(обратно)12
Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб., 1843. Кн. 3. Примечания к IX тому. Стб. 8. Прим. 19
(обратно)13
Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С. 154 – 155.
(обратно)14
Пушкин А. С. Борис Годунов // Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 390, 401 – 402.
(обратно)15
Шмидт С. О. Сочинения Курбского в культурном обиходе российской аристократии пушкинской эпохи...
(обратно)16
Федоров Б. М. Князь Курбский: Исторический роман времен Иоанна Грозного: В 4 ч. 2-е изд. СПб., 1883. С. 5, 7, 17, 20, 24 – 30, 64, 72, 87, 153, 156, 180 – 182, 198, 203, 220 – 221, 243, 276, 283 – 284, 303, 363, 378 – 379, 414, 420.
(обратно)17
Соловьев С. М. Учебная книга русской истории. М., 1860. С. 164 – 165; Платонов С. Ф. Учебник русской истории для средней школы: Курс систематический. Пг., 1918. С. 161 – 162; Иловайский Д. Краткие очерки русской истории, приспособленные к курсу средних учебных заведений. М., 1861. С. ПО.
(обратно)18
Чухонцев О. Повествование о Курбском // Чухонцев О. Стихотворения. М., 1989. С. 80.
(обратно)19
Подробнее об образе Курбского в Рунете см.: Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский... С. 157 – 159.
(обратно)20
Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. М., 1889. С. 94.
(обратно)21
Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского...
(обратно)22
Херасков М. М. Избранные произведения. М.; Л., 1961. С. 224.
(обратно)23
Ян Замойский (1542—1605) – великий коронный канцлер короля Стефана Батория (с 1578 года), современник Курбского, один из командующих польско-литовскими войсками при осаде Пскова в 1581 году.
(обратно)24
Розен Г. Ф. Князья Курбские: Трагедия в пяти действиях. СПб., 1857. С. 25, 29, 50 – 52, 69, 71 – 73, 77, 82, 127, 156 – 176.
(обратно)25
Ишимова А. И. История России в рассказах для детей. СПб., 1841. Ч. I. С. 297.
(обратно)26
Толстой А. К. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. C. 118 – 121.
(обратно)27
Шмидт С. О. Сочинения Курбского в культурном обиходе российской аристократии пушкинской эпохи...
(обратно)28
Горский С. Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курбского. Казань, 1858. С. 22, 30, 74, 76, 111, 179 – 180, 414 – 415.
(обратно)29
Богданович М. И. Князь Курбский: Драма. СПб., 1882. С. 15, 29 – 30, 34, 37, 38, 42 – 43, 53, 58, 67 – 68, 76 – 77.
(обратно)30
Брик О. М. Иван Грозный: Историческая трагедия. Молотов, 1942. С. 9 – 11, 13, 33, 47 – 50, 68 – 70.
(обратно)31
Подробнее см.: Perrie M. The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. N.Y., 2001.
(обратно)32
Эйзенштейн С. M. Иван Грозный: Киносценарий. М., 1944. С. 5 – 6, 27 – 28, 38, 45, 53, 69 – 70, 72 – 73, 89, 93, 132 – 134, 142 – 144, 153.
(обратно)33
Костылев В. И. Иван Грозный: Трилогия. Т. I: Москва в походе // он же. Избранные сочинения. Горький, 1952. Т. 4. С. 57; он же. Иван Грозный: Трилогия. Т. II: Море // Там же. Т. 5. С. 32, 36 – 37, 49 – 50, 56 – 57, 76 – 78, 227 – 228, 231 – 232, 241, 258, 447; он же. Иван Грозный: Трилогия. Т. III: Невская твердыня // Там же. Т. 6. С. 86, 89, 91 – 92, 235 – 238.
(обратно)34
В помощь изучающим историю СССР / Под ред. А. В. Шестакова. М., 1941. С. 198
(обратно)35
Бартошевич Ю. Князь Курбский на Волыни // Исторический вестник. СПб., 1881. Т. 6. С. 65 – 85; Горский С. Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курбского. Казань, 1858; Иванишев Н. Д. Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни (далее – ЖКАМК). Киев, 1849. Т. 1, 2; Калайдович К. Записка о выезде в Россию правнуков князя Андрея Михайловича Курбского // Северный архив. Журнал истории, статистики и путешествий, издаваемый Ф. Булгариным. 1824. Ч. 12. № 19. С. 1 – 6; Опоков 3. 3. Князь A. М. Курбский. Киев, 1872; Пиотровский М. П. Князь А. М. Курбский. Историко-библиографические заметки по поводу последнего издания его «Сказаний» // Ученые записки императорского Казанского университета. 1873. № VI. С. 1 – 52; [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского / 3-е изд. СПб., 1868. С. VII – XXXIII; Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. М., 1889. С. 19 – 76; etc.
(обратно)36
Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij: Leben in osteuropдischen Adelsgesellschaften des 16. Jarhunderts. Mьnchen, 1985.
(обратно)37
См. анализ историографии о биографии Курбского в указанной книге И. Ауэрбах, а также: Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский... С. 5 – 122.
(обратно)38
Библиографический обзор трудов о сочинениях Курбского см.: Гладкий А. И., Цеханович А. А. Курбский Андрей Михайлович // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2 (Вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1. С. 501 – 503; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный...; Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей Курбский. М., 2000; Филюшкин А. Ж Андрей Михайлович Курбский... С. 7 – 8; 163 – 578; Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского...
(обратно)39
Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII в. (Очерки истории) / Отв. ред. А. П. Павлов. СПб., 2006. С. 99.
(обратно)40
Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV – XV веках: Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960. С. 828 – 830; Назаров В. Д. Ликвидация самостоятельности Ярославского княжества и первые годы правления Ивана III // Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма. Чтения памяти В. Б. Кобрина. М., 1992. С.131 – 134; Алексеев Ю. Г. Под знаменами Москвы. М., 1992. С. 59 – 65; Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991. С. 188 – 189; Шульгин В. С. Ярославское княжество в системе Русского централизованного государства в конце XV – первой половине XVI в. // Научные доклады высшей школы: Исторические науки. 1958. № 4. С. 3 – 15; Кучкин B. А. К вопросу о статусе ярославских князей после присоединения Ярославля к Москве // Феодализм в России: Сборник статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина. М., 1987. С. 220.
(обратно)41
Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). СПб., 1910. Т. 23. С. 157 – 158.
(обратно)42
Зимин А. А. Состав Боярской думы в XV – XVI веках // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 50 – 51. Прим. 115; С. 58. Прим. 207; Он же. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 83 – 98.
(обратно)43
Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина, А. В. Назаренко; вступ. ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. С. 154.
(обратно)44
Пушкарева Н. Л. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому воспитанию в X – XV веках) // Этнографическое обозрение. 1996. № 6. С. 99.
(обратно)45
Домострой / Под ред. В. В. Колесова. М., 1990. С. 135 – 136.
(обратно)46
Там же.
(обратно)47
Там же. С. 116.
(обратно)48
Там же. С. 119, 139, 143.
(обратно)49
Герберштейн С. Указ. соч. С. 117 – 118.
(обратно)50
Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 351.
(обратно)51
Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. М., 1915. Приложение. С. 90 – 99; Клосс Б. М. Избранные труды. М., 2001. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV – XVI вв. С. 258 – 259, 272 – 273, 279 – 284.
(обратно)52
Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии: (Россия XVI – XVII веков глазами дипломатов) / Отв. ред. Н. М. Рогожин; сост. Г.И.Герасимова. М., 1991. С. 77.
(обратно)53
Назаров В. Д. О структуре «государева двора» в середине XVI в. // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 53; ПСРЛ. М., 1965. Т. 13. С. 154.
(обратно)54
Здесь и далее тексты писем Андрея Курбского цитируются по авторскому переводу, целиком помещенному в приложении к книге.
(обратно)55
ПСРЛ. М., 1965. Т. 29. С. 46; Разрядная книга 1475 – 1598 гг. М., 1966 (далее – РК – 1). С. 109; Разрядная книга 1475 – 1605 гг. М., 1977. Т. 1. Ч. 2. (далее – РК – 2). С. 316 – 317.
(обратно)56
ПСРЛ. Т. 13. С. 149 – 150; Т. 29. С. 47 – 49; РК – 1. С. ПО; РК – 2. С. 330.
(обратно)57
ПСРЛ. Т. 13. С. 155 – 156; Т. 29. С. 55; РК – 1. С. 112 – 115; РК – 2. С. 342 – 350.
(обратно)58
ПСРЛ. Т. 13. С. 158 – 160; Т. 29. С. 58 – 59; РК – 1. С. 120 – 123; РК – 2. С. 362 – 367, 369 – 381.
(обратно)59
Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI века / Подг. к печати А. А. Зимин. М.; Л., 1950. С. 55; РК – 1. С. 132; РК – 2. С. 402.
(обратно)60
Курбский А. М. История о великом князе Московском // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11 (далее – БЛДР. Т. 11). С. 322.
(обратно)61
Первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому // Там же. С. 63.
(обратно)62
Об идеологическом значении «Казанского взятия» см.: Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995. С. 177 – 202, 264; Keenan Е. L. Muscovy and Kazan: Some introductory remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy // Slavic Review. 1967. Vol. 26. P. 548 – 558; Pelensky J. Muscovite imperial Claims to the Kazan khanate // Ibid. P. 559 – 576; Pritsak O. Moscow, the Golden Horde and the Kazan khanate from a Polycultural point of View // Ibid. P. 577 – 583; Shevchenko I. Moscow’s Conquest of Kazan: two views reconciled // Ibid. P. 541 – 547; Pelensky J. Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438 – 1560s). Mouton, 1974. P. 65 – 138; Kampfer F. Die Eroberung von Kazan 1552 als Gegenstand der zeitgenossischen rusischen Historiographie // Forschungen zur osteuropдischen Geschichte. 1969. Bd 14. S. 7 – 161.
(обратно)63
Курбский Д. M. История... С. 324.
(обратно)64
ПСРЛ. Т. 13. С. 206.
(обратно)65
Курбский А. М. История... С. 331.
(обратно)66
Там же. С. 335.
(обратно)67
Там же. С. 337 – 339.
(обратно)68
Там же. С. 345.
(обратно)69
Там же. С. 337.
(обратно)70
Там же. С. 349.
(обратно)71
ПСРЛ. Т. 13. С. 84, 113 и след.
(обратно)72
Там же. С. 231 – 232.
(обратно)73
Курбский А. М. История... С. 354, 358 – 360.
(обратно)74
Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 73.
(обратно)75
Королевство Польское и Великое княжество Литовское, Жемайтское и Русское возникли как суверенные государства, имели свои правящие органы («рада панов» в Великом княжестве Литовском и «коронная рада» в Польше, свои съезды знати – сеймы, свои законы, вооруженные силы, денежную систему и т. д. Однако с 1385 года, с Кревской унии, и до 1569 года, Люблинской унии (окончательного слияния в единое государство – Речь Посполитую), эти страны состояли в династическом союзе – у них был единый король (из династии Ягеллонов), и, соответственно, многие вопросы внешней и внутренней политики решались одинаково. Правда, при этом стороны строго соблюдали своеобразный раздел «сфер ответственности»: например, в Кракове занимались организацией дипломатических отношений с Европой, а в Вильно – посольскими контактами с Россией. Войны с Россией вела исключительно армия Великого княжества Литовского, а польские войска могли использоваться только при обороне коронных земель, и лишь отдельные отряды изредка попадали на русско-литовский фронт. Ливонская политика была двойственной: с одной стороны, первенствующие роли в ней играли представители магнатских родов Великого княжества Литовского – Ходкевичей и Радзивиллов. С другой – здесь большую роль играла Пруссия, а с прусским двором как раз были более устойчивые связи у Кракова и королевской власти.
(обратно)76
Курбский А. М. История... С. 369.
(обратно)77
Там же. С. 371, 373, 375.
(обратно)78
Там же. С. 387.
(обратно)79
Там же. С. 386 – 388; ПСРЛ. Т. 13. С. 327; РК – 1. С. 179, 190; Разрядная книга 1475 – 1605 гг. М., 1981. Т. 2. Ч. 1. С. 49, 78, 80, 83, 90.
(обратно)80
Курбский А. М. История... С. 397.
(обратно)81
Цит. по: [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. XII – XIII.
(обратно)82
ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 314; Первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому. С. 63.
(обратно)83
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 90.
(обратно)84
Там же. С. 25 – 28; 77 – 78; Шмидт С. О. Новое о Тучковых: (Тучков, Максим Грек, Курбский) // Исследования по социально-политической истории России. Л., 1971. С. 129 – 141.
(обратно)85
Подробнее см.: Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 82 – 105.
(обратно)86
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 380.
(обратно)87
Первое послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 495.
(обратно)88
Второе послание Вассиану Муромцеву // Там же. С. 505 – 515.
(обратно)89
Третье послание Вассиану Муромцеву // Там же. С. 517.
(обратно)90
Цит. по: [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 339 – 340. Прим. 213.
(обратно)91
Акт Литовской метрики о бегстве князя А. М. Курбского // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1914. Ч. 19. Кн. 2. С. 284; Скрынников Р. Г. Бегство Курбского // Прометей. М., 1977. Вып. 11. С. 294 – 300; он же. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. С. 60.
(обратно)92
Пиотровский М. П. Князь А. М. Курбский... С. 21. См. также: Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1843. Т. IX. Стб. 33 – 34; Соловьев С. М. Сочинения. М., 1988. Кн. 3. Т. 6. С. 525; Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1988. Т. 2. С. 154; [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. XV; Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбский. С. 2; Зимин А. А. Побег князя Андрея Курбского в Литву // Русский родословец. 2002. № 1 (2). С. 44 – 48; Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. Copenhagen, 1964. P. 142; Рыков Ю.Д. «История о великом князе Московском» А. М. Курбского и опричнина Ивана Грозного // Исторические записки. М., 1974. Т. 93. С. 328 – 350; Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг. текста Я.С.Лурье, Ю.Д.Рыкова. М., 1993. С. 246; Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 61 – 62; Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 123; Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 102; Xoрошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 401 – 402.
(обратно)93
ЖКАМК. Т. I. С. III. См. также: Горский С. Жизнь и историческое значение... С. 123, 148, 218; Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. С. 66; Бахрушин С. В. Иван Грозный // Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. Т. 2. С. 297; Скрынников Р. Г. Переписка Грозного и Курбского. С. 59 – 60; он же. Бегство Курбского. С. 294 – 300; он же. Царство террора. СПб., 1992. С. 183.
(обратно)94
Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 98 – 99.
(обратно)95
Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 402.
(обратно)96
Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 156.
(обратно)97
Судебное решение о праве наследников князя Курбского на Ковельское имение и решение суда о возвращении этого имения в казну, 5 мая 1590 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 194. № III; Завещание князя Андрея Михайловича Курбского Ярославского, 24 апреля 1583 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 232. № LXIII.
(обратно)98
Каппелер А. Латинские поэмы о победах литовцев над московскими войсками в 1562 и 1564 гг. и о побеге Курбского // Ad Fontem = У источника: Сб. ст. в честь Сергея Михайловича Каштанова. М., 2005. С. 323 – 324.
(обратно)99
Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949. С. 246 – 247.
(обратно)100
Цит. по: Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. М.; Л., 1926. С. 205.
(обратно)101
Auerbach I. Ivan Grosnyj, Spione und Verrдter im Moskauer Russland und das Grossfьrstentum Litauen // Russian History = Russe Historie. Irvine, 1987. Vol. 14. S. 25 – 27.
(обратно)102
Norretranders B. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. P. 67 – 68.
(обратно)103
Скрынников P. Г. Переписка Грозного и Курбского. С. 59.
(обратно)104
Флоря Б. Н. Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3. С. 144 – 145.
(обратно)105
Грамота Ивана IV Сигизмунду от 21 ноября 1565 г. // Сборник РИО. СПб., 1892. Т. 71. С. 321.
(обратно)106
Предисловие к «Новому Маргариту» // ЖКАМК. Т. П. С. 303, 306.
(обратно)107
Цит. по: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 200.
(обратно)108
Королевский лист о том, что князь Курбский отправляется на войну против царя Московского и что все начатые против него судебные дела должны быть приостановлены, 29 июня 1579 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 179 – 181. № ХГГХ.
(обратно)109
Подробнее см.: Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский... С. 77 – 81; он же. Князь А. М. Курбский и Ливонская война // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 2: История. Вып. 3. С. 21 – 31.
(обратно)110
Указ Сигизмунда Августа державце Кревскому князю Андрею Михайловичу Курбскому, 20 августа 1566 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 396 – 397. № 3; Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 107 – 116.
(обратно)111
Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 138 – 139, 162, 168, 177 – 178, 186, 188 – 189.
(обратно)112
Скрынников P. Г. Царство террора. С. 368; Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 120.
(обратно)113
Лурье Я. С. Донесение агента императора Максимилиана II аббата Цира о переговорах с А. М. Курбским в 1569 г. // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958. С. 456 – 457.
(обратно)114
Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978. С. 45.
(обратно)115
Статейный список посольства О. М. Пушкина, сентябрь 1581 г. // Российский государственный архив древних актов. Ф. 79. Оп. 1. Д. 13. Л. 160 об.
(обратно)116
Auerbach I. Gedanker zur Entstenhung von A. M.Kurbskijs «Istorija о velikom knjaze Moskovskom» // Canadian-American Slavic Studies. Arisona State University, 1979. Vol. 13. Nr 1 – 2. S. 166 – 171; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 38 – 44. Наиболее основательно, с указанием времени написания отдельных частей и указанием их источников, гипотезу о поэтапном написании «Истории о великом князе Московском» в 1570-х – до 1582 г. обосновал К. Ю. Ерусалимский: Ерусалимский К. Ю. Как была сделана «История» А. М. Курбского: Проблемы хронологии текста // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2004. Вып. 11. С. 591 – 618.
(обратно)117
Ответ о правой вере // БЛДР. Т. 11. С. 485 – 495.
(обратно)118
Цит. по: Андреев В. Очерк деятельности князя А. М. Курбского на защиту православия в Литве и на Волыни. М., 1873. С. 6, 20.
(обратно)119
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 32.
(обратно)120
Послание Марку Сарыхозину // БЛДР. Т. 11. С. 521.
(обратно)121
Цит. по: Грушевский А. Из полемической литературы конца XVI в. после введения унии // Известия Отделения русского языка и словесности АН. 1918. Т. 22. Кн. 2. С. 302.
(обратно)122
О теории литературного перевода, приверженцем которой был Курбский, см.: Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 112 – 119; Eismann W. О silogizme vytolkovano: Eine Ubersetzung des Fьrsten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann Spangenbergs. Wiesbaden, 1972. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris: Fontes et Dissertationes. Bd 9.); Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Ubersetzung des Fьrsten Andrej M. Kurbskij (1528 – 1583) / Hrsg. von J. Besters-Dilger unter Mitarbeit von E. Weiher, F. Keller und H. Miklas. Freiburg, 1995. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris: Fontes et Dissertationes. Bd 35); Auerbach I. Identity in Exile: Andrei Mikhailovich Kurbskii and National Consciousness in the Sixteenth Century // Culture and Identity in Muscovy, 1359 – 1584 / Ed. by A. M. Kleimola, G. D. Lenhoff. Moscow, 1997. (UCLA Slavic Studies. Vol. III.) P. 11 – 25. – Высказывалась точка зрения о низком качестве переводов Курбского, представляющих из себя в ряде случаев грубый подстрочник. См.: Балухатый С. Д. Переводы кн. Курбского и Цицерон // Гермес. Пг., 1916. №5 – 6. С. 109 – 122.
(обратно)123
Наиболее полное исследование данного памятника см.: Kurbskij А. М. Novyj Margarit: Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfembьtteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Giessen, 1976 – 1990. Bd. 1 – 4. Lfg. 1 – 17 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen).
(обратно)124
Симеон Метафраст (Симеон Магистр, или Симеон Логофет) – византийский политический деятель, книжник и богослов X века. Составил собрание житий святых, при этом пересказал и переложил многие из них, отсюда его наименование «Метафраст» (от греческого иетафра^еьу – пересказывать, перелагать). Причтен греческой церковью к лику святых.
(обратно)125
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 45 – 57; описание состава свода см.: С. 299 – 312. См. также публикацию текстов: Святой Георгий Победоносец в агиографическом своде Андрея Курбского / Сост., предисл. В. В. Калугина; подг. текстов и коммент. В. В. Калугина, О. А. Тимофеевой. М., 2004. Критику атрибуции некоторых переводов и их связи с Курбским см.: Ерусалимский К. Ю. Андрей Курбский и Иван Грозный: Борьба филологий (по поводу двух работ В. В. Калугина) // Russia Mediaevalis. Т. X. 1. S. 305, 308 – 310.
(обратно)126
Беляева Н. П. Материалы к указателю переводных трудов А. М. Курбского // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. С. 115 – 136; Цеханович А. А. К переводческой деятельности князя А. М. Курбского // Там же. С. 110; Калугин В. В. Рукопись из скриптория князя Андрея Курбского // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 108 – 163.
(обратно)127
Первое послание Кузьме Мамоничу // БЛДР. Т. 11. С. 522 – 527.
(обратно)128
Второе послание Кузьме Мамоничу // БЛДР. Т. 11. С. 529.
(обратно)129
Первое послание князю Константину Острожскому // БЛДР. Т. 11. С. 540 – 542.
(обратно)130
Послание Кодиану Чапличу // БЛДР. Т. 11. С. 534 – 536.
(обратно)131
«Цыдула Андрея Курбского до пана Древинского писана» // Русская историческая библиотека. Пг., 1914. Т. 31. Стб. 457 – 460.
(обратно)132
Третье послание князю Константину Острожскому // БЛДР. Т. 11. С. 546 – 550.
(обратно)133
Цит. по: Грушевский А. Из полемической литературы конца XVI в. после введения унии. С. 302.
(обратно)134
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 145; Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 325.
(обратно)135
Грехем X. Ф. Вновь о переписке Грозного и Курбского // Вопросы истории. 1984. № 5. С. 174 – 178.
(обратно)136
Лурье Я. С, Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 298; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 64 – 71.
(обратно)137
Наилучший обзор списков и редакции «Истории...», а также посвященной ей литературы см.: Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского...
(обратно)138
Keenan Е. L. The Kurbskii – Groznyi Apocrypha: The seventeenth century Genesis of the Correspondense, attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV. Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1971.
(обратно)139
Rossing N., Ronne B. Apocriphal – nor Apocriphal? A Critical Analysis of the Discussion Concerning the Correspondence Between Tsar Ivan IV Groznyj and Prince Andrej Kurbskij. Copenhagen, 1980; Скрынников P. Г. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. Перечень рецензий и откликов на работы Э. Кинана см.: Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский... С. 165 – 166.
(обратно)140
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг. текста Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыкова. Л., 1979.
(обратно)141
Морозов Б. А. Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца XVI – начала XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 г. М., 1987. С. 277 – 288.
(обратно)142
Флоря Б. Н. Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3. С. 143 – 145.
(обратно)143
Kleimola А. М. Kto kogo: Patterns of Duma Recruitment. 1547 – 1564 // Forschungen zur osteuropдischen Geschichte. Berlin, 1986. Bd. 38. S. 205 – 220; Филюшкин А. И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная Рада». М., 1998. С. 143 – 212.
(обратно)144
Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной церкви. Одесса, 1894. Т. 1. С. 103 – 104, 114, 145 – 155, 161 – 169, 175 – 180; Левина Е. Секс и общество в мире православных славян. 900 – 1700 гг. // «А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России. М., 1999. С. 41 – 89, 271 – 272, 320, 341.
(обратно)145
Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934. С. 17; Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., 1925. С. 96.
(обратно)146
См.: Левина Е. Секс и общество в мире православных славян. С. 335 – 338, 342.
(обратно)147
Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 1974. С. 72 – 73.
(обратно)148
Первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому // ПИГАК. С. 38, 46; Второе послание Ивана Грозного Андрею Курбскому // Там же. С. 104.
(обратно)149
См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 210; Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 194 – 206.
(обратно)150
ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 190.
(обратно)151
Скрынников Р. Г. Переписка... С. 54.
(обратно)152
Сергеев В. М. Структура текста и анализ аргументации первого послания Курбского // Методы изучения источников по истории русской общественной мысли периода феодализма. М., 1989. С. 126.
(обратно)153
ПИГАК. С. 380. Прим. 17.
(обратно)154
Курбский А. М. История... С. 310 – 312.
(обратно)155
Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998. С. 7 – 76; Никитин А. Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III // Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? С. 77 – 118.
(обратно)156
Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы: История, судьба, тайна. М., 2003. С. 66 – 67.
(обратно)157
Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. М., 1988. Т. 2. С. 159.
(обратно)158
Сергий (Соколов). Московский благовещенский священник Сильвестр как государственный деятель // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1893. Кн. 1. Отд. IV. С. 3.
(обратно)159
Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 66, 72.
(обратно)160
Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (история одного мифа). Лондон, 1987.
(обратно)161
Подробнее биографию Сильвестра см.: Курукин И. В. Новые сведения монастырских архивов о Сильвестре // Вопросы источниковедения и историографии истории досоветского периода. М., 1979. С. 63 – 73; он же. К изучению источников о начале Ливонской войны и деятельности правительства А. Ф. Адашева и Сильвестра // Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М., 1981. С. 29 – 48; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958. С. 41 – 70; Смирнов И. И. Очерки политической истории русского государства 30 – 50-х годов XVI века. М.; Л., 1958. С. 231 – 257; Буланин Д. М., Колесов В. В. Сильвестр // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Ч. 2: Вторая половина XIV – XVI в. С. 323 – 333; Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 309 – 329; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 58 – 62; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30 – 80-е годы XVI века. СПб., 2002. С. 60 – 66, 151.
(обратно)162
Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 135.
(обратно)163
Подробнее о биографии А. Ф. Адашева см.: Лихачев Н. П. «Государев родословец» и род Адашевых. СПб., 1897; Шмидт С. О. Правительственная деятельность А. Ф. Адашева // Ученые записки МГУ. М., 1954. Вып. 167. С. 25 – 53; Смирнов И. И. Очерки политической истории... С. 212 – 231; Корецкий В. И. О земельных владениях Адашевых в XVI в. // Исторический архив. 1962. № 6. С. 119 – 132; Grobovsky А. N. The «Chosen Council» of Ivan IV: a Reinterpretation. N.Y., 1969; Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 281 – 308.
(обратно)164
ПСРЛ. Т. 13. С. 523 – 526; Смирнов И. И. Очерки политической истории... С. 264 – 286; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 412 – 416; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 110 – 115; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68 – 72; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений... С. 123 – 130.
(обратно)165
ПСРЛ. Т. 13. С. 237 – 238.
(обратно)166
Подробнее см.: Альшиц Д. Н. Крестоцеловальные записи Владимира Андреевича Старицкого и недошедшее завещание Ивана Грозного // История СССР. 1959. № 3. С. 147 – 155.
(обратно)167
Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского // ПИГАК. С. 203; Freydank D. А. М. Kurbskij und die Epistolographie seiner Zeit // Zeitschrift fьr Slawistik. 1976. Bd 21. Lfg. 3. S. 319 – 333; idem. Zwischen griechischer und lateinischer Tradition: A. M. Kurbskijs Rezeption der humanistischen Bildung // Zeitschrift fur Slawistik. 1988. Bd 33. Lfg. 6. S. 806 – 815; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 218 – 225.
(обратно)168
Калугин В. В. Князь Андрей Курбский – ритор // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1995. Сб. 8. С. 143.
(обратно)169
Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского... С. 204.
(обратно)170
Ерусалимский К. Ю. Как была сделана «История» А. М. Курбского... С. 594 – 595, 609 – 610.
(обратно)171
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578 – 1582). СПб., 1889. С. 28.
(обратно)172
Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 345.
(обратно)173
Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы... С. 149, 216.
(обратно)174
Герасимов М. М. Документальный портрет Ивана Грозного // Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР. 1965. Вып. 10. С. 139 – 142; Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы... С. 67 – 68.
(обратно)175
Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 328 – 329.
(обратно)176
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 36 – 37, 42, 177 – 178.
(обратно)177
Курбский А. М. История... С. 417.
(обратно)178
Там же. С. 421.
(обратно)179
Там же. С. 479.
(обратно)180
Полемику о реальности «Избранной рады» см.: Смирнов И. И. Очерки политической истории... С. 139 – 212; Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр...; Grobovsky A. The «Chosen Council» of Ivan IV...; Филюшкин А. И. История одной мистификации...; Солодкин Я. Г. «Избранная рада» Ивана Грозного: Легенда или реальность // Новое в исторической науке: В помощь преподавателю истории: Сб. науч.-метод. тр. Нижневартовск, 1997. Вып. 1. С. 44 – 61; Кром М. М. [Рец. на кн.] Филюшкин А. И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная рада». М., 1998 // Отечественная история. 1999. № 4. С. 175 – 177; Bogatyrev S. The Sovereign and His Counsellors. Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350s – 1570s. Helsinki, 2000. P. 139, 160, 258 – 259; Володихин Д. M. Продолжение спора об «Избранной раде» // Русское средневековье. 1999. Духовный мир. М., 1999. С. 130 – 132; Halperin Ch. Cultural Categories, Councils and Consultation in Moscow // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. Nr. 4. P. 664 – 673; Правящая элита русского государства IX – начала XVIII в.: (Очерки истории) / Отв. ред. А. П. Павлов. СПб., 2006. С. 203 – 205.
(обратно)181
Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 104.
(обратно)182
Донесение возного о вводе княгини Курбской Александры Семагпковны во владение имениями, оставшимися по смерти князя Курбского, 24 мая 1583 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 245 – 247. № TXV.
(обратно)183
Жалоба князя Курбского о том, что Литовские и польские паны отнимают у него земли, 3 мая 1566 г. // Там же. Т. I. С. 1 – 2. № I.
(обратно)184
Грамота короля Сигизмунда Августа о неподсудности князя Курбского урядам гродским и земским // Там же. С. 6 – 9. № III.
(обратно)185
Жалованная королевская грамота князю Андрею Михайловичу Курбскому на волость Смедынскую, 23 ноября 1567 г. // Там же. С. 13 – 15. № V.
(обратно)186
Жалоба жидов Владимирских о том, что урядник князя Курбского Иван Келемет посадил жидов Ковельских в яму, наполненную водою, а их имущество опечатал. Следствие и донесение возного, 14 июля 1569 г. // Там же. Т. П. С. 1 – 6. № I; Донесение возного, что предъявлял Ивану Келемету королевское решение, данное по жалобе жидов Ковельских. Ответ Келемета, 15 августа 1569 г. // Там же. С. 7 – 10. № II; Донесение возного, что князь Курбский исполнил королевское решение, данное вследствие жалобы жидов Ковельских, 23 августа 1569 г. // Там же. С. 10 – 13. № III. Подробное рассмотрение конфликта см.: Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 133 – 134; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 236 – 237.
(обратно)187
Жалоба Ивана Келемета, урядника князя Курбского, о нападении на него мещан Владимирских, 10 октября 1571 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 32 – 34. № X.
(обратно)188
Дело об убиении слуги князя Курбского, москвитянина Ивана Ивановича Келемета, 3 мая 1572 г. // Там же. Т. П. С. 14 – 48. № П. 1; Запись мировой сделки князя Курбского с князем Булыгою по делу об убиении Ивана Келемета, 30 августа 1572 г. // Там же. С. 49 – 54. № П. 2.
(обратно)189
Жалоба князя Богуша Корецкого о том, что князь Курбский пытал и мучил слугу его Федора, 26 октября 1572 г. // Там же. Т. I. С. 46 – 47. № XIV.
(обратно)190
Жалоба князя Курбского на князя Вишневецкого о нападении на земли Ковельские, грабеже и разбое, 8 августа 1575 г. // Там же. Т. I. С. 54 – 57. № XVII.1; Донесение возного о грабежах и разбоях, причиненных людьми князя Курбского в имении князя Вишневецкого, 13 августа 1575 г. // Там же. С. 57 – 62. № XVII. 2; Донесение возного о разбое и грабеже, причиненном князем Вишневецким в имении князя Курбского, 13 августа 1575 г. // Там же. С. 63 – 65. № XVII. 3. Анализ конфликта с Вишневецким в 1575 г. см.: Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 177 – 178.
(обратно)191
Ерусалимский К. Ю. История одного развода: Курбский и Гольшанская // СОЩУМ: Альманах соцiальноi исторii. Киiв, 2003. Вип. 3. С. 171. Прим. 105.
(обратно)192
Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбский. С. 30.
(обратно)193
Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 152. Прим. 19. С. 175.
(обратно)194
Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 228.
(обратно)195
ЖКАМК. Т. I. С. XV.
(обратно)196
[Устрялов H. Г.] Сказания князя Курбского. С. XXVI.
(обратно)197
uerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 231 – 233.
(обратно)198
Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 155 – 157.
(обратно)199
Следствие возных о том, жива ли княгиня Курбская и не терпит ли какой нужды? 25 августа 1577 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 79 – 82. № XXI.
(обратно)200
Жалоба князя Курбского о нападении Андрея Монтолта на землю Скуминскую, грабеж и разбой. 23 сентября 1577 г. // Там же. С. 85 – 87. № XXIII.
(обратно)201
Допрос княгини Курбской о том, куда девала она документы, похищенные ею у князя Курбского, 10 января 1578 г. // Там же. С. 94. № XXV.
(обратно)202
Следствие возного о покраже вещей в кладовой князя Курбского по приказанию княгини Курбской, 9 июня 1578 г. // Там же. С. 95 – 97. № XXVI.
(обратно)203
Домашний суд князя Курбского над служанкою княгини Курбской Раинкою о покраже, 7 января 1579 г. // Там же. С. 102 – 106. № XXVIII. О суде см.: Auerbach /Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 187; Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 161 – 163.
(обратно)204
Дело о развратной жизни Анны Монтолтовны, 6 июня 1580 г. // Там же. С. 182 – 189. № LI.
(обратно)205
Пильность пана Монтовта, Варшава, 13 марта 1578 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 408. № 10; Оповедание Яна Монтовта на князя Курпского о матке, 3 июля 1578 г., г. Львов // Там же. С. 408 – 409. № 11. См. также: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3. С. 227; Шумаков С. Акты Литовской метрики о князе А. М. Курбском и его потомках // Книговедение. 1894. № 7 – 8. С. 18.
(обратно)206
Запись мировой сделки, данная княгинею Курбскою и сыном ее, Яном Монтолтом, князю Андрею Курбскому, 1 августа 1578 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 107 – 110. № XXIX; Объявление князя Курбского о том, что получил в залог от жены своей, княгини Марии Юрьевны, имение Дубровицу, 1 августа 1578 г. // Там же. С. 111 – 115. № XXX; Запись князя Курбского княгине Курбской Марии Юрьевне, урожденной Голшанской, на имение Шешоли, 1 августа 1578 г. // Там же. С. 116 – 117. № XXXI; Запись, которую князь Курбский обязался возвратить княгине Курбской, по уплате долга, заложенные ею церковные вещи, 2 августа 1578 г. // Там же. С. 118 – 120. № XXXII; Донесение возного о вещах, которые князь Курбский дал бывшей жене своей, отпуская ее от себя вследствие развода, 2 августа 1578 г. // Там же. С. 121 – 122. № XXXIII; Объявление князя Курбского, что он отказывается от 15 тысяч коп грошей, данных им в долг бывшей княгине Курбской, под залог имения Дубровицы, 2 августа 1578 г. // Там же. С. 123 – 124. № XXXIV. – Анализ хода августовского суда 1578 г., с разделением его на этапы, см.: Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 162 – 164.
(обратно)207
Запись бывшей княгини Курбской о том, что она во всем получила удовлетворение от князя Курбского и освобождает его от всех поданных ею исков, 30 декабря 1578 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 163 – 166. № XLIII; Объявление девки Райны, что прежние ее доносы на бывшую княгиню Курбскую и на князя Курбского ложны, 7 января 1579 г. // Там же. С. 166 – 167. № XLIV.
(обратно)208
Отрывок из отчета послов был опубликован в статье: Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 150. Перевод мой.
(обратно)209
В заголовке использован отрывок из речи Настасьи Вороновецкой в ответ на известие об убийстве ее мужа, Петра, слуги князя Курбского: «Але хотя бы и вся Москва, которая при князи Курпском есть, погинула, нехай злый много на свете не живет!»
(обратно)210
Королевский декрет, данный вследствие жалобы панцырного боярина, Кузьмы Порыдубского, на князя Курбского, 20 марта 1581 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 80 – 84. № IV. 1; Королевский лист, предписывающий князю Курбскому возвратить Кузьме Порыдубскому отнятое имение и вознаградить за убытки, 20 марта 1581 г. // Там же. С. 84 – 87. № IV. 2; Охранительная королевская грамота, данная Кузьме Порыдубскому в защиту от князя Курбского, 25 марта 1581 г. // Там же. С. 88 – 90. № IV. 3.
(обратно)211
Завещание князя Андрея Михайловича Курбского, Ярославского и Ковельского, 5 июня 1581 г. // Там же. Т. I. С. 191 – 200. № LIII.
(обратно)212
Ерусалимский К. Ю. Потомки А. М. Курбского // У источника = Ad Fontem: Сб. ст. к 70-летию С. М. Каштанова. М., 2005. С. 356 – 357.
(обратно)213
Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 165.
(обратно)214
Дело о прелюбодеянии княгини Курбской Марии Юрьевны, урожденной Голшанской, со слугою Жданом Мировичем // ЖКАМК. Т. I. С. 204 – 213. № LVL
(обратно)215
Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 167.
(обратно)216
Донесение возного, что Василий Красенский и жена его, пани Ганна, урожденная княжна Сокольская, отразили урядников и шляхту воеводства Волынского, 12 августа 1582 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 77 – 79. № III. 8.
(обратно)217
Отрывок жалобы, поданной Настасьею Вороновецкою на князя Курбского, о убиении ее мужа, Петра Вороновецкого, 21 октября 1582 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 126 – 127. № VI. 3; Второй отрывок жалобы, поданной Настасьею Вороновецкою, на князя Курбского, о содержании ее в заключении и об отнятии имущества, 21 октября 1582 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 128 – 130. № VI. 4; Третий отрывок жалобы, поданной Настасьей Вороновецкою на князя Курбского, о убиении Петра Вороновецкого и об отнятии имущества // Там же. С. 131 – 132. № VI. 5; Отрывок мировой записи, данной князю Курбскому Настасьею, бывшею Вороновецкою, и ея мужем Григорием Петровичем, о убиении Петра Вороновецкого // Там же. С. 139 – 141. № VI. 7.
(обратно)218
Суд над москвитянином Иосифом Пятым Торокановым, 14 марта 1583 г. // Там же. С. 166 – 173. № VIII. 5; Запись Иосифа Пятого Тороканова и его жены, данная князю Курбскому. Тороканов объявляет ложным свой донос о убиении Вороновецкого и во всем отдается на волю князя Курбского, 26 марта 1583 г. // Там же. С. 174 – 180. № VIII. 6.
(обратно)219
Завещание князя Андрея Михайловича Курбского Ярославского, 24 апреля 1583 г. // ЖКАМК. Т. I. С. 228 – 242. № LXIII.
(обратно)220
Судебное решение о праве наследников князя Курбского на Ковельское имение. Решение королевского суда о возвращении этого имения в казну, 5 мая 1590 г. // ЖКАМК. Т. П. С. 186 – 203. № IX. 3; Жалоба княгини Курбской Александры Семашковны о незаконном решении суда королевского, 30 мая 1590 г. // Там же. С. 211 – 213. № ГХ. 7.
(обратно)221
Донесение генерального возного о насильственном изгнании княгини Курбской Александры Семашковны из Ковля, 17 июня 1590 г. // Там же. С. 213 – 215. № IX. 8; Донесение дворянина королевского, Щасного Дремлика, об арестовании княгини Курбской Александры Семашковны, за опустошение замка Ковельского и похищение церковной казны, 2 июля 1590 г. // Там же. С. 226 – 228. № IX.1.
(обратно)222
Ерусалимский К. Ю. Потомки А. М. Курбского. С. 350 – 376.
(обратно)223
См., например, переводы О. В. Творогова: ПИГАК. С. 119—121, 163—164, 168—182; БЛДР. Т. 11. С. 14—19, 68—73, 78—101.
(обратно)
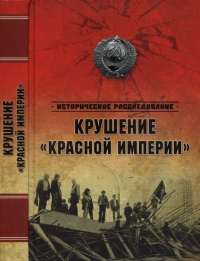


Комментарии к книге «Андрей Курбский», Александр Ильич Филюшкин
Всего 0 комментариев