Новгородская Русь по берестяным грамотам Лекция Андрея Зализняка
Мы публикуем полную стенограмму лекции одного из наиболее известных российских лингвистов, крупнейшего специалиста по древненовгородскому диалекту и изучению текстов берестяных грамот, действительного члена Российской Академии Наук Андрея Анатольевича Зализняка, прочитанной 23 ноября в клубе — литературном кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции «Полит. ру».
Научное творчество Андрея Зализняка можно условно разделить на две основные части: первая связана с созданием формального описания синхронной системы грамматических категорий, а вторая — с изучением памятников древненовгородской письменности, и в первую очередь — с изучением берестяных грамот: писем и записей на бересте (первая была найдена археологом Артемием Владимировичем Арциховским еще в 1951 году).
С 1982 года ученый ведёт систематическую работу по изучению языка берестяных грамот, как уже известных, так и вновь обнаруживаемых в ходе ежегодных раскопок, в которых участвует Андрей Анатольевич. Он является соавтором издания «Новгородские грамоты на бересте» — тома VIII (1986), IX (1993), X (2000), XI (2004). В этих томах опубликованы его работы, посвящённые выявлению специфических особенностей древненовгородского диалекта, его отличиям от наддиалектного древнерусского языка, орфографии и палеографии берестяных грамот, методике их датирования. Обобщающим трудом А. А. Зализняка в этой области стала книга «Древненовгородский диалект» (1995; 2-е изд. 2004), где представлен грамматический очерк древненовгородского диалекта и даны с лингвистическим комментарием (более подробным, чем в издании) тексты практически всех берестяных грамот. К этой группе трудов ученого примыкает изучение найденного в 2000 г. при раскопках в Новгороде Новгородского кодекса. Анализируя текст, автор выявляет сведения о первых годах христианства на Руси.
Ежегодно по итогам новгородской экспедиции Андреем Анатольевичем проводятся лекции с описанием и анализом найденных материалов. Эти лекции давно стали одним из наиболее значимых циклических мероприятий лингвистической и — шире — гуманитарной Москвы.
Текст лекции
Насколько я понимаю, мне предстоит в общих чертах рассказать вам, что это у нас за занятие — раскопки берестяных грамот и что мы из них извлекаем. Сейчас это не такая неизвестная тема, достаточно много об этом написано и в научных журналах, и в популярных, так что я не буду изображать это как нечто сенсационно новое. Сенсация была 50 лет назад, когда в 1951 г. нашли в Новгороде первую берестяную грамоту, первое письмо, написанное много столетий назад и сохранившееся на куске березовой коры, бересте.
Первая находка была почти случайной, потому что никто, по правде сказать, не ожидал, что когда-нибудь это будет найдено. Хотя глухие слухи о том, что в древности писали на бересте, кое-где в старых документах проскальзывали, никто не верил, что когда-нибудь удастся это увидеть и прочесть, потому что, конечно, считали, что написано, как все остальное, чернилами. Ну, а если документ, написанный чернилами, попадает в землю, лежит там несколько сот лет, то можно не сомневаться, что все чернила растворятся, и ничего не останется. Сюрприз состоял в том, что первая грамота оказалась написана не чернилами, она оказалась процарапана острым предметом. И, таким образом, если сама береста сохраняется, то столь же хорошо сохраняется и текст на ней — такая замечательная особенность прочерченного, а не написанного чернилами.
Потом археологами было найдено очень много инструментов, которыми эти буквы наносились. Это то, что в античной традиции называлось “стилос” и то, что в Древней Руси, как мы теперь знаем, называлось “писало”. Это такая палочка, как правило, металлическая или костяная, с одним острым концом и лопаточкой на другом конце. Форма — совершенно классическая, идущая из Греции и Рима, где она была придумана для того, чтобы писать по воску: острым концом писать, а лопаточкой на противоположном конце затирать воск, когда уже все прочитано и можно написать что-нибудь следующее. На бересте, конечно, ничего затирать невозможно, но, тем не менее, форма сохранялась традиционной именно эта.
Кстати, находили эти предметы гораздо раньше, чем берестяные грамоты, но никто не знал, что это такое. Одни археологи определяли их как гвозди, другие — как шпильки очень большого размера для волос, третьи — как просто неизвестные предметы — их можно было найти в музеях под такими названиями. Сейчас мы прекрасно знаем, что это инструменты для писания — писала. Их сейчас в разных местах найдено уже больше сотни. Иногда их даже находили не отдельно в земле, а в кожаном футлярчике, который крепился к поясу. Так что можно представить себе образ такого древнего новгородца, у которого с одной стороны на поясе был нож (который обязательно всегда был), а с другой — писало, две стороны его нормальной ежедневной деятельности.
Новгородская экспедиция — это такая редкостная археологическая экспедиция, которая носит постоянный характер. Она учреждена не на 2–3 года, а в замысле — навечно. На самом деле, все это началось в 30-х гг., сейчас прошло много десятилетий, и каждый год новгородская экспедиция за вычетом военных лет производит раскопки, и каждый год выявляется новое количество берестяных грамот, совершенно не равное в разные годы. Тут археологи находятся в положении людей удачи, авантюристов. Бывают редкостные годы, когда, увы, ни одной грамоты не находится, а однажды, не так давно, в 1998 г. экспедиция нашла за один год 92 (!) грамоты (это был абсолютный предел за все время), а в среднем за многие годы получается цифра порядка 18 грамот в год при нынешнем объеме работ. Конечно, это зависит от самых житейских обстоятельств: сколько удается выбить денег на эти занятия, сколько рабочих удается получить из числа студентов или школьников и т. д.
Вообще, Новгородская земля полна этими документами. По некоторым подсчетам, очень ориентировочно, там лежит 20–30 тыс. этих документов. Другое дело, что теми темпами, с которыми мы сейчас их находим, легко вычислить, что потребуется примерно 2 тыс. лет, чтобы их все найти. Так или иначе, последний номер, который был найден в этом году, — это № 959. Новгородские археологи мечтают дойти до 1000, но то ли один год для этого потребуется, то ли десять лет — мы заранее не знаем. Так или иначе, этот процесс происходит уже полвека и пополняет наш фонд документами, которые раньше никто не видел и не знал. Точнее, конечно, они попадались, просто никто не подозревал, что это не просто куски берестяной коры, которые никому, естественно, не нужны, а древние письма. С тех пор, как мы знаем, что такое бывает, их и стали находить. Больше того, теперь постепенно их начали находить и в других местах.
На территории Руси сейчас есть уже 11 городов, в которых есть берестяные грамоты. Масштабы, конечно, там совершенно не такие, как в Новгороде. В Новгороде — 959, а в других городах — совершенно другой порядок. Следующей за Новгородом идет Старая Руса, городок, который принадлежал Новгородскому государству, в 90 км от Новгорода, там сейчас 40 грамот. Одна грамота найдена даже в Москве, и не где-нибудь, а на Красной площади. Но, правда, никаких раскопок никогда на Красной площади не происходило, это были ремонтные работы, когда обеспечивали возможность пройти танкам. Там, к счастью, дали возможность наблюдать археологам, и одна грамота была извлечена оттуда, которая показывает, что эта письменность была распространена по всей Руси.
Сейчас примеры этой письменности есть и в Новгороде, и в Пскове, из маленьких городков Новгородской старой земли — в Старой Русе и в Торжке, кроме того, в Смоленске, в Твери и еще в нескольких городах. Так что совершенно ясно, что эта древняя система письма была очень распространенной. Это было письмо бытового свойства, не официальные документы, которые писались на пергамене, а записки домашнего характера, черновики того, что потом переписывалось на пергамен и становилось более официальным.
Такой парадокс истории. Какие-то роскошные книги, которые писали с исключительным старанием, драгоценными чернилами и пр., рассчитывались, конечно, на вечность. От них очень мало что осталось. Если сейчас осталось одно промилле от этих древнерусских книг, то это много. Все остальные погибли в пожарах, во время грабительских нападений, в разного рода катастрофах, и от них ничего не осталось. А малюсенькие записочки, которые писались, например, от мужа к жене: “Пришли рубашку, рубашку забыл” — или что-нибудь подобное, и которые, естественно, имели смысл ровно тот, что прочти сейчас, а больше это низачем не нужно, — они сейчас хранятся в музеях, мы их старательно изучаем. Свои 800-1000 лет они просуществовали и, надеюсь, будут существовать и дальше. В данном случае такой парадокс истории отчетливо проступает.
Что нам сейчас дает эта тысяча документов? Конечно, по объему это не очень много. Отдельная грамота — это, как правило, несколько строчек, только редкие грамоты содержат 10 строк, это уже считается очень большой текст. Чаще всего 2-3-4 строки. Плюс к этому, вовсе не все грамоты доходят до нас целиком, так, как они были написаны. Целиком до нас доходит примерно четверть, 3/4– это только куски, которые нам достаются. В некоторых исключительно удачных случаях потом какие-то куски сходятся друг с другом, и оказывается, что это части одного документа — но это особое счастье, оно бывает очень редко. Хотя у нас есть один случай, когда сошлись куски, найденные с разницей в семь лет, и один раз сошлись куски, найденные с разницей в 19 лет, так что такое бывает. Уже по одной этой причине нет такого крошечного кусочка с буквами, который не следовало бы полностью бережно хранить. Во-первых, потому что когда-нибудь, может быть, он составится с чем-то еще. Во-вторых, потому что даже фрагменты несут иногда очень любопытную информацию.
Сперва было даже не очень понятно, почему так много документов доходит в виде кусков — 3/4, а не просто целые тексты. В каких-то случаях это понятно, например, когда половина грамоты сгорела, половина осталась, грамота таким образом удачно лежала, что часть ее была в зоне пожара, а часть была уже в земле, — бывают такие случаи. Последняя грамота, № 959, сохранилась именно так. Бывают еще какие-то случаи, когда явно по механической причине часть грамоты пропала, была оторвана, отдавлена копытом лошади или еще что-то в этом духе.
Но постепенно мы поняли, что основная причина, почему до нас доходят обрывки, а не целые грамоты, — совсем другая и по-человечески в высшей степени понятная. Адресат, получив письмо, так же, как мы с вами, в большинстве случаев не хотел, чтобы оно, валяясь на земле, попало в руки соседа или кого угодно другого, который прочитает все, что вы получаете. Поэтому громадное большинство полученных берестяных писем, как мы сейчас понимаем, человек немедленно уничтожал. Если он был около очага — бросал в огонь, и было все в порядке. Если нет, то чаще всего резал или рвал, если рядом был нож, то брал нож и резал им, некоторые разрезаны ножницами. Кстати, старые ножницы очень хорошо работают, их неоднократно находили археологи. Шутка состоит в том, чтобы обрезать этими ножницами какому-нибудь недоверчивому посетителю кончик бороды.
Если режущих предметов не было, то человек рвал руками, и тогда уже нам достается такой обрывок. Вот основная причина, она в высшей степени понятна, по которой сейчас большую часть мы имеем фрагментами, а не целыми документами. Но, повторяю, иногда и фрагмент бывает нисколько не менее интересен и по содержанию, и по языку, чем целый документ. Например, одна из самых ценных и великих грамот под номером 247 — это фрагмент, оборванный и с начала и с конца, который, однако, совершил целую революцию в истории русского языка. Но это я забегаю вперед.
Я вам могу показать их примерный размер. <показывает> Вот это в подлинную величину одна из хороших грамот. Пускать по рядам я ее не буду, но примерно вы видите размер. Цвет достигнут нынешними техническими средствами, но примерно похож. Большинство грамот имеет такой вид. Бывают поменьше, бывают побольше. Примерно современная открытка.
Тексты, как я уже сказал, очень короткие. Причем сперва было даже не очень понятно, почему так коротко, иногда с лаконичностью, совершенно по-спартански, по-древнегречески. Были простые гипотезы, что писать писалом, выцарапывать по бересте — дело трудное, поэтому человек лишнего ничего не выцарапывал. Но это, конечно, наивные объяснения. Наши мастера очень быстро наловчились этими древними писалами делать такие “поддельные” документы, и у кого есть навык, уже писали легко. Конечно, это был вопрос не физического усилия, а традиции. Особая, очень устойчивая традиция писать специфическим, необычайно сжатым стилем без единого лишнего слова. Большая проблема для нас читать их, потому что в ряде случаев масса вещей писавшим тысячу лет назад была очевидна, а нам предстоит ее разгадывать, строить гипотезы по этому поводу, и очень много работать. Я вам почитаю потом некоторые тексты, чтобы вы составили представление о том, что там примерно может быть написано.
Событие, сюрприз и новшество, которые были извлечены из этих находок, двух сортов. Одна сторона — новшества в истории русского общества. Другая — в истории русского языка. Я сам лингвист, специалист по языку, поэтому моя сторона касается языка, но кое-что я вам расскажу и о первой стороне, поскольку речь идет об общем введении. О языке как раз труднее рассказывать, нужно излагать гораздо более специальные вещи, поэтому в коротком введении вряд ли я многое расскажу о языке.
Как я уже сказал, тексты эти короткие, по 3–4 строчки. Их, на самом деле, далеко не тысяча — если не считать маленькие кусочки, то это несколько сот текстов. Это в сумме около двух печатных листов при нынешнем издании. Это совершенно ничтожная доля от совокупности древних текстов, которая хранится в российских хранилищах и библиотеках, где сотни тысяч древних книг и других документов сейчас накоплены. Конечно, от разных веков разное количество. Древние века — XI–XII вв. — не слишком много, всего несколько десятков документов. Но дальше быстро нарастает, в XVII вв. уже сотни тысяч. Так что сумма того, что сохранила история русского языка, история русской культуры, огромна, такого же масштаба, как, например, история французского языка, немецкого или английского, это из самых больших имеющихся фондов.
Что по сравнению с этим два печатных листа — каких-нибудь 20–30 страниц нынешней печати? Казалось бы, совершенно ничтожное добавление. Что можем нового узнать? Оказывается, чрезвычайно многое. Почему? По следующим причинам. Эти грамоты относятся к ранней части письменной истории России. Письменная история России, как известно, начинается с крещения России, с 988 г., значит, ей 1000 лет с несколькими годами. За эту тысячу лет до нас, как я уже сказал, доходят документы тем реже, чем глубже. Ясно, что от первых времен осталось совсем немного документов. А берестяные грамоты — это как раз первая половина этой хронологической дистанции — XI–XV вв. Позже XV в. берестяных грамот нет. Почему — это тоже отдельный вопрос.
Одна из причин состоит в том, что в это время уменьшается интенсивность писания на бересте, появляется сравнительно дешевая бумага, уже можно писать на бумаге, как сейчас, а бумага не сохраняется. А более веская причина состоит в том, что Екатерина Великая провела осушение Великого Новгорода, дренаж всей сырой почвы Новгорода на практически всей его территории, и все органические остатки в зоне, попавшей под дренаж, полностью превратились в прах. Дренаж достигает по глубине как раз примерно XVI в. Глубже XVI в., куда он не доходит, остаются старые сырые слои, где все это и сохраняется.
Я не буду долго об этом говорить, но главную причину все же укажу. Сама сохранность этих вещей: бересты, дерева, кости и прочих органических материалов — это маленькое чудо Новгорода, которое обеспечивается сыростью его земли. Сырость эта так велика, что новгородцы не строили, например, никогда подвалов. Потому что какой подвал они ни построят, он весь обязательно заполнится водой. Так что практически эти грамоты сохранялись так же хорошо, как если бы они были под водой, а это, как известно, способ обеспечить, чтобы ничего не сгнивало. Мы представляем себе, что в сырости сгниет быстрее, но это в условиях доступа воздуха. А если у вас просто под водой, тогда сохраняется так же хорошо, как если бы вообще не было никакого доступа воздуха.
Такие предметы, как органика, сохраняются хорошо в двух случаях: если имеется абсолютная сухость, как, например, в пещерах Мертвого моря, где сохранились свитки древнееврейские и пр. или если абсолютная влажность, 100 % вода. Все промежуточные значения влажности дают полное уничтожение органики, как в большинстве случаев и бывает. В Новгороде как раз благоприятная ситуация — все, что не продренировано в эпоху Екатерины, до сих пор сохраняется великолепно и может пролежать еще несколько тысяч лет. Во всяком случае, запасы на следующие раскопки у нас там остаются большие. Это маленькое отступление, почему эти грамоты сохраняются, и почему их в Новгороде много, а в других городах мало. Главным образом, по этим причинам.
Возвращаюсь к тому, почему такой небольшой объем, который составляют эти грамоты, тем не менее, многое дал для истории России. В первые века письменной истории письменность уже есть, много пишут, но существует необычайно жесткая цензура и самоцензура. Не официальная, конечно, цензура, а моральные представления общества о том, что доuлжно предавать записи на пергамене, а что не должно. Представление состоит в том, что должно предавать записи на пергамен только высокое, а все, что касается бытовой жизни, семейных отношений, торговых дел и пр. — все это низкое, все это не входит в зону, предназначенную для вечности. Поэтому практически во всех древнерусских документах XI–XIII вв., ранних веков, мы почти ничего не найдем о том, как люди жили. Мы найдем записи в летописи о событиях с князьями, архиепископами, о войнах, о мирах, но решительно или почти ничего о материальной стороне дела, о том, что они ели, какие были праздники, обряды при рождении, на свадьбе или на похоронах — все это совершенно отсутствует в древних документах.
А берестяные грамоты оказались прямой противоположностью. Это записки, касающиеся ровно той части древней жизни, которая всегда скрывалась официальной литературой, всегда считалась недостойной фиксации. Это простейшие записки внутри семьи или от хозяина дома к домочадцам, или к зависящим от него людям, которые живут на его усадьбе, или ремесленникам, которым он заказывает изготовить какие-то предметы или что-то продать, что-то купить. Т. е. обстоятельства текущей жизни являются главным содержанием этих писем. Кроме того, это обстоятельства семейной жизни, отношения между людьми, ссоры, угрозы, судебные дела и т. д. — все то, что занимало людей на уровне ежедневного существования, а не на уровне официально-праздничного бытия.
Поэтому при огромной массе литературы в чисто физическом измерении, десятки и сотни тысяч документов, по этой части не было почти ничего. И тут идут документы один за другим, которые открывают именно эту сферу, причем в очень живой драматической форме, непосредственно с именами людей, с отношениями, которые там открываются, XI–XIV вв.
Лучше я вам зачитаю, конечно, в переводе некоторые тексты, которые дадут вам представление о том, что примерно бывает. Например, грамота “От Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда в Смоленск или в Киев”. Из этого ясно, что эта грамота пришла или из Смоленска или из Киева, т. е. с достаточно большого расстояния. От Киева это 900 км, так что вы понимаете, что тогдашняя почта не так плохо работала. Разумеется, это не была почта в нашем смысле, ясно, что это посылалось с оказией, с какими-то людьми, которые едут в соответствующее место. “Дешев здесь хлеб”. В Новгороде это было как раз одно из голодных лет, о чем мы много знаем из Новгородской летописи. “Если же не пойдете, то пришлите мне грамоту, как вы живы-здоровы”. Вот очень типичный текст.
Еще текст немного подлиннее. “Поклон от Домажира Якову. Я слышу, что ты говоришь. Если она тебе не угодна, то отошли сестру ко мне”. Из этого мы извлекаем понимание того, что пишет человек — брат этой сестры ее мужу, прослышав про то, что в этой семье какие-то нелады. “Я в прошлом году ее наделил [т. е. выделил ей какое-то имущество в надел] и теперь бы я ее надел и послал. А теперь я слышу, что сестра больна. Если ее Бог приберет, то пришли сына ко мне, пусть он побудет у меня за сына, и я им утешусь, а потом отошлю обратно в город. Если же не исполнишь того, то я предам тебя Святой Богородице, перед которой ты приносил клятву”. Вот текст, пожалуй, подлиннее, превосходящий среднюю длину, но очень выразительный.
Бывают самые разные вещи. Еще письмо к брату XIII в. “Поклон от Данила брату Игнату. Брат, позаботься обо мне, хожу ведь голый, ни плаща, ни иного чего”. Т. е. казалось бы, он действительно совсем жалкий и нищий. Но из следующей фразы ясно, что, на самом деле, он не такой уж крайне обездоленный. “Пришли же буро-красный плащ [модный, очевидно], а я здесь деньги отдам. Да скинь, сколько дашь за сукно. А госпожа мне ничего не пожаловала. Умилосердись же, брат, дай мне место на задах [на задах деревни, очевидно], не на чем кормиться. И кланяюсь тебе”.
Можно много чего другого прочитать. Пожалуй, еще одно письмо, которое производит сильное впечатление тем, что содержание его самое что ни на есть банальное — рубль ему надо отдать. Правда, рубль — это сумма не такая, как сейчас. Древний рубль весил основательно. Но, тем не менее, речь идет всего лишь об этом. Вот как он сумел это написать. “От Жилы к Чудину”. Вот этот Жила к этому Чудину, который не хочет отдавать этот рубль. Текст совершенно спартанский. “Дай Ондрею рубль. Если же не дашь, то сколько сраму ни заставит Ондрей меня принять из-за этого рубля, он весь твой”. Каково, а? Нельзя сказать, чтобы все письма были так замечательно построены, но такие вполне встречаются. Действительно человек писал и с чувством, и с умением. Надо сказать, что писали старательно.
Это хоть и записки с нашей точки зрения, но представление древнерусского человека о том, что такое “писать”, было гораздо более серьезным, чем сейчас. Сейчас нам кажется, что это одна из самых простых бытовых акций: чиркнул, бросил. Древнее писание было гораздо более связано с понятием сакрального, с понятием священной акции. Многие письма начинаются со знака креста. Мы долгое время не могли разгадать, что значит этот знак креста в начале письма. Пытались даже думать, что, может быть, это иероглиф, заменяющий слово “поклон”, — так встретились письма, где есть и “поклон” и крест. Кроме того, встретились грамоты, которые вообще не письма, а крест есть. Например, список долгов.
Постепенно вырисовалась правда, которая состоит в том, что этот крест есть не что иное, как письменный аналог крестного знамени, которым осенял себя охотник, отправляющийся на охоту, человек, отправляющийся в длинную дорогу, на опасное приключение и т. д. Примерно так же относился к делу человек, который брал кусок бересты, вы видите, такого небольшого размера, брал писало и начинал записывать свои две-три строчки. Потом ставил знак креста. И это сильно отражается на том, что сами тексты написаны очень аккуратно, как правило, без ошибок. И об этом отдельный разговор. С ошибками или без ошибок — была большая проблема для нас, лингвистов. Но сейчас мы знаем, что без ошибок. И в результате иногда получались почти шедевры русского текста.
Любопытное отклонение состоит в том, что все-таки есть некоторые более длинные письма, нарушающие принцип лаконизма. Это, как правило, женские письма. Они в иной тональности, и нет ограничения на кратчайший объем. Надо сказать, что сам факт, что какие-то письма написаны женщинами, был чудовищным сюрпризом для историков. Представить себе, что была хотя бы одна женщина, не княгиня, а просто новгородская жительница, которая умела писать, совершенно не входило в традиционные представления историков.
Вообще, историки, конечно, необычайно много нового из всего этого узнали, и картина в целом вырисовывалась (у нас нет времени долго об этом говорить), что древний Новгород был примерно таким же обществом, как, скажем, Скандинавия того же времени, Германия и т. д., и вовсе не похожа на “темную” Русь XVI–XVIII вв. Московского царства, где была полная безграмотность, где никто, кроме попов (да и то не всех) не умел ни читать, ни писать и т. д. А уж про женщин нельзя было даже допустить мысли, чтобы кто-нибудь из них знал хотя бы одну букву.
И вдруг мы находим письма, которые написаны от имени женщин, одно, другое, третье и т. д., сейчас их накопилось уже очень много. Кроме того, письма, написанные и адресованные женщинам: к матери, к тетке, к сестре и т. д. Конечно, первое представление было — ну, подумаешь, написано, допустим, к матери, она должна пойти к грамотному человеку, он ей прочтет. И, наоборот, если написано от лица матери, она ходила к площадному писцу, платила ему деньги, он писал. По самым разным признакам выяснилось, что в ряде случаев эта гипотеза никак пройти не может. Я не буду вам рассказывать все аргументы, у нас нет времени на детали. Например, некоторые письма имеют безусловно секретное содержание, в них содержится тайна. Одно это уже исключает то, что можно было пойти к площадному писцу, и его ему диктовать. И кое-какие другие свидетельства показывают, что большинство писем написаны собственноручно их автором. Так что сейчас мы совершенно точно знаем, что значительная часть женщин и читать, и писать умела.
Правда, имеется одно обстоятельство, не красящее нашу русскую историю. Процент грамотных женщин от XII в. к XV в. не увеличивается, а падает. Это сейчас совершенно точно установлено. Письма XII в. вообще в самых разных отношениях отражают общество более свободное, с большим развитием, в частности, женского участия, чем общество ближе к нашему времени. Не буду в это вдаваться, это для историков, не для лингвистов, но этот факт вытекает из берестяных грамот совершенно ясно.
Кое-какие из древних, конца XI — начала XII вв., женских писем я вам прочту, они действительно того стоят. Вот пишет сестра к брату. “От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать?” Речь идет о ковке, но ювелирной, мелкой, не о ковке лошадей, а о выковывании мелких украшений. “Я дала тебе, а не Нежате”. Нежата, как мы узнаем из контекста, — это еще брат, т. е. второй брат, третий из этих детей. “Если я что-нибудь должна, то посылай отрока”. Т. е. судебного исполнителя. По-видимому, это сарказм, что “хоть я тебе и сестра, а можешь тогда посылать на меня казенного человека, если ты действительно считаешь, что я тебе какой-нибудь долг не отдала”. “Ты дал мне полотнишко. Если поэтому не отдаешь [имеется в виду: “то, что я тебе дала выковать”], то извести меня. А я вам не сестра, раз вы так поступаете, не исполняете для меня ничего”. Заметьте, эта формула — “а я вам не сестра” — это древняя архаичная дохристианская формула отречения от своего рода, это чудовищной силы клятва, это не просто словесность, как сейчас кажется. Это на самом деле огромная угроза. Она встретилась не только в этом письме, но еще в одном очень интересном женском письме, чуть более позднего времени. А дальше, поскольку она, Нежка, заинтересована в том, чтобы дело было сделано, письмо кончается все-таки на совершенно деловой ноте. “Так вкуй же отданный тебе металл в три колтка, его как раз четыре золотника в тех двух кольцах”, из чего узнается, что она отдала свои кольца для переплавки, чтобы вместо колец тот изготовил ей колтки, наушные цыганские серьги.
А вот такое письмо, грамота, под исключительно маленьким номером, № 9. Сейчас их 959, а это грамота первого года находок, № 9, которая произвела целую сенсацию во всем ученом мире. “От Гостяты к Василю”. Кто такой Гостята? Мир филологов и историков раскололся: мужчина или женщина Гостята, потому что имя двусмысленно. Имена на “-а”, как и сейчас Ваня, Маня, Маша и т. д., как известно, могут быть совершенно успешно и мужскими и женскими. Поэтому форма имени ничего не говорит, но судите по содержанию, женщина или мужчина это пишет. “От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали в придачу, то за ним [из имущества, конечно, имеется в виду]. А теперь, женясь на новой жене, он мне не дает ничего. Ударив по рукам в знак новой помолвки, он меня прогнал, а другую взял в жены”.
Есть у вас сомнения, мужчина или женщина пишет? Это было первое женское письмо, которое было найдено, за номером девять, и которое, сами понимаете, настолько потрясло представление о том, что никакая женщина никогда пера в руки не могла взять и писать. Несмотря на текст, который вы слышите, который совершенно однозначен, тем не менее, придумывали такие версии, где Гостята получался все-таки мужчина. Даже не буду вам их цитировать. И это длилось довольно долго, прежде чем стали появляться новые женские письма, и стало ясно, что это не землетрясение, не разверзение небес, а вещь, которая бытовала, такое письмо могло быть. И заканчивается просто: “Приезжай, сделай милость”. Это первое письмо из этого ряда.
Из одних этих писем складывается картина древней жизни, совершенно непохожая на то, что мы раньше могли себе представить по жалким обрывкам, которые до нас доходили. Из этих писем, кстати, ясно, что, по крайней мере, в древние века, в XI–XIII вв., положение женщин было неизмеримо более свободное и достойное, чем в века, которые мы знаем. Опять-таки, увы, печально для русской истории, что движение в этом отношение тоже было регрессивно, а вовсе не по миленькой детской теории, что всякая история есть движение непременно к улучшению и совершенствованию.
Есть маленькие записочки, которые, однако, много чего говорят. “Наказ Семену от жены”. Причем формула, которую надо перевести именно как наказ, а не просто письмо, это именно так. Более того, в подлиннике это звучит как “приказ”, и, конечно, естественно переводить “приказ”, но это будет все-таки не совсем точно. Значение слова “приказ”, скорее, соответствовало нынешнему слову “наказ”, поэтому правильный перевод будет чуть мягче. “Наказ Семену от жены. Утихомирил бы ты их всех попросту”. О чем речь идет? Явно, там какой-то скандал, передрались какие-то дети, родственники или домочадцы в доме, и надо этот скандал прекратить. “И ждал бы меня”. <хохот в зале> Совершенно замечательно. А вот когда она приедет, будет наведен полный порядок, а пока прекрати хотя бы эту драку. А дальше формула совершенно идеального почтения: “А я тебе челом бью”. <хохот в зале> Вот такой совершенно замечательный текст, в котором мы видим и суть дела, и принятые формы этикета.
Еще есть замечательное письмо, тоже с тем же словом “приказ”, которое я опять-таки переведу более точно как “наказ”, XIV в. “Наказ от попадьи попу. То, что у тебя произошло, дошло до Онаньи. А теперь это разносит Кирьяк. Так что позаботься об этом”. Заметьте, аккуратно написано, чтобы посторонний человек, даже если бы это читал, то все-таки не знал, что там набедокурил этот поп, так что об этом разносится слава.
И из этого ряда я прочту письмо, которое тоже произвело необычайно большую волну среди специалистов по Древней Руси, настолько это выпадало из всех возможных представлений о том, что могло там случаться и писаться. Это такой замечательный документ, который дошел в виде двух обрывков, которые были найдены на мостовой, связанные крутым морским узлом, длинные куски. Где-то такое. <показывает> Увы, это не найдено, но, может быть, метрах в десяти ветер отнес еще два таких обрывка. Может быть, лет через 50 мы их найдем, не исключено — если будут раскопки в соответствующем месте. Ясно следующее. Адресат, получив это письмо и не имея рядом ни огня, ни ножа, его разодрал. Разодрал, к счастью, вдоль строк. Письмо, естественно, рвется по длине, поэтому строка иногда может остаться целиком. И не просто разбросал эти куски, а завязал, закрутил два из них таким образом и только тогда швырнул на мостовую. И через 900 лет мы это подобрали.
Вот что из этих кусков выясняется. Удалось понять, что до нас дошли второй и четвертый куски. Первый был совсем маленький, 14 букв, не больше, так что его можно примерно восстановить. Третий пропавший восстановить труднее. А четвертый — это конец, так что все-таки документ вырисовался почти в полном виде. Вот как он сейчас выглядит, как мы его сложили и представляем, в переводе, разумеется. Первая недостающая строка, скорее всего, содержала слова “Я посылала”, потому что начинается со слов “…к тебе трижды”. Значит, скорее всего, первая фраза была “Я посылала к тебе трижды”. Дальше все читается совершенно отчетливо. “Что за зло ты против меня имеешь, что в это воскресенье ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату!” Как и положено в русском языке, точно так же, как в переводе, из форм глагола прошедшего времени прекрасно ясно, кто говорит, мужчина или женщина. “Неужели я тебя задела тем, что я к тебе посылала?” Можете вообразить такую тонкость чувств и выражений для конца XI в.? Заметьте, то, что она пишет мужчине, ясно из первой же фразы: “…ко мне не приходил”. Так что конфигурация кто пишет — кому выясняется из первых же строчек абсолютно однозначно. “А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался”. Из этого совершенно очевидно, что он, по-видимому, говорил, что “не могу прийти, потому что родители, родственники наблюдают, они заметят и пр.” На что она вполне трезво ему пишет, что, если бы сильно хотел, то, конечно, сумел бы. Заметьте, совершенно так же, как, наверно, и сейчас было бы сказано в этом случае.
Дальше, к сожалению, обрывается, средняя часть потеряна. Дальше на маленьком кусочке обрывок последней фразы. “Теперь где-нибудь в другом месте. Отпиши же мне про…” — эта фраза опять обрывается. Малость, но одно это “отпиши же мне”, по-древнерусски воспиши, значит, что они находились уже в изрядной переписке друг с другом, что это было стандартное занятие, посылать письма, а не сообщаться как-то иначе. Именно глагол “отпиши” — из самых показательных среди многих текстов такого рода, свидетельствующий с очевидностью о том, каким образом сообщались эти молодые люди. Повторяю, конец XI в., время, когда даже вообразить невозможно, как нам кажется, какие-то отношения, похожие на современные. Ничего подобного. Просто мы плохо представляем себе это общество.
Больше того, само письмо содержит с чисто языковой стороны скрытые цитаты из литературы XI в., так что это была образованная женщина, которая была начитана в литературе, по крайней мере, в той ее части, которая дошла до нас. Скажем, какое-то сочинение Мономаха, в точности те же художественные формулы. Была масса предположений о том, что она воспитывалась в монастыре и пр., но это уже гипотезы. А письмо то, что вы видите.
Далее, к сожалению, следует разрыв, но сохраняется потрясающая заключительная фраза. “Буде же я тебя по своему неразумию…” В подлинном тексте “по безумию”. “Безумие” для нас сейчас звучит особенно сильно, но в действительности древнее безумие означало немного меньше, чем нынешнее, не обязательно клиническое. “Буде же я тебя по своему неразумию задела…” Заметьте, “задела” — тот же самый глагол в XI в., с тем же тончайшим моральным смыслом, именно “затронуть, слегка обидев чьи-то чувства”. Сам факт еще не был, кстати, известен, что глагол еще тысячу лет значит ровно то же, что и сейчас. “… судит тебя Бог и моя худость”. Формула “моя худость” церковного происхождения. Ее употребляли, в основном, епископы, которым было положено называть себя “моя худость” — типичное православное самоуничижение, оно же “паче гордости”, как известно. Тем не менее, именно формула, которая, в сущности, означала просто “я”, но “я”, сказанное на этикетном языке специального свойства. Вот она, эта женщина, была этому языку обучена. И заметьте, что она говорит: “Если ты начнешь насмехаться, то судит Бог и я” — вот смысл ее заявления. Т. е. она с неслыханной внутренней силой, дерзостью ставит свое имя рядом с именем Бога — представить себе это для молодой женщины XI в. — вещь в высшей степени невероятная.
Вот такой текст. Это самое древнее русское любовное письмо, без всякого сомнения, о самой возможности существования которого вообще никто не подозревал, настолько, что целая конференция западных славистов признала, что, наверно, это подделка. Не целая конференция, но на конференции выступила целая фракция скептиков, которая заявила, что не может быть, чтобы такое письмо было реально найдено. Ну, ничего не поделаешь. Единственно что надо ехать в Новгород — оно находится в новгородском музее, можно его читать самостоятельно, оно читается достаточно ясно. Жалко только, что порвано. Но порвано не случайно, а как раз как следствие того, что действительно ему было не любо, и, когда он получил это письмо, в раздражении разодрал и разбросал в разные стороны.
Вот тексты, с помощью которых мы расширяем наше представление о том, что было за общество в XI в. Не буду больше много подобного вам показывать. Но, тем не менее, в коротком введении скажу все же кое-что и о той части, которая касается меня ближе, о языковой. Все, что я вам сейчас рассказывал, — это новые сведения, которые получила история русской культуры и просто история нашего общества. Другая линия, как я уже говорил, — наша, лингвистическая, которая принесла, пожалуй, еще больше сюрпризов.
Хотя я уже хвалил вам огромное количество древнерусских документов, которые сохранились, с количеством действительно все в порядке, а вот с тем, какой там язык — увы, дело далеко не так успешно с точки зрения нас, лингвистов. Потому что значительная часть этого написана вовсе не на том живом языке, на котором говорили реально наши древнерусские предки, а на церковнославянском языке, который, конечно, родственен, близок, но, тем не менее, представлял собой искусственную форму, не соответствующую тому, как реально говорили. И тем самым он довольно плохо служил свидетельством для того, как развивался русский язык как таковой. У русского языка как такового, все же самостоятельная линия развития, и для него в этих церковнославянских документах приходится искать сведения очень косвенным путем и без полной гарантии.
Что касается, скажем, Евангелия и других основных церковных текстов, то они просто написаны по-старославянски, на древней форме того же церковнославянского языка, о котором я говорил. Но и литература, созданная на Руси, но связанная с церковными сюжетами, придерживалась этой же формы языка. Больше того, писать что-нибудь так, как говорилось, считалось в высшей степени непрестижным и низким. Точно так же, как низкие материи не допускались в литературу и запись, не допускался и живой русский язык. Поэтому о живом русском языке XI–XIII вв. мы до сих знали очень ограниченные вещи. Многое знали, конечно, но далеко не все.
С этой точки зрения это был совершеннейший, поразительный переворот, потому что эти документы писались вовсе не для вечности, они писались для секунды, для минуты, “прочти и выброси”. Никто решительно себя не контролировал в вопросе о том, что за язык там будет. Не было никакого понятия, что надо писать изысканно, престижно и по-церковнославянски. Писали более или менее так, как говорили, т. е. практически записывали так, как бы они это сказали устно. И это совершенно бесценный документ, ни в каком литературном произведении мы ничего похожего не находим, потому что литературное произведение — это всегда акт некоторого причесывания, специального приведения в определенное стилистическое состояние того, что записано. А тут записка вроде того, что я вам говорил, записка жене “пришли рубашку, рубашку забыл”. Было довольно очевидно, что человек не заботился о том, какие морфологические и синтаксические формулы он там употребляет, он просто как говорил, так и написал.
Тем самым мы теперь располагаем фондом документов, написанных на самом что ни на есть живом древнерусском языке. Это самое большое приближение к тому реальному языку, на котором говорили люди того времени. Никакой литературный документ такой непосредственной передачи этой формы языка не дает. И тогда действительно выяснились вещи, которых лингвисты не знали.
Оказалось, что эти документы написаны на специальном диалекте, на отдельном, не таком, как классические древнерусские известные нам тексты. Конечно, тот же самый язык, разница была не настолько велика, чтобы затруднять понимание. Но, тем не менее, это был другой диалект, который мы сейчас называем древненовгородским, поскольку совершенно явно по территории он был приурочен к Новгороду и его государству. Кое-какие маленькие элементы этого новгородского диалекта были лингвистам известны по “ошибкам” в текстах, написанных в Новгороде. Когда вдруг какая-то форма в чем-то отклонялась от стандарта, если это повторяется, то есть подозрение, что это не случайное отклонение, а что так просто говорили, и это была своя диалектная форма, которая считалась непрестижной, но время от времени проникала в запись. Естественно, было представление о том, что эти маленькие диалектные особенности иногда проскальзывали.
Одну такую особенность я назову. Нормальное склонение существительных мужского рода стол, дом, человек, Петр, Иван и т. д. имеет в исходной форме (именительный падеж единственного числа) нулевое окончание. Сейчас нулевое, в древности это было оконча-ние — ъ (“ер”), что-то типа краткого ы-образного гласного: Иванъ, Петръ и т. д. В Новгороде же иногда в качестве ошибки проскальзывала вместо формы Петръ форма Петре, вместо формы человекъ форма человеке, вместо формы хлебъ форма хлебе, вместо посадникъ — посаднике, причем именно в той же форме, именительный падеж единственного числа, скажем, посаднике приходит. То же могло быть и в прошедшем времени, скажем, посаднике дале — это не множественное число, как иногда ошибочно читают соответствующие тексты, это то же самое, что посадник дал, но с таким “е”.
На этом примере я покажу новшество, которое дошло до нас, лингвистов. И раньше знали, что это “е” иногда бывает в именительном падеже новгородских документов. Но оно бывает, скажем, один раз на 10 тысяч. 10 тысяч раз у вас будет написано Иванъ, человекъ, хлебъ, и один раз проскользнет человеке. Вы понимаете, что поверить, что это что-нибудь, кроме редкого маленького отклонения, очень трудно. И так лингвисты и представляли себе, что иногда в Новгороде говорили вместо человекъ — человеке. Если не один раз на 10 тысяч, то во всяком случае редко.
И вот вдруг грамоты нам показывают, что в Новгороде всегда говорили с “е”, что новгородский диалект в 100 % случаев имел это окончание. Грамоты, написанные без всякого контроля, показывают нам картину, которую лингвисты совершенно не могли предположить. Да, это диалектная черта, но диалектная черта, совершенно последовательно в этом говоре соблюденная. Не буду долго вас этим занимать, это уже более специальная лингвистика. Такого рода черт лингвистам удалось заметить около 30. Конечно, я не буду их вам излагать. Это, пожалуй, самое броское. Они касаются частью морфологии (т. е. окончания, как в данном случае), частью фонетики, т. е. в некоторых случаях не так произносилось.
Один такой случай я все же приведу. При склонении слов, которые содержали в основе к, г, х, например, рука, нога, в нормальном древнерусском языке в дательном падеже должна была меняться согласная, происходить чередование: рука, но к руце, не к ноге, а к нозе и т. д. — опять-таки с полной регулярностью. Филологи это знают, студентов заставляют на первом курсе все это старательно выучивать, это называется вторая палатализация. Но дело не в наименовании, а в том, что новгородские документы вдруг показали нам, что там не к руце, а к руке, не к нозе, а к ноге — и так совершенно регулярно. Вы скажете: “Что же здесь удивительного?! Мы тоже так говорим! Сейчас же по-русски так и будет: к руке, к ноге”. Все верно. Для нас, для языка ХХ в. тут никакого сюрприза нет, мы это хорошо знаем про современный русский язык. А вот для древности это была необычайная лингвистическая сенсация, поскольку было совершенно стандартным постулатом, что все славянские языки в древности имели это чередование: в старославянском оно есть регулярно (к руце, к нозе), древнерусский во всех документах его имеет. И вдруг новгородский показывает такой же эффект, как нынешняя с вами форма речи ХХ в. Это пример фонетической особенности в морфологической форме.
Повторяю, не буду вам перечислять все 30 особенностей, это было бы совершенно неуместно. Но факт тот, что основная сенсация для лингвистов была в том — почему так рано? Как может быть, чтобы в XI–XII вв. уже была разница между, скажем, центральным говором, киевским, и новгородским? Традиционное представление было совершенно простое — единый древнерусский язык, совершенно монолитный на всей территории, где он был распространен, т. е. вся нынешняя европейская Россия, будущие Россия, Белоруссия, Украина. Затем со временем единый язык подвергается естественному процессу расщепления, постепенно диалекты расходятся между собой, и постепенно образуются три отдельных восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский. А внутри каждого из них еще много говоров: в русском — вологодский говор, архангельский, пермский, рязанский, орловский и т. д. — и точно так же в украинском и белорусском. Очень простая картина такого веника или дерева, которое растет из единого корня, а потом у него расходится все больше и больше ветвей, маленькие веточки расходятся. Картиной дерева это обычно и изображается, деревом и называется — генетическое или родословное дерево языков и диалектов.
А тут совершенно противоречащая этому картина. То, что по ожиданиям лингвистов, не имевших в своем распоряжении берестяных грамот, должно было произойти только в XVI–XVII вв., в лучшем случае в XV в., представлено уже в XI в., причем очень полно. Это полностью переворачивало картину. Более того, после того, как были систематизированы данные берестяных грамот по векам в соответствии с датировками, которые нам дают археологи, т. е. сначала грамоты XI в., потом XII в., XIII в., XIV в — по порядку, то выяснилась совершенно неожиданная, неправдоподобная с точки зрения лингвистики, как она видела это до тех пор, картина. Выяснилось, что в грамотах Новгорода XI–XII вв. количество диалектных особенностей по сравнению с тем, что можно назвать древнерусским стандартом (который мы хорошо знали, т. е. тот, который представлен в литературных памятниках), не меньше, а гораздо больше, чем в XV в.
Выяснилось, что движение было прямо противоположное. Это вещь, абсолютно перевернувшая лингвистические представления. Т. е. дерево росло, вовсе не разветвляясь, вместо этого его ветки сходились. Такое бывает в истории языков. Нельзя сказать, что лингвисты не имеют представления об этом. Одно движение называется в лингвистике дивергенцией, расхождением, второе называется конвергенцией, схождением. Схождение бывает реже, но оно тоже бывает. Но о том, что в истории русского языка диалекты подвергались схождению, а не расхождению, никакого представления до открытия берестяных грамот не было.
Оказалось, что древненовгородский диалект необычайно отчетливо отличался от, скажем, киевского в XI–XII вв. и гораздо меньше отличался от него же через 200–300 лет. Вот, например, очень простая вещь, то, что я вам сказал, — человеке, хлебе, Иване, Петре вместо человекъ, хлебъ, Иванъ, Петръ. Если мы берем грамоту XII в., там всегда будет человеке, хлебе, Иване, Петре, в 98-100 % случаев будет так. А если вы берете грамоту XV в., то у вас только в 50 % будет человеке, хлебе, а в 50 % уже человекъ, хлебъ. Т. е. совершенно отчетливая картина, что новгородский диалект XV в. частично сблизился с центральной формой, той, которая была первоначально в Киеве, которая точно так же была в Москве, Рязани и всей Восточной части.
В связи с этим обнаружилось, что древнее членение на территории нынешней Европейской России было вовсе не такое, как сейчас. Сейчас мы прежде всего думаем о трех языках: русский, украинский, белорусский. И очень часто по естественной аберрации, по естественному анахронизму предполагаем, что, наверно, так было всегда. Оказывается, нет: ситуация древнего членения не похожа на нынешнюю. Эта же самая территория делилась, но существенно иначе. Она делилась не на три части, как сейчас, а на две, и эти две части имели географическое деление, совсем не похожее на нынешнее. А именно, отделялся Северо-Запад, это Новгород и Псков с соответствующими территориями. Это очень большая территория, потому что Новгород имел все владения Севера. Все нынешние вологодские, архангельские, пермские земли — это все была Новгородская земля. И все это с захватом части нынешней Северной Белоруссии — вот такой Северо-Запад. Это был один диалект или один диалектный тип.
А противоположная часть — Юг (будущая Украина), Центр (будущая Россия), Восток (нынешняя Восточная часть Европейской России) — между собой, по-видимому, в достаточной степени единые, составляли вторую часть. Заметьте, в достаточной степени между собой единые. Деталей мы не знаем. Если бы у нас было столько же берестяных грамот для Украины, Ростова и Суздаля, как для Новгорода, мы знали бы гораздо больше, знали бы все это в несравненно более точных деталях. О новгородском диалекте благодаря берестяным грамотам мы знаем уже очень хорошо, как он был устроен, даже уже можно вычленить маленькие говоры внутри новгородского диалекта. Для этой большой территории, увы, наши сведения гораздо более общего характера, тем не менее, они достаточны, чтобы утверждать, что это было некоторое второе единство. Это очень существенно. Не было древнего различия между Киевской, Черниговской, Рязанской, Смоленской, Ростовской и Суздальской зонами. Это была одна Южная, Восточная и Центральная территории, противопоставленные Северо-Западу.
Вот были два древних лингвистических объединения на этой территории: Северо-Запад и Юг-Центр-Восток. Как видите, совершенно не похожие на нынешнее противопоставление трех языков. Поэтому те, кто сейчас пытается, часто в недостойных политических целях, использовать эти наши новые сведения для противопоставления, скажем, Украины и России — это совершеннейшая чушь с точки зрения науки. Потому что как раз разницы между московской территорией и киевской в древности не было. Разница была между ними обеими вместе взятыми и новгородско-псковской территорией. Такого рода попытки оправдывать сейчас новые политические контры представляют собой чистые спекуляции и жульничество или непонимание сути дела. От этого я всех хочу предостеречь, кто к этому сколько-нибудь готов прислушиваться. Такое нередко запускается в СМИ, но, повторяю, это совершенно не подтверждается древними грамотами.
Разделение на три языка произошло по причинам, очень связанным с российской историей, существенно позже — это XIV–XV вв. Это Литовское государство. Граница, которая разделила Московскую Русь и Литовскую Русь, соответственно, западная часть территории, которая говорила на восточнославянском языке и восточная часть. Восточная часть, которая стала Великороссией и западная часть, которая дала в будущем Белоруссию и Украину. Если вы на карте посмотрите границу между Московской Русью и Литовской Русью XV в., то она будет очень похожа на границу между Россией с одной стороны и Белоруссией, Украиной — с другой. Эта линия проходила немного восточнее, но очень незначительно. Это на старой территории перекроило древнее членение и создало три новых языка, вовсе не так, каким было древнее деление.
А из древнего деления Северо-Запад (Новгород, Псков) и Центр-Восток (Ростов, Суздаль, Рязань, чуть позже Москва) образовался современный великорусский язык. Так что великорусский язык, как выяснилось, — это вещь новая, которую позволило увидеть именно открытие берестяных грамот. Этот язык создался не путем классического дерева, а путем сближения между собой двух первоначально довольно сильно отстоявших друг от друга диалектов: северо-западного (новгородского, точнее новгородско-псковского) и центрально-восточного (ростово-суздальско-рязанско-московского) (Москву незачем называть для древности, но я ее добавляю для того, чтобы были понятнее территории).
Современный наш русский литературный язык, как теперь на основании берестяных грамот вполне точно устанавливается, представляет собой продукт соединения двух старых диалектных традиций, которые я назвал. Более того, по тому, как мы с вами говорим, сейчас лингвист может практически про каждую черту нашей с вами речи (по крайней мере, про некоторые важные черты морфологии или фонетики, черт слишком много) сказать, она восточно-центрального происхождения, грубо говоря, ростово-суздальского или, грубо говоря, новгородского. И наши руке, ноге, на сохе и пр. — это новгородское наследие.
Это не что иное, как прямое наследование того, как говорили на Северо-Западе. Почему? Потому что на территории, где мы с вами находимся, на Московской, говорили руце, нозе, сосе и т. д. — совершенно так же, как в Киеве. А если вы возьмете украинский язык, там это прекрасно сохранилось, там будет на руци, на нози — до сих пор. И ровно так же было в районе Ростова, Суздаля, Москвы. Но в этом пункте соединение, конвергенция этих двух диалектов привела к победе новгородского элемента, поэтому мы с вами говорим на руке, на ноге, а не на руце, на нозе. Заметьте, этим русский язык отличается от всех славянских языков. Во всех славянских языках здесь будет — ц-, по-украински, по-белорусски, по-польски, по-чешски, по-сербски — решительно везде. Только новгородский диалект отличался в этом отношении, не имел этого — ц- по причинам своей собственной фонетической истории, в которую я не вдавался, и которую мы с вами унаследовали. И русский язык в этом отношении является его наследником.
Вот в очень грубых чертах то, что можно сказать о том, что принесло открытие берестяных грамот нам, лингвистам. Пожалуй, всё.
Обсуждение
Лейбин: Андрей Анатольевич, вы сказали, что известно, что берестяные грамоты написаны без ошибок. Я, может быть, пропустил, почему это так? А за этим у меня еще куча вопросов, возможно, неграмотно заданных. Если они написаны без ошибок, каким образом могла существовать норма? Как могла существовать школа или институция, которая отличала ошибку от не ошибки? В какой мере церковнославянский, который существовал как высокий язык, влиял на процесс схождения диалектов или, наоборот, как-то взаимодействовал с обыденным языком? Откуда взялась норма и почему без ошибок?
Зализняк: Спасибо. На самом деле, у вас более чем один вопрос. Один — очень близкий для меня вопрос, о котором я даже немного сказал авансом, но не развил. Это вопрос о том, что значит “написано без ошибок”. Про этот вопрос я могу сказать, что вы производите впечатление человека, которого я специально подкупил, чтобы вы мне его задали. Потому что у меня общего времени для этого не было, а вопрос для меня очень близкий и интересный. Дело в том, что история прочтения берестяных грамот, которой я не касался по краткости времени, в действительности в какой-то степени драматична. Она началась в 50-ые гг. с открытием первых грамот сложным соединением, с одной стороны, известной рекламы, какое мы теперь имеем замечательное новое открытие, что в древности писали и пр., с прямо противоположной реакцией многих лингвистов того времени, что с точки зрения языка это все убого, потому что ошибка на ошибке, что все написано людьми, которые едва-едва умели писать и могли сделать по три ошибки в пятибуквенном слове.
В чем дело? Например, какое-нибудь простейшее слово типа конь. Иногда оно так и пишется, буква за буквой, все в порядке. Но иногда мы видим бог знает что. По смыслу явно конь, а написано может быть не только так, как нам нравится, но еще тремя другими способами (с ъ вместо o, с е вместо ь в разных комбинациях).
Понимаете, если у вас на каждом шагу написано нечто, а вы должны угадать, что это значит не что-нибудь, а, допустим, село, то первая ваша реакция состоит в том, что писавший не умел писать. И это была в точности реакция первых читавших грамоты, очень распространенная. В течение нескольких лет и даже больше представление было такое, что интересно, конечно, что наши предки писали, но в древности все же писали очень неумело. Возникало такое ощущение, что вместо любой буквы могли написать любую другую, ну как дети, которые еще почти ничему не обучились. И раз так, то текст в лингвистическом отношении не очень ценный источник, если писавший мог написать что угодно вместо чего угодно.
И прошло довольно много лет, прежде чем стало формироваться представление о том, что все-таки в этом беспорядке есть порядок, что это не хаос и, главное, не беспомощность писавших, а это что-то такое, чего мы со своей привычкой читать хороший, классический древнерусский тексты просто раньше не встречали, и потому к этому не привычны. Проще говоря, сейчас мы знаем совершенно определенно, что в бытовом употреблении, в том, что мы называем бытовым письмом, существовало представление о том, что можно писать безразлично вот эти две буквы, что о (“о”) и ъ (“ер”) или е (“е”) и ь (“ерь”) — это были два варианта для одной и той же буквы, примерно как и и i. Как известно, такие вещи в истории русского языка бывают в разных точках. Например, еще о (“о”) и? (“омега”), которые читались одинаково в большинстве случаев. Такая парность в письме бывает. В древнерусском письме вы эти вещи знаете, такое же известно в английской, французской орфографии, где [k] можно писать и k, и c. Так что в этом ничего удивительного для систем письма нет.
Для новгородской бытовой системы письма в таком же отношении находились эти пары ъ — о и ь — е. Им было все равно. Точно так же, как i и и в одних и тех же словах могли употребляться без порядка. Потом на них был наведен порядок, и в XIX веке, если вы писали “фиту” вместо “ферта”, то в гимназии получали сниженную оценку. Но это было установлено позже. Был установлен, кстати, порядок, когда писать и и i, на это тоже были условные правила. Но в древности никаких таких правил не было. Могло употребляться спокойно и то, и другое. А в древнерусском бытовом письме точно так же употреблялись знаки о (“о”) и ъ (“ер”) или е (“е”) и ь (“ерь”).
Отдельный вопрос, как это произносилось, но я не буду рассматривать этот вопрос во всем его объеме, это была бы уже целая лингвистическая лекция. Достаточно того, что теперь мы знаем, что для писавших во все века берестяной письменности эти две буквы разрешалось употреблять одну вместо другой, и это было абсолютно допустимым, разрешенным приемом. Более того, даже не считалось, что одно лучше, а другое хуже. Поэтому когда мы видим любой из вариантов надписи конь, коне, кънь, къне, они могут встретиться в одном и том же тексте. Даже в одной строке у вас может встретиться “конь”, написанный одним способом, и “конь”, написанный другим способом.
Это полностью отменяет первоначальное представление, что писавший техникой письма не владел. А это представление сыграло довольно печальную роль. Первые 25–30 лет изучения берестяных грамот, т. е. примерно с 50-х до середины 80-х гг., когда господствовало представление, что эти документы написаны как попало, а, точнее говоря, людьми, которые не умели писать, это вело к очень простым последствиям. Всякое трудное для истолкования место вы понимаете, как истолковывалось. Говорили: “В грамоте такую-то букву надо изменить на другую, такую-то на такую, третью на такую-то, и будем читать так, как я сейчас заменил”. Другой комментатор, правда, заменял по-другому, и получалось второе чтение, третье и т. д.
Сейчас чтения того периода составляют уже исторический мусор. Выяснилось, что большинство такого рода выдумок, построенных на том, что “давайте-ка мы решим, что здесь писец ошибся, и что он вместо буквы б написал букву з, и прочтем букву б, и тогда будет смысл”. Во-первых, таких решений можно придумать бесконечное количество. И, к сожалению, первоначальное чтение берестяных грамот на каждом шагу грешило ровно этим. Потом, когда была произведена основательная ревизия чтений, когда уже была разгадана система древнего письма, выяснилась печальная вещь — практически в каждой второй грамоте при первом чтении были ошибки по этой причине. Какое-то слово было заменено по разумению читавшего на что-нибудь под предлогом того, что писец не знал, как писать, и написал вместо одной буквы другую, вместо другой — третью и т. д.
Оказалось, что в действительности все отклонения, не 100 %, но 99 % отклонений от классического письма, известного по основным литературным памятникам, которые мы видим в берестяных грамотах, подчиняются самым простым правилам. Три из них я уже назвал — об эквивалентности пар букв. Если эти три эквивалентности — о (“о”) и ъ (“ер”), е (“е”) и ь (“ерь”) и е и ять — признать частью законного правила, то после этого оказывается, что берестяные грамоты написаны без ошибок. Совершенно естественно, что, если вас учили писать и так, и так, то вы, даже будучи наилучшим отличником, ставили и такую, и такую букву. Если что-то признается равно допустимым, то, конечно, у вас будет встречаться и то, и другое. Но ничего за пределами этих трех перемен в хороших берестяных грамотах нет.
Я примерно подсчитывал, сколько грамот не содержит никаких выходов за пределы этих трех колебаний. Процент оказывается выше 95 %. Т. е. 4–5% все-таки имеют ошибки, они были не всегда идеальны, а остальные всё пишут совершенно безупречно, но только по другой системе, чем мы привыкли. И поэтому все, кто их осуждал в первые годы, они, увы, констатировали собственное незнание, а не незнание писавших. Это, к сожалению, вполне бывает в наших занятиях. Вина за ошибки лежала на читавших ХХ века, а не на писавших XI века в 95–97 % случаев. В этом смысле я берусь утверждать и постоянно утверждаю, что подавляющее большинство берестяных грамот написано без единой ошибки, при том что они написаны не так, как соответствующие литературные произведения. Потому что литературные произведения используют книжную орфографическую систему, где нужно строго различать все пары букв, а они используют бытовую систему, где в этих трех случаях разрешается считать это эквивалентным.
Григорий Глазков: Вы же сказали, что только в XIX в. ввели отличие и и i …
Зализняк: Не отличие, а правило. Существовали правила и раньше, но они не имели общего характера. Школа или какой-нибудь монастырь вполне могли пользоваться собственным правилом как разделять и и i, но оно не было известно всей Руси. А XIX в. — это время, когда все гимназии уже одинаковы.
Что касается церковнославянского, он к этим вещам отношения почти не имел. Что значило писать без ошибок для такого человека? Это значило просто уметь записывать собственную речь. Единственное, где у него были колебания, — это три зоны, в остальных он писал, как слышал. Нормирования, как у нас сейчас, специальных правил не существовало. Для записи живой речи было достаточно просто себя слышать.
Григорий Глазков: У меня вопрос в развитие того, что спрашивал Виталий. О соотношении высокого и низкого и о динамике этого соотношения. Я не очень понимаю, сколько было уровней, два: церковнославянский и обиходный язык? Или вы еще упомянули литературный, т. е. третий. Как было?
Зализняк: Как минимум, три. Потому что, с одной стороны, было противопоставление “церковнославянский — собственно русский”. Церковнославянский — зона священного писания и церковных текстов. И русский язык использовался людьми …, но в этом русском языке выделялась центральная форма и форма диалектного новгородского. Вот три формы. Поэтому новгородец мог писать просто по-новгородски; если он был с церковным образованием, то мог и по-церковнославянски, но прямых свидетельств такого рода у нас в берестяных грамотах нет. И кроме того, он мог знать, что некоторые вещи на центральном языке или том, что мы называем “наддиалектным древнерусским”, выглядели иначе. В некоторых случаях действительно мы видим, что он мог изменить какую-то диалектную форму на центральную, т. е. существовало три уровня.
Григорий Глазков: Все-таки вопрос, какое отношение имел к живому языку церковнославянский? Он возник как искусственный язык? Как осуществлялась взаимосвязь между этими уровнями языков? Какой процесс? Есть какая-то гипотеза?
Зализняк: Есть, конечно. Это прослеживается. Церковнославянский — это язык церковной службы и церковных текстов, которые древнерусский человек слышал в церкви, и он, может быть, не на 100 %, но понимал этот текст. Какие-то слова ему были трудны, но, тем не менее, в общем это был текст на языке, который, как он понимал, очень близок к его собственному языку. Благодаря этой близости не нужно было специально обучаться для того, чтобы понять что-то в церкви, как, скажем, в Польше, где была разница между польским языком и латынью. Разница между древнерусским и церковнославянским была разницей между очень близкими языками. Что же касается уже тонкостей, которые могли проявиться в тексте, то действительно литературный язык древности имел в качестве престижного ориентира церковный язык. Поэтому, например, сочинения Мономаха имеют определенное количество церковнославянских элементов.
Дальнейшая история русского литературного языка — это история сложной борьбы между двумя компонентами: церковнославянским и собственно русским. Собственно русский брался из живого языка, церковнославянский шел из церковных книг. Процесс этот был двусторонним. С одной стороны, литературно пишущий русский вставлял какое-то количество церковнославянских слов в свой текст или церковнославянских окончаний в свои глагольные формы. С другой стороны, церковнославянский на Руси русифицировался, и он уже выглядел не совсем так, как церковнославянский в Сербии, допустим. Потому что, естественно, в него проникал русский тип произношения, некоторое количество русских слов и т. д., т. е. происходило известное сближение между этими языками.
Григорий Глазков: Если я правильно понимаю, конец этого расщепления — это было уже пушкинское время…
Зализняк: Скорее, Ломоносов.
Григорий Глазков: Последний вопрос. Когда произошла победа северного диалекта над южным? Вы сказали, что было две зоны, и язык, на котором мы говорим сейчас — это язык северный, новгородский. Или я вас неправильно понял?
Зализняк: Нет, не так. Современный литературный язык примерно в одинаковых пропорциях наследует северо-западную древность и центрально-восточную. Неверно, что северо-запад победил. Можно насчитать примерно одинаковое количество тех и других элементов в современном литературном языке. Это хорошее равновесие.
Вопрос из зала: Исторический вопрос. Удается ли когда-нибудь связывать персонажи, упоминаемые в берестяных грамотах, с персонажами, упоминаемыми в летописях. А второй вопрос, как устроена обсценная лексика?
Зализняк: Значит, первый вопрос, удается ли связать с персонажами летописей. Очень даже удается. Это зависит от оптимизма и готовности к смелым гипотезам со стороны современных историков в этих отождествлениях. Я скорее отношусь к числу людей, которые стараются эти вещи оценивать сдержанно и не слишком часто признавать эти тождества. Поэтому по моей оценке из персонажей, которых мы встречаем в берестяных грамотах, 20 стопроцентно совпадают с известными из летописей и еще примерно 80 — вероятно. Так что опознается около 100 человек. А для оптимистов эти цифры больше.
А что касается обсценной лексики, то это вопрос, которым я не очень люблю специально заниматься, потому что СМИ сходят с ума каждый раз, когда у нас в Новгороде появляется что-нибудь на эту тему. Действительно, появляется изредка. Но, во-первых, очень редко, потому что, как я вам говорил, писавший относился к своему тексту очень серьезно. Знак крестного знамения, который он ставил в начале, задавал ему известный тон, что он не может позволять себе что попало. Это сильно отличает его от нынешних пишущих, особенно в Интернете. Так что в этом смысле у нас практически нет примеров. Имеется два или три случая, для которых, кстати, есть некоторые внутренние обоснования, оправдания, почему они там появляются. Они там появляются все-таки не в том употреблении, как в наше с вами время, для того, чтобы кого-то грязно обругать.
Аркадий Липкин: Два вопроса, один очень маленький. Насколько мне кажется, современные почерковеды достаточно уверенно отличают женский почерк от мужского. Это не распространяется на этот материал или не пробовали? Второй вопрос мне интересен, но я не знаю, по теме ли он. Можно ли что-нибудь сказать в широком плане об отличие Новгорода, скажем, от немецких городов по образу жизни и управления? Или это совсем не к вам?
Зализняк: Скорее не ко мне. Для древности, я думаю, что базы по почерку почти нет. По крайней мере, для русской традиции, где писцам было принято не подписываться, в отличие от Запада. Это одно из крупных отличий между православием и католицизмом — подписывался ли автор художественного произведения или текста под ним. Православие, как известно, очень подавляло желание автора поставить свое имя, поэтому в большинстве случаев имя отсутствует. Так что у нас совсем нет материала, чтобы узнать, что где-нибудь писец был не писец, а “писица”. Думаю, что нет ни одного надежного примера такого рода. Вообще, имен писцов сохранилось какое-то количество, но немного, женских среди них нет. Так что не с чем сравнивать. Хотя я думаю, что это действительно интересный сюжет. Я с этим технически не знаком. Если эти отличия фундаментально биологичны, так что они должны проявляться в любую эпоху и в любое время, то, может быть, со временем мы что-нибудь достигнем на этом пути, но пока что этого не делалось. Если же они социально привязаны к данному типу письма, к данной эпохе, тогда, увы, у нас не на что опереться.
В сравнении с немецкой культурой — не знаю, немецкой линией мне не приходилось заниматься. А вот соответствующей культурой Италии того же времени я до какой-то степени интересовался и книги по этому поводу читал. И, к моему удивлению, оказалось, что картина Новгорода XIV в. и Флоренции XIV в. по степени женской грамотности — в пользу Новгорода. Это было несколько для меня неожиданно. Есть действительно много разных сходств. Но это не по моей части, поэтому я тут не хотел бы заниматься дилетантством.
Виктория Сафонцева: У меня специфический лингвистический вопрос про вариативное написание гласных полного образования и “еров”. Мне интересно, это как-то соотносится с процессом, условно называемым падением редуцированных? Если да, то первый подвопрос — примерно когда и в каком виде падение редуцированных совершилось на новгородской земле. А, во-вторых, как так получилось, что на приведенных вами примерах мы видим вариативное употребление, т. е. замену, как в условно сильных, так и в условно слабых позициях. Извините за такой специфический вопрос.
Зализняк: Не только не “извините”, а, наоборот, благодарю вас, это в точности по моей части. Единственно, может, ответ будет слишком техничным. Вы правильно заметили, что здесь и в сильных, и в слабых позициях может быть совершенно одинаковая замена, т. е. это именно замена букв, а не следствие того, что отражается другое произношение. Как это связано с процессом падения редуцированных? Первоначальная гипотеза была очень простой — что начинается падение редуцированных и начинают путаться о и ъ. Самая простая идея держалась довольно долго, пока не обнаружилось, что это явление встречается и раньше падения редуцированных, т. е. заведомо в эпоху, когда еще никакого падения редуцированных не начиналось.
Ответ на вопрос, когда было падение редуцированных. К счастью, берестяные грамоты великолепно это документируют, правда не по смешению ъ и о, которые нам в этом смысле ничего не дают, а по тому, есть знак или его нет для слабого редуцированного. Я прошу прощения у тех, кто не готов следить за лингвистическими деталями, но раз мне задан такой вопрос, я с удовольствием на него отвечу. По этому признаку, когда у вас на месте слабого редуцированного нет никакой буквы, процесс прослеживается очень хорошо. Я скажу для красного словца, потому что это, конечно, не соответствует точности, но тем не менее по схеме получается так: 1125–1220 гг. — вот интервал, в течение которого происходит этот процесс. На самом деле, конечно, это чепуха, ясно, что точные годы называть не следует, но я сказал для красоты, поскольку схематически это так. Грубо говоря, начиная со второй четверти XII в. и кончая первой четвертью XIII в., 100 лет или чуть меньше — это время падения редуцированных по данным берестяных грамот. А смешение наблюдается и до этой даты 1125 г. Самые ранние примеры смешения чуть ли не на 100 лет раньше, из чего ясно, что это смешение происходит не как следствие падения редуцированных, а как самостоятельное явление чисто графического свойства. Еще раз прошу прощения перед теми, кто не готов следить за лингвистическими деталями, но я воспользовался моментом, что получил собственно лингвистический вопрос.
Падение редуцированных — это исчезновение коротких звуков, которые записывались буквами ъ и ь. Это событие, когда эти две буквы, первоначально означавшие краткие гласные, стали “нулями”, стали, как сейчас, просто признаками твердости и мягкости согласных. Этот процесс и называется процессом падения редуцированных, т. е. исчезновения редуцированных гласных, превращения их в нули.
Самое вероятное объяснение состоит в том, что это результат перенесения на русскую почву событий в старославянском. В старославянском падение редуцированных произошло на 200 лет раньше. На Руси — в XII в., в старославянском — в Х в. Поэтому в Х в. уже в старославянском какое-нибудь существительное сон уже читалось [сон], с [о], а в древнерусском оно еще было сън с редуцированной гласной, откуда создалась возможность того, что звук о может соответствовать на письме написанию ъ. Не буду дальше углубляться, это слишком утомит слушателей. Сама эта возможность — это старое решение Дурново, самое хорошее из всех. У древнерусского человека сформировалась идея, что можно иметь написанный ъ при произношении о и наоборот. И эта идея реализовалась уже в каких-то документах XI в., когда на Руси еще никакого падения редуцированного не было. Всё, постараюсь больше не затруднять слушателей такими подробностями.
Дмитрий Ермольцев: Вопрос по поводу женского письма конца XI в., которое, кажется, всем так понравилось. Тут поражает не столько проявленная тонкость чувств, кажется, есть некие аналоги в соседней скандинавской литературе, хотя выраженные, как правило, не прямой речью. А вот эта замечательная формула “ты мне как брат”, хотя речь идет явно не о кровнородственных отношениях. Собственно говоря, это опять же не так поражает, есть аналоги в разных культурах. В древнеегипетской поэзии вообще имена условно возлюбленного, возлюбленной — брат и сестра.
Зализняк: Но там это иногда было и не условно.
<смех в зале>
Ермольцев: Совершенно верно. Но, видимо, здесь другой случай. Вопрос следующий. Здесь это, видимо, все же проявление не индивидуального выражения чувств, а типичная общекультурная формула. Выявляется ли это только по материалу берестяных грамот или есть аналогии в древнерусской книжной литературе? Хотя понятно, что там эта тема по определению является не основной, скорее случайной.
Зализняк: Не могу ответить на ваш вопрос квалифицированно. Надо бы что-нибудь специально посмотреть. Что-нибудь броское известное не могу назвать, хотя возможно, что где-то что-то в литературе есть. Но это уже, как вы понимаете, немного не моя часть.
Александр Скобелкин: Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, какие новости есть сейчас по изучению фантастической церы, которую нашли три года назад? И на второй вопрос вы частично ответили, он, наверно, действительно, слишком специальный. Связаны ли указанные вами нестандартные правила друг с другом, и есть ли для них какое-то общее объяснение? Или можно считать, что они возникли независимым друг от друга образом? Почему могли смешиваться е и ять, а не о и а, например, хотя фонетически у них статус был аналогичный.
Зализняк: Про церу, как вы понимаете, можно читать в два раза более длинную лекцию, чем нынешняя, поэтому я сильно затруднен, что говорить, а что нет. Если исходить из того, что все основное уже известно, и речь идет только о том, в каком состоянии это сейчас, то можно ответить коротко, но я в этом не уверен. Все-таки два слова я про церу скажу. Это действительно фантастическая находка. Цера — книжечка на липовых досточках, покрытых воском, на которых сохранился текст. По нашей оценке, это конец Х (последнее десятилетие) — начало XI в. (полтора-два десятилетия), такой результат получается по разным оценкам, включая радиокарбон. Это самая древняя сохранившаяся книга, где есть два псалма — 75 и 76 псалмы, и еще один не целиком. Совершенно очевидно, что к нам попал кусок из середины псалтыри, это ее самая средняя часть.
Драма состоит в том, что, по-видимому, кое-что можно прочесть сверх того, что есть на воске, по остаткам царапин на дереве под воском. Воск при реставрации был снят, он сейчас хранится отдельно. Для сохранности предмета в целом было необходимо его разделить, потому что у воска и дерева степень деформации очень разная, и их нельзя было оставлять вместе. В результате доска оголилась, и выяснилось, что на этой доске имеются царапины, которые, по-видимому, до какой-то степени можно распознать. Это вещь очень трудная, с одной стороны, очень малонадежная — с другой. Но там, тем не менее, при некоторых везении и дерзости кое-что прочесть можно, и обнаруживаются очень любопытные неизвестные тексты, которые, однако, находятся под некоторым сомнением, потому что чтение очень ненадежно.
Нынешнее состояние несильно отличается от того, что было опубликовано, поскольку для этого нужны специальные силы и кадры, которых пока что не нашлось. Для этого нужны героические личности, которые пожертвуют очень много чем для того, чтобы заниматься такой чудовищно трудной и не очень надежной по результатам операцией. Поэтому не могу сказать, что есть какое-то сильное продвижение. А то, что было сделано, то понемногу готовится к публикации и со временем появится. Это по поводу церы.
Второй вопрос. Что касается этих признаков, то между первыми двумя парами оченьпростая связь — они просто симметричны, не надо долго это объяснять. И они, конечно, связаны с тем, что существовала манера, о которой я уже говорил, отвечая на лингвистический вопрос, где одному произношению могла соответствовать запись, отвечавшая ему в историческом смысле не буквально, т. е. написание ъ могло произноситься как о и наоборот. Объяснение состоит в том, что бытовое письмо упростило ситуацию для этих двух пар, признав их законными для любого случая, просто графическими эквивалентами, без поиска того, когда лучше писать первый, когда второй.
Что касается “ять” и “е” и почему не то же самое, допустим, с а и о. Для а и о проблема была бы похожей, если бы это был какой-нибудь современный “акающий” говор, как наш с вами, когда мы одинаково произносим безударные гласные. Действительно существовали говоры, где по крайней мере в части позиций “ять” и “е” смешивались; так что фонетический базис для того, чтобы писать одно вместо другого, существовал. Другое дело, что возникло представление об этих двух буквах, что их можно употреблять безразлично, даже если вы их различаете. Это была специально новая вещь, и она до какой-то степени аналогична с этими ъ и о, где тоже человек прекрасно различал, есть гласная или нет (это были вещи разные, но человек мог писать одинаково: и конь и кънь). Так что в данном случае на эту эквивалентность могло повлиять существование первых двух, то есть некоторая связь есть.
Дмитрий Николаев: Скажите, пожалуйста, те данные, которые у нас есть о новгородском диалекте, и то, что мы знаем, что они сходились в определенный период, они же до этого расходились. Что мы знаем о языковом развитии до того, как появились киевский и новгородский диалекты?
Зализняк: Это немалый вопрос. Дело в том, что схождение и расхождение диалектов в истории языков — это события, которые всегда могут происходить. Но существуют чисто социальные и политические условия, которые иногда способствуют первому процессу, иногда — второму. Например, когда у вас одно племя в поисках новых пастбищ или новых мест для охоты уходит в другое место, есть все основания для того, чтобы говоры стали расходиться, потому что они разъединились в пространстве. И наоборот, если у вас два соседних диалекта, которые до некоторой степени различны (они понимают друг друга, но они различны, как мы сейчас можем слушать русских южан, северян), оказываются внутри достаточно монолитного государства, которое их объединяет и требует постоянного общения между собой, в этом случае естественным будет движение к их сближению. Вот простые условия для конвергенции в одном случае и дивергенции в другом случае.
Ответ на ваш вопрос, когда же они расходились. Расходились, очевидно, тогда, когда древнее племя праславян стало распространяться на более широкие территории. Какая-то часть ушла из прародины славян (мы точно не знаем, где была эта прародина, но чаще всего предполагают Южную Польшу или примерно этот район), ушла на северо-восток и заняла, в конечном счете, нынешнюю новгородско-псковскую территорию. Вот простое основание для того, чтобы эта группа славян стала постепенно удаляться в языковом отношении от остальных. Остальные в частности включали среди прочих будущих насельников и Украины, и Ростово-Суздальской земли и т. д. Вот ответ на ваш вопрос, когда расходились. В глубокой древности. А сходиться они стали под властью московского царя.
Ганцфельд: Скажите, пожалуйста, с какой точностью грамоты привязываются к хронологической шкале? Как это делается? Либо стратиграфически, либо какими-то изотопными методами, и сходятся ли эти методы между собой?
Зализняк: Спасибо. Этот вопрос просто подарок. Я не имел возможности вставить его в основное время, поскольку оно было очень коротким. Раз вы меня спрашиваете, то я с удовольствием расскажу. Действительно, это очень существенный вопрос, можем ли мы датировать эти документы. Разумеется, наши датировки никогда не имеют точность до года. Возможно, когда-нибудь мы найдем грамоту, где будет обозначен год. Пока такой не нашлось. Есть одна грамота, где, вроде бы, некоторый год обозначен, но он обозначен с ошибкой. Писал его шестилетний мальчик, и он не умел писать дату. Поэтому вероятность, что мы можем с точностью эту дату установить, невелика. Пока для простоты можем считать, что даты нет. Еще на одном документе есть нечто, вроде даты, и тоже с ошибкой. Так что нет ни одной хорошей даты.
Все наши даты, конечно, не с точностью до года, а приблизительно. Но приблизительность эта разная. На всякий случай напомню, что палеографы нормально, когда они датируют недатированную рукопись, большую, толстую книгу, то обычно говорят “такой-то век”, более смелые говорят “такая-то половина такого-то века”, но не следует думать, что это уже конец вопроса, потому что есть масса памятников, про которые одни говорят, что это XVI в., а другие — что это XV в. И даже про отдельные памятники одни говорят, что это XIV в., а другие — что это XII в. Увы, такого рода вещи показывают, что датировки такого типа — далеко не идеальное средство.
Какими средствами умеем датировать мы? Грубо говоря, два основных метода. Один называется стратиграфическим, другой — внестратиграфическим. Стратиграфический метод — это традиционное археологическое определение того, на какой глубине они находятся. Археологи имеют длинную традицию определять, на каком хронологическом уровне они находятся, — главным образом по комплексам предметов, которые они находят. Существуют целые шкалы, это очень сложно. Это предметы самых разных свойств, есть предметы, которые очень точно реагируют на время, например, женские украшения — самые лучшие датирующие средства из всех. Почему? Потому что женская мода коротка. Поэтому такие-то браслеты такого-то типа, скажем, мадагаскарские браслеты соответствующего цвета могли быть в моде 10 лет, и тогда эта датировка совершенно идеальна. Другие, увы, были в моде целые 50 лет — это хуже. Есть и масса других предметов типа ножей, ножниц и т. д. Огромное количество шкал, так что практически археологи обладают инструментами для датирования, где они используют целые классы предметов. Чем больше найдено соответствующих вещей, тем это надежнее. Но обычно это датировка с точностью до полувека.
Новгород использует метод необычайно эффективный, называющийся дендрохронологическим, как один из способов и в некотором смысле важнейший. Это определение возраста деревьев. Поскольку в Новгороде, по счастью, органика сохраняется, в частности сохраняются бревна, то материала много. Сохраняются бревна от мостовых, от построек, так что материала для измерения у дендрохронологов всегда хватает. В чем состоит этот метод, я не буду подробно излагать. Это, конечно, можно, но далеко нас заведет.
Грубо говоря, это оценка структуры годовых колец на дереве. Каждый год нарастает, как известно, один слой, его толщина зависит от того, какой был год. Если год был удачный для дерева, много солнца, влаги, тепла, то нарастает толстый слой. Если был очень плохой год, сухой, недостаточный в разных отношениях, вырастает очень тонкий слой. В результате у вас каждый год характеризуется некоторым или тонким, или средним, или полусредним слоем. Вы можете нарисовать график, зубчатку. Все это, разумеется, измеряется в микронах, под микроскопом. Это специальная работа. Делается срез, и специальный квалифицированный работник замеряет каждый слой, сколько микрон он занимает. Затем строится соответствующий график, у вас получается зубчатка. Каждая величина — это размер кольца соответствующего года.
После этого сама идея вам должна быть понятна. У вас имеется такой график <показывает график>. Откуда он берется — это отдельный вопрос. Грубо говоря, он берется из тех деревьев, которые доросли до 300–400 лет. Например, сейчас имеется какой-нибудь дуб, которому 400 лет, такое редко, но бывает. Американская секвойя живет 4600 лет. Для Новгорода таких деревьев нет, там приходилось строить так, что одно дерево берется от нынешнего века, оно вам дает лет 200, потом где-нибудь ищется другое, которое должно сомкнуться с ним и т. д. Эта операция длилась много лет, в ней участвовало много работников, но сейчас шкалы по всей Европе выработаны очень основательно. Этим занимается большое количество лабораторий в Скандинавии, в Германии, в разных странах, так что сейчас это очень развитая область — дендрохронология. Так что сейчас сами шкалы-образцы существуют, они опубликованы.
Дальше вы берете бревно, его анализируете, сидите и записываете толщину каждого кольца, и строите этот график. А дальше этот график “везете” по образцу, пока не совпадет. Теоретически где-нибудь у вас должно совпасть идеально. Что такое “идеально” — дендрохронологии сами знают, какие допуски разрешаются. Какие-то небольшие допуски возможны. И тогда, если вы нашли это место, и оно ровно одно на шкале, вы имеете совершенно идеальный ответ с точностью до года. Вы можете сказать: “Это дерево спилено в 1411 г., а другое спилено в 1389 г.”
Это совершенно замечательная вещь, которая дает нам даты мостовых. Благодаря этому установлено, что в Новгороде примерно каждые 25 лет мостовые настилались заново. Потому что при новгородской сырости грязь поднималась, заливала мостовую, и когда она уже достигала такого уровня, что лошади поскальзывались и уже не могли двигаться, то поступали очень просто, они ничего не ремонтировали, а клали на эту мостовую следующую. Поэтому сейчас в некоторых местах Новгорода на хороших улицах до 30 мостовых друг над другом. Это совершенно замечательное зрелище, когда они существуют в разрезе, они занимают 8 м высоты, и каждая имеет свою дендрохронологическую дату.
Тогда совершенно ясно, что, если у вас по счастью грамота потеряна на мостовой, то она зажата между двумя датами прочно, идеально. Тогда вы можете дать совершенно точную дату 1389–1411 гг. Как я уже сказал, мостовые настилались раз в 20–25 лет — это и будет размах точности датировки. Но это для тех счастливых грамот, которых немного, которые лежат прямо на мостовой. Если же грамота лежит не на мостовой, а поодаль от нее, скажем в 20 см от мостовой, тогда это не так точно, но, тем не менее, она проецируется на уровень соответствующего бревна. Если она лежит в 5 м от мостовой, она тоже проецируется, но, как вы сами понимаете, гарантии уже гораздо меньше. Если она лежит в 60 м от мостовой, то мостовая вам уже не поможет.
Вот способ дендрохронологического датирования, с помощью которого грамоты получают, если они на мостовой, интервал 20–25 лет, если около мостовой — 40 лет, если вдалеке от мостовой — 50–60 лет. Иногда можно узнать даже с точностью до года, но это уже скорее случайность.
Что касается второй части, внестратиграфического датирования — это специальная методика, которая основательно разработана в новгородской экспедиции. Она использует все остальные реальные признаки грамоты, которые могут иметь датирующий смысл. Рассказывать об этом подробно не буду, это длинно. Только назову. Один признак простой. Если у вас персонаж твердо совпал с персонажем летописи — всё, это внешняя дата. Это, правда, не внестратиграфическое датирование, а просто совпадение с документом, это, если угодно, третий способ. А внестратиграфическое датирование в узком смысле слова — это оценка всех языковых, палеографических (в широком смысле слова, палеография и графика) свойств грамоты.
Оценка, например, того, какая используется формула политеса. Это немного похоже на женские бусы. Конечно, формулы политеса живут гораздо больше, чем мода на женские бусы, но все-таки они, оказывается, поживут-поживут и прекращаются, дальше в обществе начинается другая формула. Например, в грамотах бывает иногда “поклон”, иногда “покланяние”, и мы очень хорошо знаем, когда меняются эти формулы — между 1180 и 1200 гг. — это года, когда они сосуществуют, до этого только “покланяние”, после этого — только “поклон”. Поэтому, если у нас грамота имеет слово “покланяние” или “поклон”, грубая датировка в ту же секунду дана — это или до 1180–1200 гг. или позже. Это один из признаков, который используется.
Всего признаков, которые сейчас, например, я использую во внестратиграфическом датировании около 500. Конечно, каждый отдельный документ не дает все 500. Но даже если он даст 20, сами понимаете, что по 20 признакам можно датировать неплохо.
Вопрос из зала: Андрей Анатольевич, я читал вашу прекрасную книгу по древненовгородскому языку. Сегодня вы сказали, что современный русский язык находится на стыке, грубо говоря, суздальского и новгородского. Вы не могли бы перечислить еще какие-нибудь признаки в древненовгородском и в современном русском, кроме частичного отсутствия второй палатализации.
Зализняк: Вы уже сами сказали, что руке, ноге и т. д. — это древненовгородский эффект. Еще один эффект состоит в том, что когда мы с вами говорим в повелительном наклонении берите, несите, везите, пеките — это новгородский эффект — ите, потому что эффект противоположной части был бы — ете, было бы несете, пецете, везете и т. д. Еще, когда мы с вами говорим ведя, приведя, с — я — это тоже новгородизм, потому что в противоположном варианте было бы приведа, привеза. Деепричастие от глаголов с твердой основой в классической форме древнерусского языка сохраняло твердость. Формы, которые сейчас абсолютно победили в русском с мягкостью — новгородского происхождения. Не знаю, стоит ли продолжать, но еще штук десять можно.
Вопрос из зала: Когда завершился процесс слияния двух диалектов?
Зализняк: Завершился… Это довольно трудно сказать, может быть, и сейчас еще не завершился. Но, грубо говоря, должен был где-то в XVI–XVII вв.
Вопрос из зала: Насколько открылась специфика северо-западного языка, который уже обнаружили в берестяных грамотах, сохранились ли ныне где-то его следы? Это первый вопрос. Второй вопрос о том, не был ли до завоевания Новгорода Иваном III какой-то другой механизм сближения северо-западного языка с восточно-центральным?
Зализняк: Я сперва отвечу на второй вопрос. Нет, это тот же самый механизм. Дело в том, что московские государи всегда считали Новгород своей вотчиной, и их влияние было и раньше. Просто до настоящего завоевания Иваном III это влияние наталкивалось на довольно сильное сопротивление и реализовалось очень частично, однако, сближение происходило. Хорошо это или плохо — это другой разговор. Тем не менее, по документам видно, что сильно раньше прямого подавления новгородской независимости в 1478 г. — дело уже сильно-сильно шло к этому же.
А ваш первый вопрос — где сохранилось. Древний новгородский диалект в чистом виде нигде не сохранился. Однако следы его кое-где есть. Но, увы, в самом Новгороде дело с ними обстоит очень плохо, потому что, как известно, Новгород был насильственным образом заменен поселенцами из Центра. Это была специальная политика вывезения старых новгородских семей в Рязань, Суздаль и т. д. и заполнение Новгорода центральными жителями, которые никаких новгородских традиций не имеют. А на периферии новгородской территории многое осталось. Скажем, в Череповце вполне можно услышать новгородские вещи, и былины сохраняют их. Издание новгородских былин имеет даже такую черту Новгорода, как окончание — е. Вы, наверно, читали былины о Садко. Многие из них, довольно старые, называют его не Садкоu, а Садкеu — то есть с совершенно правильным окончанием новгородского именительного падежа единственного числа: “Жил Садке, новгородский гость…” И такого рода вещи на окраинах бывшей новгородской территории до сих пор прослеживаются. Не в качестве целой системы, а в качестве остатков.
Леонид Пашутин: Насколько ваше исследование противоречило теории о создании единого языка на базе диглоссии?
Зализняк: Я не хотел бы далеко углубляться в вопросы диглоссии как таковой. Ясно, что диглоссия в основном критикуется, когда имеется в виду ее слишком упрощенное понимание, что было две точки и более ничего. Конечно, новгородская ситуация совершенно явно показывает, что было более, чем две точки, потому что по крайней мере в русском члене этого противопоставления им приходилось различать то, как говорят киевляне, суздальцы и пр., и “как говорим мы, новгородцы”. Соответственно, у них было понимание еще этих двух уровней внутри собственно древнерусского языка. В некоторых случаях они считали даже нужным написать не по-новгородски. Скажем, когда они составляли официальную бумагу, они довольно часто это окончание — е могли сменить на нулевое. Так что в этом смысле теория диглоссии должна быть обогащена новгородским опытом. Но говорить в целом, что она как-то опровергается или не опровергается этим — это было бы неуместным. Я думаю, что сакрализация письма как таковая была важнее, чем вопрос о том, какой именно язык в этот момент используется. Так что понятие того, что писать, оставлять письменный знак — это уже общаться некоторым образом с зоной сакрального, было здесь гораздо важнее, чем противопоставление про диглоссию.
Вопрос из зала: И не проявляется эта двойная ситуация?
Зализняк: Нет, такого нет.
Лейбин: Друзья, предлагаю завершать замечательный вечер. Спасибо большое, Андрей Анатольевич, было здорово.



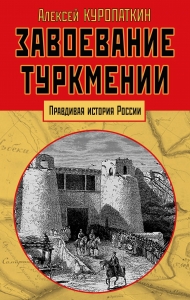
Комментарии к книге «Новгородская Русь по берестяным грамотам», Андрей Анатольевич Зализняк
Всего 0 комментариев