Томас Карлейль Французская революция. Гильотина
Alle Freiheits-Apostel, sie waren mir immer zuwider;
Willkur suchte doch nur Jeder am Ende fur sich.
Willst du Viele befrein, so wag'es Vielen zu dienen:
Wie gefahrlich das sey, willst du es wissen? Versuch's!
GoetheОх, до чего не люблю я поборников ярых свободы:
Хочет всякий из них власти - но лишь для себя.
Многим хочешь ты дать свободу? - Служи им на пользу!
"Это опасно ли?" - ты спросишь. Попробуй-ка сам!
ГетеКнига I. СЕНТЯБРЬ
Глава первая. ИМПРОВИЗИРОВАННАЯ КОММУНА
Итак, вы заставили Францию восстать, вы, эмигранты и деспоты мира. Франция поднялась! Долго вы поучали и опекали этот бедный народ, размахивая над ним, подобно жестоким, самозваным педагогам, своими железными и стальными ферулами; долго вы кололи его, угощали щелчками и стращали, когда он беспомощно сидел, закутанный в саван своей конституции; вы обступили его со всех сторон, с вашими армиями и заговорами, вторжениями и шумными угрозами; и вот, смотрите, вы задели его за живое, он восстал, и кровь его кипит. Он разорвал свой саван, как паутину, и выступает против вас со страшной силой, которой наделила его природа и которую никому не измерить, которая граничит с безумием и адом. Как-то вы справитесь с ним!
Этот сентябрь 1792 года - один из примечательнейших месяцев в истории, представляется в двух весьма различных видах: совершенно мрачным, с одной стороны, и ослепительно ярким - с другой. Все ужасное в панической ярости двадцати пяти миллионов людей и все великое в одновременном презрении к смерти тех же самых двадцати пяти миллионов стоит перед нашим взором в резком контрасте, почти соприкасаясь одно с другим. Так обыкновенно бывает, когда человек доведен до отчаяния, но насколько же сильнее этот контраст, когда до отчаяния доведена целая нация. Ведь природа, зеленеющая на поверхности, покоится, если заглянуть поглубже, на страшном фундаменте; и Пан[1], под музыку которого пляшут нимфы, хранит в себе крик, могущий довести до безумия всех людей.
Крайне опасно, когда нация, отбросив свои политические и общественные установления, превратившиеся для нее в погребальный саван, становится трансцендентальной и должна прокладывать себе дикие тропы сквозь хаотическое Новое, где сила еще не отличает дозволенного от запрещенного и преступление и добродетель бушуют вместе, нераздельные, во власти страстей, ужаса и чудес! Именно такой мы видим Францию в последней, третьей части нашей истории, в течение трех предстоящих лет. Санкюлотизм царит во всем своем величии и гнусности: евангелие (божественная весть) прав человека, его мощи или силы проповедуется еще раз в качестве неопровержимой истины, а наряду с ним, и еще громче, разносится страшная весть сатаны - о слабостях и грехах человека; и все это в таком размере и виде: туманное "смерть-рождение мира", огромное дымное облако, с одной стороны прорезанное как бы небесными лучами, с другой - опоясанное как бы адским пламенем! История рассказывает нам многое, но что из рассказанного ею за последние тысячу с лишним лет может сравниться с этим? Поэтому, читатель, остановимся с тобою ненадолго на этих событиях и попытаемся извлечь из их неисчерпаемого значения то, что при данных обстоятельствах может быть для нас пригодно.
Прискорбно, хотя и естественно, что история этого периода писалась почти исключительно в припадках истерики. Множество преувеличений, проклятий, воплей и, в общем, много неясного. Но когда погрязший в разврате Древний Рим должен был быть стерт с лица земли и в него вторглись северные народы и другие страшные силы природы, "сметая прочь формулы", как это делают теперь французы, то гнусный Древний Рим также разразился громкими проклятиями, так что истинный образ многих вещей также пропал для нас. У гуннов Аттилы руки были такой длины, что он мог поднять камень, не нагибаясь. В название бедных татар проклинающая их римская история вставила лишнюю букву, и они до сих пор называются tartars, сынами Тартара. И здесь также, сколько бы мы ни рылись в разнообразных, бесчисленных французских летописях, мрак слишком часто окутывает события, или же нас поражают такие показания, которые кажутся продиктованными безумием. Трудно представить себе, что солнце в этом сентябре светило так же, как светит в другие месяцы. Тем не менее солнце светило, это непреложный факт; и была такая или иная погода, и кипела работа; что касается погоды, то она не благоприятствовала уборке урожая! Злополучный писатель может стараться изо всех сил, в конце концов все-таки приходится просить, чтобы ему поверили на слово.
Мудр был бы тот француз, который, наблюдая с близкого расстояния мрачное зрелище, представляемое Францией, стремящейся и кружащейся по новым, неизведанным путям, сумел бы различить, где находится центр этого движения и какое направление в нем господствует. Другое дело теперь, через 44 года. Теперь в сентябрьском вихре для всех достаточно ясно определились два главных движения или великих направления: бурное течение к границам и яростное стремление к городским советам и ратушам внутри страны. Освирепевшая Франция кидается отчаянно, презирая смерть, к границам, на защиту от иностранных деспотов, и стремится к ратушам и избирательным комитетам, чтобы защититься от домашних аристократов. Пусть читатель постарается хорошенько понять эти два основных стремления и зависящие от них боковые течения и бесчисленные водовороты. И пусть он решит сам, могли ли при таком внезапном крушении всех старых авторитетов оба этих основных течения, полунеистовые сами по себе, быть мирного характера. Франция напоминала иссушенную Сахару, когда в ней просыпается ветер, вздымающий и крутящий необозримые пески! Путешественники говорят, что самый воздух превращается тогда в тусклую песчаную атмосферу и сквозь нее смутно мерещатся необыкновенные, неясные колоннады песчаных столбов, несущихся, кружась, по обеим ее сторонам, похожие на вертящихся безумных дервишей в 100 футов ростом, танцующих чудовищный вальс пустыни!
Тем не менее во всех человеческих движениях, даже только что возникших, есть порядок или начало порядка. Обратите внимание на две вещи в этом вальсе Сахары, который танцуют 25 миллионов французов, или, скорее, на одну вещь и на другую надежду: на Парижскую коммуну (муниципалитет), которая уже существует, и на Национальный Конвент, который появится через несколько недель. Революционная Коммуна, неожиданно образовавшаяся вечером 10 августа и произведшая приснопамятное освобождение народа посредством взрыва, должна управлять им, пока не соберется Конвент. Эта Коммуна, которую называют самозваной или импровизированной, теперь царит над Францией. Может ли Законодательное собрание, черпающее свою власть из старого, иметь какой-нибудь авторитет теперь, когда старое осуждено восстанием? Впрочем, некоторые d'argent, ни деление на пассивных и активных не оскорбляют теперь французских патриотов: у нас всеобщая подача голосов, неограниченная свобода выборов. Бывшие члены Конституанты, нынешние члены Законодательного собрания, вся Франция могут быть избраны. Даже можно сказать, что это право распространено на цвет всего мира, так как на этих же днях актом Собрания мы "натурализовали" главных иностранных друзей человечества: Пристли[2], которого сожгли за нас в Бирмингеме; Клопштока[3], всемирного гения; Иеремию Бентама[4], утилитарного юриста; благородного Пейна, мятежного портного; и некоторые из них могут быть выбраны, как и подобает такого рода Конвенту. Словом, 745 неограниченных повелителей, восхищающих мир, должны заменить это жалкое, бессильное Законодательное собрание, из которого, вероятно, вновь будут избраны лучшие члены и Гора в полном составе. Ролан готовит Salle des cent suisses для их первых собраний; это один из залов Тюильри, теперь пустого и национального, и не дворца более, а караван-сарая.
Что касается самозваной Коммуны, то можно сказать, что на земле не бывало более странного городского совета. Задача, выпавшая на ее долю, состоит в управлении не большим городом, а большим королевством в состоянии ярого возмущения. Нужно вести записи, заготовлять провиант, судить, разбирать, решать, делать, стараться сделать: приходится удивляться, что человеческий рассудок выдержал все это и не помрачился. Но к счастью, мозг человека имеет способность воспринимать только то, что он может вместить, и игнорирует все остальное, пренебрегая им, как будто его не существует! При этом он кое о чем действительно заботится, а многое заботится о себе само. Эта импровизированная Коммуна идет вперед без тени сомнений; быстро, без страха или замешательства в любую минуту идет навстречу потребностям момента. Если бы весь мир был в огне, то и тогда импровизированный трехцветный муниципальный советник может потерять только одну жизнь. Это квинтэссенция, избранники санкюлотского патриотизма; они призваны вернуть утраченную надежду, и наградой им будут неслыханная победа или высокие виселицы. И вот, эти удивительные муниципалы сидят в городской Ратуше, заседают в Генеральном совете, в Наблюдательном комитете[5] (de Surveillance), который делается даже Комитетом общественного спасения (de Salut Public), или во всяких других комитетах и подкомитетах, в каких оказывается надобность; ведут бесконечную переписку, утверждают бесконечное число декретов: известен даже случай "девяноста восьми декретов в день". Готово! вот их пароль. Они носят в кармане заряженный пистолет и какой-нибудь наспех собранный завтрак для подкрепления. Правда, со временем с трактирщиками заключают условие о доставке им обедов на место, но потом ворчат, что это слишком расточительно. Вот каковы эти советники в трехцветных шарфах, с муниципальными записными книжками в одной руке и с заряженным пистолетом в другой. У них имеются агенты по всей Франции, говорящие в ратушах, на базарных площадях, на больших и проселочных дорогах, агитирующие, призывающие к оружию, воспламеняющие сердца. Велико пламя антиаристократического красноречия: некоторые, как, например, книгопродавец Моморо[6], издалека намекают на что-то пахнущее аграрным законом и вскрытием вспухших, как от водянки, денежных мешков, причем смелый книгопродавец рискует быть повешенным, и бывшему члену Конституанты Бюзо приходится тайком увезти его.
Многие правящие лица, как бы они ни были ничтожны по своим внутренним достоинствам, имеют своих биографов и сочинителей мемуаров, и любопытный впоследствии может подробно ознакомиться со всеми их мельчайшими поступками; это дает своего рода удовлетворение, так как человек любит знать о поведении своих ближних в необычных ситуациях. Не так обстоит дело с правящими лицами, заседающими ныне в парижской городской Ратуше. В самом деле, происходили ли когда-нибудь с самыми оригинальными людьми из правящего класса, такими, как великий канцлер, король, император, министр внутренних или иностранных дел, превращения, подобные тем, что произошли с секретарем Тальеном, прокурором Манюэлем, будущим прокурором Шометтом здесь, в этом вздымающем пески вальсе двадцати пяти миллионов? А вы, братья смертные: ты, адвокат Панис, друг Дантона, родственник Сантера; гравер Сержан, впоследствии прозванный Agate Сержан, и ты, Гюгенен, с набатом в сердце! Но как говорит Гораций, им недоставало присяжного мемуариста (Sacro vate), и мы не знаем их. Люди хвалились августом и его делами и возвещали о них всему миру; сентябрем же этим ни теперь, ни позже никто не подумал хвалиться. Сентябрьский мир погружен во мрак смрадный, как лапландская полночь ведьм, на фоне которого, правда, вырисовываются весьма странные фигуры.
Знайте же, что здесь не обошлось без неподкупного Робеспьера: теперь, когда жар битвы миновал, здесь заседает потихоньку человек с серо-зеленым лицом и кошачьими глазами, которые прекрасно видят в сумерках. Узнайте и еще об одном факте, факте, который стоит многих: Марат не только здесь, но и имеет собственное почетное место (tribune particuliere). Какие перемены произошли с Маратом, вытащенным из своего темного подвала на эту сияющую "особую трибуну"! Каждый пес имеет свой праздник, даже бешеный пес. Злополучный, неизлечимый Марат, Филоктет[7], без которого не взять Трои! Сюда вознесен Марат, теперь главная опора правительственной власти. Роялистский шрифт - так как мы "прекратили" бесчисленных Дюрозуа, Руаю и даже заточили их в тюрьму - заменяет теперь износившийся шрифт "Друга народа", часто вырывавшийся из его рук в прежние дурные времена. Мы пишем и редактируем на нашей "особой трибуне" плакаты с подобающим грозным внушением "Amis du Peuple" (теперь под названием "Journal de la Republique") и сидим, наслаждаясь повиновением людей. "Марат - совесть Ратуши", - сказал кто-то. "Блюститель" совести монарха, как говорят некоторые; несомненно, в таких руках она не будет лежать завернутой в салфетку!
Итак, мы сказали, что два больших движения волнуют расстроенный ум нации: движение против внутренних изменников и движение против чужеземных деспотов. Оба эти движения безумны, не сдерживаются никаким известным законом, они диктуются самыми сильными страстями человеческой природы: любовью, ненавистью, мстительным горем, тщеславным и не менее мстительным национальным чувством и более всего - бледным, паническим страхом! О законодатели! Разве тысяча двести убитых патриотов из своих темных катакомб не взывают пляской смерти об отмщении? Такова была разрушительная ярость этих аристократов в приснопамятный день 10 августа! Да и, отставив в сторону месть и имея в виду только общественную безопасность, разве в Париже не находится до сих пор "тридцать тысяч" аристократов (круглым счетом) в самом злобном настроении, у которых остался в руках последний козырь? Потерпите, патриоты; наш новый Верховный суд, "трибунал Семнадцатого"[8], заседает; каждая секция послала по четверо присяжных, и Дантон, искореняющий негодных судей и негодные приемы всюду, где их находит, - все "тот же самый человек, которого вы знали у кордельеров". Неужели с таким министром юстиции у нас не будет правосудия? Так пусть же оно будет скорым, отвечают все патриоты, скорым и верным!
Можно надеяться, что этот "трибунал Семнадцатого" будет действовать быстрее большинства других судов. Уже 21-го числа, когда нашему суду всего четыре дня от роду, "роялистский вербовщик" (embaucheur) Коллено д'Ангремон умирает при свете факелов. Смотрите! Великая гильотина, это дивное изобретение, уже стоит; идея доктора превратилась в дуб и железо; чудовищный циклопический топор падает в свой желобок, как баран в копре, быстро погашая светоч человеческой жизни! - Mais vous, Gualches, что изобрели вы? Это? Затем следует бедный старый Лапорт, интендант цивильного листа; кроткий старик умирает спокойно. За ним Дюрозуа, издатель роялистских плакатов, "кассир всех антиреволюционеров в стране", он явился веселым и сказал, что роялист, подобный ему, должен умереть именно в этот день, 25-го, предпочтительно перед всеми другими днями, потому что это день св. Людовика. Под ликование галерей всех их судили, приговорили и отдали овеществленной идее - и все это в течение одной недели, не считая тех, кого мы под ворчанье галерей оправдали и отпустили, тех, кого даже лично отвели в тюрьму, когда галереи начали реветь, и угрожать, и толкаться. Никак нельзя сказать, что этот суд медлителен.
Не стихает и другое движение - против иноземных деспотов. Могущественные силы должны встретиться в смертельной схватке: вымуштрованная Европа с безумной, недисциплинированной Францией, и замечательные выводы получатся из этого испытания. Поэтому представьте себе, насколько возможно, какое смятение царит во Франции, в Париже. Со всех стен бросаются в глаза предостерегающие плакаты от секций, от Коммуны, от Законодательного собрания, от отдельных патриотов. Флаги, возвещающие о том, что Отечество в опасности, развеваются на Ратуше, на Пон-Неф - над распростертыми статуями королей. Всюду происходят записи добровольцев, уговоры записаться, прощания со слезами и некоторой хвастливостью и нестройная маршировка по большой северо-восточной дороге. Марсельцы хором поют свое могучее "К оружию!", которое все мужчины, женщины и дети уже выучили наизусть и поют в театрах, на бульварах, улицах; и все сердца воспламеняются: Aux armes! Marchons! Или представьте себе, как наши аристократы забираются в разные тайники; как Бертран Мольвиль лежит, спрятавшись, на чердаке "на улице Обри-ле-Бушер у одного бедного врача, с которым он был знаком!". Г-жа де Сталь спрятала своего Нарбонна, не зная, что в конце концов делать с ним. Заставы иногда открываются, но многие закрыты; паспортов получить нельзя; комиссары Коммуны с ястребиными глазами и когтями зорко парят над всем нашим горизонтом. Короче говоря, "трибунал Семнадцатого" усердно работает под завыванье галерей, а прусский Брауншвейг, покрывая пространство в сорок миль, с военным обозом, дремлющими барабанами и 66 тысячами бойцов надвигается все ближе и ближе!
О боже! В последних числах августа он пришел! Дюрозуа еще не был гильотинирован, когда дошла весть о том, что пруссаки грабят и опустошают местность около Меца; через четыре дня распространяется слух, что наша первая пограничная крепость Лонгви пала после "пятнадцатичасовой осады". Живее же, вы, самозваные муниципальные советники! И они справляются со всем этим. Вербовка, экипировка и вооружение ускоряются. Даже у офицеров теперь шерстяные эполеты, "потому что" настало царство равенства, а также нужды. Теперь говорят друг другу не monsieur, a citoyen, гражданин; мы даже говорим ты, "подобно свободным народам древности". Так предложили газеты и импровизированная Коммуна, и все с этим согласны.
Между тем было бы несравненно лучше, если бы указали, где можно найти оружие. В настоящее время наши citoyens хором поют: "Aux armes!", a оружия у них нет! Оружие ищут страстно, радуются каждому мушкету. Вокруг Парижа ведутся даже раскопки, копают и роют на холмах Монмартра, хотя безрассудность этого ясна и глупцу. Люди копают, а трехцветные шарфы произносят ободрительные речи и торопят. Наконец постановлением, встреченным с восторгом, назначаются "двенадцать членов Законодательного собрания", которые ежедневно должны не только ходить на работы для поощрения, но и сами прикладывать к ним руки и копать. Оружие должно быть добыто во что бы то ни стало, ибо иначе человеческая изобретательность провалится и превратится в глупость. Тощий Бомарше, думая послужить Отечеству и провернуть, как в былые дни, хорошее дельце, заказал 60 тысяч хороших ружей в Голландии; дал бы только бог, чтобы ради спасения Отечества и самого Бомарше они поступили поскорее! В то же время вырывают чугунные решетки и перековывают их на пики; даже цепи перековывают на пики. Выкапывают свинцовые гробы и переливают их на пули. Снимаются церковные колокола и переплавляются на пушки; серебряная церковная утварь перечеканивается в монету. Обратите внимание на стаю прекрасных лебедей, на citoyennes, которые собираются в церквах и, склонив лебединые шеи, трудятся над шитьем палаток и обмундирования. Нет недостатка в патриотических пожертвованиях, даже довольно щедрых, от тех, у кого хоть что-нибудь осталось: красавицы Вильом, мать и дочь, модистки с улицы Сен-Мартен, жертвуют "серебряный наперсток и 15 су" и еще кое-что в том же роде; они предлагают, по крайней мере мать, нести караул. Мужчины, не имеющие даже наперстка, жертвуют... полный наперсток изобретательности. Один гражданин изобрел деревянную пушку, пользование которой предоставил на первое время исключительно Франции. Она должна быть сделана из досок бочарами, калибр мог быть почти неограниченный, но относительно силы ее нельзя было высказаться с такой же уверенностью. И все куют, изобретают, шьют, плавят от всего сердца. Во всех приходах остается всего по два колокола - для набата и других случаев.
Но заметьте также, что как раз в то время, как прусские батареи всего активнее действовали в Лонгви, на северо-востоке, и наш трусливый Лавернь сумел только сдаться, на юго-западе, в отдаленной патриархальной Вандее, недовольство и брожение по поводу преследования неприсягающих священников, долго таившиеся, созрели и взорвались, и в самый неблагоприятный для нас момент! "Восемь тысяч крестьян в Шатиньоле, на севере" отказываются идти в солдаты и не желают, чтобы беспокоили их священников. К ним присоединятся Боншан, Ларошжаклен, много дворян роялистского толка; Стоффле и Шаретт; герои и шуанские контрабандисты; лояльный пыл простого народа раздувается в яростное пламя богословскими и дворянскими мехами! Здесь произойдут сражения из-за окопов, прогремят смертоносные залпы из лесной чащи и оврагов; будут гореть хижины; побегут толпы несчастных женщин с детьми на руках, ища спасения, по истоптанным полям, устланным человеческими костями; "восемьдесят тысяч человек всех возрастов, полов и состояний разом переправляются через Луару" с воплями, далеко разносящимися во все стороны. Словом, в следующие годы здесь произойдут такие сцены, каких не видано было в самые знаменитые войны со времен альбигойских и крестовых походов[9], за исключением разве Пфальцских или подобных же зверств, где все предавалось "сожжению". "Восемь тысяч в Шатильоне" ненадолго разгоняют; огонь подавлен, но не окончательно потушен. К ударам и ранам внешней войны здесь прибавится отныне еще более смертельная внутренняя гангрена.
О восстании в Вандее становится известным в Париже в среду 29 августа, как раз когда мы только что избрали наших выборщиков и, несмотря на герцога Брауншвейгского и Лонгви, все еще надеемся иметь, с божьей помощью, Национальный Конвент. Но и помимо того эта среда должна считаться одним из замечательнейших дней, пережитых Парижем: мрачные вести приходят одна за другой, подобно вестникам Иова, и на них следуют мрачные ответы. Мы не говорим уже о восставшей Сардинии, готовой обрушиться на юго-восток, и об Испании, угрожающей югу. Но разве пруссаки не завладели Лонгви (по-видимому, изменнически преданным) и не готовятся осадить Верден? Клерфэ[10] и его австрийцы окружили Тионвиль, омрачив положение на севере. Теперь уже опустошается не Мецский, а Клермонтский округ; скачущих гусар и улан видели на Шалонской дороге у самого Сен-Менеульда. Мужайтесь, патриоты; если вы потеряете мужество, вы потеряете все!
Нельзя без волнения читать в отчетах о парламентских прениях в среду, "в восьмом часу вечера", о сцене с военными беглецами из Лонгви. Усталые, пыльные, подавленные, эти несчастные люди входят в Законодательное собрание перед закатом солнца или позже, сообщают самые патетические подробности об ужасах, свидетелями которых они были: "тысячи пруссаков бушевали, подобно вулканам, извергая огонь в течение пятнадцати часов, мы же были рассеяны в малом количестве по валам, всего по одному канониру на две пушки; трусливый комендант Лавернь нигде не показывается; затравки не загораются; в бомбах нет пороха, - что мы могли сделать?" "Mourir, умереть!" - отвечают тотчас же голоса6, и запыленные беглецы должны скрыться и искать утешения в другом месте. Да, mourir - таков теперь пароль. Пусть Лонгви обратится в пословицу и посмешище среди французских крепостей! Пусть эта крепость будет стерта с лица посрамленной земли, говорит Законодательное собрание и издает декрет, чтобы крепость Лонгви, как только оттуда уйдут пруссаки, была "срыта" и чтобы на месте ее осталось распаханное поле.
Не мягче и якобинцы; да и как бы могли они, цвет патриотизма, быть мягче? Бедная г-жа Лавернь, жена злополучного коменданта, взяла однажды вечером зонтик и в сопровождении своего отца отправилась в зал могущественной Матери патриотизма "прочесть письмо, склоняющее к оправданию коменданта Лонгви". Председатель Лафарж отвечает: "Citoyenne, нация будет судить Лаверня; якобинцы обязаны сказать ему правду. Он кончил бы свою жизнь там (termine sa carriere), если б любил честь своей родины".
Глава вторая. ДАНТОН
Полезнее срытия Лонгви или порицания бедных запыленных солдат или их жен было то, что накануне вечером Дантон явился в Собрание и потребовал декрета о розыске оружия, раз его не выдают добровольно. Для этой цели пусть будут произведены "обыски домов" со всей строгостью закона. Надо искать оружие, лошадей, - аристократы катаются в каретах, а патриотам не на чем вывезти пушки - и вообще военную амуницию "в домах подозрительных лиц" и даже, если понадобится, хватать и заключать в тюрьму самих этих лиц! В тюрьмах их заговоры будут безопасны; в тюрьмах они будут как бы нашими заложниками и окажутся небесполезными. Энергичный министр юстиции потребовал этот декрет вчера вечером и получил его, а сегодня вечером декрет уже приводится в исполнение; к этому приступают в то самое время, когда запыленных солдат из Лонгви приветствуют криками "Mourir!". Подсчитано, что таким способом удалось добыть две тысячи ружей с принадлежностями и около 400 голов новых заключенных; аристократические сердца охвачены таким ужасом и унынием, что все, кроме патриотов, да и сами патриоты, если б только избавились от своего смертельного страха, прониклись бы состраданием. Да, messieurs, если герцог Брауншвейгский испепелит Париж, то он, вероятно, испепелит заодно и парижские тюрьмы; если мы побледнели от ужаса, то мы передаем наш ужас другим со всей бездной напастей, заключенных в нем; всех нас несет один и тот же утлый корабль по бурно вздымающимся волнам.
Можно судить, какая суматоха поднялась среди "тридцати тысяч роялистов": заговорщики или подозреваемые в заговорах забивались глубже в свои тайники, подобно Бертрану Мольвилю, и упорно смотрели по направлению к Лонгви в надежде, что погода останется хорошей. Иные переодевались лакеями по примеру Нарбонна, уехавшего в Англию под видом слуги д-ра Больмана; г-жа де Сталь в невыразимом горе много хлопотала, в качестве "сестры по перу" обращалась к Манюэлю, взывала даже к секретарю Тальену. Роялист и памфлетист Пельтье дает трогательное (и не лишенное яркого колорита) описание ужасов того вечера: "С пяти часов пополудни огромный город вдруг погружается в тишину; слышен только бой барабанов, топот марширующих ног и время от времени страшный стук в чью-нибудь дверь, перед которой появляется трехцветный комиссар со своими синими гвардейцами. Все улицы пусты, говорит Пельтье, и заняты с обоих концов гвардейцами; всем гражданам приказано сидеть по домам. По реке плавают лодки с часовыми, чтобы мы не убежали водой; заставы герметически закрыты. Ужасно! Солнце сияет, спокойно склоняясь к западу на безоблачном синем небе, а Париж словно заснул или вымер: Париж затаил дыхание, дожидаясь готового разразиться над ним удара". Бедный Пельтье! Конец "Деяниям апостолов" и твоим веселым передовым статьям, они полны теперь горечи и серьезности; острая сатира превратилась в грубые пики (выкованные из решеток), и вся логика свелась к примитивному тезису: око за око, зуб за зуб! Пельтье, с грустью осознающий это, ныряет глубоко, ускользает невредимым в Англию, чтобы начать там новую чернильную войну; через некоторое время он будет предан суду присяжных и, оправданный красноречием молодых вигов, станет всемирно знаменит на один день.
Из "тридцати тысяч" большая часть, разумеется, была оставлена в покое, но, как мы уже сказали, 400 человек, указанных в качестве "подозрительных лиц", были арестованы, и неописуемый ужас охватил всех. Горе виновному в заговорах, антигражданственности, роялизме, фейянизме. Горе виновному или невиновному, но имеющему врага в своей секции, который донесет на него как на виновного! Арестованы бедный старик де Казотт и его молодая любимая дочь, не пожелавшая покинуть отца. Зачем, Казотт, ты переменил писание романов и "Diable Amoureux" на такую реальность? Арестован несчастный старый де Сомбрей, на которого патриоты косились еще с бастильских дней и которого также не хочет покинуть нежная дочь. Молодые, с трудом подавляющие слезы, и слабая, дрожащая старость, напрягающая последние силы... О братья мои и сестры!
Уходят в тюрьму известные и знаменитые люди; уходят и безвестные, если у них есть обвинитель. Попадает в тюрьму муж графини де Ламот, героини ожерелья (сама она давно уже раздавлена на лондонской мостовой), но его освобождают. Грубый де Моранд из "Courrier de l'Europe" в отчаянии ковыляет взад и вперед по камере, но и его скоро выпускают, так как час его еще не пробил. Адвоката Матона де ла Варенна, слабого здоровьем, отрывают от матери и родственников; трехцветный Россиньол (ювелирный подмастерье и мошенник, теперь влиятельный человек) припоминает старую защитительную речь Матона! Попадает Журниак де Сен-Меар, искренний солдат, находившийся во время бунта в Нанси в "мятежном Королевском полку" - не на той стороне, где следовало. Печальнее всего то, что арестовывают аббата Сикара, священника, не пожелавшего принести присягу, но учившего глухих и немых; он говорит, что в его секции был человек, таивший на него злобу; этот единственный враг в свое время издает приказ о его аресте, и удар попадает в цель. В квартале Арсенала немые сердца плачут, жалуются знаками, дикими жестами на то, что у них отняли чудотворного целителя, даровавшего им способность речи.
Можно себе представить, какой вид имеют тюрьмы после этих арестов в вечер 29-го и после большего или меньшего числа арестов, производившихся денно и нощно начиная с 1-го! В них царят давка и смятение, теснота, сумятица, насилие и ужас. Из друзей бедной королевы, последовавших за нею в Тампль и отправленных оттуда по другим тюрьмам, некоторых, как, например, гувернантку де Турзель, отпускают, но бедную принцессу де Ламбаль не выпускают, и она ожидает решения своей участи за железными решетками тюрьмы Лафорс.
Среди нескольких сот арестованных и препровожденных в городскую Ратушу, в собрания секций, в дома предварительного заключения, куда они брошены, как в хлев, мы должны упомянуть еще об одном: о Кароне де Бомарше, авторе "Фигаро", победителе "парламентов Мопу" и адских псов Гезмана, о Бомарше, некогда причисленном к полубогам, а ныне? Мы покинули его на самом взлете и какое ужасное падение теперь, когда мы снова видим его! "В полночь" (было всего 12 августа) "в комнату входит слуга в рубашке" с широко раскрытыми глазами: "Monsieur, вставайте, весь народ пришел за вами; они стучат, словно хотят взломать двери". "И они действительно стучали в двери ужасающим образом (d'une facon terrible). Я накинул камзол, забыв даже жилет, на ногах комнатные туфли; говорю со слугой". Но он, увы, отвечает несвязными отрицаниями, паническими возгласами. Сквозь ставни и щели, спереди и сзади, тусклые фонари высвечивают улицу, заполненную шумной толпой с истощенными лицами и поднятыми пиками. В отчаянии мечешься, ища выхода, и не находишь его; приходится спрятаться внизу, в шкафу с посудой, и стоять в нем, замирая от страха, в неподобающем одеянии "в течение четырех с лишним часов", в то время как в замочной скважине мелькают огни, а над головой слышен топот ног и сатанинский шум! Старые дамы в этом квартале вскакивали с визгом (как рассказывали на следующее утро), звонили своим горничным, чтобы те дали им успокоительных капель, а старики в одних сорочках "перескакивали через садовые ограды" и бежали, хотя никто их не преследовал; один из них, к несчастью, сломал себе ногу. Вот как дурно кончилась торговая сделка с выписанными из Голландии (и так и не пришедшими) 60 тысячами ружей.
Бомарше спасся на этот раз, но не на следующий, десять дней спустя. Вечером 29-го он все еще находится в этом тюремном хаосе в самом печальном положении, не будучи в состоянии добиться не только правосудия, но даже того, чтобы его выслушали. "Панис чешет себе голову", когда с ним заговаривают, и удирает. Однако пусть поклонники "Фигаро" узнают, что прокурор Манюэль, собрат по перу, разыскал и еще раз освободил Бомарше. Но как тощий полубог, лишенный теперь своего блеска, принужден был прятаться в амбарах, блуждать по вспаханным полям, трепеща за свою жизнь; как он выжидал под желобами, сидел в темноте "на бульваре, между кучами булыжника и строительного камня", тщетно добиваясь слова от какого-нибудь министра или секретаря министра относительно этих проклятых голландских ружей, в то время как в сердце кипели тоска, страх и подавленное собачье бешенство; как резвый, злобный пес, некогда достойный принадлежать Диане, ломает свои старые зубы, грызя один гранит, и принужден "бежать в Англию"; как, вернувшись из Англии, он заползает в угол и лежит спокойно, без зубов (без денег), - все это почитатели "Фигаро" пусть представят себе сами и прольют слезу сожаления. Мы же без слез, но с сожалением шлем поблекшему упрямому коллеге прощальный привет. "Фигаро" его вернулся на французскую сцену и в настоящее время даже называется иными лучшей его пьесой. Действительно, пока жизнь человеческая основывается только на искусственности и бесплодности, пока каждое новое возмущение и смена династии выносят на поверхность только новый слой сухого щебня и не видно еще прочного грунта, - разве не полезно протестовать против такой жизни всякими путями, хотя бы и в форме "Фигаро"?
Глава третья. ДЮМУРЬЕ
Таковы последние дни августа 1792 года - дни пасмурные, полные бедствий и зловещих предзнаменований. Что будет с этой бедной Францией? Когда в прошлый вторник, 28-го числа, Дюмурье поехал из лагеря в Мольде на восток, в Седан, провести смотр так называемой армии, брошенной там Лафайетом, то покинутые солдаты смотрели на него угрюмо, и он слышал, как они ворчали: "Это один из тех (ce b - е la), которые вызвали объявление войны". Малообещающая армия! Рекруты, пропускаемые через одно депо за другим, прибывают в нее, но только такие рекруты, у которых всего недостает; счастье, если у них есть такое богатство, как оружие. А Лонгви позорно пал; герцог Брауншвейгский и прусский король со своими 60 тысячами намерены осадить Верден; Клерфэ и австрийцы теснят все сильнее; на северных границах напирают на нас "сто пятьдесят тысяч", как насчитывает страх, "восемьдесят тысяч", как показывают списки, а за ними киммерийская Европа. Вот и кавалерия Кастри-и-Брольи, вот роялистская пехота "с красными отворотами и в нанковых шароварах", дышащие смертью и виселицами.
Наконец, в воскресенье 2 сентября 1792 года герцог Брауншвейгский появляется перед Верденом. Сверкая на возвышенностях, за извилистой рекой Маасом, он смотрит на нас со своим королем и 60 тысячами солдат; смотрит на нашу "высокую цитадель", на все наши кондитерские печи (ведь мы славимся кондитерскими изделиями), посылает нам вежливое предложение сдаться во избежание кровопролития! Бороться с ним до последнего вздоха? Ведь каждый день задержки драгоценен? О генерал Борепер[11], спрашивает испуганный муниципалитет, как мы будем сопротивляться? Мы, Верденский муниципалитет, не считаем сопротивление возможным. Разве за Брауншвейгом не стоят 60 тысяч солдат и многочисленная артиллерия? Задержка, патриотизм - вещи хорошие, но мирное печение пирогов и сон с цельной шкурой не хуже. Несчастный Борепер простирает руки и страстно умоляет во имя родины, чести, неба и земли держаться, но все тщетно. Муниципалитет по закону имеет право приказать; с армией под командованием явных или тайных роялистов такой приказ кажется необходимым. И муниципалитет - мирные пирожники, а не геройские патриоты приказывает сдаться! Борепер спешит домой широким шагом; слуга его, войдя в комнату, видит, что он "усердно пишет", и удаляется. Спустя несколько минут слуга слышит пистолетный выстрел - Борепер лежит мертвый; его усердное писание было кратким прощанием самоубийцы. Так умер Борепер, оплаканный Францией и погребенный в Пантеоне (с почетной пенсией вдове) с эпитафией: "Он предпочел смерть сдаче деспотам". А пруссаки, спустившись с высот, мирно овладевают Верденом.
Таким образом, герцог Брауншвейгский шаг за шагом надвигается. Кто теперь остановит его, покрывающего своими войсками в день сорок миль пространства? Фуражиры спешат вперед; деревни на северо-востоке опустошаются; гессенский фуражир имеет только "по 3 су на день"; говорят, что даже эмигранты берут серебряную посуду - из мести. Клермон, Сен-Менеульд и особенно Варенн, города, памятные по Ночи Шпор, трепещите! Прокурор Сосс и Вареннская магистратура бежали; храбрый Бонифаций Ле Блан из таверны "Золотая рука" спасается в лесах; мадам Ле Блан, молодая и красивая женщина, принуждена со своим маленьким ребенком жить на лоне природы под тростниковой крышей, подобно сказочной принцессе, и преждевременно заболевает ревматизмом. Вот теперь бы Клермону звонить в набат и зажигать иллюминации! Он лежит у подножия своей Коровы (Vache, как называют эту гору) добычей гессенских грабителей; у его красавиц, красивее большинства француженок, отнимают не жизнь и не то, что дороже жизни, а то, что дешевле и можно унести, ибо нужда при 3 су в день не признает законов. В Сен-Менеульде врага ожидали уже не раз - все национальные гвардейцы выходили с оружием, но до сих пор его еще не видно. Почтмейстер Друэ не бежал в леса, но занят своими выборами; он будет заседать в Конвенте в качестве поимщика короля и бывшего храброго драгуна.
Итак, на северо-востоке все бродит и бежит; в назначенный день - его число утрачено историей - герцог Брауншвейгский "обязался обедать в Париже", если это будет угодно высшим силам. Мы уже видели, что происходит в Париже, в центре, и в Вандее, на юго-западе, а на юго-востоке - Сардиния, на юге Испания, на севере - Клерфэ с Австрией и осажденным Тионвилем; и вся Франция скачет, обезумев, подобно взбаламученной Сахаре, вальсирующей в песчаных колоннадах! Никогда страна не была в более безнадежном положении. Его Величество король прусский мог бы (если бы захотел) разделить эту страну и разрезать ее на части, как Польшу[12], бросив остатки бедному брату Людовику с приказанием держать свои владения в руках, - иначе мы сами сделаем это за него!
Или, может быть, высшие силы, решив, что новая глава всемирной истории должна начаться здесь, а не в другом месте, распорядились всем этим иначе? В таком случае герцогу Брауншвейгскому не придется обедать в Париже в назначенный день, и никому не известно, когда это будет! В самом деле, среди этого разгрома, когда бедная Франция, кажется, размалывается в прах и рушится в развалинах, кто знает, не народился ли уж какой-нибудь чудесный punctum saliens освобождения и новой жизни и не действует ли он уже, хотя глаз человеческий еще не различает его? В ту же ночь 23 августа, дня малообещающего смотра войск в Седане, Дюмурье собирает в своей квартире военный совет. Он раскладывает карту этого безнадежного театра войны: здесь пруссаки, там австрийцы; и те и другие торжествуют; большие дороги в их власти, и весь путь до Парижа почти открыт: мы рассеяны, беспомощны на всех пунктах. Что тут делать? Генералы, незнакомые Дюмурье, смотрят довольно растерянно, не зная, что посоветовать - разве только отступление, и отступление до тех пор, пока наши рекруты не станут многочисленнее, пока, может быть, цепь случайностей не повернется благоприятно для нас, во всяком случае до последнего дня, когда Париж будет разгромлен. "Муж совета", "три ночи не смыкавший глаз", слушает почти молча эти длинные невеселые речи и только смотрит на говорящего, чтобы запомнить его черты, затем желает всем спокойной ночи, но удерживает на минуту некоего Тувено, пламенные взоры которого понравились ему. Тувено остается. "Voila! - говорит Полипет[13], указывая на карту. - Это Аргоннский лес - длинная полоса скалистых гор и дремучего леса длиной сорок миль и всего с пятью, даже с тремя годными проходами. Они забыли про него, а разве еще нельзя его захватить, хотя Клерфэ и очень близко? Если мы захватим Аргонну, то с их стороны останется Шампань, называемая голодной (или еще хуже: Poilleuse[14]), a с нашей - три жирные епархии и на все готовая Франция; недалеко и дожди осеннего равноденствия. Не может ли этот Аргоннский лес стать Фермопилами[15] Франции?"12
О храбрый Полипет-Дюмурье, гениальная голова! Да помогут тебе боги! Пока что он складывает свои карты и бросается на постель, решив попытаться завтра утром исполнить свой план с хитростью, быстротой и смелостью! Поистине, для такого дела нужно было быть львом и лисой одновременно и взять удачу к себе в союзники!
Глава четвертая. СЕНТЯБРЬ В ПАРИЖЕ
По ложным слухам, оказавшимся, однако, пророческими и верными, о падении Вердена стало известно в Париже на несколько часов раньше, чем это произошло в действительности. 2 сентября приходится на воскресенье, и работа не мешает размышлениям. Верден потерян (хотя некоторые все еще отрицают это); пруссаки идут быстрым маршем с виселицами, огнем и фашинами![16] В наших собственных стенах 30 тысяч аристократов, и только ничтожная часть их брошена в тюрьмы! Ходят слухи, что даже и эти хотят возмутиться. Сиер Жан Жульен, вожирарский извозчик, выставленный в прошлую пятницу к позорному столбу, начал вдруг кричать, что он скоро будет отмщен, что заключенные в тюрьмах друзья короля восстанут, возьмут штурмом Тампль, посадят короля на коня и, соединившись с незаключенными, растопчут всех нас подковами на острых шипах. Несчастный вожирарский извозчик вопил во всю силу своих легких, не переставая, даже когда его притащили в городскую Ратушу; и вчера вечером, когда его гильотинировали, он умер с пеной этого крика на губах. Ибо человек, прикованный к позорному столбу, легко может помешаться, а равно и все люди могут помешаться и "поверить ему", как безумные, именно потому, что предсказываемое им невозможно.
Так что, по-видимому, настал решительный кризис и последняя агония Франции. Встретьте же их должным образом, вы, импровизированная Коммуна, сильный Дантон и все сильные люди Франции! Читатели могут судить, успокоительно ли или безнадежно для человеческих душ развевался в этот день флаг "Отечество в опасности!".
Но импровизированная Коммуна и строгий Дантон на своих постах, и каждый исполняет свое дело. Огромные плакаты расклеены по стенам; в два часа зазвонит набат и пушка выстрелит тревогу; все парижане устремятся к Марсову полю и будут записываться. Правда, они не вооружены и не обучены, но они полны силы ярости и отчаяния. Спешите, мужчины, а вы, женщины, предлагайте нести караулы, держа коричневый мушкет на плече; слабая наседка в отчаянии вцепляется в морду бульдогу и даже побеждает его силой своего натиска! Самый страх, сделавшись трансцендентальным, становится в некотором роде мужеством, подобно тому как достаточно сильный мороз, по словам поэта Мильтона[17], в конце концов начинает жечь. В Комитете общественной обороны Дантон сказал раз вечером, когда высказались все министры и законодатели, что им не следует покидать Париж и бежать в Сомюр, что они должны остаться в Париже и вести себя так, чтобы устрашить (faire peur) врагов, - слова, которые часто повторялись и были напечатаны курсивом.
В два часа, когда, как мы показали, Борепер застрелился в Вердене и во всей Европе люди идут к вечерне, в Париже также звонят колокола, но не к вечерне и каждую минуту гремят пушечные выстрелы - сигнал тревоги. Марсово поле и Алтарь Отечества кишат народом, полным отчаянного мужества страха. Что за miserere[18] возносится к небу из этой бывшей столицы христианнейшего короля! Законодательное собрание заседает, одержимое то страхом, то внезапным одушевлением; Верньо предлагает, чтобы 12 членов Собрания ходили лично копать на Монмартре, что и постановляется под клики одобрения.
Но вот что гораздо важнее личного копания под аплодисменты: входит Дантон; черные брови его нахмурены, колоссальная фигура тяжело ступает, все черты сурового лица выражают мрачную решимость! Силен этот мрачный сын Франции и сын земли, и он - реальность, а вовсе не формула; именно теперь, сброшенный так низко, он более чем когда-либо опирается на землю, на реальности. "Законодатели! - гремит его голос, донесенный до нас газетами. Эти пушечные выстрелы - сигнал не к тревоге, а к атаке (pas-de-charge) против наших врагов. Что нам нужно, чтобы победить их, чтобы отбросить их назад? Нам нужна смелость, еще раз смелость и смелость без конца!" (II nous faut de l'audace, et encore de l'audace, et toujours de l'audace). Верно, могучий титан, тебе не остается ничего, кроме этого! Старики, слышавшие эти слова, до сих пор рассказывают, как этот производящий эхо голос воспламенил в ту минуту все сердца, затронув их лучшие струны, и это вовремя сказанное слово отозвалось во всей Франции, подобно электрической волне.
А Коммуна, вербующая на Марсовом поле? А Комитет общественной обороны, ставший теперь Комитетом общественного спасения, совестью которого является Марат? Вербующая Коммуна завербовывает многих, раскидывает для них палатки на Мар
совом поле, чтобы они могли уйти завтра с рассветом; хвала этой части Коммуны! Но Марату и Комитету общественной обороны не хвала и даже не порицание, которые можно было бы выразить на нашем несовершенном наречии, а лучше выразительное молчание! Одинокий Марат - Боже избави от такого человека, - долго размышлявший в своих потаенных подвалах и на своем столбе Столпника, углядел спасение только в одном - в падении 260 тысяч аристократических голов. С несколькими дюжинами неаполитанских брави, каждый с кинжалом в правой и с муфтой на левой руке, он хотел пройти Францию и привести эту мысль в исполнение. Но весь свет хохотал, высмеивая строгую благожелательность Друга Народа, и мысль его, не могущая претвориться в действие, превратилась лишь в навязчивую идею. Однако, посмотрите, он-таки попал со столба Столпника на Tribune particuliere; может быть, здесь это окажется возможным и без кинжалов, без муфт; по крайней мере теперь, в момент решительного кризиса, когда спасение или уничтожение зависят от одного часа!
Ледяная башня Авиньона наделала достаточно шума и живет у всех в памяти, но виновники не были наказаны: мы видели даже, как Журдан Coupe-tete, несомый на плечах, подобно медному идолу, "путешествовал по южным городам". Читатель, не старайся угадать, какие призраки, грязные и отвратительные, размахивая кинжалами и муфтами, плясали в мозгу Марата под этот оглушительный звон зловещего набата и всеобщей ярости. Не старайся угадать ни того, что думал жестокий Бийо. "в коротком коричневом камзоле", Сержан, пока еще не Agate-Сержан, Панис, доверенный Дантона, ни того, какие чудовища и невероятные события вынашивает в своей мрачной утробе злобный Орк[19], рождающий их на твоих глазах!
Ужас царит на улицах Парижа, ужас и бешенство, слезы и ярость: зловещий набат гудит в воздухе; яростное отчаяние устремляется в бой; матери с полными слез глазами и неукротимыми сердцами посылают своих сыновей умирать. "Каретных лошадей хватают за уздечки" и впрягают в пушки, "постромки перерезают, экипажи остаются на дороге". Разве при таком вое набата и мрачном смятении безумия убийство и все фурии не готовы разразиться? Слабый намек - кто знает, насколько слабый? - и убийство выступит на сцену и осветит этот мрак своей обвитой огненными змиями головой!
Как это пришло и случилось, что было преднамеренно и что неожиданно и случайно, - это не выяснится никогда, до Судного дня. Но такой человек, как Марат, в качестве блюстителя совести властелина... а мы знаем, что такое ultima ratio[20] властелинов, когда они доведены до крайности! В этом Париже имеется, скажем, сто или более злейших людей в мире, которых можно подговорить на все, которые, даже неподговоренные, по собственному побуждению готовы на все. Однако заметим, что предумышление еще не есть выполнение, даже не есть уверенность в выполнении, самое большее, это уверенность в дозволении тому, кто пожелает выполнить. От преступного намерения до преступного действия целая пропасть, как бы ни казалась странной эта мысль. Палец лежит на курке, но человек еще не убийца, и, если вся его натура противится такому концу, разве это не есть скорее пауза смятения - последний момент возможности для него? Он еще не убийца; от незначительных мелочей зависит то, что самая навязчивая идея может перейти в колебания. Но легкое напряжение мышцы - и смертоносная стрела летит, человек уже убийца и останется им навеки; и земля становится для него мучительным адом, горизонт его озарен теперь не золотом надежды, а красным пламенем угрызения совести; голоса из недр природы кричат: "Горе, горе ему!"
Все мы сделаны из такого материала; самый чистый из нас ходит по такой пороховой мине бездонной вины и преступности, и "только Бог удерживает нас", говорит верное изречение. В человеке есть бездны, граничащие с адом, и возвышенные чувства, достигающие самого неба, ибо разве небо и преисподняя не созданы из него, не созданы им, вечным чудом и тайной, какие он представляет собою? Но при виде этого Марсова поля с воздвигающимися на нем палатками и лихорадочной вербовкой, при виде этого угрюмо кипящего Парижа, с его битком набитыми (и, как полагают, готовыми взорваться) тюрьмами, зловещим набатом, слезами матерей и прощальными кликами солдат, набожные души, наверное, молились в этот день, чтобы милость Божья "удержала", и удержала покрепче, дабы при малейшем движении или намеке не поднялись Безумие, Ужас и Убийство и этот воскресный сентябрьский день не стал черным днем в летописях человечества. Набат гудит изо всех сил, часы неслышно бьют три, когда бедный аббат Сикар с тридцатью другими неприсягнувшими священниками в шести каретах проезжают по улицам из своего временного заключения в городской Ратуше в тюрьму Аббатства. На улицах стоит много покинутых экипажей; эти шесть едут сквозь озлобленные толпы, осыпающие проклятиями их путь: "Проклятые аристократические Тартюфы, вот до какого положения вы довели нас! А теперь вы хотите взломать тюрьмы и посадить Капета[21] Veto на коня и напустить его на нас? Долой, служители Вельзевула и Молоха, тартюфства, маммоны и прусских виселиц - все это вы называете Матерью-Церковью и Богом!" Бедным неприсягнувшим священникам приходится переносить такие и худшие упреки, высказываемые обезумевшими патриотами, влезающими даже на подножки экипажей; даже охрана их с трудом воздерживается, чтобы не присоединиться к ругателям. Закрыть окна в каретах? "Нет!" - возражают патриоты и кладут свои мозолистые лапы на раму, надавливая и опуская ее. Всякому терпению есть предел; прошло много времени, прежде чем кареты прибыли к Аббатству; наконец они подъезжают к нему, и тут один из диссидентов, более горячего темперамента, ударяет тростью по мозолистой лапе, находя в этом некоторое утешение; сильно ударяет и по косматой голове, ударяет снова, еще сильнее, на виду у нас и у всей толпы. Но это последнее, что мы ясно видим. Увы, в следующую минуту кареты окружены и осаждены бесчисленной разъяренной толпой, рев ее заглушает крики о пощаде: на них отвечают сабельными ударами в сердце. 30 священников вытаскивают из кареты и убивают у тюремной ограды одного за другим; один аббат Сикар, которого знающий его часовщик Мотон спасает с геройскими усилиями и прячет в тюрьме, ускользает благополучно, чтобы рассказать об этом событии; и вот наступила ночь, и Орк, и обвитая огненными змиями голова Убийства поднялась во мраке!
С воскресенья пополудни до вечера четверга (исключая временные промежутки и паузы) проходит 100 часов, которые можно сравнить с часами Варфоломеевской бойни, Арманьякской резни, Сицилийских вечерен или с самыми дикими зверствами, занесенными в летописи мира. Ужасен час, когда душа человека в припадке безумия ломает все преграды, попирает все законы и обнажает все свои вертепы и бездны! Ибо Ночь и Ад, как давно было предсказано, вырвались здесь, в Париже, из своих подземных темниц такие ужасные, мрачно-смятенные, что на них мучительно было смотреть, но они не могут быть и не будут забыты.
Читатель, серьезно смотрящий на эту адскую, смутную фантасмагорию, различит несколько устойчивых, определенных предметов, но всего лишь несколько. Он заметит в тюрьме Аббатства по окончании внезапного избиения священников странный суд, который можно назвать судом мести или диким самосудом; он образовался быстро и заседает вокруг стола с разложенными на нем тюремными списками; председательствует Станислас Майяр, герой Бастилии, знаменитый предводитель менад. О Станислас, тебя, ловкого наездника и человека, не чуждого законности, мы надеялись встретить в другом месте, а не здесь! Вот какую работу, стало быть, суждено тебе сделать, прежде чем навеки скрыться с наших глаз! В Лафорс, в Шатле, в Консьержери[22] образуются такие же суды и с такими же атрибутами: ведь то, что делает один человек, могут делать и другие. В Париже около семи тюрем, полных аристократами-заговорщиками; не обойдены даже Бисетр и Сальпетриер с их подделывателями ассигнатой[23]: ведь у нас семьдесят раз семьсот патриотических сердец в состоянии безумия. Имеются также и подлые сердца, и самые совершенные в своем роде, если таковые понадобятся. Для них в этом настроении закон все равно что не закон и убийство, как бы его ни называли, такая же работа, как и всякая другая.
И вот эти внезапно образовавшиеся самозваные суды заседают с разложенными перед ними тюремными реестрами; вокруг них стоит необычайный, дикий рев; внутри тюрьмы в ужасном ожидании сидят заключенные. Живо! Произносится имя, скрипят засовы, и перед нами заключенный. Вопросов предлагается немного (самозваный суд работает скоропалительно): роялистский заговорщик или нет? Очевидно, нет. В таком случае заключенного освобождают с криком "Vive la Nation!". Вероятно, да; и в этом случае заключенного освобождают, но без крика "Vive la Nation!", или же приговор гласит: отвести заключенного в Аббатство. "Значит, в Лафорс!" Добровольные экзекуторы хватают осужденного, он уже у внешних ворот; его "выпускают" или "ведут" не в Лафорс, а в ревущее море голов, под свод яростно занесенных сабель, пик и топоров, и он падает изрубленный. Падает другой и третий, образуется груда тел, и в канавах течет красная вода. Представьте себе вой этих людей, их потные, окровавленные лица, еще более жестокие крики женщин, потому что в толпе были и женщины, и брошенного в эту среду беззащитного человека! Журниак де Сен-Меар видал сражения, видел бунт мятежного Королевского полка, но от этого зрелища затрепетало и храбрейшее сердце. Заключенные швейцарцы, оставшиеся от 10 августа, "судорожно обнялись" и попятились назад; седые ветераны кричали: "Пощадите, Messieurs, ах, пощадите!" Но здесь пощады нет. Вдруг "один из этих людей выходит вперед. На нем синий камзол, ему около 30 лет; он немного выше среднего роста и благородной, воинственной наружности. "Иду первым, если уж решено, - говорит он. - Прощайте!" Потом, сильно швырнув назад шляпу, кричит разбойникам: "Куда идти? Покажите мне дорогу!" Отворяют створчатые ворота и объявляют о нем толпе. Он с минуту стоит неподвижно, потом бросается между пиками и умирает от тысячи ран".
Зарубают одного за другим; сабли приходится точить, а убийцы освежаются кружками вина. Бойня продолжается, от усталости громкий рев переходит в глухое рычание. Сменяющаяся толпа с мрачными лицами смотрит на это зрелище с равнодушным одобрением или осуждением, равнодушно признавая, что это необходимо. "Один англичанин в драповом пальто" поил будто бы убийц из своей походной фляжки - с какою целью, "если он не подговорен Питтом", известно только ему и сатане! Сообразительный д-р Моор, подойдя, почувствовал себя дурно и свернул на другую улицу. Этот суд присяжных действует скоро и строго. Нет пощады ни храбрости, ни красоте, ни слабости. Старик де Монморен, брат министра, был оправдан "трибуналом Семнадцатого" и отведен назад, сопровождаемый толчками ревущих галерей, но здесь его не оправдывают. Принцесса де Ламбаль уже легла спать. "Madame, вы должны отправиться в Аббатство". - "Я не хочу переселяться; мне хорошо и здесь". Ее заставляют встать. Она хочет поправить свой туалет, но грубые голоса возражают: "Вам недалеко идти". И ее также ведут к вратам ада, как явную приятельницу королевы. Она содрогается и отступает при виде окровавленных сабель, но дороги назад нет: вперед! Красивая голова рассекается топором, затылок отделяется. Красивое тело разрубается на куски среди гнусностей и циничных ужасов, проделываемых усатыми grandes-livres, ужасов, которые человечество склонно считать невероятными и которые должно читать только в оригинале. Эта женщина была прекрасна, добра и не знала счастья. Молодые сердца в каждом поколении будут думать про себя: "О достойная обожания, ты царственная, божественная и несчастная сестра-женщина! Почему я не был при этом с мечом или молотом Тора в руке[24]! Голову ее насаживают на пику и проносят под окнами Тампля для того, чтобы видела другая, еще более ненавистная голова - Марии Антуанетты. Один муниципал, находящийся в этот момент в Тампле с августейшими узниками, говорит: "Посмотрите в окно". Другой быстро шепчет: "Не смотрите". Ограда Тампля охраняется в эти часы длинной растянутой лентой; сюда врываются ужас и шум неумолкаемых криков; пока еще нет цареубийства, хотя возможно и оно.
Но поучительнее отметить проявление любви, остатки природной доброты, всплывающие в этом разгроме человеческих существований; наблюдается и это в некоторой степени. Вот, например, старый маркиз Казотт: он приговорен к смерти, но его молодая дочь сжимает его в своих объятиях и умоляет с красноречием, вдохновленным любовью, которая сильнее смерти; даже сердца убийц смягчаются - старик пощажен... Однако он был виновен, если участие в заговоре за своего короля составляет вину; через десять дней новый суд опять приговорил его, и он должен был умереть в другом месте, завещав дочери локон своих седых волос. Или возьмем старого де Сомбрейя, у которого тоже была дочь. "Мой отец не аристократ; о добрые господа, я готова поклясться и доказать, чем угодно, что мы не аристократы; мы ненавидим аристократов!" "Выпьешь аристократическую кровь?" - кричит один и подает ей в чашке кровь (так по крайней мере гласили общераспространенные слухи)20; бедная девушка пьет. "Значит, этот Сомбрей невиновен". Да, действительно, а теперь заметьте самое главное: как при известии об этом факте окровавленные пики опускаются к земле и рев тигров сменяется взрывом восторга по случаю спасенного брата; старика и его дочь со слезами прижимают к окровавленным грудям и на руках относят домой с торжественными криками "Vive la Nation!". Убийцы отказываются даже от денег! Не кажется ли такое настроение странным? Однако это доказано, подтверждено в некоторых случаях надлежащим образом свидетельскими показаниями роялистов21 и весьма знаменательно.
Глава пятая. ТРИЛОГИЯ
В наше время всякое описание, сколь бы эпическим оно ни было, "говорит само за себя, а не воспевает себя", поэтому оно должно или основываться на вере и доказуемых фактах, или же представлять не более основания, чем летающая паутина, так что читатель, может быть, предпочтет посмотреть на эти дни глазами очевидцев и на основании того, что он увидит, судить о них собственным умом. Предоставим храброму Журниаку, невинному аббату Сикару, рассудительному адвокату Матону говорить каждому со всевозможной краткостью. Книга Журниака "Тридцативосьмичасовая агония", хотя сама по себе и слабое произведение, выдержала, однако, "более 100 изданий". За неимением лучшего приведем здесь часть ее в 101-й раз.
"Около семи часов" (воскресенье, вечер, в Аббатстве; Журниак отмечает часы): "Мы видели, как вошли два человека с окровавленными руками, вооруженные саблями; тюремщик с факелом светил им; он указал на постель несчастного швейцарца Рединга. Рединг говорил умирающим голосом. Один из этих людей остановился, но другой крикнул: "Allons donc!" - и, подняв несчастного, вынес его на спине на улицу. Там его убили".
"Мы все молча смотрели друг на друга и схватились за руки. Неподвижные, мы устремили свои застывшие глаза на пол нашей тюрьмы, на котором лежал лунный свет, расчерченный на квадраты тройными решетками наших окон".
"Три часа утра. Они взломали одну из тюремных дверей. Мы думали сначала, что они пришли убить нас в нашей камере, но услышали из разговора на лестнице, что они шли в другую комнату, где несколько заключенных забаррикадировались. Как мы вскоре поняли, их всех там убили".
"Десять часов. Аббат Ланфан и аббат де Ша-Растиньяк взошли на кафедру часовни, служившей нам тюрьмой; они прошли через Дверь, ведущую с лестницы. Они сказали нам, что конец наш близок, что мы должны успокоиться и принять их последнее благословение. Словно от электрического толчка, мы все упали на колени и приняли благословение. Эти два старца, убеленные сединами, благословляющие нас с высоты кафедры; смерть, парящая над нашими головами, окружающая нас со всех сторон, - никогда не забыть нам этого момента. Через полчаса оба они были убиты, и мы слышали их крики". Так говорит Журниак в своей "Агонии в Аббатстве"; чем это кончилось для самого Журниака, мы увидим позже.
Теперь пусть добрый Матон расскажет, что он перестрадал и чему был свидетелем в те же часы в Лафорс. Его "Resurrection" - лучший, наименее театральный из этих памфлетов, выдерживающий сопоставление с документами.
"Около семи часов" в воскресенье вечером "стали часто вызывать заключенных, и они не возвращались больше. Каждый из нас по-своему объяснял эту странность, но мысли наши успокоились, когда мы убедили себя, что записка, представленная мною Национальному собранию, произвела впечатление.
В час ночи решетка, ведущая в наше помещение, снова растворилась. Четыре человека в мундирах, каждый с обнаженной саблей и горящим факелом, вошли к нам в коридор, предшествуемые тюремщиком, а затем в комнату, смежную с нашей, чтобы осмотреть ящик, который, как мы слышали, они взломали. Покончив с этим, они вышли в коридор и спросили человека по имени Кюисса, где находится Ламот (муж покойной Ламот, причастной к истории с ожерельем). Они сказали, что несколько месяцев назад Ламот выманил у одного из них 300 ливров под предлогом какого-то известного ему клада, для чего пригласил его на обед. Несчастный Кюисса, находившийся теперь в их руках и действительно погибший в эту ночь, ответил, дрожа, что он хорошо помнит этот факт, но не может сказать, что сталось с Ламетом. Решив найти его и устроить очную ставку с Кюисса, они обшарили с этим последним еще несколько комнат, но бесполезно, потому что мы слышали, как они сказали: "Пойдем поищем его между трупами, потому что, nom de Dieu! мы должны разыскать его".
В это самое время я услышал: "Луи Барди" - называли имя аббата Барди; его вытащили и тут же убили, как я узнал потом. Пять или шесть лет тому назад он был обвинен в том, что вместе со своей наложницей убил и изрезал на куски собственного родного брата, аудитора счетной палаты в Монпелье, но благодаря своей изворотливости, хитрости, даже красноречию Барди удалось провести судей и избежать наказания.
Можно себе представить, какой ужас охватил меня при словах: "Пойдем поищем между трупами". Я понял, что мне не остается ничего более, как приготовиться к смерти. Я написал завещание, закончив его просьбой и заклинанием передать бумагу по назначению. Не успел я положить перо, как вошли еще два человека в мундирах, один из них, у которого рука и весь рукав по плечо были в крови, сказал, что он устал, как каменщик, который разбивает булыжник".
Позвали Бодена де ла Шен: шестьдесят лет безупречной жизни не могли спасти его. Они сказали: "В Аббатство"; он прошел через роковые наружные ворота, испустил крик ужаса при виде нагроможденных тел, закрыл глаза руками и умер от бесчисленных ран. Всякий раз, как открывалась решетка, мне казалось, что я слышу мое собственное имя и вижу входящего Россиньоля.
Я сбросил халат и колпак, надел грубую, немытую рубашку, поношенный камзол без жилета и старую круглую шляпу, я послал за этими вещами несколько дней назад, опасаясь того, что могло случиться.
Комнаты в этом коридоре были пусты все, кроме нашей. Нас было четверо; казалось, о нас забыли, и мы сообща молились Предвечному, чтобы Он избавил нас от этой опасности.
Тюремщик Батист пришел сам по себе взглянуть на нас. Я взял его за руки, заклинал спасти нас, обещал 100 луидоров, если он отведет меня домой. Шум около решетчатых ворот заставил его поспешно удалиться.
Это был шум, производимый двенадцатью или пятнадцатью человеками, вооруженными до зубов, как мы видели из наших окон, лежа на полу, чтобы не быть замеченными. "Наверх! - кричали они. - Чтобы ни одного не осталось!" Я вынул перочинный ножик и соображал, в каком месте мне сделать порез но сообразил, что "лезвия слишком коротки", а также вспомнил "о религии".
Наконец, в восьмом часу утра к нам вошли четверо людей с дубинами и саблями! Одному из них товарищ мой Жерар стал что-то усердно шептать. Во время их переговоров я искал всюду башмаки, чтобы снять адвокатские туфли (pantoufles de Palais), бывшие на мне, но не нашел их. Констана, прозванного le sauvage, Жерара и еще третьего, имя которого я забыл, они сейчас же выпустили; что касается меня, то на моей груди скрестили четыре сабли и повели меня вниз. Меня представили в их суд, к персоне в шарфе, который играл роль судьи. Это был хромой человек, высокий и худощавый. Он узнал меня на улице и заговорил со мною семь месяцев спустя. Меня уверяли, что он сын бывшего адвоката по имени Шепи. Миновав двор, называемый Des Nourrices, я увидел ораторствующего Манюэля в трехцветном шарфе".
Процесс, как видим, окончился оправданием и resurrection (воскресением).
Бедный Сикар из арестантской камеры в Аббатстве скажет всего несколько правдивых слов, хотя и произнесенных дрожащим голосом. Около трех часов утра убийцы замечают это маленькое violon (арестантскую) и стучат в него со двора. "Я постучал тихонько, чтобы убийцы не слышали, в противоположную дверь, за которой заседал комитет секций; мне грубо ответили, что нет ключа. В violon нас было трое; моим товарищам показалось, что над нами есть что-то вроде чердака. No он был очень высоко, только один из нас мог добраться до него, поднявшись на плечи двух других. Один из них сказал мне, что моя жизнь полезнее их жизней. Я отказывался, они настаивали, спорить было некогда. Я бросился на шею двум моим спасителям; не могло быть сцены трогательнее этой. Я взобрался сначала на плечи первого, потом на плечи второго, потом на чердак и обратился к моим двум товарищам с изъявлениями признательности от полноты моей взволнованной души".
Оба великодушных товарища, как мы с радостью узнали, не погибли. Но пора дать Журниаку де Сен-Меар сказать свои последние слова и кончить эту странную трилогию. Ночь сделалась днем, и день снова превратился в ночь. Журниак, утомленный чрезмерным волнением, заснул и видел утешительный сон: он тоже познакомился с одним из добровольных экзекуторов и говорил с ним на родном провансальском наречии. Во вторник, около часу ночи, агония его достигла кризиса.
"При свете двух факелов я различал теперь страшное судилище, в руках которого была моя жизнь или смерть. Председатель, в старом камзоле, с саблей на боку, стоял, опершись руками о стол, на котором были бумаги, чернильница, трубки с табаком и бутылки. Около десяти человек сидело или стояло вокруг него, двое были в куртках и фартуках; другие спали, растянувшись на скамейках. Два человека в окровавленных рубашках стояли на часах у двери, старый тюремщик держал руку на замке. Напротив председателя трое мужчин держали заключенного, которому на вид было лет около шестидесяти (или семидесяти - это был маршал Малье, известный нам по Тюильри 10 августа). Меня поставили в углу, и сторожа мои скрестили на моей груди сабли. Я оглядывался по сторонам, ища своего провансальца; два национальных гвардейца, один из них пьяный, представили какое-то ходатайство от секции Красного Креста в пользу подсудимого; человек в сером отвечал: "Ходатайства за изменников бесполезны!" Тогда заключенный воскликнул: "Это ужасно, ваш приговор - убийство!" Председатель ответил: "Руки мои чисты от этого; уведите господина Малье". Его потащили на улицу, и сквозь дверную щель я видел его уже убитым.
Председатель сел писать; я думаю, что он записывал имя того, с кем только что покончили; потом я услышал, как он сказал: "Следующего!" (A un autre!)
И вот меня потащили на этот быстрый и кровавый суд, где самой лучшей протекцией было не иметь ее вовсе, и все ресурсы высшей изобретательности становились ничем, если не основывались на истине. Двое моих сторожей держали меня каждый за руки, третий - за воротник камзола. "Ваше имя, ваша профессия?" - сказал председатель. "Малейшая ложь погубит вас", - прибавил один из судей. "Мое имя Журниак Сен-Меар; я служил офицером двадцать лет и являюсь на ваш суд с уверенностью невинного человека, который не станет лгать!" "Увидим, - сказал председатель. - Знаете ли вы, за что вы арестованы?" - "Да, господин председатель, меня обвиняют в издании журнала "De la cour et de la ville". Но я надеюсь доказать ложность этого обвинения!"
Но нет, доказательство Журниака и его защита вообще, хотя и принесшие отличный результат, неинтересны для чтения. Они высокопарны, в них много фальшиво-театрального, хотя и не доходящего до неправдивости, но почти клонящегося к тому, Предположим, что его доказательства и опровержения, сверх ожидания, успешны, и перейдем скорее к катастрофе, поджидающей почти в двух шагах.
"Однако, - сказал один из судей, - дыма без огня не бывает; скажите нам, почему вас обвиняют в этом?" - "Я только что хотел сказать это". - И Журниак говорит все с большим и большим успехом.
"Более того, - продолжал я, - меня обвиняют в том, что я вербовал солдат для эмигрантов!" При этих словах поднялся общий ропот. "О Messieurs, Messieurs! - воскликнул я, возвышая голос. - Теперь мой черед говорить: я прошу господина председателя предоставить мне слово; оно никогда не было мне нужнее". "Верно, верно, - сказали со смехом почти все судьи. - Тише".
В то время как они обсуждали приведенные мною доказательства, привели нового заключенного и поставили его перед председателем. "Еще священник, сказали судьи. - Его захватили в часовне". После немногих вопросов было сказано: "В Лафорс!" Он бросил на стол свой требник: его вытащили наружу и убили. Я снова предстал перед судом.
"Вы все говорите, что вы не то и не другое, - крикнул один из судей с оттенком нетерпения. - но что же вы такое?" - "Я был явным роялистом". Тут опять поднялся общий ропот, но он был чудесным образом прекращен другим человеком, видимо заинтересовавшимся мной. "Мы здесь не для того, чтобы судить мнения, - сказал он, - а для того, чтобы судить результаты их". Если бы за меня ходатайствовали Руссо и Вольтер вместе, могли ли бы они сказать лучше? "Да, Messieurs, - крикнул я, - я был всегда открытым роялистом, вплоть до 10 августа. С 10 августа это дело конченое. Я француз, верный моей родине. Я всегда был честным человеком. Солдаты мои всегда относились ко мне с доверием. Даже за два дня до дела в Нанси, когда их подозрительность по отношению к офицерам достигла крайних пределов, они выбрали меня командиром, чтобы вести их в Люневиль, освободить арестованных из полка Местр де Камп и схватить генерала Мальсеня". По счастью, один из присутствующих мог достоверно подтвердить этот факт.
По окончании этого перекрестного допроса председатель снял шляпу и сказал: "Я не вижу ничего подозрительного в этом человеке. Я стою за дарование ему свободы. Каково ваше мнение?" На что все судьи ответили: "Oui, Oui, это правильно!""
Раздались виваты в комнате и снаружи, и Журниак, сопровождаемый стражами, вышел среди криков и объятий из суда и из пасти смерти. Так же спаслись Матон и Сикар, один освобожденный по суду, так как тощий председатель Шепи не нашел против него "абсолютно ничего", другой путем бегства и вторичной помощи доброго часовщика Мотона, и оба были встречены объятиями и слезами, на которые сами отвечали по мере своих сил.
Таким образом, мы выслушали их, всех троих, одновременно высказавших в необыкновенной трилогии или тройственном монологе свои ночные мысли в ужасные бессонные ночи. Мы выслушали этих троих, но остальные "тысяча восемьдесят девять, из которых двести два были священники"? Ведь и у них тоже были ночные мысли, но они безмолвствуют, навеки задушенные черной смертью. Их слышали только председатель Шепи и человек в сером!
Глава шестая. ЦИРКУЛЯР
Но что же делали все это время установленные власти: Законодательное собрание, шесть министров, городская Ратуша, Сантер с Национальной гвардией? Как подумаешь, что это за странный город! Театры, числом двадцать три, были открыты каждый вечер, невзирая на эти ужасы; в то время как здесь правые руки уставали от убийств, другие правые руки там пиликали на мелодических струнах; в ту самую минуту, когда аббат Сикар карабкался на вторую пару плеч и превращался в человека тройного роста, 500 тысяч человеческих существ спали, растянувшись, словно все шло своим чередом.
Что касается бедного Законодательного собрания, то скипетр уже ускользнул из его рук. Законодательное собрание посылало депутацию в тюрьмы, в эти уличные суды, и бедный Дюзо ораторствовал там, но решительно никого не мог убедить; в конце концов, так как он продолжал ораторствовать, даже уличный суд вмешался с угрозами, и он принужден был замолчать и удалиться. Это тот самый почтенный старик Дюзо, который долго рассказывал, почти пел, к нашему удовольствию, хотя и надрывным голосом, о взятии Бастилии. Он имел обыкновение в этом и во всех других случаях представлять себя переводчиком Ювенала[25]. "Добрые граждане, вы видите перед собою человека, любящего свою родину, и переводчика Ювенала", - сказал он однажды. ""Ювенала"? - прерывают санкюлоты. - Что это за черт - Ювенал? Один из ваших священных аристократов? На фонарь!" От оратора такого рода нечего было ожидать убедительности. Законодательному собранию было много хлопот со спасением одного из своих членов, или бывших членов, депутата Жунно, угодившего в одну из тюрем вследствие простых парламентских провинностей. Что касается бедного Дюзо и компании, то, вернувшись в зал Манежа, они сказали: "Было темно, и мы не могли хорошенько рассмотреть, что происходит".
Ролан пишет негодующие послания во имя порядка, гуманности и закона, но в его распоряжении нет силы. Национальная гвардия Сантера, по-видимому, ленива на подъем; хотя он производил, по его словам, переклички, но солдаты постоянно рассеивались. А разве мы не видели глазами адвоката Матона "людей в мундирах", у которых "рукава были до плеч в крови"? Петион ходит в трехцветном шарфе, говорит "на строгом языке закона"; пока он тут, убийцы унимаются; как только он отвернется, они снова принимаются за свое дело. Мы видели мимоходом, глазами Матона и Манюэля, также в шарфе, ораторствующего на дворе, Cour des Nourrices. С другой стороны, жестокий Бийо, в шарфе же, "в коротком пюсовом камзоле и черном парике, как привыкли его видеть"27, во всеуслышание произносит, "стоя посреди трупов" в Аббатстве, короткую, навеки памятную речь, передаваемую различными словами, имеющими всегда один и тот же смысл: "Достойные граждане, вы искореняете врагов свободы; вы исполняете свой долг. Благодарная Коммуна и Отчизна желали бы достойно вознаградить вас, но не могут из-за недостатка средств. Всякий работавший (travaille) в тюрьмах получит квитанцию на луидор, уплачиваемый нашим казначеем. Продолжайте свое дело". Законные власти отошли в область вчерашнего дня, тянут в разные стороны; в сущности нет законной власти, всякий сам себе голова, и все являются царьками, воюющими, союзниками или придерживающимися вооруженного нейтралитета, но не имеют над собой короля.
"О вечный позор! - восклицает Монгайяр. - Париж смотрел на это целых четыре дня, как оглушенный, и не вмешивался!" Действительно, крайне желательно было бы, чтобы Париж вмешался; однако нет ничего неестественного и в том, что он стоял так и смотрел, словно оглушенный. Париж в смертельной панике, враг и виселицы у его дверей: у кого хватает мужества бросить вызов смерти, тот находит полезнее сделать это, сражаясь с пруссаками, чем сражаясь с убийцами аристократов. Тут могло быть и негодующее отвращение, как у Ролана, и мрачное одобрение, преднамеренность или нет, как у Марата и Комитета спасения; тупое осуждение или тупое одобрение и, как общая черта, покорность необходимости и судьбе. Сыны тьмы, "двести или около того", поднявшиеся из своих тайников, имеют достаточно времени сделать свое дело. Побуждает ли их лихорадочное безумство патриотизма и безумие страха или корыстолюбие и плата в луидор? Нет, не корыстолюбие, потому что золотые часы, кольца, деньги убитых аккуратно приносятся в городскую Ратушу самими убийцами без штанов, которые торгуются потом из-за своего луидора; и Сержан, надевший на палец необыкновенно красивый перстень с агатом (искренне считая "себя имеющим на него право"), получает прозвище Agate-Сержан. Но общее настроение, как мы сказали, - тупая покорность. Только тогда, когда патриотическая и безумная часть дела кончена за недостатком материала и сыны мрака, явно стремящиеся только к наживе, начинают отнимать днем на улицах часы и кошельки и срывать брошки с шеи дамы "на экипировку волонтеров", только тогда настроение публики из тупого превращается в озлобленное, констебль поднимает свою палицу и хорошим ударом (как энергичный пастух) вгоняет "ход дел" назад, в старую, установленную колею. Даже Garde Meuble было тайно ограблено 17 сентября, к новому ужасу Ролана, который снова начинает волноваться и становится, по выражению Сиейеса, veto мошенников, Ролан - veto des coquins.
Такова была эта сентябрьская бойня, иначе называемая строгим народным судом. Таковы эти сентябристы (septembriseurs) - название, не лишенное некоторого значения и ореола, хотя и ореола адского пламени, сильно отличающегося от ореола наших героев Бастилии, которые сияли небесным светом, что не станет оспаривать ни один друг свободы; вот к какому обороту дела пришли мы с тех пор! Число убитых было, по данным исторической фантазии, "от двух до трех тысяч" или же "более шести тысяч", потому что Пельтье видел (во сне), как расстреливали "картечью" даже больных в доме умалишенных Бисетр; в конце концов их было "двенадцать тысяч" и несколько сот, но не более. По цифровым же данным и по спискам, составленным адвокатом Матоном, число их, включая двести двух священников, трех "неизвестных лиц" и "одного вора, убитого у бернардинцев", составляет, как указывалось выше, тысячу восемьсот девять человек, не менее[26].
Тысяча восемьсот девять человек лежат мертвыми; "двести шестьдесят трупов нагромождено на самом Пон-Шанж", и среди них один невинный31, вспоминая о котором Робеспьер будет впоследствии "почти плакать". Один, а не Двое, о ты, Неподкупный с зеленым лицом? Если так, санкюлотская Фемида может считать себя счастливой, ведь она так спешила! В неясных записях городской Ратуши, сохранившихся до наших дней, читаешь не без боли в сердце необычные в городских книгах графы расходов и выдач: рабочим, занимавшимся очисткой воздуха в тюрьмах, и лицам, заведующим этими опасными работами, столько-то, в разных графах около 700 фунтов стерлингов. Извозчикам, отвозившим "на Кламарское, Монружское и Вожирарское кладбище", - по стольку-то в день и за подводу; и это тоже записано. Потом столько-то франков и су "на потребное количество негашеной извести". Подводы идут по улицам, наполненные обнаженными человеческими телами, набросанными в беспорядке; торчат отдельные члены вот торчит бледно-желтая, окоченевшая рука, высунувшаяся из плотной кучи братских тел открытой ладонью к небу, как бы в молчаливом укоре, в немой молитве de profundis: Сжалься над сынами человеческими! Мерсье, проходя из Монружа "наутро после бойни по улице Сен-Жак", видел это, но не руку, а ногу, что он считает еще многозначительнее, неизвестно почему. Или то была нога человека, отталкивавшего от себя небо, устремлявшегося в порыве отчаяния и отвращения, подобно дикому нырку, в самые бездны небытия? Но и там найдет тебя Его рука, и Его правая рука удержит тебя, - несомненно, ради твоих хороших, а не дурных поступков, ради добра, а не ради зла! "Я видел эту ногу, - говорит Мерсье, - и узнаю ее в великий день Страшного суда, когда Предвечный, восседая на громах, будет судить и королей, и сентябристов".
Естественно и справедливо, что такие дела вызвали крик невыразимого ужаса не только среди французского дворянства и умеренных, но и во всей Европе, - крик, продолжающийся и по сей день. Свершилось непоправимое; дело это будет внесено в летописи мира наряду с самыми черными делами и никогда не изгладится из них, ибо в человеке, как мы говорили, есть трансцендентальности; он, бедное создание, стоит всюду "при слиянии бесконечностей", является тайной для самого себя и для других, стоит в центре двух вечностей, трех неизмеримостей - в пересечении первобытного света с вечным мраком! Итак, совершены были ужаснейшие вещи, особенно людьми горячего характера, доведенными до отчаяния. Сицилийская вечерня и "восемь тысяч убитых в два часа" - факт известный. Даже короли, и не в отчаянии, а только в затруднительном положении, сидели дни и годы (де Ту говорит, даже семь лет), обдумывая свой план варфоломеевской затеи, а потом в надлежащий момент зазвонил также в одно осеннее воскресенье тот же самый колокол церкви Сен-Жермен л'Оксерруа, и результаты известны34[27]. Почерневшие каменные стены парижских тюрем видели и раньше резню заключенных; люди убивали здесь своих соотечественников, бургундцы - арманьяков, внезапно арестованных; и так же, как и теперь, громоздились трупы и по улицам текла кровь. Мэр того времени Петион говорил строгим языком закона, и убийцы отвечали ему на старом французском наречии (это было 400 лет назад): "Maugre bieu, Sire, черт возьми вашу "справедливость", ваше "сострадание", ваш "разум". Проклятие Божие над тем, кто сжалится над этими фальшивыми изменниками арманьяка-ми, англичанами; эти собаки разорили нас, опустошили Французское королевство и продали его англичанам". И бойня продолжалась, убитых отбрасывают в сторону в количестве "тысячи пятисот восемнадцати, среди которых оказалось четыре лживых и коварных епископа и два председателя парламента". Ибо хотя мир, в котором мы живем, не мир сатаны, но сатана всегда пребывает в нем (под землей) и время от времени вырывается наружу. Человечество может кричать, бессвязно проклинать, сколько ему угодно: есть деяния, настолько выразительные сами по себе, что никакой крик не может быть слишком выразительным для них. Кричите вы, а действовали они.
Пусть кричит кто может в этой Франции, в этом парижском Законодательном собрании или парижской городской Ратуше, но есть десять человек, которые не кричат. Комитет общественного спасения издает циркуляр, помеченный 3 сентября 1792 года и разосланный по всем городским управлениям[28]; это слишком замечательный государственный акт, чтобы обойти его молчанием. "Часть ярых заговорщиков, содержащихся в тюрьмах, - гласит он, - была казнена народом, эти акты правосудия народ считал необходимыми для того, чтобы, устрашив террором, сдержать легионы изменников, укрывающихся в стенах Парижа, как раз в тот момент, когда он собирался выступить против врага; вне всякого сомнения, нация после длинного ряда измен, приведших ее на край пропасти, поспешит одобрить полезную и столь необходимую меру, и все французы, подобно парижанам, скажут себе: "Мы идем на врага, и мы не оставим у себя за спиной бандитов, чтобы они уничтожали наших жен и детей"". Под этим циркуляром стоят три четкие подписи: Панис, Сержан, Марат, Друг Народа36, и еще семь других, сохраненных странным образом для позднейших воспоминаний антикваров. Однако мы замечаем, что циркуляр их отозвался скорее на них самих. Городские управления не воспользовались им; даже обезумевшие санкюлоты пользовались им мало; они только орали и ревели, но не кусались. В Реймсе было убито "около восьми человек", да и за тех впоследствии были повешены двое. В Лионе и немногих других местах делались подобные попытки, но почти без результата и скоро были подавлены.
Менее счастливыми оказались заключенные в Орлеане и добрый герцог де Ларошфуко. Он ехал быстрыми перегонами с матерью и женой на воды в Форж или в какое-нибудь еще более спокойное место и был остановлен в Жизоре; возбужденная толпа провожала его по улицам и убила "ударом камня, брошенного в окно кареты". Его убили как бывшего либерала, теперь аристократа, покровителя священников, сместителя добродетельных Петионов, несчастного, горячего, но остывшего человека, ненавистного патриотам. Он умирает, оплакиваемый Европой; кровь его обрызгивает щеки его старой, девяностотрехлетней матери.
Что касается орлеанских узников, то они считаются государственными преступниками - это роялистские министры, Делессары, Монморены, числящиеся за Верховным орлеанским судом со времени его учреждения. По-видимому, сочли за лучшее передать их новому парижскому "трибуналу Семнадцатого", который действует гораздо быстрее. Поэтому пылкий Фурнье с Мартиники, Фурнье-Американец, отправляется, командированный законной властью, с верной Национальной гвардией и с поляком Лазовским[29], но со скудным запасом прогонных денег. Несмотря на плохие стоянки, трудности, опасности, ибо власти в это время действуют одна вопреки другой, они торжественно привозят этих пятьдесят или пятьдесят трех орлеанских заключенных в Париж, где их будет судить наш скорый "трибунал Семнадцатого". Но за это время в Париже образовался суд еще более скорый - скорейший суд "Второго Сентября"; не въезжайте в Париж, или он будет судить вас! Что делать пылкому Фурнье? Обязанностью его как добровольного полицейского - обладай он сильным характером - было бы сохранить жизнь этих людей, какими бы аристократами они ни были, ценой даже своей собственной ценной жизни, каким бы ни был он санкюлотом, до тех пор пока какой-нибудь законный суд не распорядился бы ими. Но он был несильного характера и несовершенным полицейским, пожалуй даже одним из самых несовершенных.
Пылкий Фурнье, которому одни власти приказывают ехать туда, другие сюда, сбит с толку этим множеством приказаний, но в конце концов направляется в Версаль. Заключенные его едут в телегах, он сам и гвардейцы, конные и пешие, окружают их со всех сторон. В последней деревне навстречу им выходит почтенный версальский мэр, озабоченный тем, чтобы прибытие и заключение прошли благополучно. Это было в воскресенье девятого числа. Когда узники въехали в Версальскую аллею, на сентябрьском солнце, под темно-зеленой сентябрьской листвой уже кишела несметная толпа народа. Казалось, весь город высыпал в эту аллею, обсаженную четырьмя рядами деревьев. Телеги с трудом подвигаются сквозь живое море: гвардейцы и Фурнье с еще большим трудом расчищают дорогу; мэр говорит и жестикулирует самым убедительным образом среди нечленораздельного ропота и гудения, которые становятся все громче, возбуждаясь своим собственным шумом, и местами прорываются озлобленным ревом. Дал бы бог нам поскорее выбраться из этой тесноты! Авось ветер и расстояние охладят этот пыл, готовый в мгновение ока вспыхнуть ярким пламенем!
По если тесна широкая аллея, то что же будет на следующей за ней, на улице Сюрентанданс? На углу ее отдельные крики превращаются в несмолкающий рев; дикие фигуры вскакивают на оглобли телег, как первые брызги бесконечного, надвигающегося потока! Мэр умоляет, почти в отчаянии расталкивает толпу; его также толкают и наконец уносят на руках; дикий поток открыл себе свободный доступ и царит надо всем. Среди отвратительного шума и рева, похожего на вой волков, заключенные падают мертвыми -все, кроме одиннадцати, которые спаслись в домах обывателей, где встретили сострадание. Тюрьмы с находящимися в них другими арестованными с трудом удалось отстоять Сорванное платье сожгли на потешных огнях; трупы лежат, наваленные в канаве, еще и на следующее утро. Вся Франция, за исключением десяти человек, подписавших циркуляр, и их агентов, стонет и кричит, кипя от негодования; вся Европа вторит ей.
Но Дантон не кричит, хотя это дело ближе всего касается его как министра юстиции. Суровый Дантон стоит на бреши штурмуемых городов и возмущенных наций, среди грохота пушек 10 августа, шороха прусских веревок, взмахов сентябрьских сабель; вокруг него идет уничтожение и разрушение миров. Его называют министром юстиции, но по профессии он титан Утраченной Надежды и Enfant Perdu революции, и он действует сообразно своему положению. "Мы должны устрашить наших врагов!" Но разве их уже сам собою не обуял глубокий страх? Титан Утраченной Надежды меньше всего склонен рассеять его. Вперед, погибший титан, Enfant Perdu! Ты должен дерзать и дерзать без конца, больше тебе ничего не остается! "Que mon nom suit fletri" (пусть имя мое покроется позором). Что я значу? Важно только дело, оно должно жить, а не погибнуть. Итак, перед нами новый сокрушитель формул и с более широкой глоткой, чем у Мирабо: это Дантон-Мирабо санкюлотов. В сентябрьские Дни не слышно было, чтобы этот министр работал совместно со строгим Роланом; у него другое дело: с герцогом Брауншвейгским и Ратушей. Когда один чиновник обратился к нему по поводу орлеанских заключенных и опасностей, которым они подвергались, он мрачно повторил дважды: "Разве эти люди не виновны?" Когда же тот продолжал настаивать, "он ответил ужасным голосом" и повернулся спиной. Тысяча убитых в тюрьмах, если хотите, но Брауншвейг находится от нас всего в одном дне пути, и у нас еще 25 миллионов, которых можно отдать на избиение или спасти. Некоторым людям выпадают задачи пострашнее наших! Кажется странным, но на самом деле не странно, что этот министр Молоха-Правосудия проявлял человечность и сострадание, когда к нему обращались с прошениями о помиловании друзей, и "всегда" уступал и исполнял просьбу; замечательно также, "что ни один личный враг Дантона не погиб в эти дни".
Кричать, когда совершаются известные деяния, правильно и неизбежно, говорим мы. Тем не менее отличительная способность человека членораздельная речь, а не крик; если же речь еще невозможна, по крайней мере скоро, то лучше молчать. Поэтому в этот сорок четвертый год после описанных событий и в тысяча восемьсот тридцать шестой эры, называемой христианской, как lucus a non, мы рекомендуем и сами соблюдаем - молчание. Вместо того чтобы продолжать кричать, было бы, пожалуй, поучительно заметить, с другой стороны, какая странная вещь - нравы (по латыни mores) и как сообразно доблесть (Virtus), т. е. мужественность или достоинство, заключенное в человеке, называются его моральностью или нравственностью. Кровожадное убийство, один из несомненнейших продуктов ада, обратившись в обычай, становится войной, с законами войны, и, как обычное, становится моральным, и люди в красных мундирах ходят опоясанные орудиями убийства и даже имеют при этом гордый вид, чего мы отнюдь не порицаем. Но пока убийство одето в рабочую или мужицкую блузу и революция, более редкая, чем война, еще не издала своих законов, убийцы в грубых блузах необычны. О возлюбленные кричащие тупоголовые братья, закроем наши разинутые рты, перестанем кричать и начнем думать!
Глава седьмая. СЕНТЯБРЬ В АРГОННЕ
Одно во всяком случае ясно: устрашение, которого желали добиться эти враги аристократов, было достигнуто. Итак, дело становится серьезным! Санкюлотство тоже стало фактом и, по-видимому, намерено провозгласить себя таковым? Этот чудовищный урод - санкюлотство, скачущий, как теленок, не только смешон и кроток, как все телята, но и страшен, если вы уколете его, из его отвратительных ноздрей вырывается огонь! Аристократы с бледным ужасом в сердце прячутся подальше, и многие вещи озаряются для них новым светом или, вернее, смутным переходом к свету, благодаря чему в данную минуту мрак кажется еще темнее, чем когда-либо. Что же станет с Францией? Вот в чем вопрос. Франция танцует вальс пустыни, подобно Сахаре, когда поднимается ветер; 25 миллионов кружатся в вихре; вальсируя, направляются к городским ратушам, аристократическим тюрьмам и избирательным комитетам, к Брауншвейгу и границам - к новой главе всемирной истории, если только это не конец, не развязка всего!
В избирательных комитетах теперь уже нет сомнений, и дело идет без заминки. Конвент избирается - в очень решительном духе; в городской Ратуше мы уже отмечаем первый год Республики[30]. Около 200 наших лучших законодателей могут быть избраны вновь. Гора в полном составе: Робеспьер с мэром Петионом, Бюзо, священник Грегуар, Рабо и около 60 членов бывшей Конституанты, хотя некогда у нас было всего "тридцать голосов". Избираются все они и наряду с ними друзья, давно уже пользующиеся революционной славой: Камиль Демулен, хотя он и заикается; Манюэль, Тальен и компания; журналисты Горса, Карра, Мерсье, Луве, автор "Фобласа", Клоотс, спикер человечества; Колло д'Эрбуа, актер, безумствующий на сцене; Фабр д'Эглантин, памфлетист-теоретик; Лежандр, плотный мясник; даже Марат, хотя сельская Франция с трудом может поверить этому или даже вообще поверить, что Марат существует не только в печати. О министре Дантоне, который ради членства откажется от министерского портфеля, уж нечего и говорить. Париж охвачен выборной горячкой; провинция тоже не отстает: Барбару, Ребекки и пламенные патриоты приезжают из Марселя. Собирается 745 (в действительности 749, так как Авиньон посылает четверых); собралось их много, но разойдется меньше!
Адвокат Каррье[31] из Орильяка, бывший священник Лебон из Арраса - оба составят себе имя. Гористая Овернь вновь избирает своего Ромма, отважного земледельца, бывшего профессора математики, который бессознательно втайне вынашивает замечательный Новый календарь с мессидорами, плювиозами и т. п. и, выпустив его в свет, умрет так называемой римской смертью. Является и бывший член Конституанты Сиейес, является составлять новые конституции, сколько бы их ни понадобилось; впрочем, осмотревшись своими зоркими, осторожными глазами, он притаится при многих опасностях, решив, что надежнее молчать. Приезжает молодой Сен-Жюст, депутат Северной Эны, более похожий на студента, чем на сенатора, автор нескольких книг; это юноша, которому еще нет 24 лет, со стройной фигурой, сладким голосом, восторженным смуглым лицом и длинными черными волосами. Из далекой долины Орк в отрогах Пиренеев приезжает Феро, пылкий республиканец, которому суждена слава, по крайней мере посмертная.
Съезжаются всякого рода патриоты: учителя, сельские хозяева, священники настоящие и бывшие, купцы, доктора, но более всего говоруны, или адвокаты. Есть и акушеры, как Левассер из Сарты; художники: толстый Давид с раздутой щекой, долго рисовавший с порывистой гениальностью, а теперь собирающийся законодательствовать. Распухшая щека, заглушающая его слова при самом их зарождении, делает его совершенно негодным как оратора; но его кисть, голова и смелое, горячее сердце с порывистой гениальностью окажутся на месте. Это человек с телесным и умственным флюсом, рыхлый, непропорционально раздавшийся в ширину, а не в вышину, при этом слабый в конвульсивном состоянии и несильный в спокойном; но пускай и он сыграет свою роль. Не забыты и натурализованные благодетели рода человеческого. Орнский департамент избирает Пристли, который отказывается; Па-де-Кале - мятежного портного Пейна, который принимает мандат.
Дворян избирается немного, но все же они есть. Один из них - Поль Франсуа Баррас, "благородный, как все Баррасы, и старый, как скалы Прованса". Этого беспечного человека, столько раз терпевшего крушения, судьба выбрасывала то на берег Мальдивских островов, что было давно, в бытность его матросом и солдатом в качестве индийского воина, то впоследствии, когда он был парижанином на пенсии, алчным до наслаждений, на разные острова Цирцеи, где он пребывал во временном очаровании или во временном скотском или свинском состоянии[32]. Его послал теперь в Париж отдаленный департамент Вар. Это человек горячий и торопливый, лишенный дара слова и даже не имеющий что сказать, но не лишенный сообразительности и мужества, хотя и скоропреходящего, который, если Фортуна будет благоприятствовать, может пойти далеко в такие времена. Он высокого роста, красивой внешности, "хотя лицо немного желтовато", но "в пурпурной мантии и с трехцветным плюмажем в торжественных случаях" он будет очень представителен. Лепелетье де Сен-Фаржо, бывший член Конституанты, тоже своего рода дворянин, обладающий огромным богатством, и он также попал сюда не для того ли, чтобы добиться отмены смертной казни? Несчастный экс-парламентарий! Среди 60 бывших членов Конституанты мы видим даже Филиппа Орлеанского, принца крови! Но теперь он уже не d'Orleans: он просит своих достойных друзей, парижских избирателей, дать ему новое имя по их выбору, так как феодализм сметен с лица земли; в ответ на это прокурор Манюэль, ученый любитель антитез, предлагает имя Egalite - Равенство. Итак, в Конвенте, пред лицом земли и неба, будет заседать Филипп Эгалите.
Таков собирающийся Конвент. Да это просто сердитые куры в период линьки, с которыми брауншвейгские гренадеры и канониры не станут долго церемониться! Лишь бы погода, как все еще молится Бертран, улучшилась немножко.
Напрасно, Бертран! Погода не улучшится ни капли, но если б даже она улучшилась? Дюмурье-Полипет проснулся утром 29 августа, после короткого сна, в Седане, чтобы действовать украдкой быстро и смело, чего Бертран не знает. Примерно на четвертое утро после того герцог Брауншвейгский, едва раскрыв глаза, замечает, что все Аргоннские проходы заняты: завалены срубленными деревьями, укреплены лагерями; словом, ловкий и проворный Дюмурье перехитрил его!
Этот маневр, пожалуй, будет стоить Брауншвейгу "потери трех недель", что при данных обстоятельствах может иметь для него роковые последствия. Между ним и Парижем лежит горный хребет сорок миль длиной, который он должен был бы занять раньше; но как завладеть им теперь? Вдобавок каждый день льет дождь, и мы находимся в голодной, вшивой Шампани, в стране, где земля вся пропитана водой из канав. Как перейти эти горные стены Аргонн или что, черт возьми, с ними делать? Начинаются переходы, шлепанье по мокрым крутым тропинкам с проклятиями и гортанными восклицаниями, штурмы Аргоннских проходов, которые, к несчастью, нельзя взять штурмом. В лесах слышно эхо солдатских залпов, похожее на музыку чудовищного гонга или на литавры Молоха; вздувшиеся потоки сердито рокочут у подножия скал, унося бледные трупы людей. Напрасно! Деревня Илетт со своей колокольней стоит невредимо в горном проходе среди обнявших ее высот; форсированные марши и карабканья превратились в форсированные скатывания и падения. С вершин холмов видны только немые утесы и бесконечные мокрые, словно плачущие, леса; клермонтская Vache (огромная корова) временами показывается43, сбрасывая с себя свой облачный покров, и снова натягивает его, закутываясь в пелену дождя. Аргоннские проходы не поддаются штурму - приходится обходить их, огибая хребет.
Можно себе представить, как потускнел блеск вельможных эмигрантов; вряд ли их "пехотный полк с красными отворотами и в нанковых шароварах" сохранил свой парадный вид! Вместо гасконад грозит наступить нечто вроде отчаяния и водобоязни из-за излишка воды. Молодой принц де Линь, сын храброго ученого де Линя, грозы франтов, падает, убитый в Гран-Пре, самом северном из проходов. Герцог Брауншвейгский с трудом пробирается вокруг южной окраины Аргонн. Четыре дня под дождем, как во времена Ноева потопа, без огня, без пищи! Чтобы развести огонь, срубают зеленые деревья и получают только дым, а единственная пища - зеленый виноград, от которого возникают колики, инфекционная дизентерия. Крестьяне убивают вас вместо того, чтобы присоединиться к вам; визгливые женщины стыдят вас, грозятся пустить против вас в ход свои ножницы! О злополучные потускневшие аристократы и страдающие водобоязнью, шлепающие нанковые шаровары! Но в десять раз несчастнее вы, бедные ругающиеся гессенцы и уланы, лежащие на спинах с помертвевшими лицами и не имеющие никаких поводов умирать здесь, кроме принуждения и 3 су в день! Невесело и г-же Ле Блан из "Золотой руки" в ее беседке из мокрого камыша. Убийц из крестьян вешают; бывших членов Учредительного собрания, хотя бы и почтенного возраста, возят в телегах со связанными руками; таковы горестные плоды войны!
Таким образом, с кружением и спотыканием, совершается обход по склонам и проходам Аргоннских гор, обернувшийся для герцога Брауншвейгского катастрофической потерей двадцати пяти дней. Происходят стычки и сражения то с тыла, то с фронта, смотря по тому, как меняются позиции: Аргоннский лес частью обходится, частью штурмуется. Но как ни штурмуют, как ни обходят, а Дюмурье все стоит как вросший в землю, поворачиваясь то в ту, то в эту сторону, всюду показывая фронт, и притом самым неожиданным образом, и никак не соглашается убраться. К нему отовсюду стремятся отважные рекруты, но с ними трудно управляться. За Гран-Пре, например, находящимся на невыгодной для нас стороне Аргонн, так как мы окружены теперь Брауншвейгом и он теснит нас, во время одного из поворотов фронтом к неприятелю наши храбрецы вдруг потеряли равновесие, как нередко бывает и с храбрыми людьми. Поднялся крик "Sauve qui peut!" (спасайся, кто может!), и началась паника, чуть было не погубившая все. Генерал должен был поспешно прискакать, чтобы удерживать и собирать солдат громовыми словами, жестами и даже сабельными ударами, пока не удалось пристыдить их44; ему пришлось даже схватить первых крикунов и зачинщиков, приказать "выбрить им головы и брови" и прогнать их как предостережение остальным. В другой раз уже готов был вспыхнуть мятеж, потому что порции действительно были очень малы, а стояние в мокроте с пустым желудков портит настроение духа. Тогда снова появляется Дюмурье "перед рядами" со своим штабом и эскортом из 100 гусар. Он ставит позади непокорных несколько эскадронов, а с фронта - артиллерию и говорит: "Что касается вас, я не хочу называть вас ни гражданами, ни солдатами. ни моими детьми (ni mes enfants); вы видите перед собой артиллерию, а позади нас кавалерию. Вы опозорили себя преступлениями. Если вы исправитесь и будете вести себя, как эта храбрая армия, к которой вы имеете честь принадлежать, то найдете во мне доброго отца. Но грабителей и убийц я здесь не потерплю. При малейшем возмущении вы будете изрублены в куски (hacher en pieces). Отыщите негодяев, которые находятся среди вас, и прогоните их сами; я возлагаю ответственность за них на вас".
Терпение, о Дюмурье! Эти ненадежные шайки крикунов и бунтовщиков, как только обучатся и закалятся, превратятся в несокрушимую фалангу борцов и будут по приказу свертываться и развертываться с быстротой ветра или вихря. Это будут опаленные усатые люди, часто босые, даже полураздетые, с железными нервами, требующие только хлеба и пороха, - настоящие сыны огня, самые ловкие, быстрые и храбрые со времен, быть может, Аттилы. Они будут завоевывать и покорять страны так же изумительно, как это делал Аттила, лагерь и поле сражения которого ты видишь и теперь на том же месте46, где он, опустошив мир после тяжелых и многодневных сражений, был задержан римлянином Аэцием и Фортуной и принужден, как туча пыли, снова исчезнуть на восток1
Не странно ли, что в этом шумном солдатском сброде, который мы уже давно видим в самоубийственной междоусобице и самоубийственных столкновениях - в Нанси или на улицах Меца, где храбрый Буйе стоял с обнаженной саблей, и который распадался с тех пор все больше и больше, пока не дошел до того состояния, в каком мы видим его теперь; не странно ли, что в этом кричащем сброде заложен первый зародыш возвращающегося порядка Франции? Вокруг этого зародыша бедная Франция, почти распавшаяся, тоже самоубийственно, в хаотические развалины, с радостью соберется, начнет расти и воссоздаваться из своей неорганической пыли; это будет совершаться очень медленно, в продолжение веков. Пройдут Наполеоны, Луи-Филиппы и другие промежуточные фазы, пока эта страна не превратится в новую и, как можно надеяться, бесконечно лучшую Францию!
Эти повороты и движения в районе Аргонн, точно описанные самим Дюмурье и более интересные для нас, чем лучшие шахматные партии Гойля или Филидора, мы, читатель, тем не менее опустим совершенно и поспешим отметить две вещи: первую - незначительную и частную, вторую - имеющую большое общественное значение. Наша незначительная частность - это присутствие в прусском войске, при этой военной игре в Аргонне, некоего человека, который принадлежит к разряду бессмертных и который с тех пор видится все более и более бессмертным, по мере того как преходящее все более обесцвечивается. Замечено уже в древности, что боги редко являются среди людей в таком виде, чтобы их можно было узнать; так, например, пастухи Адмета[33] дают Аполлону глоток из своей обтянутой козлиной кожей фляжки (хорошо еще, что они не отстегали его своими кнутами), не воображая, что перед ними бог Солнца! Имя этого человека - Иоганн Вольфганг Гете. Он министр герцога Веймарского, приехавший с небольшим веймарским отрядом для занятия незначительного невоенного поста; он не известен почти никому! В настоящее время он стоит, натянув поводья, на холме около Сен-Менеульда и производит исследование над "пушечной горячкой". Он приехал сюда вопреки всем убеждениям, чтобы посмотреть на пляску пушечных ядер, с научным желанием узнать, что, собственно, такое пушечная горячка. "Звук пушечной пальбы, - говорит он, - довольно любопытен; он состоит точно из жужжанья волчков, журчанья воды и свиста птицы. Временами вы испытываете непривычное ощущение, о котором может дать понятие только сравнение. Вам кажется, что вы стоите в чрезвычайно жарком месте и в то же время совершенно проникаетесь его жаром, так что вы чувствуете, что вы и эта среда, в которой вы находитесь, составляет одно целое. Зрение не утрачивает нисколько своей остроты и ясности, и, однако, все предметы приобретают красновато-коричневый цвет, благодаря чему обстановка и предметы производят на вас еще более сильное впечатление".
Такова пушечная горячка в восприятии мирового поэта. Человек совершенно неизвестный! Между тем в этой безвестной голове находится умственный оттиск (и дополнение) этого самого необычайного умирания и возрождения мира, которое совершается теперь снаружи - в Аргонне, в пушечном грохоте, внутри в безвестной голове, совершенно иначе, без всякого грохота. Отметь этого человека, читатель, как самого замечательного из всех замечательных людей в этой Аргоннской кампании. То, что мы говорим о нем, не сон и не цветистое выражение, а научный, исторический факт, что многие теперь, на расстоянии, уже видят или начинают видеть.
Крупное же общественное событие, которое мы должны отметить, заключается в следующем: 20 сентября 1792 года утро было холодное, очень туманное; с трех часов утра Сен-Менеульд, деревни и дворы, давно уже нам знакомые, были разбужены грохотом артиллерийских повозок, топотом копыт и многих тысяч человеческих ног; всякого рода войска, патриотические и прусские, заняли позиции на возвышенностях Луны и других высотах, передвигаясь взад и вперед, как в какой-то ужасающей шахматной игре, которой, дай бог, хорошо кончиться! Мельник в Вальми, весь в пыли, заполз в подпол; его мельница, какой бы ни был ветер, сегодня будет отдыхать. В семь часов утра туман рассеивается; Келлерман, второй командир после Дюмурье, стоит во всей славе с "восемнадцатью пушками" и тесно сомкнутыми рядами, построенными вокруг той самой безмолвной ветряной мельницы. Герцог Брауншвейгский, также с сомкнутыми рядами и пушками, мрачно взирает на него с возвышенности Луны; их разделяют теперь только маленький ручеек и его маленькая лощина.
Итак, давно ожидаемое наконец наступило! Вместо голода и дизентерии будет перестрелка, а потом! - Дюмурье с войсками и твердым фронтом смотрит с соседней возвышенности, но может помогать делу только молча, пожеланиями. И вот! Восемнадцать орудий ревут и лают в ответ на рев с Луны, громовые тучи поднимаются в воздух, эхо гремит по всем долинам, до самых недр Аргоннского леса (теперь покинутого), и человеческие члены и жизни в беспорядке летят во все стороны. Может ли Брауншвейг произвести на них какое-нибудь впечатление? Оглушенные блестящие сеньоры стоят, кусая ногти: эти санкюлоты не бегут, как куры!
Около полудня пушечное ядро разрывает лошадь под Келлерманом; в воздух взлетает подвода с порохом, взрыв которого заглушает все; замечаются некоторое колебание и перевес на стороне Брауншвейга, который хочет попробовать нанести решительный удар. "Camarades! - кричит Келлерман. - Vive la Patrie! Allons vaincre pour elle" (Да здравствует Отчизна! Победим ради нее). "Да здравствует Отчизна!" - гремит ответ, несущийся к небу, подобно беглому огню, перекатывающемуся с одного фланга на другой; наши ряды снова тверды, как скалы, и Брауншвейг принужден перебираться обратно через лощину и ни с чем вернуться на свою старую позицию на Луне. Между прочим, не без урона. И так продолжается весь сентябрьский день - с грохотом и лаем, далеко разносимыми ревущим эхом! Канонада длится до заката солнца, а результата все нет. Через час после заката немногие оставшиеся в округе часы бьют семь; в этот час Брауншвейг делает новую попытку, но не более удачную! Его встречают гранитные ряды и с кликами "Vive la Patrie!" снова принуждают отступить с большими потерями. После этого он умолкает, удаляется "в таверну на Луне" и принимается возводить редут, чтобы не быть самому атакованным!
Да, приунывшие сеньоры, дело плохо, как ни изворачивайтесь! Франция не поднимается вокруг вас; крестьяне не присоединяются к вам, а, наоборот, вас же убивают; ни угрозы виселицей, ни увещания не действуют ни них! Они утратили былую, отличавшую их любовь к королю и к королевской мантии, боюсь, утратили навсегда и готовы даже сражаться, чтобы избавиться от них; таково, по-видимому, их настроение теперь. Австрия также не может похвастаться успехом: осада Тионвиля не подвигается вперед. Тионвильцы дошли даже до такой дерзости, что выставили на стены деревянную лошадь с привязанным к ней пучком сена и с надписью: "Возьмете Тионвиль, когда я съем сено". Вот до чего дошло человеческое безумие!
Траншеи Тионвиля могут замолчать, но что в этом толку, если заговорят траншеи Лилля? Не улыбаются нам ни земля, ни небо; оно хмурится и плачет скучным холодным дождем. Оскорбляют нас даже друзья наши; оскорбляют в доме наших друзей: "Его Величество король прусский имел с собой пальто, когда пошел дождь, и (вопреки всем правилам вежливости) надел его, хотя у наших двух французских принцев, надежды своей страны, не было пальто!" Чем, в самом деле, как признает сам Гете, можно было на это ответить49? Холод, голод и оскорбления, колики, дизентерия и смерть, и мы жмемся в редутах, утратив всякую внушительность, среди "растрепанных снопов хлеба и потоптанного жнива", на грязной высоте Луны, около скверной таверны того же названия!
Такова эта канонада у Вальми, во время которой мировой поэт производил исследования над "пушечной горячкой" и когда французские санкюлоты не побежали, как куры. Она имела огромное значение для Франции! Каждый солдат исполнял свой долг, и эльзасец Келлерман (который был много лучше старого, отставленного Люкнера) начал приобретать славу; и отличился здесь Egalite-fils (Эгалите-младший), исполнительный, мужественный штаб-офицер, это тот самый неустрашимый человек, который теперь под именем Луи-Филиппа, без Эгалите, борется, при печальных обстоятельствах, за то, чтобы называться в течение одного сезона королем французов.
Глава восьмая. EXEUNT[34]
Это 20 сентября - великий день и в другом отношении, ибо в то самое время, как у мельницы в Вальми под Келлерманом разорвало лошадь, наши новые национальные депутаты, которые должны превратиться в Национальный Конвент, сходятся в зале Ста Швейцарцев с целью учреждения этого Конвента!
На следующий день, около полудня, архивариус Камю занят "проверкой их полномочий"; несколько сот их уже здесь. Затем торжественно является старое Законодательное собрание и, наподобие феникса, пересыпает свой старый пепел в новый законодательный корпус, после чего все так же торжественно возвращаются в зал Манежа. Национальный Конвент в полном или достаточно полном составе (749 членов) открывает заседание под председательством Петиона и прямо приступает к делу. Прочти отчет о дебатах этого дня, читатель: равных им немного; даже скучный "Moniteur", сообщая о них, становится драматичнее Шекспира. Язвительный Маню-эль встает и говорит странные вещи: что председатель должен иметь почетную стражу и жить в Тюильри - отклонено. Встают и говорят Дантон, и Колло д'Эрбуа, и священник Грегуар, и хромой Кутон с Горы; и все в коротких строфах, всего по нескольку строк каждая, вносят немало предложений: что краеугольный камень нашей новой конституции есть державная власть народа; что наша конституция должна быть принята народом или она ничтожна; что народ должен быть отмщен и должен иметь справедливый суд; что налоги должны взиматься по-прежнему до новых распоряжений; что земельная и всякая другая собственность должна быть священна навеки; наконец, что "королевская власть во Франции отныне уничтожена". Все это утверждается при восторженном одобрении мира еще прежде, чем пробило четыре часа50! Плоды были совсем зрелы; достаточно было только тряхнуть дерево, чтобы они посыпались желтой массой.
И что за суматоху вызывают эти новости в местности около Вальми! Они производят воодушевление, видимое и слышимое с наших грязных высот Луны. Что за ликование у французов на противоположных холмах: фуражки поднимаются на штыки, и слышится слово "Республика", и слабо доносится по ветру: "Vive la Republique!" На следующее утро, до рассвета, герцог Брауншвейгский связывает, так сказать, свои ранцы, зажигает сколько может огней и уходит без барабанного боя. Дюмурье находит страшные следы в этом лагере: "полные крови latrines (отхожие места)". Рыцарский король Пруссии, бывший здесь, как мы видели, собственной персоной, может долго сожалеть об этом дне и относиться холоднее, чем когда-либо, к этим когда-то блестящим, но потускневшим сеньорам и принцам - надежде своей родины; может и пальто свое надевать без всякой церемонии, благо оно у него есть. Они уходят, уходят все, с надлежащей поспешностью через превратившуюся в трясину Шампань, поливаемые жестоким дождем; Дюмурье при помощи Келлермана и Диллона покалывает их немного с тыла. Он то покалывает, то вступает в переговоры, так как глаза Брауншвейга теперь открыты и прусское королевское величество стало величеством кающимся.
Не повезло и Австрии: ни деревянный конь Тионвиля не съел своего сена, ни город Лилль не сдался. Лилльские траншеи, открывшиеся 29 сентября, извергают пули, гранаты и раскаленные ядра, словно открылись не траншеи, а Везувий и самый ад. Все очевидцы говорят, что это было ужасно, но безрезультатно. Лилльцы дошли до страшного воодушевления, особенно после известий из Аргонны и с востока. Ни один лилльский санкюлот не сдался бы и за царский выкуп. Между тем раскаленные ядра сыплются на город, и ночью их было выпущено "шесть тысяч" или около того, не считая бомб, "наполненных скипидарным маслом, которое брызжет огнем", преимущественно на дома санкюлотов и бедняков; богатые кварталы щадятся. Но санкюлоты берутся за ведра с водой, образуют пожарные команды: "Бомба попала в дом Пьера!", "Бомба попала к Жану!" Они делятся квартирами и припасами, кричат" "Vive la Republique!" - и не падают духом. Пуля влетает с треском в зал городской Ратуши во время заседания Коммуны. "У нас непрерывное заседание", - говорит кто-то хладнокровно, продолжая свое дело, и пуля, застрявшая в стене, вероятно, и доныне53 заседает там непрерывно.
Эрцгерцогиня австрийская (сестра французской королевы) хочет посмотреть на пальбу раскаленными ядрами, и от излишней поспешности удовлетворить ее желание "две мортиры разрываются и убивают тридцать человек". Все тщетно: Лилль часто горит, но пожары всегда тушатся, и Лилль не хочет сдаваться. Даже мальчики ловко вырывают фитили из упавших бомб: один человек накрывает катящуюся гранату своей шляпой, которая загорается; когда граната остывает, ее увенчивают красным колпаком. Стоит упомянуть также о проворном цирюльнике, который, когда возле него разорвалась бомба, схватил осколок ее и, наполнив его мыльной пеной, вскричал: "Voila mon plat a barbe!" (Вот мой тазик для бритья!) - и тут же обрил "четырнадцать человек". Браво, проворный брадобрей, ты достоин брить привидение в красной мантии и находить клады! На восьмой день этой безнадежной осады, в шестой день октября, Австрия, признав ее бесплодной, уходит с сознанием неудовлетворения, и уходит поспешно, так как сюда направляется Дюмурье; а Лилль, черный от дыма и пепла, но шумно ликующий, распахивает свои ворота, Plat a barbe входит в моду; "нет ни одного франта-патриота, - говорит Мерсье несколько лет спустя, - который не брился бы из осколка лилльской бомбы".
Quid multa? (К чему многословие?) Непрошеные гости бежали; войско герцога Брауншвейгского, треть которого погибла, обескураженно бредет, спотыкаясь, по вязким дорогам Шампани или рассыпается "по полям из липкой, губчатой красной глины", "подобно Фараону, идущему через Красное море грязи", говорит Гете; "ведь и здесь валялись изломанные повозки и конница и пехота увязали на каждом шагу". Утром 11 октября всемирный поэт, выбравшись на север из Вердена, куда он вошел пять недель тому назад с юга, в совершенно другом порядке, созерцал следующее явление, составляя в то же время часть его:
"Около трех часов утра, не спав всю ночь, мы собирались садиться в наш экипаж, поданный к воротам, как вдруг обнаружилось непреодолимое препятствие: непрерывный ряд повозок с больными ехал между вырытыми уже и сваленными по сторонам камнями мостовой, по превратившемуся в болото городу. Пока мы стояли, рассуждая, что нам делать, наш хозяин, кавалер святого Людовика, протискался мимо нас, не поклонившись". Он был нотаблем Калонна в 1787 году, потом эмигрантом и, ликуя, вернулся с пруссаками к себе домой, но должен был теперь снова отправляться на все четыре стороны, "сопровождаемый слугой, несущим маленький узелок на палке.
Здесь с блеском выказалась расторопность нашего Лизье и выручила нас и в этом случае: он проскочил в маленький промежуток в ряду повозок и задержал следующую упряжку, пока мы не втиснулись в эту давку с нашими шестеркой и четверкой лошадей, после чего я мог вздохнуть свободнее в моей легкой маленькой повозке. Мы двинулись наконец в путь, хотя и похоронным шагом. Рассвело; мы находились теперь у выезда из города, среди невообразимого шума и сумятицы. Всевозможные экипажи, несколько всадников, бесчисленные пешеходы встречались и скрещивались на большой площади перед городскими воротами. Мы повернули направо с нашей колонной, направляясь к Этену по узкой дороге, окопанной с обеих сторон канавами. В такой чудовищной давке чувство самосохранения заглушало и сострадание, и уважение к чему бы то ни было. Неподалеку от нас, впереди, упала лошадь, запряженная в обозную повозку; ее оставили лежать, перерезав постромки. Когда же три остальные не смогли сдвинуть своего груза, у них также отрезали постромки, а тяжело нагруженный воз бросили в канаву; задержка была самая короткая, и нам пришлось проехать прямо по лошади, которая как раз собиралась встать: я видел ясно, как ноги ее затрещали и задрожали под колесами.
Конные и пешие старались выбраться с узкой, трудной дороги на луга, но они тоже были испорчены дождем, залиты выступившими из берегов канавами, и сообщение между тропинками было всюду прервано. Четверо приличного вида, красивых, хорошо одетых французских солдат брели одно время рядом с нашей каретой; они были удивительно чисты и щеголеваты и так искусно ставили свои ноги, что их обувь только до лодыжки свидетельствовала о грязном паломничестве, которое совершали эти славные ребята.
Естественно, что при таких обстоятельствах в канавах, на лугах, в полях и загонах видно было много мертвых лошадей; однако мы вскоре заметили, что они были ободраны и мясистые части даже были вырезаны -печальный признак всеобщего бедствия.
Так мы ехали, ежеминутно подвергаясь опасности при малейшей остановке с нашей стороны быть сброшенными с дороги; при таких обстоятельствах поистине нельзя было достаточно нахвалиться заботливостью и ловкостью нашего Лизье. Талант его проявился и в Этене, куда мы прибыли около полудня и увидели в красивом, хорошо обустроенном городе, на улицах и в скверах, мимо которых мы проезжали, умопомрачительную сумятицу: толпы народа стремились в разные стороны, сталкивались и мешали друг другу. Неожиданно наша карета остановилась у красивого дома на базарной площади; хозяин и хозяйка поклонились нам с почтительного расстояния. Ловкий Лизье сказал, хотя мы этого не знали, что приехал брат прусского короля!
Теперь, глядя из окон нижнего этажа на базарную площадь, мы видели перед собой всю эту бесконечную суету, могли почти осязать ее. Всякого рода прохожие, солдаты в мундирах, мародеры, сильные, но унылые горожане и крестьяне, женщины и дети, теснились и давили друг друга среди всевозможных экипажей; повозки с амуницией, возы с кладью, кареты, одиночные, парные и многоконные, пестрая смесь сотни упряжек, нанятых или реквизированных, сталкивались, стараясь разъехаться, мешали друг другу и катились направо и налево. Тут же пробирался и рогатый скот, вероятно стада, взятые под реквизицию. Всадников было мало, но бросались в глаза изящные экипажи эмигрантов, разноцветные, лакированные, золоченые и серебряные, видимо от лучших мастеров".
"Самая большая давка начиналась немного далее, там, где толпа с базарной площади выливалась в прямую, правда хорошую, но слишком узкую для нее улицу. В жизни своей ч не видел ничего подобного; зрелище это, пожалуй, можно бы сравнить с разлившейся рекой, затопившей луга и поля и принужденной снова втиснуться в узкую протоку и течь по ее ограниченному руслу. По длинной улице, видимой из наших окон, беспрерывно бушевал самый странный поток, над которым явно выдавался высокий двухместный дорожный экипаж. Мы подумали о красивых француженках, которых видели утром. Однако это были не они, а граф Гаугвиц; я не без злорадства смотрел, как он подвигался шаг за шагом".
Такой бесславной процессией закончился Брауншвейгский манифест! Даже хуже того, "переговорами с этими злодеями", - переговорами, первое известие о которых произвело такое потрясающее впечатление на эмигрантов, что наш всемирный поэт "опасался за рассудок некоторых из них". Делать нечего: бедные эмигранты должны ехать далее, озлобленные на всех и вся и вызывающие озлобление других за несчастный путь, на который они однажды вступили. Хозяева и хозяйки гостиниц свидетельствуют за tables d'hote'ами, как несносны эти французы, как, несмотря на такое унижение, бедность и даже возможность нищеты, между ними по-прежнему происходит борьба за первенство и замечается прежняя развязность и недостаток скромности. На почетном месте, во главе стола, вы увидите не сеньора, а куклу, впавшую в детство, но еще обожаемую, за которой почтительно ухаживают и кормят. За разными столами сидит смесь солдат, комиссаров, авантюристов, молча поглощающих свою варварскую пищу. "На всех лицах можно прочесть о суровой судьбе; все молчат, потому что у каждого свои страдания и каждый видит перед собой нескончаемые бедствия". Одного спешащего путника, без ворчания съевшего, что ему подали, хозяин отпускает, почти не взяв с него денег. "Это первый, - прошептал мне хозяин, - из этого проклятого народа, который удостоил попробовать нашего черного немецкого хлеба".
А Дюмурье в Париже, восхваляемый и чествуемый, принимаемый в блестящих салонах; бесконечные толпы красавиц в кружевных платьях и модные фраки волнуются вокруг него с радостным поклонением. Но вот однажды вечером, в разгар великолепия такой сцены, к нему вдруг обращается какая-то неопрятная, хмурая личность, пришедшая без приглашения и даже несмотря на препятствия со стороны лакеев, - крайне неприятная личность! Но она явилась "по специальному поручению от якобинцев", чтобы произвести строгое расследование - лучше теперь, чем позже, - касательно некоторых фактов: "выбритых бровей у добровольцев-патриотов, например", также "о ваших угрозах изрубить в куски" и "почему вы недостаточно горячо преследовали Брауншвейга?" Все это личность спрашивает резким, хриплым голосом: "Ah, c'est vous qu'on appelle Marat!" (A, вы тот, кого зовут Маратом!) - отвечает генерал и хладнокровно поворачивается на каблуках59[35]. Кружевные платья трепещут, как осиновые листья, фраки скопляются вокруг; актер Тальма (это происходит в его доме), актер Тальма и чуть ли не самые свечи в салоне синеют от страха, пока этот зловещий призрак, мрачное, неземное видение, не исчезает в породившей его ночи.
Через несколько коротких дней генерал Дюмурье снова уезжает в Нидерланды; он намерен их атаковать, хотя стоит зима. А генерал Монтескью, на юго-востоке, прогнал сардинского короля и даже почти без выстрела отобрал у него Савойю[36], жаждущую стать частью Республики. Генерал Кюстин, на северо-востоке, бросился на Шпейер и его арсенал, а затем без приглашения на курфюрстский Майнц, где есть немецкие демократы и нет и тени курфюрста, так что в последних числах октября фрау Форстер, дочь Гейне, сама отчасти демократка, гуляя с мужем за воротами Майнца, видит, как французские солдаты играют там в кегли пушечными ядрами. Форстер весело подталкивает чугунную бомбу с криком: "Vive la Republique!" Чернобородый национальный гвардеец отвечает: "Elle vivra bien sans vous" (Она и без Вас проживет).
Книга II. ЦАРЕУБИЙСТВО
Глава первая. КОНВЕНТ
Итак, Франция вполне закончила два дела: отбросила далеко за свои пределы непрошеных киммерийских гостей и в то же время уничтожила свое внутреннее социальное устройство, превратив его до мельчайших волокон в обломки и разрушение. Все совершенно изменилось: от короля до сельского урядника, все власти, чиновники, судьи, все начальствующие лица должны были вдруг измениться сообразно обстоятельствам или вдруг, не без насилия, подвергнуться изменению; об этом позаботились патриотический Исполнительный совет министров с заседающим в нем Дантоном, а затем и вся нация с Национальным Конвентом. Нет ни одного общинного чиновника, даже в самой захолустной деревушке, который, как говорящий: "De par le Roi" - и проявляющий лояльность, не был бы вынужден уступить место новому, улучшенному чиновнику, способному сказать: "De par la Republique".
Это такая перемена, что история должна просить своих читателей представить ее себе без описаний. Мгновенное изменение всего политического организма, так как изменилась политическая душа, - это такое изменение, какое могут испытать не многие политические или иные организмы в мире. Это превращение, пожалуй, похоже на то, которое испытало тело бедной нимфы Семелы, пожелавшей, с женским любопытством, во что бы то ни стало увидеть своего Юпитера Олимпийского настоящим Юпитером: одно мгновение - и бедная нимфа, только что бывшая Семелой, уж более не Семела, а пламя, статуя из раскаленного пепла. Так и Франция: взглянув на демократию, увидела ее лицом к лицу. Киммерийские завоеватели снова соберутся, но настроенные более скромно, с большим или меньшим счастьем; из обломков и разрушения должен создаться новый социальный порядок, насколько он в состоянии и насколько это окажется возможным. Что же касается Национального Конвента, который должен все устроить, то, если он покончит со всем этим "в несколько месяцев", как ожидает депутат Пэньи и вся Франция, мы назовем его весьма искусным Конвентом.
В самом деле, в высшей степени странно видеть, как этот динамичный французский народ внезапно кидается от "Vive le Roi!" к "Vive la Republique!" и кипит, и танцует, стряхивая, так сказать, ежедневно и втаптывая в пыль свои старые социальные одежды, образ мыслей, законы, по которым он прежде существовал, и беззаботно несется навстречу беззаконию, неизвестности, с сердцем, полным надежд, и с единственным кликом: "Свобода, Равенство и Братство" - на устах. Два ли столетия или только два года прошло с тех пор, как вся Франция гремела и ликующие клики ее: "Да здравствует восстановитель французской свободы!" - неслись к небу во время праздника Пик? Всего три коротких года назад еще был Версаль и был Oeil de Boeuf, a теперь у нас охраняемая ограда Тампля, окруженная драконовскими глазами муниципалов, где, как в преддверии могилы, заключена уничтоженная королевская власть. В 1789 году конституционный депутат Барер "плакал" в своей газете "Заря" при виде примиренного короля Людовика, а теперь, в 1792 году, депутат Конвента Барер совершенно без слез, быть может, обдумывает, следует ли гильотинировать примиренного короля Людовика или нет!
Старые одежды с их украшениями спадают (говорим мы) так скоро потому, что пришли в ветхость, и народ топчет их в своей пляске А новые? Где же они? Где новые моды и законы? Свобода, Равенство, Братство - - не одежды, а только пожелания одежды. Нация в настоящее время, выражаясь фигурально, нага; она не имеет ни порядка, ни одежды, это обнаженная нация санкюлотов.
Вот в чем и каким образом выразилось торжество наших патриотов Бриссо и Гюаде. Иезекиилевы видения Верньо о падении тронов и корон, о которых он говорил гипотетически и пророчески весной этого года, неожиданно сбылись осенью. Наши красноречивые патриоты из Законодательного собрания, подобно могущественным волшебникам, одним словом уст своих развеяли по ветру королевскую власть с ее старыми обычаями и формулами и будут теперь управлять Францией, свободной от формул. Свободной от формул! И все же человек не живет без формул, без привычек, способов действия и бытия: Ubi homines sunt modi sunt - где люди, там обычаи - нет изречения вернее этого; это справедливо от чайного стола и шкафа портного до верховных сенатов, торжественных храмов и простирается на все области ума и фантазии, до самых крайних пределов наделенного членораздельной речью существа. Обычаи есть всюду, где есть люди. Это самый сокровенный закон человеческой природы, благодаря которому человек делается ремесленником, "употребляющим орудия животным", не рабом импульсов, случайностей и дикой природы, а до некоторой степени их господином. Поэтому 25 миллионов людей, внезапно отрешившихся от своих обычаев и пляшущих на них таким образом, - ужасная вещь для управления!
Красноречивым патриотам в Законодательном собрании предстоит тем временем решить именно эту задачу. Под именем и прозвищем "государственных мужей" (hommes d'etat), умеренных (moderantes), бриссотинцев, роланистов и, наконец, жирондистов они прославятся, решая ее, на весь мир. Ведь двадцать пять миллионов, наделенных пылким галльским темпераментом, полны надежды на невыразимое, на всеобщее братство и Золотой Век, и в то же время полны ужаса перед объединившейся против них киммерийской Европой. Это задача, равных которой мало. Правда, если бы человек, как хвалятся философы, мог видеть на некоторое расстояние вперед и назад, то что, спрашивается, сделалось бы с ним во многих, случаях? Что в этом случае сделалось бы с этими 749 человеками? Конвент, ясно видящий вперед и назад, был бы парализованным Конвентом, но, видя ясно не далее своего носа, он - Конвент непарализованный.
Для самого же Конвента не подлежат сомнению ни дело, ни способ его совершения: нужно создать конституцию, а до тех пор защищать Республику. Поэтому довольно быстро составляется Конституционный комитет. Сиейес, бывший член Конституанты, составитель конституций по призванию; Кондорсе, способный на лучшее; депутат Пейн, чужеземный благодетель рода человеческого, с "красным, прыщеватым лицом и черными, блестящими глазами"; Эро де Сешель, бывший член парламента, один из красивейших мужчин Франции, - эти лица с низшими собратьями по ремеслу заботливо приступают к делу, намереваясь еще раз "составить конституцию", будем надеяться, более действенную, чем в прошлый раз. Ибо кто же сомневается, что конституция может быть составлена? Иначе это означало бы, что евангелие от Жан Жака явилось в мир напрасно. Правда, наша последняя конституция рухнула жалким образом в течение первого же года. Но что же из того? Это значит только, что нужно очистить ее от мусора и сложить камни заново, лучше. "Надо, во-первых, расширить основание" до всеобщей подачи голосов, если понадобится; во-вторых, исключить гнилой материал - королевскую власть и тому подобное; а вообще стройте, невыразимый Сиейес и компания, стройте неутомимо! Пусть частые опасные обвалы подмостков и сложенного камня раздражают, но не обескураживают вас. Хотя бы и с переломанными членами, но с пылающими сердцами начинайте сейчас же снова, отметая в сторону обломки; стройте, говорим мы, во имя Неба, пока работа не будет стоять прочно или пока человечество не бросит ее и не вознаградит строителей конституции смехом и слезами. Значит, было предопределено, что когда-нибудь в течение вечности должен быть испробован и этот "Общественный договор". Поэтому конституционный комитет должен потрудиться с надеждой и верой, и пусть не препятствует ему какой-нибудь читатель этих страниц!.
Итак, составить конституцию и весело вернуться домой через несколько, месяцев - так пророчествует сам о себе Национальный Конвент, по такой программе пойдут его действия и события. Но как далеко в подобных случаях от самой лучшей научной программы до ее действительного выполнения! Разве всякое собрание людей не есть, как мы часто говорим, собрание неисчислимых влияний; каждая единица его есть микрокосм влияний, как же может наука что-либо вычислить или предсказать? Наука, которая со всеми своими дифференциальными, интегральными и вариационными исчислениями не может решить задачу о трех взаимно тяготеющих телах, должна молчать здесь и сказать только следующее: в этом Национальном Конвенте имеется 749 весьма своеобразных душ, обладающих свойством притяжения и многими другими, которые, вероятно, совершат непостижимым образом предназначенное им Небом.
Кое-что может быть рассчитано или предположено в применении к национальным собраниям, парламентам, конгрессам, заседающим долгое время, имеющим серьезные намерения, а главное, не "устрашающе серьезным", но даже и их действия составляют своего рода тайну, благодаря чему газетные репортеры имеют средства к жизни; даже и они время от времени, как безумные, сходят с колеи. Тем более это относится к бедному Национальному Конвенту, наделенному французской горячностью и побуждаемому действовать быстро, не имея ни опыта, ни колеи, ни следа или вехи, и вдобавок каждый член которого так ужасно серьезен! Такого парламента не было буквально никогда и нигде в мире. Члены его неопытны, неорганизованны, а между тем они сердце и направляющий центр Франции, впавшей в безумнейшее расстройство. Из всех городов и деревень, с самых дальних концов Франции с ее 25 миллионами горячих душ надежды мощными потоками устремляются в это сердце, Salle de Manege, и изливаются обратно: это огненное венозно-артериальное кровообращение и есть функция этого сердца. Никогда, повторяем, 749 человеческих существ не заседали на этой земле при более необычных обстоятельствах. Большинство из них - обыкновенные люди или ушедшие недалеко от обыкновенных, однако благодаря занимаемому ими положению они весьма замечательны. Как будут говорить и действовать эти люди, предоставленные самим себе в диком вихре урагана человеческих страстей, среди окружающих их со свистом и гулом смерти, победы, ужаса, храбрости, доблестей и низостей?
Читатели знают уже, что этот французский Национальный Конвент (совершенно вопреки своей собственной программе) превратился в предмет удивления и отвращения человечества вроде апокалипсического конвента, мрачного сна, ставшего реальностью!
История редко говорит о нем без междометий, повествуя, как он покрыл Францию горем, ввел в заблуждение и в безумие и как из лона его вышла смерть на бледном коне. Легко ненавидеть этот бедный Национальный Конвент, однако оказалось возможным также и восхвалять и любить его. Это, как мы сказали, парламент, находящийся в крайне необычных условиях. Пусть для нас, на этих страницах, он останется дымящейся огненной тайной, где небеса сомкнулись с преисподней в таком чередовании яркого света с черным мраком, что бедные ослепленные люди уже не знают, где низ и где верх, и, неистовствуя, бросаются очертя голову то туда, то сюда, как обыкновенно поступают в таких случаях смертные. Конвент, которому суждено самоубийственно поглотить самого себя и превратиться в мертвый пепел - вместе с его миром! Постараемся не проникать в его темные, запутанные глубины, а постоим и посмотрим, не отвращая глаз, как он тонет и какие достойные внимания события и происшествия будут последовательно появляться на поверхности.
Одно общее поверхностное обстоятельство мы отмечаем с похвалой - это силу вежливости. Цивилизованность до такой степени пронизала жизнь людей, что никакой Друэ, никакой Лежандр в самой безумной боевой схватке не может отрешиться от него совсем. Дебаты сенатов, ужасных в своей серьезности, редко передаются открыто миру, иначе, быть может, они очень удивили бы его. Разве сам великий монарх не прогнал однажды своего Лувуа, размахивая парой щипцов? Но, читая целые тома этих дебатов Конвента, все пенящиеся ужасной серьезностью, достигающей иногда серьезности жизни и смерти, скорее поражаешься степени сдержанности, проявляемой его депутатами в речах, и тому, что при всем этом диком кипении им управляет нечто вроде правил вежливости; формы общежития никогда не исчезают совершенно. Люди эти, хотя и грозят сжатыми кулаками, все же не хватают друг друга за ворот, не вытаскивают кинжалов или делают это разве только в качестве ораторского приема, да и то не часто; грубые ругательства почти неизвестны, и, хотя протоколы довольно откровенны, мы находим в них только два проклятия, произнесенные Маратом.
В остальном нет сомнений, что прения ведутся "горячо". Горячности много; декреты, принятые сегодня с одобрением, завтра с шумом отменяются; настроение раздраженное, в высшей степени изменчивое, всегда опрометчивое! "Голос оратора перекрывается шумом"; сотня "почтенных парламентариев с угрозами устремляется на левую сторону зала"; председатель, "разбив три колокольчика подряд", надевает шляпу в знак того, что Отечество почти погибло. Пламенно-горячее древне-галльское собрание! Увы! смолкнут один за другим эти злобные крики борьбы и жизни, которая сама есть борьба; сейчас они так громки, а, немного погодя, будут так тихи! Бренн и древние галльские вожди, несомненно, вели такие же горячие дебаты по пути в Рим, в Галацию и в другие страны, куда они обыкновенно ходили, влекомые жаждой завоеваний, хотя об этих дебатах не сообщает никакой "Moniteur". Эти Бренны ссорились на кельтском наречии и не были санкюлотами, скорее даже панталоны (braccae может быть, из войлока или невыделанной кожи) были единственной одеждой, которую они носили; как утверждает Ливий, они были обнажены до пояса. Но вот теперь они оделись в камзолы и говорят в нос наподобие исковерканного латинского языка, а мы видим, что они делают то же самое и что это та же самая порода людей! Но в конце концов разве Время не покроет забвением настоящий Национальный Конвент, как оно скрыло этих Бреннов и древние верховные сенаты в войлочных панталонах? Их, несомненно, скроет Время, более того, они канут в вечность. Тусклые сумерки времени или полдень, который будет сумерками, а потом наступает ночь и безмолвие, и Время со всеми его злобными шумами поглощается безмолвным морем. Пожалей твоего брата, о сын Адама! Ведь самое злобное, пенящееся гневом бормотание его в сущности значит не более плача ребенка, который не может сказать, что у него болит, хотя несомненно, что в его организме все пришло в расстройство и потому он должен кричать и плакать, пока мать не возьмет его на руки и, укачиваемый ею, он не уснет!
Конвенту нет еще четырех дней, и мелодические строфы, сбросившие королевскую власть, еще звучат в наших ушах, когда раздаются новые звуки, к несчастью на этот раз звуки раздора, ибо речь зашла о вещах, о которых трудно говорить спокойно, о сентябрьской резне. Как поступить с этими сентябрьскими избиениями и с Парижской коммуной, руководившей ими. С ненавистной и страшной Парижской коммуной, перед которой бедное, бессильное Законодательное собрание должно было трепетать и сидеть смирно? А если теперь молодой, всемогущий Конвент не захочет так трепетать и сидеть смирно, то какие он должен предпринять шаги? Нанять департаментскую гвардию, отвечают жирондисты и друзья порядка, гвардию национальных добровольцев, посланную всеми 83 или 85 департаментами специально с целью держать в надлежащем повиновении бушующие коммуны, состоящие из виновников сентябрьских бесчинств, и обеспечить подобающую власть Конвента. Так ответили в своем докладе друзья порядка, заседающие в комитете, и даже был утвержден декрет в требуемом смысле Некоторые департаменты, например Барский или Марсельский, только в ожидании и уверенности, что такой декрет выйдет, отправили уже свой отряд волонтеров; храбрые марсельцы, 10 августа бывшие впереди всех, не хотят оставаться позади и теперь: "отцы дали своим сыновьям по мушкету и по 25 луидоров, - говорит Барбару, - и велели им отправляться".
Может ли что-нибудь быть целесообразнее? Республика, желающая основываться на справедливости, должна расследовать сентябрьские избиения; Конвент, называющийся Национальным, разве не должен охраняться национальными войсками? Увы, читатель, по-видимому, это так, однако многое против этого можно сказать и возразить. Ты видишь здесь слабое начало спора, которого не уладить с помощью чистой логики. Два маленьких источника спора сентябрьские события и департаментская гвардия, или, вернее, один и тот же в сущности маленький источник, который вздуется и разрастется в поток горечи: всякие вспомогательные притоки и ручьи горечи вливаются в него с обеих сторон, пока он не превратится в широкую реку озлобления, раздора и вражды, которые могут прекратиться только в катакомбах. Проект этой департаментской гвардии, сначала принятый подавляющим большинством, затем отмененный ради спокойствия и нежелания обижать парижан, снова не раз утверждается и даже отчасти осуществляется, и солдаты, которые должны войти в состав этой гвардии, уже вышагивают по парижским улицам; причем однажды кто-то из их рядов в нетрезвом состоянии кричит: "A bas Marat!" (Долой Марата!)1 Тем не менее столь часто утверждаемая гвардия столь же часто и отменяется и в течение семи месяцев остается лишь гипотезой, вызывающей злобный шум, прекрасной возможностью, которая стремится сделаться действительностью, но которой никогда не суждено стать ею, пока после бесконечной борьбы она не погружается в мрачный покой, увлекши за собою многое. Так странны пути людей и почтенных членов собраний!
Но в четвертый день существования Конвента, который приходится на 25 сентября 1792 года, появляются доклад комитета об этом декрете департаментской гвардии и речи об отмене его; появляются изобличения в анархии и диктаторстве, о которых пусть поразмыслит неподкупный Робеспьер; появляются изобличения некоего "Journal de la "Republique", ранее называвшегося "Ami du Peuple", и, наконец, появляется на виду у всех, на трибуне, собираясь говорить, воплотившийся призрак Друга Народа Марата! Кричите, семьсот сорок девять! Это действительно Марат, и никто иной, - не фантастический призрак, не лживый оттиск типографских листков, а существо из материи, плоти и крови, связок и нервов, составляющих маленькую фигурку; вы видите его в его темной неопрятности - это живая часть хаоса и первобытной ночи, явно воплотившаяся и собирающаяся говорить. "По-видимому, - обращается Марат к шумящему собранию, - у меня здесь очень много врагов" "Все! Все!" кричат сотни голосов, достаточно, чтобы заглушить любого друга народа. Но Марат не хочет быть заглушенным: он говорит и каркает объяснения; каркает с такой рассудительностью, с такой искренностью, что кающееся сострадание смягчает злобу и крики стихают, даже превращаются в рукоплескания. К несчастью, этот Конвент - одна из самых неустойчивых машин; сейчас он с непреклонным упорством показывает на восток, но стоит только искусно тронуть какую-нибудь пружину, и вся машина, стуча и содрогаясь всеми семьюстами сорока девятью частями, с треском поворачивается и уже показывает на запад! Таким образом, Марат, оправданный и даже стяжавший рукоплескания, выходит победителем из этой схватки. Но затем дебаты продолжаются, на него снова нападает какой-то ловкий жирондист, опять поднимаются крики, и уже готов пройти декрет о предании суду; тогда мрачный Друг Народа снова выходит на трибуну, еще раз своим даром убеждения достигает тишины, и декрет о предании суду проваливается. После этого Марат вынимает пистолет и, приложив его к своей голове, вместилищу великих дум и пророчеств, говорит: "Если бы они провели свой обвинительный декрет, он, Друг Народа, размозжил бы себе голову". Друг Народа на это способен. Впрочем, что касается 260 тысяч аристократических голов, Марат чистосердечно говорит: "C'est la mon avis" (Я полагаю так). Также не подлежит сомнению: "Никакая земная сила не может помешать мне видеть изменников и изобличать их, вероятно благодаря высшей организации моего ума". Не многие парламенты на земле имели почтенного члена, подобного этому Другу Народа.
Мы видим, что это первое нападение друзей, как оно ни было резко и неожиданно, однако оказалось неудачным. Не более удачи имело и обвинение Робеспьера, вызванного на объяснение толками о диктатуре и встреченного таким же шумом при появлении на трибуне; однако обвинить его и заключить в тюрьму не удалось, несмотря на то что Барбару открыто дает против него показания и подписывается под ними. С какой святой кротостью подставляет Неподкупный под удар свою зеленую щеку, возвышает свой тонкий голос говорит с иезуитским искусством и добивается успеха; в конце концов он благосклонно спрашивает: "Каких же свидетелей может представить гражданин Барбару в подтверждение своих показаний?" "Moi!" - кричит пламенный Ребекки, вскакивая, ударяя себя кулаками в грудь и отвечая: "Меня!"3 Тем не менее человек с серо-зеленым лицом снова говорит и опять все поправляет; продолжительный шум, "исключительно касающийся личностей", когда столько дел общественного значения лежат нетронутыми, кончился переходом к очередным делам. О друзья из Жиронды, зачем вы наполняете ваши высокие заседания жалкими личными спорами, в то время как великое национальное дело находится в таком положении? Жиронда коснулась в этот день гнилого, черного пятна своего прекрасного царства - Конвента; она наступила на него, но еще не попрала его ногами. Увы, как мы уже сказали, это черное пятно - неиссякающий источник, и его нельзя попрать!
Глава вторая. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Не следует ли поэтому предположить, что вокруг этого великого составления конституции возникнет весьма странная путаница и вопросы и интересы так осложнятся, что и через несколько месяцев Конвент устроит далеко не все? Увы, кипит и надвигается целый поток вопросов, который все растет, и конца ему не видно! Среди них помимо вопроса о сентябрьских событиях и анархии отметим три поднимающиеся чаще других и обещающие сделаться главными: это вопросы об армиях, о средствах существования народа и о развенчанном короле.
Что касается армий, то общественная оборона, очевидно, должна быть поставлена на надлежащую высоту, так как Европа, по-видимому, снова составляет коалицию; опасаются даже, что к ней присоединится Англия. По счастью, Дюмурье удачно действует на севере, но что, если он будет действовать слишком удачно и превратится в Liberticide, убийцу Свободы? Дюмурье действует успешно, несмотря на зимнее время, но не без горьких жалоб. Скромный Паш[37], содержатель швейцарской школы, так тихо сидевший в своем переулке, на удивление всем соседям, недавно сделался - как думает читатель - кем? Военным министром! Г-жа Ролан, заметившая его скромные манеры, рекомендовала его своему мужу в секретари; скромный секретарь не нуждался в жалованье, так как был настроен истинно патриотически; он приходил обыкновенно с куском хлеба в кармане, чтобы сэкономить время на обед, и, неторопливо пожевывая, в один день делал то, на что другому понадобилось бы три дня; пунктуальный, молчаливый, скромный, как лицемерный Тартюф, каким он и был. Благодаря этим качествам Ролан и рекомендовал его во время последнего переворота на место военного министра. А теперь похоже на то, что Паш тайно подкапывается под Ролана, играет на руку более горячим якобинцам и сентябрьской коммуне и вообще не таков, чтобы, подобно строгому Ролану, быть Veto des coquins!4
Каким образом скромный Паш подводил мины и контрмины, неизвестно, но зато известно, что его военное министерство сделалось притоном воров и такой неразберихи, что в его дела страшно заглянуть. Известно, что там заседает в качестве главного секретаря гражданин Гассенфрац[38] в bonnet rouge (красном колпаке), хищный и грубый, кое-что смыслящий в математических исчислениях и крайне дерзкий; что Паш, жующий кусочек хлеба при старших и младших чиновниках, растратил свою военную смету; что подрядчики разъезжают в кабриолетах по всем округам Франции и заключают сделки. Известно, наконец, что армия почти совсем не получает амуниции: ни сапог, хотя стоит зима, ни платья; у некоторых даже нет оружия. "В Южной армии, - жалуется один почтенный парламентарий, - не хватает 30 тысяч пар панталон" - весьма скандальная нехватка.
Честная душа Ролана обеспокоена таким ходом вещей, но что он может сделать? Держать в строгости свое собственное министерство, выговаривать и карать, где только возможно, по меньшей мере жаловаться? Он и жалуется в письме за письмом, жалуется И Конвенту, и Франции, и потомству, и всему миру, становясь все более раздражительным и негодующим; но не станет ли он наконец скучным? Ведь обычно содержание его жалоб в сущности бесплодно. Удивительно ли, что в период революции и уничтожения всех законов, за исключением пушечного закона, царит такое беззаконие? Неустрашимый Ролан, Вето мошенников, ты, близорукий, честный, почтенный, методичный человек, работай так, как тебе подсказывает твоя природа, и исчезни; работа твоя будет хотя безрезультатной, но небесполезной - тогда, как и теперь! Храбрая г-жа Ролан, храбрейшая из всех француженок, начинает питать опасения: за республиканским обедом у Роланов фигура Дантона кажется ей слишком "сарданапальской"[39]; Клоотс, Спикер человечества, скучно говорит какие-то нелепости о всемирной республике, о соединении всех племен и народов в один братский союз; к несчастью, не видно, как связать этот союз.
Бесспорным, необъяснимым или объяснимым, фактом является также то, что хлеба становится все меньше и меньше. Повсюду во множестве происходят хлебные бунты - шумные сборища, требующие установления таксы на зерно. Парижскому мэру и другим бедным мэрам, видимо, предстоят затруднения. Петион был вновь избран мэром Парижа, но отказался, так как законодательствует теперь в Конвенте. Отказ, разумеется, был разумен, потому что помимо вопроса о хлебе и всего прочего импровизированная революционная Коммуна переходит в это время в законно избранную и заканчивает свои счета не без раздражения! Петион отказался, тем не менее многие домогаются этой должности. После целых месяцев раздумий, баллотировок, разглагольствований и споров почетный пост этот получает некий доктор Шамбон, который продержится на нем недолго и, как мы увидим, будет буквально сброшен5 с него.
Не забудьте, что и простому санкюлоту нелегко во времена дороговизны хлеба! По словам Друга Народа, хлеб стоит "около 6 су фунт, а дневной заработок - всего 15 су", и к тому же зима стоит суровая. Как бедный человек продолжает жить и так редко умирает от голода, - это поистине чудо! По счастью, в эти дни он может записаться в армию и умереть от руки австрийцев с необычайным чувством удовлетворения от того, что умирает за Права Человека. При таком стесненном положении хлебного рынка, при общей свободе и равенстве комендант Сантер предлагает через газеты два средства или по крайней мере два паллиатива. Первое, чтобы все классы людей два дня в неделю питались картофелем, и второе, чтобы все повесили своих собак. Благодаря этому, думает комендант, получится весьма значительная экономия, которую он высчитывает во столько-то кулей. Более забавной формы изобретательной глупости, чем у коменданта Сантера, не найти ни в ком. Изобретательная глупость, облаченная в здоровье, мужество и добродушие, весьма достойна одобрения. "Вся моя сила, - сказал он однажды в Конвенте, - денно и нощно находиться в распоряжении моих сограждан; если они найдут меня недостойным, то уволят, и я опять буду варить пиво".
Представьте себе, какую переписку должен вести бедный Ролан, министр внутренних дел, по поводу одного только вопроса о хлебе! С одной стороны, требуют свободной торговли зерном, недопущения таксировки цен на него, с другой - кричат, что необходимо замораживание цен. Политическая экономия, читаемая министерством внутренних дел, с доказательствами, ясными, как Священное писание, совершенно недейственна, для пустого национального желудка. Мэр Шартра, которого чуть не съедают самого, взывает к Конвенту; Конвент посылает депутацию из почтенных членов, которые стараются накормить толпу чудесной духовной пищей, но не могут. Толпа, несмотря на все их красноречие, окружает их с ревом, требует, чтобы цены были назначены, и при этом умеренные, или же почтенные депутаты будут повешены на месте! Почтенные депутаты, докладывая об этом деле, сознаются, что, будучи на волосок от ужасной смерти, они назначили, - или сделали вид, будто назначили - цены на зерно, за что Конвент - это тоже следует отметить, - Конвент, не желающий, чтобы с ним шутили, находит нужным сделать им выговор.
Что же касается происхождения этих хлебных бунтов, то разве не представляется вероятным, что тут опять замешаны тайные роялисты? В Шартрском бунте глаза патриотов видели мелькающих священников. И разве, в самом деле, "корень всего этого не лежит в тюрьме Тампль, в сердце вероломного короля", как бы хорошо ни стерегли его8? Несчастный, вероломный король! И вот, мало-помалу около булочных снова образуются хвосты в более раздраженном, чем когда-либо, настроении. К двери каждой булочной приделано кольцо с концом веревки, за которую мы плотно держимся с обеих сторон и образуем хвост; но злонамеренные, коварные люди перерезают веревку, и наш хвост превращается в запутанный клубок; поэтому веревку приходится заменить железной цепью. Цены на хлеб установлены, но теперь хлеба уже нельзя купить и по этим ценам: хлеб можно иметь только по билету от мэра, несколько унций на едока в день, после долгого стоянья в хвосте, ухватившись за цепь. А голод распространяется с ужасающей быстротой, за ним идут злоба и подозрительность, сверхъестественно обостренные; они пройдут по стране, подобно сверхъестественным "теням разгневанных богов", которые проходили "среди зарева и мрака огненного океана", когда пала Троя!
Глава третья. РАЗВЕНЧАННЫЙ
Но самый неотложный из всех вопросов для наших законодателей - это третий: что делать с королем Людовиком?
Король Людовик, теперь король и Его Величество только для его собственной семьи, заключенной в тюремных апартаментах, для остальной Франции он только Людовик Капет и изменник Вето. Заключенный в ограде Тампля, он видел и слышал громкий водоворот событий: вопли сентябрьских избиений, военные громы Брауншвейга, смолкшие в поражении и расстроенном бегстве; видел как пассивный зритель, ожидая, когда этот водоворот захватит и ею. Из соседних окон любопытные, не без сострадания, могут видеть, как он ежедневно в определенный час прогуливается по саду Тампля со своей королевой, сестрой и двумя детьми все, что осталось у него на земле. Он гуляет и ждет спокойно, потому что не особенно чувствителен и имеет набожное сердце. Усталому, нерешительному человеку теперь по крайней мере не нужно ничего решать Обед, уроки сыну, ежедневные прогулки по саду, игра в ломбер или шашки наполняют для него сегодняшний день, а завтрашний позаботится о себе сам.
Да, завтрашний день позаботится, но как? Людовик спрашивает: как? И Франция также, быть может даже с еще большей озабоченностью, спрашивает: как? Нелегко распорядиться судьбою короля, низложенною восстанием. Если держать его в заключении, то он сделается тайным центром недовольных, их бесконечных заговоров, их попыток и надежд. Если его выслать, он будет их открытым центром; его королевское боевое знамя со всем, что в нем осталось божественною, развернется, созывая мир. Казнить его? Это тоже жестокий и сомнительный конец, и, однако, он наиболее вероятен при таких крайних обстоятельствах со стороны мятежников, собственная жизнь и смерть которых поставлена на карту; поэтому и говорится что от последней ступени трона до первой ступени эшафота очень недалеко.
Но в общем мы должны заметить, что дело Людовика представляется теперь, когда мы смотрим на него из-за моря и с расстояния 44 лет, совершенно иным, чем оно представлялось тогда во Франции, где смута охватила всех. Ведь, в самом деле, прошлое всегда обманчиво: оно кажется таким прекрасным, почти священным "в лунном свете воспоминания", но оно только кажется таким. Обратите внимание на то, что из прошлого всегда исключается обманным образом (и мы этого не замечаем) один весьма важный элемент: свирепый элемент страха! Теперь нет страха неизвестности, беспокойства, но они были тогда, преследовали, мучили, проходили, подобно проклятому диссонансу, через все тоны существования современников, превращая для них все временные формы в одно настоящее! Так оно и есть по отношению ко времени Людовика. Зачем добивать павшего? - спрашивает великодушие, находящееся теперь вне опасности. Он пал так низко, этот некогда высоко вознесшийся человек; мы далеки от того, чтобы счесть его преступником или предателем, нет, он несчастнейшее из человеческих заблуждений. Если бы его судило абстрактное правосудие, то оно превратилось бы, может быть, в конкретное сострадание, и приговором ему были бы лишь вздохи и прощение!
Так рассуждает смотрящее назад великодушие; ну а настоящее, смотрящее вперед малодушие? Читатель, ты никогда не жил в продолжение целых месяцев под шорох веревок прусских виселиц; никогда не был частью национального вальса Сахары, когда 25 миллионов в безумии бежали сражаться с Брауншвейгом. Даже странствующие рыцари, победив великанов, обыкновенно убивали их; пощада давалась только другим странствующим рыцарям, знакомым с вежливостью и правилами сражения. Французская нация общим отчаянным усилием и как бы чудом безумия сломила самого страшного Голиафа, достигшего чудовищных размеров в результате тысячелетнего роста, и, хотя это гигантское тело лежит поверженное, покрывая целые поля, связанное веревками и приколоченное гвоздями, она все же не может поверить, что оно снова не встанет, пожирая людей, что победа отчасти не сон. Страх сопровождается недоверчивостью, чудесная победа яростью мщения. Затем что касается преступности, то разве распростертый великан, который пожрет нас, если встанет, - великан невинный? Священник Грегуар, в действительности теперь конституционный епископ Грегуар, уверяет в пылу красноречия, что королевский сан по самой природе уже есть капитальное преступление и что королевские дворцы все равно что логовища диких зверей. Наконец, подумайте о том, что в летописях существует процесс Карла I![40] Этот отпечатанный процесс Карла I теперь продается и читается повсюду. Quel spectacle!
Вот как английский народ судил своего тирана и сделался первым из свободных народов! Разве Франция по милости судьбы не может соперничать теперь с Англией в этом отношении? Неуверенность страха, ярость чудесной победы, возможность доставить величественное зрелище для Вселенной - все указывает на один роковой путь.
Эти главные вопросы и их бесчисленные случайные спутники - о сентябрьских анархистах и департаментской гвардии, о хлебных бунтах, о жалобах министров внутренних дел, об армиях и хищениях Гассенфраца, о том, что делать с Людовиком, - осаждают и сбивают с толку наш Конвент, который гораздо охотнее занялся бы составлением конституции. И все эти вопросы, так как мы часто на них настаиваем, растут; они растут в голове каждого француза, и рост их даже поддается наблюдению в могучем ходе парламентских дебатов и общественных дел, которые лежат на обязанности Конвента. Возникает вопрос, вначале незначительный, он откладывается, тонет среди других, но потом снова всплывает, уже увеличившись в объеме. Любопытный и неописуемый рост имеют такие вещи.
Однако вернемся к вопросу о короле Людовике; судя по тому, как часто он всплывает и как быстро растет, можно предвидеть, что этот вопрос займет первенствующее место среди всего остального. И действительно, он будет первенствующим даже в более глубоком смысле. Ибо, как жезл Аарона поглотил всех остальных змей, так и этот вопрос поглотит все остальные вопросы и интересы; и из него, и из решения его все они, так сказать, родятся или переродятся и получат соответственный образ, обличие и судьбу. Рок решил, что в этом клокочущем, странно растущем, чудовищном и поразительном хаосе дел Конвента великим основным вопросом всех вопросов, споров, мероприятий и начинаний, которым суждено развиться здесь на изумление миру, должен быть вопрос о короле Людовике.
Глава четвертая. ПРОИГРАВШИЙ ПЛАТИТ
6 ноября 1792 года было великим днем для Республики: снаружи - по ту сторону границ, внутри - в Salle de Manege.
Снаружи, потому что Дюмурье, напавший на Нидерланды, в этот день пришел в соприкосновение с саксен-тешенцами и австрийцами; Дюмурье, с широко распростертыми крыльями, и они, также с широко распростертыми крыльями, встретились в самой деревне Жемап[41] и вокруг нее, недалеко от Монса. Огненный град свистит там вдоль и поперек, большие и маленькие пушки грохочут, и много зеленых холмов украшаются красной бахромой и огненной гривой. Дюмурье отброшен на этом фланге, отброшен на том, и уже похоже, что будет отброшен совсем, когда он бросается сам в битву; быстрый Полипет говорит одно или два быстрых слова и затем чистым тенором "запевает "Марсельезу"" (entonna la Marseillaise).
Десять тысяч теноров или басов присоединяются к нему или, вернее, сорок тысяч, потому что все сердца сильнее при этой песне, и под ритмическую, вдвое и после втрое ускоряющуюся мелодию марша они собираются, идут вперед и бросаются в бой, презирающие смерть и уничтожающие врагов. Они берут батареи, редуты, все, что можно взять, и, подобно огненному вихрю, сметают все австрийское с театра военных действий. Итак, выражаясь фигурально, можно сказать, что руками Дюмурье Руже де Лиль, как новый Орфей, одержал струнами своей "Марсельезы" (fidibus canoris) чудесным образом победу при Жемапе и завоевал Нидерланды.
По-видимому, молодой генерал Эгалите проявил в этом деле чудеса храбрости. Несомненно, это храбрый Эгалите; однако не говорит ли о нем Дюмурье чаще, чем нужно? Якобинское общество имеет на этот счет свои собственные мысли. Что касается старшего Эгалите, то он в это время летает невысоко, он появляется ежедневно на полчаса в Конвенте, сидит с красным, озабоченным или равнодушным, почти презрительным лицом и затем удаляется. Нидерланды завоеваны или по крайней мере покорены. Якобинские миссионеры, наши Проли, Перейры, следуют в хвосте армий; комиссары Конвента тоже тут, они плавят церковное серебро, переворачивают и переустраивают все, среди них Дантон, который в короткое время делает невероятное количество дел, не забывая, разумеется, при этом своего жалованья и торговых барышей. Гассенфрац ворует дома, Дюмурье ворчит, и его люди воруют в чужих краях; грех в стенах и грех за стенами.
Но в тот самый час, когда была одержана победа при Жемапе, в зале Конвента происходила другая, не менее важная вещь: читался длинный доклад специально назначенного комитета о преступлениях Людовика. Галереи слушают, затаив дыхание; успокойтесь, галереи, депутат Валазе, докладчик по этому делу, считает Людовика очень преступным и находит, что следует предать его суду, если это окажется удобным. Бедный жирондист Валазе! Его самого могут однажды предать суду! Пока все довольно утешительно. Мало того, второй докладчик комитета, депутат Майль, выступает с юридическими разъяснениями, которые теперь скучно читать, но в свое время было приятно слушать, и заявляет, что по законам страны Людовика Капета называли неприкосновенным, только отдавая дань риторике, но в сущности он совершенно прикосновенен и подсуден, так что может и даже должен быть судим. Вопрос о Людовике, так часто всплывавший в виде гневной, смутной возможности и снова тонувший, теперь всплыл в осязаемой форме.
Патриоты ревут от злорадства. Значит, так называемое царство равенства существует не на словах только, а на деле! Судить ли Людовика Капета! насмешливо восклицает патриотизм: простые преступники попадают на виселицу за отрезанный кошелек, а этот главный преступник, виновный в ограблении всей Франции, изрезавший ее всю ножницами Клото и гражданской войны с ее жертвами - "с тысячью двумястами от одного только десятого августа", лежащими в катакомбах и удобряющими аргоннские проходы, холмы Вальми и далекие поля; он, этот главный преступник, не должен попасть даже на скамью подсудимых? Увы, о патриотизм, прибавим мы, есть старая поговорка: проигравший платит! Ему приходится платить все долги, кто бы их ни сделал, на него падают все убытки и расходы, и 1200 погибших 10 августа - не мятежные изменники, а жертвы и мученики: таковы правила борьбы.
Патриотизм, ничтоже сумняшеся, следит за этим вопросом о суде, теперь, к счастью, вынырнувшим в осязаемой форме, и хочет, с соизволения богов, видеть его разрешение. Патриотизм следит за ним с напряженной заботливостью, возрастающей при каждом новом затруднении, так как жирондисты и ненадежные братья вызывают отсрочки; эта забота превращается наконец в навязчивую идею, и патриотизм страстно желает этого суда, и ничего в мире взамен его, если равенство существует не только на словах. Жажда равенства, скептицизм страха, опьянение победой, возможность величественного зрелища для мира все это сильные стимулы.
Но на самом деле этот вопрос о суде не для всех самый важный и наполняет сомнением многие законодательствующие головы! Цареубийство? спрашивает почтенная Жиронда. Убить короля и сделаться предметом ужаса для всех порядочных наций и людей? Но с другой стороны, спасти короля - значит потерять всякую почву у решительных патриотов, тогда как нерешительные, хотя они никогда не пользовались таким почтением, как сейчас, все же представляют лишь гипотетическую тину, а не твердую почву? Вопрос крайне спешный и трудный, и люди вертятся между его рогами; никто не может решить его, кроме Якобинского клуба и его сынов. Они решили и идут прямо к делу; остальные беспокойно вертятся на этой рогатой дилемме и не находят выхода.
Глава пятая. РАСТЯЖИМОСТЬ ФОРМУЛ
Теперь, когда вопрос о суде высказан и понят, было бы излишним описывать, как он медленно и с трудом рос и созревал в течение нескольких недель. Он всплывал и тонул в нагромождении других бесчисленных вопросов. Вето мошенников пишет жалобные письма об анархии; "тайные роялисты" при содействии голода устраивают хлебные бунты. Увы, всего неделю назад эти жирондисты предприняли новую отчаянную вылазку по поводу сентябрьских избиений.
Однажды, в последних числах октября, Робеспьер, вызванный на трибуну новым намеком на старую клевету о диктатуре, говорил и защищался со все большим и большим успехом, пока, воодушевившись, не воскликнул храбро: "Есть ли здесь кто-нибудь, кто осмелится обвинить меня в каком-нибудь конкретном проступке!" "Moi!" - восклицает кто-то. Пауза глубокого молчания. Сухая, сердитая фигурка с широким лысым лбом торопливо подошла к трибуне, вынимая из кармана бумаги: "Я обвиняю тебя, Робеспьер, я, Жан Батист Луве!" Серо-зеленое лицо побелело, он отступил в угол трибуны. Дантон крикнул: "Говори, Робеспьер, здесь много добрых граждан, которые слушают тебя", но язык отказался повиноваться. Тогда Луве резким голосом прочел и последовательно перечислил все его преступления: диктаторский характер, стремление к исключительной популярности, запугивание на выборах, процессии во главе черни, сентябрьские избиения, пока весь Конвент снова не разразился криками и тут же чуть не предал суду Неподкупного. Никогда еще не находился он в таком рискованном положении. Луве до самой своей смерти будет жалеть, что Жиронда не проявила большей смелости и тогда же не уничтожила Робеспьера.
Однако она этого не сделала. Неподкупному, которого чуть не обвинили так внезапно, нельзя было отказать в недельной отсрочке. За эту неделю он не бездействует; не бездействует и Якобинский клуб, гневно трепещущий за своего любимого сына. В назначенный день у него написана речь, гладкая, как иезуитская диссертация, и убеждающая некоторых. Что же дальше? Почему ленивый Верньо не встает с громами Демосфена? Бедный Луве не подготовлен и почти ничего не может сделать; Барер предлагает в соответствии с повесткой дня прекратить обсуждение этих сравнительно незначительных личных вопросов! Предложение принимается. Барбару не может даже добиться, чтобы его выслушали, хотя он устремляется к решетке и требует, чтобы его выслушали как подателя петиции. Но Конвент, жаждущий заняться делами общества (вот-вот грядет первое открытое упоминание вопроса о суде), отклоняет эти сравнительные мелочи, и сердитому Луве приходится преодолевать свою злобу и сожалеть всю жизнь об этой неудаче; Робеспьер, возлюбленное детище патриотизма, становится для него еще дороже после перенесенных опасностей.
Это вторая крупная попытка наших жирондистских друзей порядка уничтожить темное пятно в подвластной им части мира, но мы видим, что они сделали его еще темнее и шире, чем оно было раньше! Анархия, сентябрьские избиения лежат у всех на сердце как нечто отвратительное, в особенности у нерешительного патриота, приверженца порядочности, и к этому нужно возвращаться при всякой возможности. Возвращайтесь, изобличайте, топчите, вы, жирондистские патриоты, и все же, смотрите, темное пятно не затаптывается; оно только становится, как мы сказали, темнее и шире. Глупцы, ведь это не темное пятно на поверхности, но бьющий из глубины источник! Всмотритесь в него хорошенько: в нем просвечивает, как вода сквозь тонкий лед, царство мрачной преисподней, как оно просвечивает сквозь вашу тонкую оболочку жирондистской порядочности и почтенности; не топчите его, не то оболочка разорвется, и тогда...
Правда - если бы наши друзья жирондисты понимали ее - заключается в том, что неизвестно, где был бы французский патриотизм со всем его красноречием в эту минуту, если бы эта самая великая преисподняя Бедлама, фанатизма, народной ярости и безумия не поднялась неудержимо 10 августа Французский патриотизм был бы красноречивым воспоминанием, болтающимся на прусских виселицах. Более того, где бы он был через несколько месяцев, если б эта самая великая преисподняя закрылась? Даже, как вспоминают читатели газет, самое это отвращение к сентябрьской бойне отчасти возникло уже позже; читатели газет могут сослался на Горса и нескольких бриссотинцев, которые одобряли сентябрьские избиения в то время, когда они происходили, и называли их спасительной местью. Так что не было ли истинным поводом к озлоблению не столько справедливое отвращение, сколько утрата собственной власти? Несчастные жирондисты!
Поэтому решительный патриот жалуется в Якобинском клубе, что есть люди, которые ради своего личного честолюбия и вражды готовы погубить Свободу, Равенство и Братство: они тормозят дух патриотизма, ставят на его пути препоны и вместо того, чтобы подталкивать его плечами, стоят праздно и злобно кричат: какая плохая дорога и как сильно нам приходится толкать! На это Якобинский клуб отвечает злобным ревом и злобным визгом, потому что там присутствуют также и гражданки, плотно набившиеся в галереях. Это знаменитые Tricoteuses, патриотические вязальщицы, которые приносят с собой шитье или вязальные спицы и визжат или вяжут сообразно с обстоятельствами. Какая-нибудь Mere Duchesse или Дебора, тетка из предместий, задает тон. Якобинский клуб изменился и продолжает изменяться. Там, где теперь сидит Mere Duchesse, сидели настоящие герцогини. Некогда сюда приходили нарумяненные дамы, осыпанные драгоценностями и блестками; теперь вместо драгоценностей можно брать вязальные спицы и пренебречь румянами; румяна мало-помалу уступают место естественной смуглости, вымытой или неумытой, и даже саму девицу Теруань здесь с позором секут плетьми. Странно! Ведь это та самая трибуна, поднятая высоко над головами, с которой некогда гремели великий Мирабо, великий Барнав и аристократы Ламеты, постепенно уступившие место нашим Бриссо, Гюаде, Верньо, более горячей породе патриотов в bonnet rouge; раскаленный пыл, можно сказать, вытеснил свет. Теперь наши Бриссо и бриссотинцы, роланисты и жирондисты в свою очередь становятся лишними, должны бежать из заседаний или быть изгоняемыми; свет могущественной "Матери" горит теперь не красным, а синим пламенем! Провинциальные филиалы громко порицают эти дела, громко требуют скорейшего возвращения на места красноречивых жирондистов, скорейшего "изъятия Марата, radiation de Marat".
"Общество - Мать", насколько может предсказать здравый смысл, видимо, само себя губит. Однако такое впечатление складывалось при всех кризисах; общество живет противоестественной жизнью, и оно не погибнет.
Между тем через две недели решение великого вопроса о предании суду короля, над которым усидчиво, но молчаливо работает соответствующий комитет, неожиданно ускоряется. Наши читатели помнят склонность бедного Людовика к слесарному ремеслу, и, как в старые добрые времена, некий версалец сьер Гамен имел обыкновение приходить и учить его делать замки; говорят, он даже часто бранил его за неумелость. Тем не менее августейший ученик научился кое-чему из его ремесла. Злосчастный ученик, вероломный учитель! Теперь, 20 ноября 1792 года, этот грязный слесарь Гамен является в Парижский муниципалитет к министру Ролану и намекает, что он, слесарь Гамен, знает одну вещь: в прошлом мае, когда изменническая переписка велась так оживленно, он и августейший ученик его сделали "железный шкаф", искусно вделанный в стену королевской комнаты в Тюильри и незаметный под панелью, где он, несомненно, находится и до сих пор! Вероломный Гамен в сопровождении надлежащих властей находит панель, которую никто другой не мог бы отыскать, вскрывает ее и обнаруживает железный шкаф, полный писем и бумаг! Ролан вынимает их, завертывает в салфетки и относит в соответствующий усердный комитет, заседающий рядом. В салфетки, повторяем, и без нотариальной описи упущение со стороны Ролана.
Здесь, однако, достаточно писем, с очевидностью обнаруживающих переписку предательского, поглощенного личным самосохранением двора, и переписку не только с изменниками, но и с так называемыми патриотами! Из переписки с королевой и дружеских советов ей со времени бегства в Варенн обнаруживается измена Барнава; счастье, что Барнав благополучно находится в гренобльской тюрьме с прошлого сентября, так как он давно уже внушал подозрения! Измена Талейрана и многих других если и не вполне, то почти доказывается этими бумагами. Обнаруживается также измена Мирабо, ввиду чего бюст его в зале Конвента "окутывается газом", пока мы не убедимся в измене. Увы, в этом слишком легко убедиться! Бюст его в зале якобинцев после изобличения, сделанного Робеспьером с высокой трибуны, не окутывается газом, а мгновенно разбивается вдребезги; один патриот быстро влезает по лестнице и сбрасывает его - и некоторые другие - на пол под громкие крики. Вот какова теперь их награда и оклад жалованья: по закону спроса и предложения. Слесарь Гамен, не вознагражденный должным образом в настоящее время, является через пятнадцать месяцев со скромной просьбой: он сообщает, что, как только он кончил этот важный шкаф, Людовик (как он теперь припомнил) дал ему большой стакан вина, который произвел на желудок сьера Гамена самое ужасное действие и, видимо, имел целью причинить ему смерть, но был своевременно излечен при помощи рвотного; однако он все-таки вконец расстроил здоровье сьера Гамена. так что он (как он теперь убедился) не может содержать семью своим трудом. В награду за это ему дается "пенсия в 1200 франков" и "почетный отзыв". Вот как в разные времена бывает различно соотношение спроса и предложения!
Таким образом, среди препятствий и стимулирующих поощрений вопрос о суде растет, всплывая и погружаясь, питаемый заботливым патриотизмом. О речах, произнесенных по поводу его, об измышляемых с трудом формах ведения процесса, о юридических доводах в пользу его законности и обо всех нескончаемых потоках, юридических и иных, изобретательности и красноречия мы не скажем здесь ни слова. Изобретательность юристов - хорошая вещь, но какую пользу может она принести здесь? Если говорить правду, о августейшие сенаторы, то единственный закон в данном случае - это vae victis, проигравший платит! Редко Робеспьер говорил умнее, чем в тот раз, когда в речи своей по этому поводу намекнул, что излишне говорить о законе; что здесь более, чем где-нибудь, наше право - сила. Эта речь восхитила якобинских патриотов почти до экстаза: кто станет отрицать, что Робеспьер человек, идущий напролом и смелый по меньшей мере в логике? В том же смысле и еще яснее говорил молодой Сен-Жюст, черноволосый сладкоречивый юноша. Дантон во время этой предварительной работы находится в командировке в Нидерландах. Остальные, читаем мы, путаются в рассуждениях о международном праве, об общественном договоре, о юридических и силлогических тонкостях, бесплодных для нас, как восточный ветер. Действительно, что может быть бесплоднее зрелища 749 изобретательных людей, старающихся всеми силами и со всевозможным искусством в течение долгих недель сделать в сущности следующее: растянуть старую формулу и юридическую фразеологию так, чтобы они покрыли новую, противоречащую, совершенно не покрываемую вещь? При этом бедная формула только трещит, а с нею и честность растягивающего. Докажешь ли ты посредством силлогизмов, что вещь, которая горяча на ощупь и горит, на самом деле замерзшая смесь? Это растягивание формул, пока они не треснут, представляет, особенно в периоды быстрых перемен, одну из печальнейших задач, выпадающих на долю бедного человечества.
Глава шестая. ПЕРЕД СУДОМ
Между тем по истечении приблизительно пяти недель вопрос о суде снова всплывает, на этот раз в более практической, чем когда-либо, форме.
Во вторник 11 декабря вопрос о суде над королем был поднят самым решительным образом на улицах Парижа в образе зеленой кареты мэра Шамбона, в которой сидит сам король с провожатыми, направляясь в зал Конвента! В зеленой карете его сопровождают мэр Шамбон, прокурор Шометт и снаружи комендант Сантер с пушками, кавалерией и двойным рядом пехоты; все взводы с оружием наготове, усиленные патрули рыщут по соседним улицам; так едет Людовик под скучным, моросящим дождем, и около двух часов дня мы видим, как он спускается в "орехового цвета сюртуке, redingote noisette", по Вандомской площади к залу Манежа, чтобы выслушать обвинительный акт и подвергнуться судебному допросу. Таинственная ограда Тампля выдала свою тайну, которую теперь люди видят облаченной в орехового цвета сюртук. Это едет тот самый Людовик, который был некогда Людовиком Желанным; злосчастный король направляется теперь к пристани: его плачевные разъезды и путешествия подходят к концу. Долг, который ему еще осталось выполнить, - долг спокойного терпения - вполне в его силах.
Странная процессия движется в молчании, говорит Прюдом, или среди рокота "Марсельезы", в молчании входит в зал Конвента, причем Сантер поддерживает Людовика под руку. Людовик окидывает зал спокойным взглядом, желая посмотреть, что это за Конвент и парламент. Перемен в самом деле много: все изменилось с февраля, два года назад, когда заседавшая в то время Конституанта расстилала для нас бархат с цветами лилии и мы пришли сказать милостивое слово, после которого все вскочили и поклялись в верности; тогда же поднялась и поклялась вся Франция, устроившая праздник Пик. И вот чем он кончился! Барер, некогда "плакавший", смотря из-за редакторского стола, теперь взирает с председательской кафедры, держа лист с 57 вопросами, и говорит с сухими глазами: "Людовик, вы можете сесть". Людовик садится; говорят, это то же самое кресло, то же дерево и та же обивка, на котором он год назад, среди танцев и иллюминаций, принял конституцию. Дерево осталось тем же, но как изменилось многое другое! Людовик сидит и слушает со спокойным лицом и спокойными мыслями.
Из 57 вопросов мы не приведем здесь ни одного. Это коварные вопросы, касающиеся всех главных документов, захваченных 10 августа или найденных впоследствии в железном шкафу, и всех главных событий истории революции, и сводятся они по существу к следующему: "Людовик, бывший королем, виновен ли ты в том, что до известной степени старался посредством действий и письменных документов остаться королем?" В ответах тоже мало достойного нашего внимания. Это большей частью спокойные отрицания; обвиняемый просто ограничивается одним "нет": я не признаю этого документа; я не совершал этого поступка или совершил его согласно с действовавшим тогда законом. Когда часа через три все 57 вопросов и документы, в количестве 162, исчерпаны, Барер кончает допрос словами: "Людовик, приглашаю вас удалиться".
Людовик удаляется с эскортом муниципалитета в соседнюю комнату комитета, попросив, перед тем как оставить суд, чтобы ему дали защитника. В комитетской комнате ему предлагают подкрепиться, он отказывается, но потом, видя, как Шометт ест кусочек хлеба, которым поделился с ним гренадер, говорит, что ему тоже захотелось хлеба. Пять часов, а он плохо позавтракал в это утро, полное тревоги и барабанного боя. Шометт разламывает свой ломтик; король съедает корку, садится, продолжая есть, в зеленую карету и спрашивает, что ему делать с мякишем. Писец Шометта берет его у него и выбрасывает на улицу. Людовик говорит: "Жаль выбрасывать хлеб, когда такая нехватка продуктов". "Моя бабушка, - замечает Шометт, - обыкновенно говорила: "Малютка, никогда не бросай зря ни одной крошки хлеба, ты ведь не можешь его сделать"". "Месье Шометт, - замечает Людовик, - ваша бабушка, по-видимому, была рассудительной женщиной". Бедный, невинный смертный, как спокойно он ждет своего жребия! С этой задачей по крайней мере он справится: для нее достаточно одной пассивности, без активности! Он говорит еще о том, что ему хочется когда-нибудь проехаться по всей Франции, чтобы иметь представление о ее топографии и географии, так как он всегда любил географию. Ограда Тампля снова принимает его и закрывается за ним; глазеющий Париж может отправляться к своим очагам и кофейням, клубам и театрам; спускается сырой мрак, скрывающий барабаны и патрули этого странного дня.
Людовик отделен теперь от королевы и своей семьи, он принужден проводить время в незатейливых размышлениях. Мрачно стоят вокруг него каменные стены; из тех, кого он любит, нет никого. "В этом состоянии неопределенности" на случай самого худшего он пишет завещание. Этот документ, который можно прочесть и сейчас, полон спокойствия, простодушия, набожной кротости. Конвент после долгих дебатов разрешил ему иметь защитника по собственному выбору. Адвокат Тарже чувствует себя "слишком старым", так как ему 54 года, и отказывается. Некогда он стяжал большую славу, защищая кардинала ожерелья Рогана, но здесь он не хочет стяжать ее. Адвокат Тронше, лет на 10 старше его, не отказывается. А старик Мальзерб сам вызывается и добровольно выступает на поле своего последнего сражения. Добрый старый герой! Ему 70 лет, и волосы его побелели, но он говорит: "Я дважды призывался в совет моего монарха, когда весь мир домогался этой чести, и я обязан ему этой услугой теперь, когда многие считают ее опасной". Эти двое и более молодой де Сез, которого они выбирают для защитительной речи, принимаются за 57 обвинительных пунктов и за 102 документа; Людовик помогает им, насколько может.
Итак, готовится к разбирательству крупное дело, и все человечество, во всех странах, следит за ним. В какой форме и каким способом поведет его Конвент, чтобы на него не пало даже тени порицания? Трудно будет это! Конвент, находящийся действительно в большом затруднении, обсуждает и совещается. Каждый день, с утра до ночи, с трибуны гремят речи по этому делу: нужно растянуть старую формулу так, чтобы она покрыла новое содержание. Патриоты с Горы, ожесточающиеся все сильнее, требуют главным образом быстроты; единственная хорошая форма - это та, которая всех быстрее. Тем не менее Конвент совещается; трибуна гремит, заглушаемая иногда тенорами и даже дискантами; весь зал вокруг нее вопит в частых вспышках ярости и возбуждения. Громы и крики продолжались целых две недели, становясь все резче и сильнее, пока наконец мы не решаем, что в среду 26 декабря Людовик должен выступить и защищаться. Защитники его жалуются, что такая поспешность может быть роковой. Они как адвокаты имеют право на такую жалобу, но тщетно: для патриотизма время тянется бесконечно долго.
Итак, в среду, в восемь часов утра, когда еще темно и холодно, все сенаторы на своих местах. Правда, они согревают холодный час сильной горячностью, вошедшей теперь в обыкновение: какой-нибудь Луве или Бюзо нападает на какого-нибудь Тальена, Шабо, и затем вся Гора возбуждается против всей Жиронды. Едва успевает это кончиться, как в в девять часов в зал входят Людовик и трое его адвокатов, сопровождаемые бряцанием оружия Национальной гвардии под командованием Сантера.
Де Сез раскрывает свои бумаги и, с честью выполняя свою опасную миссию, говорит в течение трех часов. Его защитительная речь, "составленная почти в одну ночь", мужественная, но обдуманная, не лишена талантливости и мягкого патетического красноречия; Людовик бросился к нему на шею, когда они удалились, и воскликнул сквозь слезы: "Mon pauvre Deseze!" Сам Людовик, прежде чем удалиться, прибавил несколько слов, "быть может последних, которые он скажет своим судьям": больше всего, говорит он, угнетает его сердце то, что его считают виновным в кровопролитии 10 августа или в каком бы то ни было пролитии или желании пролития французской крови. Сказав это, он удалился из зала, покончив здесь со своей задачей. Для многих странных дел приходил он в этот зал, но самое странное - это последнее.
А теперь почему же медлит Конвент? Вот обвинительный акт и доказательства, вот защита - разве остальное не вытекает само собой? Гора и патриоты вообще все громче требуют поспешности, непрерывного заседания, пока дело не будет кончено. Тем не менее сомневающийся, боязливый Конвент решает, что надо сначала обсудить дело, и всем членам, желающим говорить, предоставляется слово. Поэтому к пюпитрам, красноречивые члены Конвента! Выкладывайте свои мысли, отзвуки и отголоски мыслей; настало время показать себя: Франция и весь мир слушают вас! Члены Конвента не заставляют долго просить себя: речи, устные памфлеты следуют одни за другими со всем доступным красноречием; список председателя все пополняется именами желающих говорить; изо дня в день, ежедневно и ежечасно гремит неутомимая трибуна крикливые галереи с большим разнообразием поставляют теноров и дискантов. Иначе было бы, пожалуй, слишком однообразно.
Патриоты на Горе и в галереях или по ночам в зданиях секций и в Якобинском клубе совещаются среди крикливых Tricoteuses, следя за всем происходящим рысьими глазами и подавая голос в случае надобности, иногда даже очень громко. Депутат Тюрио, бывший адвокат и избиратель Тюрио, видевший с вершины Бастилии, как Сен-Антуан поднялся наподобие океана, этот Тюрио может растягивать формулы с таким же усердием, как и всякий другой. Жестокий Бийо не смолчит, если задеть его. Не молчит и жестокий Жан-Бон тоже иезуит своего рода, имя его не следует писать, как часто делается в словарях, Jambon, что значит просто "ветчина"!
Но вообще пусть ни один человек не считает, что Людовик невиновен. Единственный вопрос, возникающий или возникший перед разумным человеком, это следующий: может ли Конвент судить Людовика? Или его должен судить весь народ в народном собрании и, следовательно, с отсрочкой? Все отсрочки! "Вы, жирондисты, фальшивые государственные мужи!" - ревет патриотизм, почти теряя терпение. Но в самом деле, подумаем, что же делать этим бедным жирондистам? Высказать свое мнение, что Людовик - военнопленный и не может быть казнен без несправедливости, беззакония и произвола? Но высказать такое мнение значило бы окончательно потерять всякую опору у решительных патриотов. Да, собственно говоря, это даже не убеждение, а только предположение и туманный вопрос. Сколько есть бедных жирондистов, уверенных только в одном: что всякий человек, и жирондист также, должен иметь в чем-то опору и твердо стоять на ней, сохраняя хорошие отношения с почтенными людьми! Вот в чем они убеждены и во что верят. Им приходится мучительно извиваться между двумя рогами этой дилеммы.
А тем временем Франция не бездействует и Европа также. Мы сказали уже, что Конвент - это сердце, из которого исходят и в которое входят различные влияния. Казнь короля, называть ли ее мученичеством или достойной карой, оказала бы большое влияние! В двух отношениях Конвент уже оказал влияние на все нации, и притом к большому своему вреду. 19 ноября он издал один декрет, который затем подтвердил, развив его детально, - это декрет о том, что всякая нация, которая пожелает отряхнуть с себя цепи деспотизма, этим самым становится, так сказать, сестрой Франции и может рассчитывать на ее помощь и поддержку. Этот декрет, который поднял шум среди дипломатов, публицистов и профессоров международного права и который не может одобрить никакая "цепь деспотизма", никакая власть, был внесен депутатом Шамбоном, жирондистом, в сущности, быть может, просто как красивая риторическая формула.
Во второй раз Конвент уронил свой авторитет перед лицом всех наций по еще более жалкому поводу, который произвела дребезжащая, как погремушка, и такая же пустая голова некоего Жакоба Дюпона из департамента Луара. Конвент рассуждал как раз о проекте народного образования, и депутат Дюпон сказал в своей речи: "Я должен признаться, господин председатель, что лично я атеист"20, думая, вероятно, что миру интересно знать это. Франция приняла это заявление без комментариев, во всяком случае без громких комментариев, так как во Франции в это время и без того было шумно. Но остальные страны приняли его в штыки, с ужасом и изумлением21, и влияние его или впечатление было в высшей степени печальным! А теперь если к этим двум впечатлениям прибавить еще третье, которое, пульсируя, обойдет весь земной шар, - если прибавить еще цареубийство?
В процесс Людовика вмешиваются иностранные дворы: Испания, Англия, но их не слушают, хотя они и являются, по крайней мере Испания, с пальмовой ветвью в одной руке и с обнаженным мечом - в другой. Но и дома, какие бурно пульсирующие волны накатываются на Конвент из окружающего его Парижа и всей Франции! Сыплются петиции, просьбы о равном правосудии в царстве так называемого Равенства. Живые патриоты умоляют; и разве не умоляют мертвые патриоты, о вы, национальные депутаты? Разве 1200 мертвецов, зарытые в холодных могилах, не умоляют вас немой пантомимой смерти красноречивее, чем словами? Увечные патриоты ковыляют на костылях вокруг зала Манежа, требуя справедливости. Раненые десятого августа, вдовы и сироты убитых являются в полном составе с петицией, ковыляя и проходя в красноречивом безмолвии по залу; одного раненого патриота, который не может даже ковылять, приносят сюда на кровати и проносят, наравне с головами, в горизонтальном положении. Трибуна Конвента, смолкшая было при этом зрелище, начинает снова греметь юридическими громами. А снаружи Париж завывает все сильнее. Слышится зычный голос Сен-Юрюга и истерическое красноречие Pere Duchesne; "Варле[42], апостол Свободы", с пикой и в красном колпаке, бежит, таща складную ораторскую табуретку. "Кара изменнику!" - кричит весь патриотический мир. Подумайте также и о другом крике, громко оглашающем улицы: "Дайте нам хлеба или убейте нас! Хлеба и Равенства! Кара изменнику, чтобы мы имели хлеб!"
Умеренные или нерешительные патриоты противостоят решительным. Мэр Шамбон слышит о страшной свалке в Национальном театре: дело дошло до ссоры, а затем и до драки между решительными и нерешительными патриотами из-за новой драмы под названием "Ami de lois" ("Друг законов"). Это одна из самых слабых из когда-либо написанных драм, но с поучительными намеками, вследствие которых залетали пудреные парики друзей порядка и черные волосы с якобинских голов, и мэр Шамбон спешит с Сантером, надеясь утихомирить страсти. Но вместо успокоения нашего бедного мэра так "тискают", говорит отчет, и так бранят и позорят, говорим мы, что он с сожалением окончательно покидает свой кратковременный пост, "так как у него слабые легкие". Об этой несчастной драме "Ami de lois" идут дебаты в самом Конвенте: так вспыльчивы и раздражены друг против друга умеренные и неумеренные патриоты.
А мало ли среди этих двух кланов явных и тайных аристократов, шпионов, прибывающих из Лондона с важными пакетами, притворяющихся прибывшими из Лондона? Один из последних, по имени Виар, утверждал, что может обвинить Ролана или даже жену Ролана, к великой радости Шабо и Горы. Но жена Ролана, будучи вызвана, тотчас явилась в зал Конвента и с своей светлой безмятежностью немногими ясными словами рассеяла в прах обвинение Виара при рукоплесканиях всех друзей порядка. Так завывает одичалый Париж среди театральных бунтов, криков "Хлеба или убейте нас!", среди ярости, голода и неестественной подозрительности. Ролан становится все раздраженнее в своих посланиях и письмах и доходит почти до истеричности. Марат, которому никакая земная сила не может помешать видеть насквозь изменников и Роланов, три дня лежит в постели; неоценимый Друг Народа чуть не умирает от сердечного приступа, лихорадки и головной боли: "О peuple babillard, si tu savais agir!" (О болтливый народ, если бы ты умел действовать!)
И в довершение всего победоносный Дюмурье приезжает в эти новогодние дни в Париж, как опасаются, с недобрыми намерениями. Он заявляет, будто приехал жаловаться на министра Паша и на хищения Гассенфраца, а также для того, чтобы обсудить план весенней кампании. Однако находят, что он слишком много вращается среди жирондистов. Уж не замышляют ли они вместе заговор против якобинцев, против равенства и наказания Людовика? Имеются его письма к Конвенту. Не желает ли он играть роль Лафайета, этот новый победоносный генерал? Пусть он удалится вновь, но изобличенный.
А трибуна Конвента продолжает греметь юридическим красноречием и предположениями, не переходящими в действие, и в списке председателя все еще значатся 50 ораторов. Эти жирондистские председатели как будто оказывают предпочтение своей партии; мы подозреваем, что они плутуют со списком ораторов с Горы не слышно. Гремят весь декабрь до января и Нового года, а конца все не видно! Париж толпится и воет вокруг все громче, воет, как вихрь. Париж хочет "привезти пушки с Сен-Дени"; поговаривают о том, чтобы "закрыть заставы", к ужасу Ролана.
Вслед за тем трибуна Конвента внезапно перестает греметь: мы обрываем сразу, кто бы ни стоял в списке, и кончаем. В будущий вторник, 15 января 1793 года, приступят к поименному голосованию, и тем или иным путем эта великая игра будет наконец разыграна!
Глава седьмая. ТРИ ГОЛОСОВАНИЯ
Виновен ли Людовик Капет в заговоре против свободы? Должен ли наш приговор быть окончательным, или он нуждается в ратификации путем обращения к народу? Если Людовик виновен, то какое должно быть наказание? Такова форма, принятая после смятения и "многочасовой нерешительности"; таковы три следующих один за другим вопроса, относительно которых предстоит теперь высказаться Конвенту. Париж волнуется вокруг его зала, толпится и шумит. Европа и все народы ждут его ответов. Каждый депутат должен лично, от своего имени ответить: виновен или не виновен?
Относительно виновности, как указано выше, в душе патриотов нет сомнений. Подавляющее большинство высказывается за виновность; Конвент единогласно постановляет: "Виновен", за исключением каких-нибудь 28 человек, которые не высказываются за невиновность, а совсем отказываются от голосования. Второй вопрос также не возбуждает сомнений вопреки расчетам жирондистов. Разве обращение к народу не окажется просто междоусобной войной, только под другим названием? Большинством двух против одного отвечают, что обращения к народу не должно быть; значит, и это установлено. Шумные патриоты теперь, в десять часов вечера, могут умолкнуть на ночь и отправиться спать не без надежды. Вторник прошел хорошо. Завтра решится, какое наказание! Завтра - решительный бой!
Можете вообразить себе, какое стечение патриотов на следующий день, в среду; весь Париж поднимается на носки, и все депутаты на местах! 749 почтенных депутатов, из них около 20 отсутствуют, находясь в командировках; Дюшатель и семеро других отсутствуют по болезни. Однако ожидающим патриотам и стоящему на носках Парижу приходится запастись терпением: эта среда опять проходит в дебатах и волнении; жирондисты предлагают, чтобы решение утверждалось "большинством в две трети"; патриоты яростно противятся им. Дантон, только что вернувшийся из поездки в Нидерланды, добивается отнесения предложения жирондистов "к порядку дня"; он добивается потом даже того, чтобы вопрос решался безотлагательно, sans desemparer, в непрерывном заседании, пока решение не будет принято.
И вот наконец в восемь часов вечера начинается это изумительное голосование посредством вызова по именам, appel nominal. Какое наказание? Нерешительные жирондисты, решительные патриоты, люди, боящиеся короля, люди, боящиеся анархии, должны отвечать здесь и сейчас же. Бесчисленное множество патриотов волнуется в тускло освещенных лампами коридорах, теснится на всех галереях, во что бы то ни стало желая слышать. Приставы громко вызывают каждого депутата по имени и департаменту; каждый должен взойти на трибуну и дать ответ.
Очевидцы изобразили эту сцену третьего голосования и голосований, вытекающих из него, как самую странную во всей революции; сцену, растянувшуюся до бесконечности, продолжавшуюся с немногими короткими перерывами от среды до утра воскресенья. Длинная ночь переходит в день, утренняя бледность покрывает все лица, и снова спускаются зимние тени, и зажигаются тусклые лампы; но днем и ночью, в череде часов, депутаты один за другим непрерывно поднимаются по ступеням трибуны, останавливаются там на некоторое время в более ярком освещении наверху и произносят свое роковое слово, вновь погружаясь затем во мрак и толчею. В полночный час они похожи на призраков, на выходцев из ада! Никогда председателю Верньо и никакому другому председателю на земле не приходилось руководить ничем подобным. Жизнь короля и многое другое, зависящее от нее, дрожа, колеблется на весах. Один за другим члены Конвента поднимаются на трибуну; шум стихает, пока не произнесено: "Смерть", "Изгнание", "Пожизненное заключение". Многие говорят: "Смерть", но в самых осторожных, строго обдуманных фразах, с пояснениями, подкреплениями, какие только могут придумать, и со слабыми ходатайствами о помиловании. Многие говорят: "Изгнание; все, только не смертная казнь". Весы колеблются, никто не может еще предсказать, куда они склонятся. Патриоты в беспокойстве и ревут; приставы не могут усмирить их.
Ввиду такого яростного рева патриотов многие из бедных жирондистов говорят: "Смерть", мотивируя это столь неприятное для них слово краткой казуистикой и иезуитскими измышлениями. Даже Верньо говорит: "Смерть" - и также приводит иезуитские мотивы. Богатый Лепелетье Сен-Фаржо, сначала принадлежавший к дворянству, потом к патриотической левой в Конституанте, много говоривший и вносивший доклады, и там, и в других местах, против смертной казни, тем не менее теперь говорит: "Смерть" - слово, за которое он дорого поплатится. Манюэль, в прошлом августе определенно принадлежавший к решительным патриотам, но с сентября и с сентябрьских событий все более отстававший от них, высказывается за изгнание. Но ни одно слово его не могло бы встретить сочувствия в этом Конвенте, и он в немой злобе покидает это собрание навсегда. В коридоре его сильно толкают. Филипп Эгалите голосует согласно голосу своей души и зову своей совести - голосует за смерть; при этом слове, произнесенном им, даже патриоты качают головой, и по залу суда проносятся ропот и содрогание. Мнение Робеспьера не может подлежать сомнению; речь его длинна. Поднимается Сиейес и, едва остановившись, почти на ходу, кричит: "La mort sans phrases!" (Смерть без разговоров!) - и исчезает, как привидение или исчадие ада!
Однако если читатель думает, что вся эта процедура носит погребальный, печальный или хотя бы только серьезный характер, то он сильно ошибается. "Приставы в отделении Горы, - говорит Мерсье, - превратились в оперных капельдинеров": они открывают и закрывают галереи для привилегированных лиц, для "любовниц д'Орлеана-Эгалите" или для других разряженных знатных дам, шуршащих кружевами и трехцветными лентами. Галантные депутаты постоянно наведываются сюда, угощая их мороженым, прохладительными напитками и болтовней; разряженные красавицы кивают в ответ; некоторые принесли с собой карточки и булавки и отмечают проколами "да" и "нет", как при игре в Rouge et Noir. Выше царит Mere Duchesse со своими ненарумяненными амазонками; она не может удержаться от протяжных "га-га!", когда подается голос не за смерть. На галереях закусывают, пьют вино и водку, "как в открытой таверне, en pleine tabagie". Во всех соседних кофейнях держатся пари. Но в зале Конвента на всех лицах усталость, нетерпение, крайнее переутомление, они оживляются лишь изредка, при новом обороте игры. Некоторые депутаты засыпают; приставы ходят и будят их, когда им надо голосовать; другие депутаты рассчитывают, не успеют ли они сбегать пообедать. Фигуры поднимаются, как бледные призраки, в тусклом свете ламп и произносят с этой трибуны только одно слово: "Смерть". "Tout est optique, - говорит Мерсье, весь мир представляет оптическую тень". Поздно ночью в четверг, когда голосование кончено и секретари подсчитывают голоса, является больной, похожий на призрак Дюшатель; его несут на стуле, завернутым в одеяла, "в халат и в ночном колпаке", и он вотирует за помилование: ведь и один голос может перетянуть чашу весов.
Нет! Среди гробового молчания председатель Верньо скорбным голосом принужден сказать: "Заявляю от имени Конвента, что наказание, к которому присужден Людовик Капет, - смерть". Смертная казнь присуждена незначительным большинством - в 53 голоса. Мало того, если мы отнимем у одной стороны 26 голосов, сказавших "смерть", но связавших с нею слабое ходатайство о помиловании, и прибавим их к противной стороне, то получится большинство всего в один голос.
Итак, приговор гласит: "Смерть!" Но как он будет приведен в исполнение? Он еще не исполнен! Едва объявлен результат голосования, как входят трое защитников Людовика с протестом от его имени и с просьбой об отсрочке для обращения к народу. Де Сез и Тронше ходатайствуют об этом в кратких красноречивых словах, а старый Мальзерб ходатайствует с красноречивым отсутствием красноречия, прерывающимися фразами, с волнением и рыданиями; благородный седой старец с его энергией, смелым умом и честностью не в силах справиться со своими чувствами и заливается немыми слезами. Обращение к народу отвергается, так как об этом уже состоялось постановление. Что же касается отсрочки, которую они называют sursis, то это будет подвергнуто обсуждению и поставлено на голосование завтра: сейчас заседание закрывается. В ответ на это патриоты с Горы "свистят", но "деспотическое большинство" решило так, и заседание откладывается.
Значит, еще четвертое голосование, ворчит негодующий патриотизм, еще голосование и бог весть сколько других и сколько отложенных голосований, и все дело будет оставаться в неопределенности! И при каждом новом голосовании эти иезуиты-жирондисты, даже те, кто голосовал за смерть, будут стараться найти какую-нибудь лазейку! Патриотизм должен быть бдительным и неистовым. Одно деспотическое закрытие заседания уже было, а теперь еще другое, в полночь, под предлогом усталости; вся пятница проходит в колебаниях, в торговле, в пересчете числа голосов, которое оказалось подсчитанным верно! Патриоты ревут все громче; от долгого ожидания они впали почти в бешенство, и глаза их налились кровью.
"Отсрочка: да или нет?" - вопрос этот голосуется в субботу, весь день и всю ночь. Нервы у всех истощены, все сердца в отчаянии; наконец-то дело близится к концу. Верньо, несмотря на рев, осмеливается сказать: "Да, отсрочка", хотя голосовал за смерть. Филипп Эгалите по душе и совести говорит: "Нет". Следующий поднимающийся на трибуну депутат говорит: "Раз Филипп говорит: "Нет", я со своей стороны говорю: "Да"" (Moi, je dit: "Oui"). Весы продолжают колебаться. Наконец в три часа утра, в воскресенье, председатель объявляет: "Отсрочка отвергнута большинством в 70 голосов. Смерть в 24 часа!"
Министр юстиции Гара должен отправиться в Тампль с этой мрачной вестью; он несколько раз восклицает: "Quelle commission affreuse!" (Какое ужасное поручение!)28 Людовик просит духовника и еще три дня жизни, чтобы приготовиться к смерти. Духовника разрешают; три дня и всякие отсрочки отвергаются.
Итак, спасенья нет? Толстые каменные стены отвечают - нет. Неужели у короля Людовика нет друзей? Неужели нет энергичных людей, которые с отчаянным мужеством решились бы на все в таких крайних обстоятельствах? Друзья короля Людовика далеко, и они слабы. Даже в кофейнях за него не поднимается ни одного голоса. Капитан Даммартен уже не обедает теперь в ресторане Мео, не видно там и сеющих смерть усачей в отпуску, показывающих кинжалы усовершенствованного образца. Храбрые роялисты, собиравшиеся у Мео, далеко за границами; они рассеяны и блуждают по свету, или кости их белеют в Аргоннском лесу. Только несколько слабых священников "расклеивают за ночь на всех углах воззвания", призывающие к освобождению короля и приглашающие набожных женщин восстать в его защиту; священников хватают во время распространения этих листовок и отправляют в тюрьму.
Но нет, у Людовика нашелся один заступник из тех, кто бывал у Мео; он постарался сделать все, что мог, и даже более того: убил депутата и довел до исступления всех парижских патриотов! В пять часов вечера, в субботу, Лепелетье Сен-Фаржо, подав свой голос против отсрочки, побежал перекусить в ресторан Феврье в Пале-Руаяле. Он пообедал и уже расплачивался, когда к нему подошел коренастый мужчина "с черными волосами и синим подбородком", в широком камзоле; это был, как потом вспомнили Феврье и присутствующие, некий Пари из бывшей королевской гвардии. "Вы Лепелетье?" - спрашивает он. - "Да". - "Вы голосовали по делу короля?" - "Я подал голос за смерть". - "Scelerat, вот тебе!" - крикнул Пари и, выхватив саблю из-под камзола, вонзил ее глубоко в бок Лепелетье. Феврье схватил его, но он вырвался и убежал.
Депутат Лепелетье лежит мертвый; он скончался в сильных мучениях в час дня - за два часа до того, как голоса против отсрочки были окончательно подсчитаны. Пари скитается в бегах по Франции; его не удается схватить; через несколько месяцев его находят застрелившимся в далекой глухой гостинице30[43]. Робеспьер имеет основания думать, что принц д'Артуа находится тайно в Париже и что весь Конвент целиком будет перебит. Сантер удваивает и утраивает все свои патрули. Сострадание тонет в ярости и страхе, и Конвент отказывает в трех днях жизни и во всякой отсрочке.
Глава восьмая. PLACE DE LA REVOLUTION[44]
Итак, вот до какого конца дожил ты, о злополучный Людовик! Потомок шестидесяти королей должен умереть на эшафоте в согласии со всей буквой закона. Форма этого закона, форма общества вырабатывалась в царствование шестидесяти королей, в продолжение тысячи лет и тем или иным образом превратилась в весьма странную машину. Несомненно, машина эта в случае необходимости может быть и страшной, мертвой, слепой, не тем, чем она должна была бы быть, и быстрым ударом или холодной, медленной пыткой она погубила жизни бесчисленных людей. И вот теперь сам король или, вернее, королевская власть в его лице должна погибнуть в жестоких мучениях, подобно Фаларису, заключенному в чрево своего же собственного раскаленного медного быка! [45] Так всегда бывает, и ты должен бы знать это, гордый деспот. Несправедливость порождает несправедливость: проклятия и ложь, как бы далеко они ни разбрелись по свету, всегда "возвращаются домой". Невинный Людовик несет на себе грехи многих поколений; в свою очередь он должен испытать, что праведного людского суда нет на земле и что плохо было бы ему, если б не существовало другого, высшего суда.
Король, умирающий таким насильственным образом, поражает воображение, что и должно быть, и не может не быть. И однако, в сущности умирает ведь не король, а человек! Королевский сан - это платье; главная же утрата - это утрата кожи. Может ли мир во всей своей совокупности сделать нечто худшее человеку, у которого отнимают жизнь? Лалли шел на место казни, подгоняемый плетьми, с забитым деревянными гвоздями ртом. Мелкие людишки, приговоренные за карманное воровство, переживают в немой муке целую пятиактную трагедию, когда идут не замечаемые никем на виселицу; они тоже осушают до дна кубок предсмертной тоски. Для королей и для нищих, для справедливо и несправедливо осужденных смерть одинаково жестокая вещь. Пожалей их всех; но и величайшее твое сострадание, увеличенное всеми соображениями и вспомогательными средствами вроде мыслей о контрасте между троном и эшафотом, - как неизмеримо мало все это по сравнению с тем, о чем ты жалеешь!
Пришел духовник. Аббат Эджворт, ирландец родом, которого король знал по его хорошей репутации, немедленно явился для своей торжественной миссии. Покинь же землю, злополучный король; она с ее злобой пойдет своею дорогой, ты тоже можешь идти своей. Остается еще тяжелая сцена расставания с любимыми и близкими. Милых сердцу, окруженных такой же жестокой опасностью, нужно оставить здесь! Пусть читатель взглянет глазами камердинера Клери сквозь стеклянную дверь, около которой стоит на страже и муниципалитет: он увидит одну из самых душераздирающих сцен.
"В половине девятого отворилась дверь в переднюю; первой показалась королева, ведя за руку сына, потом madame Royale[46] и сестра короля Елизавета; все они бросились в объятия короля. Несколько минут царило молчание, нарушаемое только рыданиями. Королева пошевельнулась, чтобы отвести Его Величество во внутреннюю комнату, где ожидал Эджворт, о чем они не знали. "Нет, - сказал король, - пойдемте в столовую, мне можно вас видеть только там". Они вошли туда, и я притворил дверь, которая была стеклянная. Король сел; королева села по левую руку его, принцесса Елизавета - по правую, madame Royale - почти насупротив, а маленький принц стоял между коленями отца. Все они наклонялись к королю и часто обнимали его. Эта горестная сцена продолжалась час и три четверти, во время которых мы ничего не могли слышать; мы могли только видеть, что всякий раз, когда король говорил, рыдания принцесс усиливались и продолжались несколько минут; потом король опять начинал говорить".
Итак, наше свидание и наше расставание кончаются! Конец огорчениям, которые мы причиняли друг другу; конец жалким радостям, которые мы верно делили; конец всей нашей любви и страданиям и всем нашим суетным земным трудам! Добрая душа, я никогда более, никогда вовеки не увижу тебя! Никогда! - Читатель, знаком ли тебе жестокий смысл этого слова?
Тягостная сцена эта продолжалась около двух часов, потом они отрываются друг от друга. "Обещай, что ты еще увидишься с нами завтра". Он обещает: "О, да, да, еще раз; а теперь идите, милые, любимые; молите бога за себя и за меня!" Тяжелая сцена кончилась; он не увидит их завтра. Проходя по передней, королева взглянула на стоящих на страже муниципальных церберов и с женской несдержанностью воскликнула сквозь слезы: "Vout etes tous des scelerats!" (Все вы злодеи!)
Король Людовик крепко спал до пяти часов утра, когда Клери, согласно его приказанию, разбудил его. Клери стал причесывать его, а он, достав из карманных часов кольцо, все пытался надеть его на палец; это было обручальное кольцо, которое он как немой прощальный привет хотел вернуть королеве. В половине седьмого он причастился и продолжал молиться и беседовать с аббатом Эджвортом. Он не хочет видеть свою семью: это было бы слишком тяжело.
В восемь часов входят члены муниципалитета; король передает им свое завещание, поручения и вещи, которые они сначала грубо отказываются принять; потом дает им сверток золотых - 125 луидоров: их нужно возвратить Мальзербу, который одолжил ему их. В девять часов Сантер говорит: "Пора". Король просит позволения удалиться еще на три минуты. По прошествии трех минут Сантер повторяет, что пора. Топнув правой ногой о пол, Людовик отвечает: "Partons" (едем). Как отдается сквозь бастионы и укрепления Тампля бой барабанов в сердце августейшей жены, которая скоро останется вдовой! "Значит, он ушел, не повидавшись с нами?" Королева, сестра короля и его дети горько плачут. Над всеми ими также витает смерть; все погибнут ужасным образом, за исключением одной - герцогини Ангулемской, которая останется жить, но не в добрый час.
У ворот Тампля слышится несколько слабых криков: "Grace! Grace!" Может быть, то были голоса милосердных женщин. На остальных улицах царит гробовая тишина. Не допускается ни один невооруженный человек; вооруженные, если даже и испытывают сострадание, не смеют выражать его, потому что каждый страшится своих соседей. Все окна закрыты, из них никто не смотрит. Все лавки закрыты. В это утро по этим улицам не проезжает никаких экипажей, кроме одного. Восемьдесят тысяч вооруженных людей стоят рядами, подобно вооруженным статуям; стоят пушки, канониры с зажженными фитилями, но без слов, без движения; это город, чарами превращенный в безмолвие и камень; единственный звук - это громыханье медленно катящегося экипажа. Людовик читает по молитвеннику молитвы умирающих; громыханье кареты, этот похоронный марш, проникает в его ухо среди великой тишины, но мысль тщетно пытается обратиться к небу и забыть землю.
Часы бьют десять; взгляните на площадь Революции, некогда площадь Людовика XV: около старого пьедестала, на котором когда-то стояла статуя этого короля, теперь возвышается гильотина! Далеко вокруг только пушки и вооруженные люди; позади теснятся зрители; Орлеан-Эгалите приехал в кабриолете. Быстрые гонцы (hoquetons) спешат каждые три минуты в городскую Ратушу; неподалеку заседает Конвент, мстящий за Лепелетье. Не обращая ни на что внимания, Людовик продолжает читать молитвы умирающих - он кончает их еще через пять минут; тогда экипаж открывается. В каком настроении осужденный? Десять различных свидетелей дают на этот счет десять разных показаний. Теперь, когда он прибыл к черному Мальстрему и пучине Смерти, в нем борются все настроения: скорбь, негодование, покорность, старающаяся смириться. "Позаботьтесь о господине Эджворте", - коротко поручает он сидящему с ним офицеру, и затем оба выходят из экипажа.
Барабаны бьют. "Taisez vous!" (Замолчите!) - кричит король "страшным голосом (d'une voix terrible)". Он всходит на эшафот не без промедления; на нем коричневый камзол, серые панталоны, белые чулки. Он снимает камзол и остается в белом фланелевом жилете с рукавами. Палачи подходят к нему, чтобы связать его, он отталкивает их и противится; аббат Эджворт вынужден напомнить ему, что Спаситель, в которого веруют люди, покорился и дал себя связать. Руки короля связаны, голова обнажена - роковая минута наступила. Он подходит к краю эшафота. "Лицо его горит", и он говорит: "Французы, я умираю безвинно; говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед богом. Я прощаю своих врагов; желаю, чтобы Франция... " Генерал на коне, Сантер или какой другой, выскакивает вперед с поднятой рукой: "Tambours!" Барабаны заглушают голос осужденного. "Палачи, исполняйте свою работу!" Палачи, опасаясь быть убитыми сами (если они не сделают того, что им приказано, то Сантер и его вооруженные ряды бросятся на них), хватают несчастного Людовика; на эшафоте происходит отчаянная борьба одного против шестерых, и его привязывают наконец к доске. Аббат Эджворт, нагнувшись, напутствует его: "Сын Святого Людовика, взойди на небеса!" Топор падает - жизнь короля пресеклась. Был понедельник 21 января 1793 года. Королю было тридцать восемь лет, четыре месяца и двадцать восемь дней.
Палач Сансон показывает голову; дикий крик "Vive la Republique!" разносится, все усиливаясь; машут шляпами, фуражками, поднятыми на штыки; студенты из Коллегии четырех наций подхватывают этот крик на набережной, и он разносится по всему Парижу. Орлеан уезжает в своем кабриолете; советники городской Ратуши потирают руки, говоря: "Кончено, кончено!" Кровью короля смачивают носовые платки, концы пик. Палач Сансон, хотя впоследствии он отрицал это33, продает пряди его волос; кусочки коричневого камзола долго еще носят в кольцах. Таким образом, в какие-нибудь полчаса все доделано, и вся толпа разошлась. Пирожники, продавцы кофе и молока выкрикивают свои обычные ежедневные возгласы. В этот вечер, говорит Прюдом, патриоты в кофейнях пожимали друг другу руки сердечнее обыкновенного. И только через несколько дней, по словам Мерсье, обыватели поняли, какое серьезное дело эта казнь.
Бесспорно, это дело серьезное, и оно не пройдет бесследно. На следующее утро Ролан, давно уже по горло сытый огорчениями и отвращением, подает в отставку. Отчеты его все готовы, точно переписаны черным по белому до последнего сантима; он желает только, чтобы их приняли, чтобы затем удалиться подальше, во мрак, в деревню, к своим книгам. Но отчеты никогда не будут приняты, и он никогда не удалится туда.
Ролан подал в отставку во вторник. В четверг происходят похороны Лепелетье де Сен-Фаржо и помещение его останков в Пантеон Великих Людей. Похороны эти замечательны, как дикая помпезность зимнего дня. Тело несут полуобнаженное: саван не закрывает смертельной раны; саблю и окровавленное платье несут напоказ; "мрачная музыка" играет суровые похоронные мотивы; венки из дубовых листьев сыплются из окон; председатель Верньо шествует с Конвентом, с Якобинским клубом и с патриотами всех цветов - скорбь сроднила их всех.
Похороны Лепелетье примечательны также и в другом отношении: это последний акт, совершенный этими людьми в согласии! Все партии и оттенки мнений, волнующие эту раздираемую смутой Францию и ее Конвент, стоят теперь, так сказать, лицом к лицу, кинжал к кинжалу, после того как жизнь короля, вокруг которой все они боролись и сражались, выброшена прочь. Дюмурье, завоевывающий Голландию, ворчит в опасном недовольстве во главе армий. Говорят, что он желает иметь короля и что королем его будет молодой Орлеан-Эгалите. Депутат Фоше в "Journal des Amis" проклинает свою жизнь горше, чем Иов, и призывает кинжалы цареубийц, "виперы Аррса" или Робеспьера, Плутона, Дантона, отвратительного мясника Лежандра и призрак д'Эрбуа, чтобы они поскорее отправили его на тот свет. Это говорит Те Deum Фоше, Фоше бастильской победы, член Cercle Social. Ужасен был смертоносный град, грохотавший вокруг нашего парламентерского флага в день Бастилии, но он был ничто в сравнении с таким крушением святой надежды, какое произошло теперь, с превращением золотого века в свинцовый шлак и сернистую черноту вечного мрака!
В самой Франции убийство короля разделило всех друзей, а за пределами ее соединило всех врагов. Братство народов, революционная пропаганда, атеизм, цареубийство - полное разрушение социального порядка в мире! Все короли, приверженцы королей и враги анархии соединяются в коалицию, как для войны за собственную жизнь. Англия извещает гражданина Шовлена, посланника, или, вернее, мантию посланника, что он должен покинуть эту страну в восьмидневный срок. Согласно этому, посол и его мантия, Шовелен и Талейран, уезжают. Талейран, замешанный в истории с железным шкафом, оказавшимся в Тюильри, находит, что ему безопаснее отправиться в Америку.
Англия выгнала посольство, Англия объявляет войну, по-видимому возмущенная главным образом состоянием реки Шельды. Испания объявляет войну, возмущенная главным образом чем-то другим, что, без сомнения, указано в ее манифесте. Мы находим даже, что не Англия объявила войну первой и не Испания, но что Франция сама первая объявила войну им обеим. Это пункт необычайно интересный для парламента и журналистики того времени, но лишенный всякого интереса в настоящее время. Все объявляют войну. Меч обнажен, ножны отброшены. Дантон в своем обычном высоком риторическом стиле промолвил: "Нам угрожает коалиция монархов, а мы бросаем к их ногам в качестве перчатки голову монарха".
Книга III. ЖИРОНДИСТЫ
Глава первая. ПРИЧИНА И ДЕЙСТВИЕ
Огромное революционное движение, которое мы сравниваем со взрывом ада и преисподней, смело королевскую власть, аристократию и жизнь короля. Теперь вопрос заключается в том, что оно сделает в ближайшем будущем, в какую форму оно выльется. Сформируется ли оно в царство законности и свободы, согласно привычкам, убеждениям и стараниям образованных, состоятельных, уважаемых классов? Иными словами, взорвется ли излившийся описанным образом поток вулканической лавы и потечет ли согласно формуле жирондистов и предустановленным законам философии? Благо нашим друзьям-жирондистам, если это будет так.
Однако не правдоподобнее ли предположить, что теперь, когда не осталось никакой внешней силы, королевской или иной, которая могла бы контролировать это движение, оно пойдет своим собственным путем, и, вероятно, весьма своеобразным? И далее, что к руководству им придет человек или люди, лучше всего понимающие его внутренние тенденции, могущие их выразить и осуществить? Наконец как движение, по самой природе своей лишенное порядка, возникшее вне и ниже пределов порядка, не должно ли оно действовать и развиваться не как нечто упорядоченное, а как хаос, разрушительно и самоистребительно, до тех пор пока не появится нечто, заключающее в себе порядок и достаточно сильное, чтобы снова подчинить себе это движение? Можно также предположить, что это нечто будет не формулой с философскими предложениями и судебным красноречием, а действительностью, и, быть может, с мечом в руке!
Что касается формулы жирондистов, предлагающей респектабельную республику для средних классов теперь, когда всякая аристократия основательно разгромлена, то мало оснований ожидать, чтобы дело остановилось на этом. Свобода, Равенство и Братство - таков выразительный, пророческий лозунг. Может ли быть осуществлением их республика для почтенных, белолицых средних классов? Главными двигателями Французской революции, как всегда будет при подобных революциях во всех странах, были голод, нищета и тяжелый кошмарный гнет, давивший 25 миллионов существ, а не оскорбленные самолюбия или спорные воззрения философствующих адвокатов, богатых лавочников и земельного дворянства. Феодальные Fleurs-de-lys сделались из рук вон плохим походным знаменем и должны были быть разорваны и истоптаны, но денежный мешок Маммоны (ибо в те времена "респектабельная республика для средних классов" означала именно это) еще хуже. В сущности это действительно самое худшее и низменное из всех знамен и символов власти среди людей; и оно возможно только во времена всеобщего атеизма и неверия во все, за исключением грубой силы и чувственности; гордость происхождением, чиновная гордость, любая другая возможная гордость лучше гордости кошельком. Свобода, Равенство, Братство - санкюлоты будут искать эти вещи не в денежном мешке, а в другом месте.
Поэтому мы говорим, что революционная Франция, лишенная контроля извне, лишенная высшего порядка внутри, превратится в одно из самых бурных зрелищ, когда-либо виденных на земле, и его не сможет регулировать никакая жирондистская формула. Это неизмеримая сила, составленная из многих разнородных соединимых и несоединимых сил. Говоря более ясным языком, Франция неминуемо должна разделиться на партии, из которых каждая будет стараться приобрести власть; отсюда возникнут противоречия, ожесточение, и одна партия за другой будут приходить к убеждению, что они не могут не только действовать совместно, но и существовать совместно.
Что касается числа партий, то, строго говоря, партий будет столько же, сколько мнений. Согласно этому правилу, в самом Национальном Конвенте, не говоря уже о Франции вообще, партий должно быть 749, ибо каждый человек имеет свое собственное мнение. Но так как каждый человек имеет в одно и то же время собственную натуру, или потребность идти собственным путем, и общественную натуру, или потребность видеть себя идущим бок о бок с другими, то что тут может образоваться, кроме разложения, опрометчивости, бесконечной сутолоки притяжений и отталкиваний, пока наконец главный элемент не окрепнет и дикое алхимическое брожение не уляжется?
Однако до 749 партий не доходила ни одна нация. В действительности же никогда не бывало многим больше двух партий сразу, так непобедима в человеке потребность к единению при всех его столь же непобедимых стремлениях к разъединению! Обычно бывает, повторяем, две партии одновременно; когда борются эти две партии, все меньшие оттенки партий соединяются под сенью наиболее подходящей им по цвету; когда же одна из двух победит другую, то она в свою очередь разделяется, сама себя разрушая, и, таким образом, процесс продолжается, сколько понадобится. Таково течение революций, возникающих подобно Французской, когда так называемые общественные узы разрываются и все законы, не являющиеся законами природы, превращаются в ничто, оставаясь лишь простыми формулами.
Но оставим эти несколько абстрактные соображения и предоставим истории рассказать нам о конкретной реальности, представляемой улицами Парижа в понедельник 25 февраля 1793 года. Задолго до рассвета в это утро улицы были шумны и озлобленны. Было много петиций, много обращений с просьбами к Конвенту. Только накануне приходила депутация прачек с петицией, жалуясь, что нельзя получить даже мыла, не говоря уже о хлебе и приправах к хлебу. Жалобный крик женщин раздавался вокруг зала Манежа: "Du pain et du savon!" (Хлеба и мыла!)1
А теперь с шести часов утра в этот понедельник можно заметить, что очереди возле булочных необычайно велики и озлобленно волнуются. Не одни только булочники, но и по два комиссара от секций с трудом справляются с ежедневной раздачей пайков. Булочник и комиссары вежливы и предупредительны в это раннее утро, при свечах, и, однако, бледная холодная февральская заря занимается над сценой, не обещая ничего хорошего. Возмущенные патриотки, часть которых уже обеспечена хлебом, устремляются к лавкам, заявляя, что желают получить и бакалейные товары. Бакалейных товаров много: на улицу выкатываются бочки с сахаром, гражданки-патриотки отвешивают сахар по справедливой цене 11 пенсов за фунт; тут же ящики с кофе, мылом, корицей и гвоздикой, с aqua vitae и другими спиртными напитками, - все распределяется по справедливой цене, но некоторые не уплачивают; бледный бакалейщик безмолвно ломает руки. Что делать? Распределяющие товары citoyennes несдержанны в словах и жестах, их длинные волосы висят космами, как у эвменид; за поясами их торчат пистолеты, а у некоторых, говорят, видны даже бороды - это патриоты в юбках и ночных чепчиках. И раздача эта кипит целый день на улицах Ломбардов, Пяти Алмазов и многих других; ни муниципалитет, ни мэр Паш, хотя он еще недавно был военным министром, не высылают войск, чтобы прекратить это, и до семи часов или даже позже ограничиваются только красноречивыми увещаниями.
В понедельник, пять недель назад, было 21 января, и мы видели, что Париж, казнивший своего короля, стоял безгласно, подобно окаменевшему заколдованному городу, а теперь, в этот понедельник, продавая сахар, он так шумит! Города, особенно города в состоянии революции, подвержены таким превращениям; скрытые течения гражданских дел и жизни волнуются и распускаются, обретая на глазах свою форму. Нелегко найти философскую причину и способ действия этого явления, когда скрытая сущность становится гласной, раскрываясь прямо на улице. Каковы, например, могут быть истинные философский смысл и значение этой продажи сахара? Откуда произошли и куда ведут события, разыгрывающиеся на улицах Парижа?
Что в этом замешаны Питт или золото Питта, это ясно всякому разумному патриоту. Но тогда возникает вопрос: кто же агенты Питта? Варле, апостола Свободы, недавно опять видели с пикой и в красном колпаке. Депутат Марат, оплакивая горькую нужду и страдания народа, дошел, по-видимому, до ярости и напечатал в этот самый день в своей газете следующее: "Если бы ваши Права Человека были чем-нибудь, кроме клочка исписанной бумаги, то ограбление нескольких лавок и один или два барышника, повешенные на дверной притолоке, положили бы конец такому ходу вещей". Разве это не ясные указания, говорят жирондисты. Питт подкупил анархистов; Марат - агент Питта; отсюда и продажа сахара. С другой стороны, Якобинскому клубу ясно, что нужда искусственная, это дело жирондистов и им подобных, дело кучки людей, частью продавшихся Питту и всецело преданных своему личному честолюбию и жестокосердому крючкотворству; они не хотят установить таксы на хлеб, а неотступно болтают о свободной торговле, потому что хотят толкнуть Париж на насилия и поссорить его с департаментами; отсюда и продажа сахара.
Но что, если к этим двум достопримечательностям - к этому факту и теориям его - мы прибавим еще и третье? Ведь французская нация уже в течение нескольких лет верила в возможность, даже в неизбежное и скорое наступление всемирного Золотого Века, царства Свободы, Равенства и Братства, в котором человек человеку будет братом, а горе и грех исчезнут с земли. Нет хлеба для еды, нет мыла для стирки, а царство полного счастья уже у порога, раз Бастилия пала! Как горели наши сердца на празднике Пик, когда брат бросался на грудь к брату и в светлом ликовании 25 миллионов разразились кликами и пушечным дымом! Надежда наша была тогда ярка, как солнце; теперь она стала злобно красной, как пожирающий огонь. О боже, что за чары, что за дьявольское наваждение делают то, что полное счастье, которое так близко, что до него рукой подать, никогда, однако, нельзя схватить, а вместо него лишь раздоры и нужда? Одна шайка предателей за другой! Трепещите, изменники; бойтесь народа, называющегося терпеливым, многострадальным, он не может вечно покоряться тому, чтобы у него вытаскивали таким путем из карманов Золотой Век!
Да, читатель, в этом-то и чудо. Из этой вонючей свалки скептицизма, чувственности, сентиментальности, пустого макиавеллизма действительно выросла такая вера, пылающая в сердце народа. Целый народ, живущий в глубокой невзгоде, проснувшись к сознательности, верит, что он у преддверия братского рая на земле. Он протягивает руки, стремится обнять невыразимое и не может сделать это по известным причинам. Редко бывает, чтобы про целый народ можно было сказать, что он имеет какую-нибудь веру, за исключением веры в те вещи, которые он может съесть или взять в руки. А когда он получает какую-нибудь веру, то история его становится захватывающей, замечательной. Но с того времени, когда вся вооруженная Европа разом содрогнулась при слове отшельника Петра[47] и ринулась к гробу, в котором лежало тело Господне, не было сколько-нибудь заметного всеобщего импульса веры. С тех пор как смолкло протестантство, ни голос Лютера, ни барабан Жижки[48] не возвещали более, что Божья правда не дьявольская ложь; с тех пор как последний из камеронианцев (Ренвик было его имя; слава имени храброго) пал, убитый на крепостном валу в Эдинбурге, среди наций не было даже частичного импульса веры, пока наконец вера не проснулась во французской нации. В ней, повторяем, в этой изумительной вере ее, и заключается чудо. Это вера, несомненно, самого чудесного свойства даже среди других вер, и она воплотится в чудеса. Она душа этого мирового чуда, называемого Французской революцией, перед которой мир до сих пор исполнен изумления и трепета.
Впрочем, пусть никто не просит историю объяснить посредством изложения причин и действий, как шло дело с этих пор. Борьба Горы и Жиронды и все последующее есть борьба фанатизма с чудесами, причины и последствия которой не поддаются объяснению. Шум этой борьбы представляется уму как гул голосов обезумевших людей; даже долго прислушиваясь и вникая, в нем различаешь мало членораздельного, а только шум сражения, клики торжества, вопли отчаяния. Гора не оставила мемуаров; жирондисты оставили их, но мемуары Жиронды слишком часто представляют собой не более чем протяжные возгласы: "Горе мне!" и "Будьте вы прокляты!" Если история может философски изобразить все стадии горения зажженного брандера[49], она может попытаться решить и эту задачу. Здесь был слой горной смолы, там слой серы, а вот в каком направлении проходила жила пороха, селитры, скипидара и порченого жира, это история могла бы отчасти знать, будь она достаточно любознательна. Но как все эти вещества действовали и воздействовали под палубами, как один слой огня влиял на другой благодаря своей собственной природе и искусству человека, теперь, когда все руки в яростном движении и пламя лижет паруса и стеньги, высоко взвиваясь над ними, - в это история пусть и не пытается проникнуть.
Брандер этот - старая Франция, старая французская форма жизни; экипаж его -целое поколение людей. Дико звучат их крики и неистовства, похожие на крики духов, мучимых в адском огне. Но разве они не отошли уже в область прошлого, читатель! Брандер и они сами, пугавшие мир, уплыли прочь; пламя его и его громы исчезли в пучине времени. Поэтому история сделает только одно: она пожалеет людей, всех людей, ибо всех постигла горькая доля. Даже Неподкупному с серо-зеленым лицом не будет отказано в сострадании, в некотором человеколюбивом участии, хотя это и потребует усилий. А теперь, раз так многое уже целиком достигнуто, остальное пойдет легче. В глазах равного ко всем братского сострадания бесчисленные извращения рассеиваются, преувеличения и проклятия отпадают сами собой. Стоя на безопасном берегу, мы пристально смотрим, не окажется ли чего-нибудь для нас интересного и к нам применимого.
Глава вторая. ЛЮДИ В ШТАНАХ И САНКЮЛОТЫ
Гора и Жиронда теперь в полной ссоре; их взаимное озлобление, говорит Тулонжон, превращается в "бледную" злобу. Замечательное, печальное явление: у всех этих людей на устах слово "республика", в сердце каждого из них живет страстное желание чего-то, что он называет "республикой", и, однако, посмотрите, какая между ними смертельная борьба! Но именно так созданы люди. Они живут в недоразумении, и, раз судьба соединяет их вместе, недоразумения их различны или кажутся им различными! Слова людей плохо согласуются с их мыслями; даже мысль их плохо согласуется с внутренней, неназываемой тайной, из которой рождаются и мысль и действие. Ни один человек не может объяснить себя, не может быть объясненным; люди видят не друг друга, а искаженные призраки, которые они называют друг другом; они ненавидят их и борются с ними, ибо верно сказано, что всякая борьба есть недоразумение.
Ведь, в самом деле, сравнение с брандером наших бедных братьев французов, таких пламенных и тоже живущих в огненной стихии, не лишено смысла. Обдумав его хорошенько, мы найдем в нем частицу истины. Человек, опрометчиво предавшийся республиканскому или иному трансцендентализму и борющийся фанатично среди такой же фанатичной нации, становится как бы окутанным окружающей его атмосферой трансцендентальности и безумия: его индивидуальное "я" растворяется в чем-то, что не он и что чуждо ему, хотя и неотделимо от него. Странно подумать, но кажется, будто платье облекает того же самого человека, а между тем человек не здесь, воля его не здесь, точно так же как и источник его дел и мыслей; вместо человека и его воли перед нами образчик фанатизма и фатализма, воплотившийся в его образ. Он, злополучный воплощенный фанатизм, идет своим путем; никто не может помочь ему, и сам он меньше всех. Это удивительное, трагическое положение; положение, которое язык человеческий, не привыкший иметь дело с такими вещами, так как предназначен для целей обыденной жизни, старается изобразить фигурально. Материальный огонь не более неукротим, чем огонь фанатизма, и, хотя видимый для глаз, он не более реален. Воля в своем увлечении прорывается невольно и в то же время добровольно; движение свободных человеческих умов превращается в яростный шквал фанатизма, слепой, как ветер; и Гора и Жиронда, придя в сознание, одинаково удивляются, видя, куда он занес и бросил их. Вот каким чудесным образом люди могут действовать на людей; сознательное и бессознательное неисповедимо перемешано в нашей неисповедимой жизни, и свободная воля окружена бесконечной необходимостью.
Оружием жирондистов служат государственная философия, порядочность и красноречие. Последнее - можете назвать его риторикой - действительно высшего порядка. Верньо, например, так красиво закругляет периоды, как ни один из его современников. Оружие Горы - оружие чистой природы: смелость и пылкость; они могут превратиться в свирепость, как у людей с твердыми убеждениями и решимостью, которые в известном случае должны, как сентябристы, или победить, или погибнуть. Почва, за которую сражаются, есть популярность; искать ее можно или с друзьями свободы и порядка, или же только с друзьями свободы; с теми и другими одновременно, к несчастью, невозможно. У первых и вообще у департаментских властей, у людей, читающих парламентские дебаты, почтенных, миролюбивых и состоятельных, пользуются популярностью жирондисты. У крайних же патриотов, у неимущих миллионов, особенно у парижского населения, которое не столько читает, сколько слышит и видит, жирондисты не имеют успеха и популярностью пользуется Гора.
В эгоизме и в скудости ума нет недостатка ни с той, ни с другой стороны, особенно же со стороны жирондистов, у которых инстинкт самосохранения, слишком сильно развившийся благодаря обстоятельствам, играет весьма печальную роль и у которых изредка проявляется даже известная хитрость, доходящая до уверток и обмана. Это люди искусные в адвокатском словопрении. Их прозвали иезуитами революции3, но это слишком жестокое название. Следует также признать, что эта грубая, шумливая Гора сознает, к чему стремится революция, чего красноречивые жирондисты совершенно не сознают. Для того ли совершалась революция, для того ли сражались французы с миром в течение четырех трудных лет, чтобы осуществилась какая-то формула, чтобы общество сделалось методическим, доказуемым логикой и исчезло бы только старое дворянство с его притязаниями? Или она должна была принести луч света и облегчение 25 миллионам, сидевшим в потемках и обремененным налогами, пока они не поднялись с пиками в руках? По крайней мере разве нельзя было думать, что она принесет им хотя бы хлеб для пропитания? И на Горе, тут и там, у Друга Народа Марата, даже у зеленого Неподкупного, как он вообще ни сух и ни формалистичен, имеется искреннее сознание этого последнего факта, а без этого сознания всякие другие сознания представляют здесь ничто, и изысканнейшее красноречие не более как медь звенящая и кимвал[50] бряцающий. С другой стороны, жирондисты относятся очень холодно, очень покровительственно и несерьезно к "нашим более бедным братьям" - к этим братьям, которых часто называют собирательным именем "массы", как будто они не люди, а кучи горючего, взрывчатого материала для снесения Бастилии. По совести говоря, разве революционер такого сорта не заблуждение? Это существо, не признанное ни природой, ни искусством, заслуживающее только быть уничтоженным и исчезнуть! Несомненно, для наших более бедных парижских братьев все это жирондистское покровительство звучит смертью и убийством и тем фальшивее, тем ненавистнее, чем красивее и чем неопровержимо логичнее оно высказывается.
Да, несомненно, добиваясь популярности среди наших более бедных парижских братьев, жирондисту приходится вести трудную игру. Если он хочет склонить на свою сторону почтенных лиц в провинции, он должен напирать на сентябрьские события и тому подобное, стало быть говорить не в пользу Парижа, в котором он живет и ораторствует. Трудно говорить перед такой аудиторией! Поэтому возникает вопрос: не переселиться ли нам из Парижа? Попытка эта делается два раза и даже более. "Если не мы сами, -думает Гюаде, - то по крайней мере наши suppleants могли бы переселиться". Ибо каждый депутат имеет своего suppleant, или заместителя, который занимает его место в случае надобности; не могли ли бы они собраться, скажем, в Бурже, мирном епархиальном городе, или в мирном Берри, в добрых 40 милях отсюда? В этом случае какая польза была бы парижским санкюлотам оскорблять нас, когда наши заместители, к которым мы можем бежать, будут мирно заседать в Бурже? Да, Гюаде думает, что даже съезды избирателей можно было бы созвать вновь и выбрать новый Конвент с новыми мандатами от державного народа; и Лион; Бордо, Руан, Марсель, до сих пор простые провинциальные города, были бы очень рады приветствовать нас в свою очередь и превратиться в своего рода столицы, да, кстати, и поучить этих парижан уму-разуму.
Прекрасные планы, но все они не удаются! Если сегодня под влиянием пылких красноречивых доказательств они утверждаются, то завтра отменяются с криками и страстными рассуждениями. Стало быть, вы, жирондисты, хотите раздробить нас на отдельные республики вроде швейцарцев или ваших американцев, так чтобы не было больше ни метрополии, ни нераздельной французской нации? Ваша департаментская гвардия, по-видимому, к тому и склонялась? Федеративная республика? Федералисты? Мужчины и вяжущие женщины повторяют federaliste, понимая или не понимая значение этого слова, но повторяют его, как обычно в таких случаях, пока смысл его не станет почти магическим и не начнут обозначать им тайну всякой несправедливости; слово "federaliste" становится своего рода заклинанием и Apage-Satanas. Больше того, подумайте, какая "отрава общественного мнения" распространяется в департаментах этими газетами Бриссо, Горса, Карита-Кондорсе. А затем какое еще худшее противоядие преподносят газета Эбера "Pere Duchesne", самая пошлая из когда-либо издававшихся на земле, газета Жоффруа "Rougiff", "подстрекательские листки Марата"! Не раз вследствие поданной жалобы и возникшего волнения постановлялось, что нельзя одновременно быть законодателем и издателем газеты, что нужно выбирать ту или другую функцию. Но и это - что в самом деле мало помогло бы отменяется или обходится и остается только благочестивым пожеланием.
Между тем посмотрите, вы, национальные представители, ведь между друзьями порядка и друзьями свободы всюду царят раздражение и соперничество, заражающие лихорадкой всю Республику! Департаменты, провинциальные города возбуждены против столицы; богатые против бедных, люди в кюлотах против санкюлотов; человек против человека. Из южных городов приходят воззвания почти обвинительного характера, потому что Париж долго подвергался газетной клевете. Бордо с пафосом требует законности и порядочности, подразумевая жирондистов. Марсель, также с пафосом, требует того же. Из Марселя приходят даже два воззвания: одно жирондистское, другое якобинско-санкюлотское. Пылкий Ребекки, заболевший от работы в Конвенте, уступил место своему заместителю и уехал домой, где тоже, при таких раздорах, много работы, от которой можно заболеть.
Лион, город капиталистов и аристократов, находится в еще худшем состоянии, он почти взбунтовался. Городской советник Шалье[51], якобинец, дошел буквально до кинжалов в споре с мэром Нивьер-Шолем, moderatin, одним из умеренных, может быть, аристократических, роялистских или федералистских мэров! Шалье, совершивший паломничество в Париж "посмотреть на Марата и Гору", воспламенился от священной урны, ибо 6 февраля история или молва видела, как он взывал к своим лионским братьям-якобинцам, совершенно трансцендентальным образом, с обнаженным кинжалом в руке; он советовал (говорят) простой сентябрьский способ, так как терпение истощилось и братья-якобинцы должны бы сами, без подсказки, приняться за гильотину! Его можно еще видеть на рисунках: он стоит на столе, вытянув ногу, изогнув корпус, лысый, с грубым, разъяренным лицом пса, покатым лбом, вылезающими из орбит глазами, в мощной правой руке поднятый кинжал или кавалерийский пистолет, как изображают некоторые; внизу, вокруг него, пылают другие собачьи лица; это человек, который вряд ли хорошо кончит! Однако гильотина не была тут же поставлена "на мосту Сен-Клер" или где-нибудь в другом месте, а продолжала ржаветь на своем чердаке. Нивьер-Шоль явился с войсками, бестолково громыхнул пушками, и "девятьсот заключенных" не получили ни щелчка. Вот как беспокоен стал Лион с его громыхающими пушками. Туда немедленно нужно отправить комиссаров Конвента: удастся ли им внести успокоение и оставить гильотину на чердаке?
Наконец, обратите внимание, что при таких безумных раздорах в южных городах и во Франции вообще едва ли предательский класс тайных роялистов не притаился, едва ли он не начеку и не выжидает, готовый напасть в удобную минуту. Вдобавок все еще нет ни хлеба, ни мыла; патриотки распродают сахар по справедливой цене 22 су за фунт! Граждане-представители, было бы поистине очень хорошо, чтобы ваши споры кончились и началось царство полного благополучия.
Глава третья. ПОЛОЖЕНИЕ ОБОСТРЯЕТСЯ
Вообще нельзя сказать, чтобы жирондисты изменяли себе, насколько у них хватает доброй воли. Они усердно бьют в уязвимые места Горы из принципа, а также из иезуитства.
Кроме сентябрьских избиений, которые теперь можно мало использовать разве лишь погорячиться, мы замечаем два больных места, от которых Гора часто страдает, - это Марат и Эгалите. Неопрятный Марат постоянно подвергается нападкам и лично, и за Гору; его представляют Франции как грязное, кровожадное чудовище, подстрекавшее к грабежу лавок, и слава этого дела пусть падает на Гору! Гора не в духе и ропщет: что ей делать с этим "образцом патриотизма", как признавать или как не признавать его? Что касается самого Марата, то он, с его навязчивой идеей, неуязвим для таких вещей; значение Друга Народа даже заметно растет, по мере того как поднимается дружественный ему народ. Теперь уже не кричат, когда он начинает говорить, иногда даже рукоплещут, и это поощрение придает ему уверенность. В тот день, когда жирондисты предложили издать декрет о предании его суду (decreter d'accusation, как они выражаются) за февральскую статью о "повешении одного или двух скупщиков на дверных притолоках"[52], Марат предложил издать "декрет о признании их сумасшедшими" и, сходя по ступенькам трибуны Конвента, произнес в высшей степени непарламентские слова: "Les cochons, les imbeciles" (свиньи, болваны). Он часто выкаркивает едкие сарказмы, потому что у него действительно жесткий, шершавый язык и глубокое презрение к изящной внешности, а один или два раза он даже смеется, "разражается хохотом" (rit aux eclats) над аристократическими замашками и утонченными манерами жирондистов, "этих государственных мужей", с их педантизмом, правдоподобными рассуждениями и трусостью. "Два года, - говорит он, - вы хныкали о нападениях, заговорах и опасностях со стороны Парижа, а ведь не можете показать на себе ни одной царапины". Дантон изредка сердито пробирает его, но Марат остается по-прежнему образцом патриотизма, которого нельзя ни признать, ни отвергнуть!
Второе больное место Горы - это ненормальный монсеньер Эгалите, принц Орлеанский. Посмотрите на этих людей, говорит Жиронда, с бывшим принцем Бурбонским в их среде: это креатуры партии орлеанистов; они хотят сделать Филиппа королем; не успели гильотинировать одного короля, как на его место готов уже другой! Из принципа и из иезуитства жирондисты предложили -Бюзо предлагал уже давно, - чтобы весь клан Бурбонов был изгнан с французской земли и этот принц Эгалите вместе с другими. Предложения эти производят известное впечатление на публику, и Гора в смущении и не знает, как противостоять им.
А что делать самому бедному ОрлеануЭгалите? Ведь можно пожалеть даже и его? Не признаваемый ни одной партией, всеми отвергаемый и бестолково толкаемый туда и сюда, в каком уголке природы может он теперь обрести пристанище с некоторыми видами на успех? Осуществимой надежды для него не остается; неосуществимая надежда с бледным сомнительным сиянием может еще появляться из лагеря Дюмурье, но скорее запутывая, чем подбодряя или освещая. Если не разрушенный временем Орлеан-Эгалите, то, может быть, молодой, неизношенный Шартр-Эгалите может сделаться своего рода королем? Укрытый в ущельях Горы, если только они могут служить укрытием, бедный Эгалите будет ждать: одно прибежище он имеет в якобинцах, другое - в Дюмурье и в контрреволюции, разве это уже не два шанса? Однако, говорит г-жа Жанлис, взор его стал пасмурным, на него грустно смотреть. Силлери, муж Жанлис, который вертится около Горы, но не на ней, тоже на плохом пути. Г-жа Жанлис на днях приехала из Англии, из Бюри-Сент-Эдмонд, в Рэнси, вместе со своей питомицей мадемуазель Эгалите по приказанию Эгалите-отца из опасения, чтобы мадемуазель не причислили к эмигрантам и не обошлись с ней сурово. Но дело оказывается запутанным. Жанлис и ее воспитанница должны вернуться в Нидерланды и ждать на границе неделю или две, пока монсеньер при помощи якобинцев не распутывает его. "На следующее утро, - говорит г-жа Жанлис, монсеньер угрюмее, чем когда-либо, подал мне руку, чтобы вести меня к карете. Я была очень расстроена, мадемуазель залилась слезами, отец ее был бледен и дрожал. Я села, а он все стоял неподвижно у дверцы кареты, устремив на меня взгляд; этот печальный страдальческий взгляд, казалось, молил о сострадании. "Adieu, Madame", - сказал он. Изменившийся тембр его голоса совершенно лишил меня самообладания; не будучи в силах произнести ни слова, я протянула руку, он крепко пожал ее, потом отвернулся, быстро подошел к почтальонам, подал им знак, и мы тронулись".
Нет недостатка и в примирителях, из которых мы также отметим двух: одного - твердо укрепившегося на вершине Горы, другого - еще не нашедшего пристанища; это Дантон и Барер. Изобретательный Барер, бывший член Учредительного собрания и журналист со склонов Пиренеев, - один из полезнейших в своем роде людей в этом Конвенте. Истина может принадлежать обеим сторонам, одной или ни одной; друзья мои, вы должны давать и брать; впрочем, всякого успеха побеждающей стороне! Таков девиз Барера. Он изобретателен, почти гениален, сообразителен, гибок, любезен - словом, человек, который добьется успеха. Едва ли сам Дух Лжи в этом собравшемся Пандемониуме[53] мог бы быть приятнее для зрения и слуха. Необходимый человек этот Барер; в великом искусстве приукрашивания с ним, по слухам, никто не сравнится. Если произошел взрыв, каких бывает много, смятение, неприятность, о которой никто не хочет знать и говорить, - поручите это Бареру; Барер будет докладчиком комитета по этому делу, и вы увидите, как оно превратится в нечто обычное, даже в прекрасное и правильное, что и требовалось. Мог бы существовать Конвент без такого человека, спросим мы? Не называйте его, подобно все преувеличивающему Мерсье, "величайшим лгуном Франции"; нет, можно даже возразить, что в нем нет настолько правды, чтобы сделать из нее настоящую ложь. Назовите его вместе с Берком Анакреоном[54] гильотины и человеком, полезным Конвенту.
Другой названный нами примиритель -Дантон. "Помиритесь, помиритесь друг с другом!" - кричит он довольно часто. Разве мы, маленькая кучка братьев, не противостоим в одиночку всеми миру? Смелый Дантон, любимец всей Горы, хотя его и считают слишком благодушным, недостаточно подозрительным: он стоял между Дюмурье и многими порицавшими его, боясь вызвать раздражение у нашего единственного генерала. В шумной суматохе мощный голос Дантона гремит, призывая к единению и умиротворению. Устраиваются свидания, обеды с жирондистами: ведь так важно, так необходимо добиться согласия. Но жирондисты высокомерны и неприступны: этот титан Дантон не человек формул, и на нем лежит тень сентября. "Ваши жирондисты не доверяют мне" - таков ответ, полученный от него посредником Мейаном[55]; на все доводы и просьбы этого Мейана есть один ответ: "Ils n'ont point de confiance". Шум все усиливается, спорящие бледнеют от ярости.
В самом деле, какой удар для сердца жирондиста эта первая, даже слабая, возможность, что презренная, неразумная, анархическая Гора в конце концов может восторжествовать! Грубые сентябристы, какой-нибудь Тальен с пятого этажа, "какой-нибудь Робеспьер без мысли в голове, без чувства в сердце", как говорит Кондорсе, и мы. цвет Франции, не можем противостоять им! Смотрите, скипетр уходит от нас и переходит к ним! Красноречие, философия, порядочность не помогают: "сами боги тщетно боролись бы с глупостью". Mit der Dummheit kampfen Gotter selbst vergebens![56]
Громко жалуется Луве; все его тощее тело пропитано злобой и противоестественной подозрительностью. Молодой Барбару тоже гневен - гневен и полон презрения. Безмолвная, похожая на королеву с аспидом[57] у груди, сидит жена Ролана; отчеты Ролана все еще не приняты, имя его превратилось в посмешище. Таковы капризы фортуны на войне и особенно в революции. Великая бездна ада и 10 августа разверзлась при волшебном звуке вашего красноречивого голоса, а теперь, смотрите, она уже не хочет закрываться по знаку вашего голоса. Такое волшебство - опасная вещь. Ученик волшебника завладел запретной книгой и вызвал духа. "Plait-il?" (Что угодно?) - сказал дух. Ученик, несколько пораженный, приказал ему принести воды; проворный дух принес воду, по ведру в каждой руке, но не пожелал перестать носить ее. Ученик в отчаянии кричит на него, бьет его, разрубает пополам; но что это? Теперь воду таскают два духа, и дом будет снесен Девкалионовым потопом[58].
Глава четвертая. ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ
Пожалуй, эта война между депутатами могла бы продолжаться долго, и партии, давя и душа друг друга, могли бы уничтожить одна другую окончательно в обычной, бескровной парламентской войне; но это могло бы произойти лишь при одном условии - чтобы Франция была в состоянии как-то существовать все это время. Но этот державный народ наделен органами пищеварения и не может жить без хлеба. Кроме того, у нас и внешняя война, и мы должны победить в войне с Европой, с роком и с голодом; между тем весной этого года всякая победа бежит от нас прочь. Дюмурье продвинул свои передовые посты до Аахена и составил великолепный план вторжения в Голландию, с военными хитростями, плоскодонными судами и с быстрой неустрашимостью, в которой он значительно преуспел, но, к несчастию, не мог продолжать с тем же успехом дальше. Аахен потерян; Маастрихт не желает сдаваться одним дыму и шуму; плоскодонным судам снова приходится спускаться на воду и возвращаться по тому же пути, по какому они пришли. Будьте же стойки, быстрые, неустрашимые люди, отступайте с твердостью, подобно парфянам! Увы, вина ли то генерала Миранды[59], военного ли министра или самого Дюмурье и Фортуны, но только ничего иного, кроме отступления, не остается, и хорошо еще, если оно не превратится в бегство, ибо поверженные в ужас когорты и рассеявшиеся части показали тыл, не дожидаясь приказаний, и около 10 тысяч человек бегут в отчаянии, не останавливаясь, пока не увидят Францию. Может быть, даже хуже: Дюмурье сам не склоняется ли втайне к измене? Тон его посланий нашим комитетам очень резок. Комиссары и якобинские грабители принесли неисчислимый вред: Гассенфрац не присылает ни патронов, ни обмундирования; обманным образом получены "подбитые деревянными и картонными подошвами" сапоги. Короче, все в беспорядке. Дантон и Лакруа в бытность свою комиссарами желали присоединить Бельгию к Франции, тогда как Дюмурье сделал бы из нее хорошенькое маленькое герцогство для своего личного тайного употребления! Все это сердит генерала, и он пишет нам резкие письма. Кто знает, что замышляет этот маленький пылкий генерал? Дюмурье, герцог бельгийский или брабантский и, скажем, Эгалите-младший - король Франции тут был бы конец нашей революции! Комитет обороны смотрит и качает головой: кто, кроме Дантона, лишенного подозрительности, может еще сохранять какую-нибудь надежду?
А генерал Кюстин возвращаема с Рейна; завоеванный Майнц будет отнят, пруссаки стягиваются к нему, чтобы бомбардировать его ядрами и картечью. Майнц оказывает сопротивление, комиссар Мерлей из Тионвиля "делает вылазки во главе осажденных"; он может бороться до смерти, но не долее. Какой грустный оборот для Майнца! Славный Форстер[60] и славный Люкс сажали там прошлой зимой, в метель, деревья Свободы под музыку "Ca ira", основывали якобинские клубы и присоединили территорию Майнца к Франции; потом они приехали в Париж в качестве депутатов или делегатов и получали по 18 франков в день, и вот, прежде чем деревья Свободы покрылись листвой, Майнц превратился в бушующий кратер, извергающий огонь и охваченный огнем!
Ни один из этих людей не увидит больше Майнца; они прибыли сюда только для того, чтобы умереть. Форстер объехал вокруг света, видел, как Кук[61] погиб под палицами гавайцев, но подобного тому, что он видел и выстрадал в Париже, он не видел нигде. Бедность преследует его; из дома ничего не может прийти, кроме вестей, приходивших к Иову; 18 франков в день, которые он с трудом получает здесь в качестве депутата или делегата, выдаются бумажными ассигнациями, быстро падающими в цене. Бедность, разочарование, бездействие и упреки медленно надламывают доблестное сердце. Таков жребий Форстера. Впрочем, девица Теруань еще улыбается на вечерах; у нее "красивое лицо, обрамленное темными локонами", и порывистый характер, которые помогают ей держать собственный экипаж. Пруссак Тренк, бедный подпольный барон, бормочет и бранится весьма неподобающим образом. Лицо Томаса Пейна покрыто красными волдырями, "но глаза его сверкают необычным блеском". Депутаты Конвента весьма любезно приглашают Форстера обедать, и "мы все играли в Plumpsack". "Это взрыв и создание нового мира, - говорит Форстер, - а действующие лица в нем маленькие, незначительные субъекты, жужжащие вокруг вас, как рой мух".
В то же время идет война с Испанией. Испанцы продвинутся через ущелья Пиренеев, шурша бурбонскими знаменами, гремя артиллерией и угрозами. Да и Англия надела красный мундир[62] и марширует с его королевским высочеством герцогом Йоркским, которого иные в свое время намеревались пригласить быть нашим королем. Настроение это теперь изменилось и все более меняется, пока не оказывается, что нет ничего в мире ненавистнее уроженца этого тиранического острова; Конвент в своей горячности даже объявляет декретом, что Питт - "враг рода человеческого" (l'ennemi du genre humain), a затем, как это ни странно, издается приказ, чтобы ни один борец за свободу не давал пощады англичанину. Однако борцы за свободу исполняют этот приказ лишь отчасти. Значит, мы не будем брать пленных, говорят они; всякий, кого мы возьмем, будет считаться "дезертиром". Это - безумный приказ и сопровождающийся неудобствами. Ведь если мы не будем давать пощады, то, естественно, не можем рассчитывать на нее и сами, стало быть, дело от этого нисколько не выиграет. Нашим "тремстам тысячам рекрутов" - цифра набора на этот год, - должно быть, придется изрядно поработать.
Сколько врагов надвигается на нас! Одни пробираются сквозь горные ущелья, другие плывут по соленому морю; ко всем пунктам нашей территории устремляются они, потрясая приготовленными для нас цепями. Но хуже всего то, что враг объявился и на нашей собственной территории. В первых числах марта почта из Нанта не приходит; вместо нее приходят только предположения, опасения, ветер доносит зловещие слухи. И самые зловещие оказываются верными. Фанатичное население Вандеи не желает больше подчиняться; пламя восстания, с трудом сдерживаемое до сих пор, снова вспыхивает огромным пожаром после смерти короля; это уже не мятеж, а междоусобная война. Эти Кателино, Стоффле, Шаретты оказались не теми, кем их считали; смотрите, как идущие за ними крестьяне, в одних рубахах и блузах, вооруженные дубинами, нестройными рядами, но с фанатической галльской яростью и диким боевым кличем "За бога и короля!" бросаются на нас, подобно свирепому урагану, обращают наших дисциплинированных национальных солдат в панику и sauve qui peut! Они одерживают победу за победой, и конца этому не видно. Посылают коменданта Сантера, но пользы от этого мало! Он мог бы без ущерба вернуться и варить пиво.
Становится решительно необходимым, чтобы Конвент перестал говорить и начал действовать. Пусть одна партия уступит другой и сделает это поскорее. Это уже не теоретическое предположение, а близкая неизбежность разорения; нужно позаботиться о том самом дне, в который мы живем.
В пятницу 8 марта эта ужасная весть была получена Национальным Конвентом от Дюмурье, но еще раньше ей предшествовало и потом сопровождало ее много других ужасных вестей. Лица многих побледнели. Мало пользы теперь от того, будут ли наказаны сентябристы или нет, если Питт и Кобург идут с равным наказанием для всех нас, ведь между Парижем и тиранами теперь нет ничего, кроме сомнительного Дюмурье с беспорядочно отступающими войсками! Титан Дантон поднимается в этот час, как всегда в час опасности, и звучен его голос, разносящийся из-под купола: "Граждане представители, не должны ли мы в этот час испытаний отложить все наши несогласия? Репутация, о, что значит репутация того или другого человека? Que mon nom soit fletri, que la France soit libre! (Пусть имя мое будет опорочено, лишь бы Франция была свободна!) Необходимо, чтобы Франция снова поднялась для решительной мести, чтобы поднялся миллион ее правых рук, как один человек и одно сердце. Нужно немедленно произвести набор в Париже; пусть каждая его секция поставит свои тысячи солдат; пусть то же сделает каждая секция Франции! 96 комиссаров из нашей среды, по два на каждую из 48 секций, пусть отправятся тотчас же и скажут Парижу, что родине нужна его помощь. Пусть 80 других немедленно разъедутся по всей Франции, разнесут по ней огненный крест и созовут всю нашу боевую рать. Эти восемьдесят должны уехать еще до закрытия этого заседания, и пусть они хорошенько обдумают в пути, какое поручение возложено на них. Нужно как можно скорее устроить лагерь на 50 тысяч душ между Парижем и северной границей, потому что скоро начнут прибывать парижские волонтеры. Плечом к плечу ударим мы на врага в могучем бесстрашном порыве и отбросим этих сынов ночи, и Франция вопреки всему миру будет свободна!"13 Так гремит голос Титана во всех секциях, во всех французских сердцах. Секции заседают непрерывно в эту же ночь, вербуя и записывая волонтеров. Комиссары Конвента быстро переезжают из города в город, разнося огненный крест, пока не вспыхивает вся Франция. И вот на городской Ратуше развевается флаг "Отечество в опасности"; с собора Парижской богоматери спускается черный флаг; читаются прокламации, произносятся пламенные речи; Париж снова стремится сокрушить своих врагов. Понятно, что при таких обстоятельствах он не в кротком настроении духа. На улицах, особенно вокруг зала Манежа, волнение. Фейянская терраса кишит озлобленными гражданами и еще более озлобленными гражданками; Варле со своей складной табуреткой появляется всюду, где только возможно; из всех сердец, со всех уст срываются не особенно умеренные восклицания о коварных краснобаях hommes d'etat - друзьях Дюмурье, тайных друзьях Питта и Кобурга. Драться с врагом! Да, и даже "заморозить его страхом" (glacer d'effroi), но сначала наказать домашних изменников! Кто те, кто, соперничая и ссорясь, в своей иезуитской, сдержанной манере стараются сковать патриотическое движение? Кто сеет раздор между Парижем и Францией и отравляет общественное мнение в департаментах? Кто потчует нас лекциями о свободной торговле зерном, когда мы просим хлеба и установления максимума цен? Может ли наш желудок удовлетвориться лекциями о свободной торговле? И как мы будем сражаться с австрийцами - умеренным или неумеренным способом? Конвент должен быть очищен.
"Назначьте быстрый суд над изменниками и установите предельные цены на зерно", - энергично говорят патриоты-добровольцы, дефилируя по залу Конвента перед отправлением к границам; они ораторствуют с героическим красноречием Камбиса, вызывая восторженные крики со стороны галереи и Горы и ропот со стороны правой и равнины. Случаются и чудеса: например, когда один капитан секции Пуассоньер пылко разглагольствует о Дюмурье, максимальных ценах и подпольных роялистах и его отряд вторит ему, размахивая знаменем, один из депутатов вдруг различает на cravates, или полосах, этого самого знамени королевские лилии! Капитан секции и его отряд в ужасе кричат и "топчут знамя ногами", наверное, это опять выходка какого-нибудь подпольного роялиста. Весьма возможно14, хотя, быть может, это просто старое знамя секции, сделанное раньше для 10 августа, когда такие полосы предписывались законом!15
Просматривая мемуары жирондистов и стараясь отделить истину от болезненной игры воображения, история находит, что эти мартовские дни, особенно воскресенье 10 марта, играют большую роль. Заговоры и заговоры, между прочим заговор об убийстве депутатов-жирондистов, с каковой целью анархисты и подпольные роялисты заключили будто бы между собой адский союз! По большей части этот заговор - плод больной фантазии; вместе с тем бесспорно, что Луве и некоторые жирондисты, опасаясь, что их убьют в субботу, не пошли на вечернее заседание, а совещались между собой, побуждая друг друга к какому-нибудь решительному поступку, чтобы покончить с этими анархистами, на что Петион, открыв окно и найдя, что ночь очень сырая, ответил лишь: "Ils ne feront rien" - и "спокойно взял свою скрипку"16, говорит Луве, чтобы нежным прикосновением к лидийским струнам оградить себя от снедающих забот. Почему-то Луве считал, что особенно ему грозит опасность быть убитым; впрочем, многие другие жирондисты не ночевали дома в эту ночь и все остались живы. Не подлежит, однако, сомнению, что к журналисту Горса, депутату и отравителю департаментов, и к его издателю ворвалась в дом шайка патриотов, среди которых, несмотря на мрак, дождь и сумятицу, можно было узнать Варле в красном колпаке и Фурнье-Американца; они перепугали их жен, разрушили станки, перепортили шрифты и находившийся там материал, так как мэр не вмешался своевременно; Горса пришлось спасаться с пистолетом в руке "по крыше через заднюю стену дома". На следующий день было воскресенье, день праздничный, и на улицах царило более сильное возбуждение, чем когда-либо: уж не замышляют Ли анархисты повторения сентябрьских дней? Правда, сентябрьские дни не повторились; однако этот истерический страх, в сущности довольно естественный, почти достиг своего апогея.
Верньо жалуется и скорбит в мягких, закругленных фразах. Секция Bonconseil (Доброго Совета), а не Mauconseil (Дурного Совета), как она называлась некогда, вносит замечательное предложение: она требует, чтобы Верньо, Бриссо, Гюаде и другие обвиняющие патриотов краснобаи-жирондисты, в числе двадцати двух, были взяты под арест! Секция Доброго Совета, названная так после 10 августа, получает жесткую отповедь, словно секция Дурного Совета18; но она сказала свое, слово ее произнесено и не останется без последствий.
Одна особенность и в самом деле поражает нас в этих несчастных жирондистах - это их роковая близорукость и роковая слабохарактерность; в этом корень зла. Они словно чужие народу, которым хотели бы управлять, чужие тому делу, за которое взялись. Сколько бы ни трудилась природа, им открывается во всех ее трудах только неполная схема их: формулы, философские истины, разные достойные поучения, написанные в книгах и признанные образованными людьми. И они ораторствуют, рассуждают, взывают к друзьям законности, когда дело идет не о законности или незаконности, а о том, чтобы жить или не жить. Они педанты революции, если не иезуиты. Их формализм велик, но велик и эгоизм. Для них Франция, поднимающаяся, чтобы сражаться с австрийцами, поднялась только вследствие заговора 10 марта и с тем, чтобы убить двадцать два из них! Это чудо революции, развивающееся по своим собственным законам и по законам природы, а не по законам их формулы и выросшее до таких страшных размеров и форм, недоступно их способности понимать и верить, как невозможность, как "дикий хаотический сон". Они хотят республики, основанной на том, что они называют добродетелями, что называется приличиями и порядочностью, и никакой другой. Всякая другая республика, посланная природой и реальностью, должна считаться недействительной, чем-то вроде кошмарного видения, не существующей, отрицаемой законами природы и учения. Увы! реальность туманна для самого зоркого глаза; а что касается этих людей, то они и не хотят смотреть на нее собственными очами, а смотрят сквозь "шлифованные стекла" педантизма и оскорбленного тщеславия, показывающие ложную, зловещую картину. Постоянно негодуя и сетуя на заговоры и анархию, они сделают только одно: докажут с очевидностью, что реальность не укладывается в их формулы, что она, реальность, в мрачном гневе уничтожит и учение, и их самих! Человек осмеливается на то, что он осознает. Но гибель человека начинается тогда, когда он теряет зрение; он видит уже не реальность, а ложный призрак ее и, следуя за ним, ощупью идет, с меньшей или большей скоростью, к полному мраку, к гибели, которая есть великое море тьмы, куда беспрестанно вливается прямыми или извилистыми путями всякая ложь!
Мы можем отметить это 10 марта как эпоху в судьбе жирондистов: озлобление их дошло до ожесточения, ложное понимание положения - до затмения ума. Многие из них не являются на заседания, иные приходят вооруженные. Какой-нибудь почтенный депутат должен теперь, после завтрака, не только делать заметки, но и проверять, в порядке ли его пистолеты.
Между тем дела Дюмурье в Бельгии обстоят все хуже. Вина ли то опять генерала Миранды или кого-нибудь другого, но несомненно, что "битва при Неервинде" 18 марта проиграна и наше поспешное отступление сделалось более чем поспешным. Победоносный Кобург с своими подгоняющими нас австрийцами висит, как черная туча, над нашим арьергардом. Дюмурье денно и нощно не сходит с коня; каждые три часа происходят стычки; все наше расстроенное войско, полное ярости, подозрений, паники, поспешно стремится назад, во Францию! Да и сам-то Дюмурье - каковые его намерения? Недобрые, по-видимому! Его депеши в комитет открыто обвиняют расколотый надвое Конвент за зло, принесенное Франции и ему, Дюмурье. А речи его? Ведь он говорит напрямик! Казнь деспота этот Дюмурье называет убийством короля. Дантон и Лакруа, вновь поспешившие к нему комиссары, возвращаются с большими сомнениями; даже Дантон теперь сомневается.
К Дюмурье спешно отправляются по поручению бдительной Матери патриотизма еще три посланца якобинцев - Проли, Дюбюиссон и Перейра; они немеют от изумления, слыша речи генерала. Конвент, по его словам, состоит из 300 подлецов и 400 недоумков: Франция не может существовать без короля. "Но мы же казнили нашего короля". "А какое мне дело!" - запальчиво кричит этот генерал, не умеющий молчать. "Не все ли мне равно, будут ли звать короля Ludovicus, или Jacobus, или Philippus", - возражает Проли и спешит донести о ходе дел. Так вот на что надеются по ту сторону границ.
Глава пятая. САНКЮЛОТЫ ЭКИПИРОВАЛИСЬ
Бросим теперь взгляд на великий французский санкюлотизм, на это чудо революции - движется ли оно, растет ли? Ведь в нем в одном заключена еще надежда для Франции. Так как с Горы исходят декрет за декретом, подобные созидающим fiats, то, согласно природе вещей, чудо революции быстро вырастает в эти дни, развивает один член за другим и принимает страшные размеры. В марте 1792 года мы видели, как вся Франция, объятая слепым ужасом, бежала запирать городские заставы, кипятила смолу для разбойников. В нынешнем марте мы счастливее, потому что можем взглянуть ужасу прямо в лицо, так как у нас есть творческая Гора, которая может сказать fiat. Набор рекрутов совершается с ожесточенной быстротой, однако наши волонтеры медлят с выступлением, пока измена не будет наказана дома: они не стремятся к границам, а мечутся взад и вперед с требованиями и изобличениями. Гора вынуждена говорить новое fiat и новые fiats.
И разве она не делает этого? Возьмем для первого примера так называемые Comites revolutionnaires для ареста подозрительных лиц. Революционные комитеты, состоящие из 12 выборных патриотов, заседают в каждой городской Ратуше Франции, допрашивают подозреваемых, ищут оружие, производят домашние обыски и аресты - словом, заботятся о том, чтобы Республике не нанесли какого-нибудь вреда. Члены их, избранные всеобщей подачей голосов, каждый в своей секции, представляют своего рода квинтэссенцию якобинства; около 44 тысяч таких лиц неусыпно бодрствуют над Францией! В Париже и во всех других городах дверь каждого дома должна быть снабжена четкой надписью с фамилиями квартирантов "на высоте, не превышающей пять футов от земли"; каждый гражданин должен предъявлять свою Carte de civisme, подписанную председателем секции; каждый должен быть готов дать отчет о своих убеждениях. Поистине, подозрительным лицам лучше бежать с этой почвы Свободы! Но и уезжать небезопасно: все эмигранты объявлены изменниками; имущество их переходит в национальную собственность, они вне закона, "мертвы в законе", конечно, за тем исключением, что для наших надобностей они будут "живы перед законом еще пятьдесят лет", и выпадающие за это время на их долю наследства также признаются национальной собственностью! Безумная жизненная энергия якобинства с 44 тысячами центров деятельности циркулирует по всем жилам Франции.
Весьма примечателен также Tribunal Extraordinaire20, декретированный Горой; причем некоторые жирондисты противились этой мере, так как подобный суд, несомненно, противоречит всем формам, другие же из их партии соглашались, даже содействовали принятию ее, потому что... о парижский народ, разве не все мы одинаково ненавидим изменников? "Трибунал Семнадцатого", учрежденный минувшей осенью, действовал быстро, но этот будет действовать еще быстрее. Пять судей, постоянные присяжные, которые назначаются из Парижа и окрестностей во избежание потери времени на выборы; суд этот не подлежит апелляции, исключает почти всякие процессуальные формы, но должен как можно скорее "убеждаться" и для большей верности обязан "голосовать во всеуслышание" для парижской публики. Таков Tribunal Extraordinaire, который через несколько месяцев самой оживленной деятельности будет переименован в Tribunal Revolutionnaire, как он уже с самого начала назвал себя. С Германом или Дюма в качестве председателя, с Фукье-Тенвилем в качестве генерального прокурора и с присяжными, состоящими из людей вроде гражданина Леруа, давшего самому себе прозвище Dix Aout (Леруа Десятое Августа), суд этот сделается чудом мира. В его лице санкюлоты создали себе острый меч, волшебное оружие, омоченное в адских водах Стикса, для лезвия которого всякий щит, всякая защита, силой или хитростью, окажутся слишком слабыми; он будет косить жизни и разбивать чугунные ворота, взмах его будет наполнять ужасом сердца людей.
Но, говоря о формировании аморфного санкюлотизма, не следует ли нам прежде всего определить, каким образом бесформенное получило голову. Не будет метафорой, если мы скажем, что существующее революционное правительство продолжает находиться в весьма анархичном состоянии. Имеется исполнительный совет министров, состоящий из шести членов, но они, особенно после ухода Ролана, едва ли сами знали, министры они или нет. Высшую инстанцию над ними составляют комитеты Конвента, все равные между собой по значению; комитеты двадцать одного, обороны, общественной безопасности назначаются одновременно или один за другим для специальных целей. Всемогущ один Конвент, особенно если Коммуна заодно с ним; но он слишком многочислен для административного корпуса. Поэтому в конце марта ввиду опасного положения Республики, находящейся в быстром коловращении, создается маленький Comite de Salut Public21, повидимому, для различных случайных дел, требующих неотложного решения, на деле же, оказывается, для своего рода всеобщего надзора и всеобщего порабощения. Члены этого нового комитета должны еженедельно давать отчет о своих действиях, но совещаются втайне. Числом их девять, и все они стойкие патриоты, один из них - Дантон; состав комитета должен обновляться каждый месяц, однако почему не переизбрать их, если они окажутся удачными? Суть дела в том, что их всего девять и они заседают втайне. На первый взгляд этот комитет кажется органом второстепенным, но в нем есть задатки для развития! Ему благоприятствуют счастье и внутренняя энергия якобинцев, он принудит все комитеты и самый Конвент к немому послушанию, превратит шестерых министров в шесть прилежных писцов и будет некоторое время исполнять свою волю на земле и под небесами. Перед этим Комитетом мир до сих пор содрогается и вопиет.
Если мы назвали этот Революционный трибунал мечом, который санкюлоты выковали сами для себя, то "закон о максимуме" можно назвать провиантским мешком или котомкой, в которой как-никак все же можно найти порцию хлеба. Правда, это опрокидывает политическую экономию, жирондистскую свободу торговли и всякие законы спроса и предложения, но что делать? Патриотам нужно жить, а у алчных фермеров, по-видимому, нет сердца. Поэтому "закон о максимуме", устанавливающий предельные цены на зерно и утвержденный после бесконечных усилий22, постепенно распространится на все виды продовольствия, но можно себе представить, после каких схваток и кутерьмы! Что делать, например, если крестьянин не хочет продавать свой товар? Тогда его нужно принудить к этому. Он должен дать установленным властям точные сведения об имеющемся у него запасе зерна, и пусть он не преувеличивает, потому что в этом случае его доходы, такса и контрибуции соответственно повысятся; но пусть и не преуменьшает, потому что к назначенному дню, положим в апреле, в амбарах его должно оставаться менее одной трети объявленного количества, а более двух третей должно быть обмолочено и продано. На него могут донести, и с него возьмут штраф.
Вот таким запутанным переворотом всех торговых отношений санкюлоты хотят поддержать свое существование, раз это невозможно иным образом. В общем дело приняло такой оборот, что, как сказал однажды Камиль Демулен, "пока санкюлоты сражаются, господа должны платить". Затем являются Impots progressifs (прогрессивные налоги), с быстро возрастающей прожорливостью поглощающие "излишек доходов" у людей: имеющие свыше 50 луидоров в год уже не изъяты из обложения; если доходы исчисляются сотнями, то делается основательное кровопускание, а если тысячами и десятками тысяч, то кровь льется ручьями. Потом появляются реквизиции, "принудительный заем в миллиард", на который, разумеется, всякий имеющий что-нибудь должен подписаться. Беспримерное явление: Франция дошла до того, что стала страной не для богачей, а для бедняков! А затем если кто-нибудь вздумает бежать, то что пользы? Смерть перед законом или жизнь в течение еще 50 лет для их проклятых надобностей! Таким образом, под пение "Ca ira" все идет кувырком; в то же время происходя: бесконечные продажи национального имущества эмигрантов, а Камбон сыплет ассигнациями, как из рога изобилия. Торговля и финансы санкюлотов и гальваническое существование их при установленных максимальных ценах и очередях у булочных, при жадности, голоде, доносах и бумажных деньгах; их начало и конец остаются самой интересной главой политической экономии, которой еще предстоит быть написанной.
Разве все это не находится в резком противоречии с учением? О друзья жирондисты; мы получим не республику добродетелей, а республику сил, добродетельных и иных!
Глава шестая. ИЗМЕННИК
Но что же Дюмурье с его бегущим войском, с его королем Ludovicus'oM или королем Phili-ppus'ом? Вот где кризис; вот в чем вопрос: революционное чудо или контрреволюция? Громкий крик наполняет северо-восточную область. Охваченные яростью, подозрениями и ужасом, солдаты беспорядочной толпой мечутся из стороны в сторону; Дюмурье денно и нощно не сходит с коня, он получает массу рекомендаций и советов, но было бы лучше, если бы он не получал их вовсе, ибо из всех рекомендаций он выбрал соединиться с Кобургом, двинуться на Париж, уничтожить якобинство и с каким-нибудь новым королем, Людовиком или Филиппом, восстановить конституцию 1791 года!23
Уж не покинули ли Дюмурье мудрость и фортуна? Принципов политических или иных верований, за исключением некоторых казарменных убеждений и офицерской чести, за ним не водилось, но как бы то ни было, а квартиры его армии в Бур-Сент-Амане и главная квартира в деревне Сент-Аман-де-Бу, неподалеку от них, превратились в Бедлам; туда сбегаются и съезжаются национальные представители и якобинские миссионеры. Из "трех городов" Лилля, Валансьена или даже Конде, которые Дюмурье желал бы захватить для себя, - не удается захватить ни одного. Офицера его впускают, но городские ворота запираются за ним, а затем, увы, запираются за ним и ворота тюрьмы, и "солдаты его бродят по городским валам". Курьеры скачут во весь опор; люди ждут или как будто ждут, чтобы начать убивать или быть убитыми самим; батальоны, близкие к безумию от подозрений и неуверенности, среди "Vive la Republique!" и "Sauve qui peut[63]" мечутся туда и сюда, а гибель и отчаяние в лице Кобурга залегли неподалеку в траншеях.
Госпожа Жанлис и ее прелестная принцесса Орлеанская находят, что этот Бур-Сент-Аман - совсем не подходящее для них место: покровительство Дюмурье становится хуже, чем отсутствие оного. Г-жа Жанлис энергична; это одна из самых энергичных женщин, словно наделенная девятью жизнями, ее ничто не может сокрушить; она укладывает свои чемоданы, готовясь тайно бежать. Свою любимую принцессу она хочет оставить здесь с принцем Эгалите Шартрским, ее братом. На заре холодного апрельского утра г-жу Жанлис в соответствии с ее планом можно видеть в наемном экипаже на улице Сент-Аман; почтальоны только что хлопнули бичами, готовясь тронуться, - как вдруг, задыхаясь, выбегает молодой принц-брат, неся принцессу на руках, и кричит, чтобы подождали. Он схватил бедную девушку в ночной сорочке, не успевшую взять/ничего из своих вещей, кроме часов из-под подушки; с братским отчаянием он бросает ее в экипаж между картонками, в объятия Жанлис: "Во имя Господа и милосердия не покидайте ее!" Сцена бурная, но непродолжительная: почтальоны хлопают бичами и трогаются. Но куда? По проселочным дорогам и крутым горным ущельям, отыскивая по ночам дорогу с фонарями, минуя опасности: австрийцев, Кобурга и подозрительных французских национальных солдат, женщины попадают наконец в Швейцарию, благополучно, но почти без денег. Храброму молодому Эгалите предстоит в высшей степени бурное утро, но теперь ему по крайней мере придется бороться с затруднениями одному.
И действительно, около деревни, славящейся своими целебными грязями и потому называемой Сент-Аман-де-Бу, дела обстоят худо. Около четырех часов пополудни во вторник 2 апреля 1793 года во весь опор мчатся два курьера. "Mon General! Четыре национальных представителя с военным министром во главе едут сюда из Валансьена, следом за нами", - с какими намерениями, можно догадаться! Курьеры еще не кончили доклад, как военный министр, национальные представители и старый архивариус Камю в качестве председателя уже приезжают. Mon General едва успел приказать гусарскому полку де Бершиньи построиться и ожидать поблизости на всякий случай. А в это время уже входит военный министр Бернонвиль с дружескими объятиями, так как он давний приятель Дюмурье; входит архивариус Камю и трое остальных.
Они предъявляют бумаги и приглашают генерала на суд Конвента только для того, чтобы дать одно или два разъяснения. Генерал находит это неподобающим, чтобы не сказать невозможным, и говорит, что "служба пострадает". Затем начинаются рассуждения; старый архивариус повышает голос. Но повышать голос в разговоре с Дюмурье - праздная затея; он отвечает лишь злобной непочтительностью. И вот, среди штабных офицеров в плюмажах, но с хмурыми лицами, среди опасностей и неуверенности бедные национальные посланцы спорят и совещаются, уходят и возвращаются в течение двух часов, и все без результата. Наконец архивариус Камю, совсем уже разгорячившийся, объявляет от имени Национального Конвента, ибо он на это уполномочен, что генерал Дюмурье арестован. "Будете ли вы повиноваться распоряжению Конвента, генерал?" "Pas dans ce moment-ci" (Не в данную минуту), - отвечает генерал тоже громко, затем, взглянув в другую сторону, произносит повелительным тоном несколько неизвестных слов, по-видимому немецкую команду. Гусары хватают четырех национальных представителей и военного министра Бернонвиля; выводят их из комнаты, из деревни, за французские сторожевые посты и в двух экипажах отвозят их в ту же ночь к Кобургу в качестве заложников и военнопленных; их долго будут держать в Маастрихте и австрийских крепостях!26 Jacta est alea.
В эту ночь Дюмурье печатает свою "прокламацию"; в эту ночь и завтра армия Дюмурье, опутанная мраком и яростью, в полуотчаянии должна сообразить, что делает генерал и что делать ей самой. Судите, была ли эта среда для кого-нибудь радостным днем! Но в четверг утром мы видим Дюмурье с небольшим эскортом, с Эгалите Шартрским и немногими офицерами штаба, едущим по большой дороге в Конде; может быть, они едут в Конде и там попытаются убедить Гаррисона? Так или иначе, они собираются иметь беседу с Кобургом, который, согласно уговору, ждет в лесу поблизости. Недалеко от деревни Думе три национальных батальона - люди, преисполненные якобинства, - проходят мимо нас; они идут довольно быстро - по-видимому, по недоразумению, так как мы не приказывали им идти по этой дороге. Генерал слезает с коня, входит в дом, чуть поодаль от дороги, и хочет дать батальонам письменный дневной приказ. Чу! Что за странный рокот, что это за лай и вой и громкие крики: "Изменники!", "Арестовать!" Национальные батальоны сделали поворот и стреляют! На коня, Дюмурье, и скачи во весь опор! Он и его штаб глубоко вонзают шпоры в бока лошадей, перескакивают через канавы на поля, которые оказываются болотами, барахтаются и ныряют, спасая свою жизнь; вслед им несутся проклятия и свистят пули. По пояс в грязи, с лошадьми или без них, потеряв несколько слуг убитыми, они спасаются из-под выстрелов в австрийский лагерь генерала Макка. Правда, на следующее утро они возвращаются в Сент-Аман к верному иностранному полку Бершиньи, но какая в том польза? Артиллерия взбунтовалась и ушла в Валансьен; все взбунтовались или готовы взбунтоваться; за исключением одного иностранного полка Бершиньи, каких-нибудь несчастных полутора тысяч человек, никто не хочет следовать за Дюмурье, против Франции и нераздельной республики; карьера его кончена.
В этих людях так крепко укоренился инстинкт французской крови и санкюлотства, что они не последуют ни за Дюмурье, ни за Лафайетом, ни за кем из смертных в таком деле. Будут крики "Sauve gui peut", но будут и крики "Vive la Republique!". Приезжают новые национальные представители, новый генерал Дампьер, вскоре после того убитый в сражении[64], новый генерал Кюстин; возбужденные войска отступают в лагерь Фамара и, насколько могут, оказывают сопротивление Кобургу.
Итак, Дюмурье в австрийском лагере: драма его завершилась таким скорее печальным образом. Это был весьма ловкий, гибкий человек, один из Божьих ратников, которому недоставало только дела. Пятьдесят лет незамечаемых трудов и доблести; один год трудов и доблести на виду у всех стран и веков и затем еще тридцать лет, опять незамечаемых, прошедших в писании мемуаров, в получении английской пенсии, в бесполезных планах и проектах. Прощай, Божий ратник! Ты был достоин лучшей участи.
Штаб его разбредается в разные стороны. Храбрый молодой Эгалите добирается до Швейцарии и домика г-жи Жанлис, куда приходит с крепкой узловатой палкой в руке и с сильным сердцем в груди. Этим ограничиваются теперь все его владения. 6 апреля Эгалите-отец сидел в своем дворце в Париже и играл в вист, когда вошел сыщик. Гражданин Эгалите приглашается в комитет Конвента!28 Допрос с предложением идти под арест, затем заключение в тюрьму, отправка в Марсель и в замок Иф! Орлеанство потонуло в черных водах; дворец Эгалите, бывший Пале-Руаяль, должно быть, сделается дворцом национальным.
Глава седьмая. В БОРЬБЕ
Наша Республика может быть на бумаге "единой и неразделимой", но какая от этого польза, пока длится такое положение дел: в Конвенте - федералисты, в армии - ренегаты, всюду - изменники! Франция, уже с 10 марта занятая отчаянным набором рекрутов, не стремится к границам, а только мечется из стороны в сторону. Это предательство надменного дипломатичного Дюмурье тяжело ложится на красноречивых, высокомерных hommes d'etat[65], с которыми он был заодно, и составляет вторую эпоху в их судьбе.
Или, пожалуй, вернее сказать, что вторая эпоха, хотя в то время и мало замеченная, началась для жирондистов в тот день, когда в связи с этим предательством они порвали с Дантоном. Был первый день апреля; Дюмурье еще не пробрался через болота к Кобургу, но, очевидно, намеревался сделать это, и комиссары Конвента отправились арестовать его; в это время жирондист Ласурс[66] не находит ничего лучшего, как подняться и иезуитски вопрошать и пространно намекать, что, может быть, главным сообщником Дюмурье был Дантон! Жиронда соглашается с сардонической усмешкой. Гора затаила дыхание. Поза Дантона, говорит Левассер[67], была на протяжении этой речи достойна замечания. Он сидел прямо, делая над собою судорожное усилие, чтобы оставаться неподвижным; глаза его временами вспыхивали диким блеском, рот искривлялся презрением титана. Ласурс продолжает говорить с адвокатским красноречием: ум его рождает то одно предположение, то другое, и предположения эти заставляют его страдать, так как они бросают весьма прискорбную тень на патриотизм Дантона, но он, Ласурс, надеется, что Дантон найдет возможным рассеять эту тень.
"Les scelerats!"[68] - восклицает Дантон, когда тот кончил, и, вскочив со сжатым кулаком, скатывается с Горы, подобно потоку лавы. Ответ его готов: предположения Ласурса разлетаются, как пыль, но оставляют после себя след. "Вы были правы, друзья с Горы, - начинает Дантон, - а я был не прав: мир с этими людьми невозможен. Так пусть будет война. Они не желают спасти Республику вместе с нами - она будет спасена без них, будет спасена вопреки им". Это настоящий взрыв бурного парламентского красноречия, и речь Дантона стоит и теперь прочесть в старом "Moniteur". Пламенными словами ожесточенный, суровый тиран терзает и клеймит жирондистов; и при каждом ударе радостная Гора подхватывает хором; Марат повторяет последнюю фразу, как музыкальное bis. Предположения Ласурса исчезли; но перчатка Дантона осталась.
Третью эпоху или сцену в жирондистской драме, вернее, завершение этой второй эпохи мы исчисляем с того дня, когда терпение добродетельного Петиона наконец лопнуло и когда жирондисты, так сказать, подняли перчатку Дантона и декретировали обвинение Марата. Это было одиннадцатого числа того же апреля при возникшем по какому-то поводу возбуждении, какие возникали часто; председатель надел шляпу, потому что воцарился полный Бедлам. Гора и Жиронда бросились друг на друга с кулаками, даже с зажатыми в руках пистолетами, как вдруг жирондист Дюперре обнажил шпагу! При виде сверкнувшей смертоносной стали поднялся ужасный крик, немедленно успокоивший всякое другое волнение. Затем Дюперре вложил шпагу обратно в ножны, признавшись, что он действительно обнажил ее, движимый некоторого рода священной яростью (sainte fureur) и направленными на него пистолетами, но что если бы он в отцеубийственном порыве хотя бы оцарапал кожу Народного Представительства, то схватил бы пистолет, также бывший при нем, и тут же размозжил бы себе череп.
И вот тогда-то добродетельный Петион, видя такое положение дел, поднялся на следующее утро, чтобы выразить сожаление по поводу этих волнений, этой бесконечной анархии, вторгающейся в самое святилище законодательной власти. Ропот и рев, какими Гора встретила его заявление, окончательно вывели его из терпения, и он заговорил резко, вызывающим тоном, с пеной у рта, "из чего, - говорит Марат, - я заключил, что у него сделалось собачье бешенство, la rage". Бешенство заразительно, поэтому выставляются новые требования, также с пеной у рта: об истреблении анархистов и, в частности, о предании суду Марата. Предать народного представителя Революционному трибуналу? Нарушить неприкосновенность представителя? Берегитесь, друзья! Этот бедный Марат не лишен недостатков, но чем он провинился против свободы или равенства? Тем, что любил их и боролся за них не слишком умно, но во всяком случае весьма усердно. Он боролся в тюрьмах и подвалах, в гнетущей бедности, среди проклятий людей, и именно в этой борьбе он стал таким грязным, гнойным, именно поэтому голова его стала головой Столпника! И его вы хотите подставить под ваш острый меч, в то время как Кобург и Питт, дыша огнем, надвигаются на нас!
Гора шумит, Жиронда также шумит, но глухо; на всех губах пена. "В непрерывном двадцатичетырехчасовом заседании" посредством поименного голосования и с невероятными усилиями Жиронде удается настоять на своем: Марат предается Революционному трибуналу для ответа по поводу своей февральской статьи о повешении скупщиков на дверных притолоках и других преступлениях, и после недолгих колебаний он повинуется.
Итак, перчатка Дантона поднята, завязывается, как он и предсказал, "война без перемирий и без договоров" (ni treve, ni composition). Поэтому, теория и реальность, сойдитесь теперь друг с другом, сцепитесь в смертельной схватке и боритесь до конца; рядом вы не можете жить, одна из вас должна погибнуть!
Глава восьмая. В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ
Эта смертельная борьба продолжалась около шести недель или более, что бросает свет на многое и показывает, какая сила, хотя бы только сила инерции, заключается в установленных формулах и как слаба рождающаяся действительность. Народное дело - обсуждение акта конституции, потому что наша конституция решительно должна быть готова, идет тем временем своим чередом. Мы даже меняем место: переселяемся 10 мая из старого зала Манежа в наш новый зал в Тюильрийском дворце, бывшем некогда королевским, а ныне принадлежащем Республике. Надежда и сострадание все еще борются в сердцах людей против отчаяния и ярости.
В течение шести недель идет крайне темная, запутанная борьба не на жизнь, а на смерть. Ярость формалистов против ярости реалистов, патриотизм, эгоизм, гордость, злоба, тщеславие, надежда и отчаяние - все обострилось до степени безумия; ярость сталкивается с яростью, подобно бурным встречным вихрям; один не понимает другого; слабейший когда-нибудь поймет, что он действительно сметен прочь! Жирондисты сильны, как установленная формула и добропорядочность; разве 72 департамента или по крайней мере почтенные департаментские власти не высказываются за нас? Кальвадос, преданный своему Бюзо. как намекают донесения, готов даже возмутиться; Марсель, колыбель патриотизма, поднимется; Бордо и департамент Жиронды восстанут, как один человек; словом, кто не восстанет, если наше Representation Nationale будет оскорблено или повредят хотя бы один волос на голове депутата? Гора же сильна, как действительность и смелость. Разве не все возможно для действительности Горы? Возможно и новое 10 августа, а если понадобится, даже и новое 2 сентября!
Но что за шум, похожий на свирепое ликование, поднимается в среду днем 24 апреля 1793 года? Это Марат возвращается из Революционного трибунала! Неделя или более смертельной опасности, затем торжественное оправдание: Революционный трибунал не находит мотивов для обвинения этого человека. И вот око истории видит, как патриоты, всю неделю печалившиеся о невыразимых вещах, разражаются восторженными криками, обнимают своего Марата, поднимают его и с триумфом несут на плечах по улицам Парижа. Оскорбленного Друга Народа, увенчанного венком из дубовых листьев, несут на руках среди волнующегося моря красных колпаков, карманьольских блуз[69], гренадерских касок, женских чепцов, среди шума, подобного рокоту моря! Оскорбленный Друг Народа достиг кульминационной точки и касается звезд своей величественной головой.
Читатель может представить себе, с какой миной Ласурс, намекавший на "прискорбные предположения" и председательствующий теперь в Конвенте, будет приветствовать этот ликующий поток, когда он вольется сюда, и во главе его тот, который был предан суду! Некий сапер, выступивший по этому поводу с речью, говорит, что народ знает своего друга и дорожит его жизнью так же, как и своей собственной, и тот, "кто захочет получить голову Марата, получит также и голову сапера". Ласурс отвечает каким-то неясным, удрученным бормотанием, слушать которое, говорит Левассер, нельзя было без усмешки. Патриотические секции, волонтеры, еще не ушедшие к границам, являются с требованием "произвести чистку от изменников в вашем собственном лоне", требуют изгнания, даже суда и приговора над 22 мятежными депутатами.
Тем не менее Жиронда настояла на создании Комиссии двенадцати комиссии, специально назначенной для расследования беспорядков в законодательном святилище: пусть санкюлоты говорят что хотят, законность должна восторжествовать. Председательствует в этой комиссии бывший член Учредительного собрания Рабо Сент-Этьен; "это последняя доска, на которой потерпевшая крушение Республика еще может как-нибудь спастись". Поэтому Рабо и его товарищи усердно заседают, выслушивают свидетелей, издают приказы об арестах, глядя в огромное туманное море беспорядков - чрево Формулы или, быть может, ее могилу! Не бросайся в это море, читатель! Там мрачное отчаяние и смятение; разъяренные женщины и разъяренные мужчины. Секции приходят, требуя выдачи двадцати двух, потому что число, первоначально данное секцией Bonconseil (Бонконсей), удерживается, хотя бы имена и менялись. Другие секции, побогаче, восстают против такого требования; даже одна и та же секция сегодня требует, а назавтра изобличает это требование, смотря по тому, заседают ли в этот день богатые или бедные из ее членов. Поэтому жирондисты постановляют, чтобы все секции закрывались "в десять часов вечера", до прихода рабочего народа, но постановление это остается без последствий. А по ночам Мать патриотизма плачет, горько плачет, но с горящими глазами! Фурнье-Американец, два банкира Фрей и апостол свободы Варле не бездействуют; слышен также зычный голос маркиза Сент-Юрюга. Крикливые женщины вопят на всех галереях, в Конвенте и внизу. Учреждается даже "центральный комитет" всех 48 секций; огромный и сомнительный, он заседает в полумраке дворца архиепископа, издает резолюции и сам таковые принимает; это центр секций, занимающийся обсуждением страшного вопроса о повторении 10 августа!
Отметим одну вещь, могущую пролить свет на многое, - внешний вид патриотов более нежного пола, предстающих пред глазами этих двенадцати жирондистов или нашими собственными. Есть патриотки, которых жирондисты называют мегерами, и их насчитывается до восьми тысяч; это женщины с растрепанными космами Медузы, променявшие веретена на кинжалы. Они принадлежат к "обществу, называемому Братским" (Fraternelle), вернее, Сестринским, которое собирается под кровлей якобинцев. "Две тысячи кинжалов" или около того было заказано, несомненно, для них. Они устремляются в Версаль, чтобы навербовать еще женщин, но версальские женщины не хотят восставать.
Смотрите, в национальном саду Тюильри девица Теруань превратилась как бы в темнокудрую Диану (если бы это было возможно) и подвергается нападению своих собственных псов или псиц! Девица Теруань, держащая собственный экипаж, поборница свободы, что она и доказала вполне, но только свободы, соединенной с порядочностью; вследствие чего эти растрепанные ультрапатриотки и нападают на нее, рвут на ней платье, позорно секут ее циничными приемами; они даже утопили бы ее в садовом пруду, если б не подоспела помощь. Увы, помощь эта бесполезна. Голова и нервная система бедной девицы - отнюдь не из самых здоровых - так расстроены и потрясены, что никогда уже не оправятся, а будут расстраиваться еще больше, пока не наступит полный крах. Спустя год мы действительно слышим, что на нее уже надевают смирительную рубашку в доме умалишенных, где она и останется до конца своих дней! Таким образом эта темнокудрая фигура исчезла из революции и истории общества навсегда, хотя несколько лет она еще продолжала бессвязно болтать и жестикулировать, не будучи в состоянии высказать то, что было у нее в голове36[70].
Есть еще одна вещь, на которую следует указать, но мы не остановимся на ней, а только попросим читателя вообразить себе ее: это царство Братства и Совершенства. Представь себе, читатель, что Золотой Век был бы уже у порога и все же нельзя было бы получить даже бакалейных товаров - благодаря изменникам. С какой пылкостью стали бы люди избивать изменников в этом случае! Ах, ты не можешь вообразить себе этого; твои бакалейные товары мирно лежат в лавках, и у тебя вообще мало или совсем нет надежды на наступление когда-нибудь Золотого Века. Но в самом деле степень, до какой дошла подозрительность, говорит уже достаточно о настроении мужчин и женщин. Мы часто называли ее сверхъестественной, и можно было подумать, что это преувеличение, но послушайте хладнокровные показания свидетелей. Ни один патриот-музыкант не может сыграть обрывка мелодии на валторне, сидя в мечтательной задумчивости на крыше своего дома, чтобы Мерсье не признал в этом сигнал, подаваемый одним заговорщическим комитетом другому. Безумие овладело даже гармонией; оно прячется в звуках "Марсельезы" и "Ca ira". Луве, способный понимать суть вещей не хуже других, видит, что депутация должна предложить нам вернуться в наш старый зал Манежа и что по дороге анархисты убьют двадцать два из нас. Это все Питт и Кобург и золото Питта. Бедный Питт! Они не знают, сколько у него хлопот со своими собственными друзьями народа, как ему приходится выслеживать их, казнить, отменять их Habeas corpus и поддерживать твердой рукой общественный порядок у себя дома. Придет ли ему в голову поднимать чернь у соседей!
Но самый странный факт, относящийся к французской и вообще к людской подозрительности, - это, пожалуй, подозрительность Камиля Демулена. Голова Камиля, одна из самых светлых во Франции, до того насыщена в каждой фибре своей сверхъестественной подозрительностью, что, оглядываясь на 12 июля 1789 года, когда в саду Пале-Руаяля вокруг него поднялись тысячи, гремя ответными кликами на его слова и хватая кокарды, он находит объяснение этому только в следующем предположении: все они были для этого наняты и подговорены иностранными и другими заговорщиками. "Недаром, - говорит он с полным сознанием, -эта толпа взбунтовалась вокруг меня, когда я говорил! Нет, недаром. Позади, спереди, вокруг разыгрывается чудовищная кукольная комедия заговоров, и Питт дергает за веревочки. Я почти готов думать, что я сам, Камиль, представляю собой заговор, что я марионетка на веревочке". Далее этого сила воображения не может идти.
Как бы то ни было, история замечает, что Комиссия двенадцати, теперь вполне выяснившая все касающееся заговоров и даже держащая, по ее словам, "все нити их в своих руках", поспешно издает в эти майские дни приказы об аресте и ведет дело твердой рукой, решившись ввести в берега это разбушевавшееся море. Какой глава патриотов, даже какой председатель секции теперь в безопасности? Его можно арестовать, вытащить из теплой постели, потому что он производил неправильные аресты в секции! Арестуют апостола свободы Варле. Арестуют помощника прокурора Эбера, Pere Duchesne, народного судью, заседающего в городской Ратуше, который с величавой торжественностью мученика прощается со своими коллегами; он готов повиноваться закону и с торжественной покорностью исчезает в тюрьме.
Но тем сильнее волнуются секции, энергично требуя его возвращения, требуя, чтобы вместо народных судей были арестованы двадцать два изменника. Секции являются одна за другой, дефилируют с красноречием в духе Камбиса; приходит даже Коммуна с мэром Пашем во главе, и не только с вопросом об Эбере и двадцати двух, но и со старым, снова ставшим новым роковым вопросом: "Можете ли вы спасти Республику или это должны сделать мы?" Председатель Макс Инар дает им на это пылкий ответ: если по роковой случайности в один из этих беспорядков, все повторяющихся с 10 марта, Париж поднимет святотатственный палец против народного представительства, то Франция встанет, как один человек, в мщении, которого нельзя вообразить, и скоро "путешественник будет спрашивать, на каком берегу Сены стоял Париж!"39 В ответ на это Гора и все галереи только громче ревут; патриотический Париж кипит вокруг.
А жирондист Валазе по ночам устраивает у себя собрания, рассылает записки: "Приходите в назначенный час и вооружитесь хорошенько, потому что предстоит дело". Мегеры бродят по улицам с флагами и жалобным аллилуйя. Двери Конвента загорожены волнующимися толпами; краснобаев hommes d'etat освистывают, толкают, когда они проходят; во время такой смертельной опасности Марат обратится к вам и скажет: "Ты тоже один из них". Если Ролан просит позволения уехать из Парижа, то переходят к очередным делам. Что тут делать? Приходится освободить помощника прокурора Эбера и апостола Варле, чтобы их увенчали дубовыми гирляндами. Комиссия двенадцати распускается в собрании Конвента, переполненном ревущими секциями, а назавтра восстанавливается, когда в Конвенте преобладают соединившиеся жирондисты. Этот темный хаос или море бед всеми элементами своими, крутясь и накаляясь, стремятся что-нибудь создать.
Глава девятая. ПОГАСЛИ
И вот в пятницу 31 мая 1793 года летнее солнце своими лучами высвечивает одну из самых странных сцен. В Тюильрийский зал Конвента являются мэр Паш с муниципалитетом, за которыми послали, так как Париж находится в очередном брожении, и приносят необычайные вести.
Будто бы на заре, в то время, когда в городской Ратуше непрерывно заседали, радея об общем благе, вошли, точь-в-точь как 10 августа, какие-то 96 неизвестных лиц, которые объявили, что они крайне возмущены и что они уполномоченные комиссары 48 секций - секций или членов - державного народа, также находящихся в состоянии возмущения, и что именем названного суверена мы отрешаемся от должностей. Мы сняли тогда шарфы и удалились в расположенный рядом Зал свободы. Затем, через минуту или две, нас позвали обратно и восстановили в должностях, так как державный народ соблаговолил найти нас достойными доверия. Благодаря этому, принеся новую присягу по должности, мы внезапно оказались революционными властями с особым состоящим при нас комитетом из 96 членов. Гражданин Анрио, обвиняемый некоторыми в участии в сентябрьских убийствах, назначается главнокомандующим Национальной гвардией, и с шести часов утра набат звонит и барабаны бьют. Ввиду таких чрезвычайных обстоятельств мы спрашиваем: что соблаговолит приказать нам августейший Национальный Конвент?41
Да, это действительно вопрос! "Распустить революционные власти", отвечают некоторые в запальчивости. Верньо желает по крайней мере, чтобы "народные представители умерли на своих постах". Все клянутся в этом при громком одобрении. Но что касается разгона инсуррекционных властей, то, увы!.. Что за звук доносится до нас, пока мы заняты обсуждением? Это гром тревожной пушки на Пон-Неф, за стрельбу из которой без нашего приказания закон карает смертью!
Тем не менее она продолжает греметь, вселяя трепет в сердца. А набат отвечает мрачной музыкой, и Анрио с своими войсками окружает нас! Депутации от секций следуют одна за другой в течение всего дня, требуя с красноречием Камбиза и бряцанием ружей, чтобы двадцать два или более изменника были наказаны и чтобы Комиссия двенадцати была окончательно распущена. Сердце Жиронды замирает: 72 добропорядочных департамента далеко, а этот пылкий муниципалитет близко! Барер предлагает компромисс: нужно что-нибудь уступить. Комиссия двенадцати заявляет, что, не дожидаясь, чтобы ее распустили, она распускает себя сама и более не существует. Докладчик Рабо охотно сказал бы свое и ее последнее слово, но его прогоняют ревом. Счастье еще, что двадцать два остаются до сих пор неприкосновенными! Верньо, доводя законы учтивости до крайних пределов, к изумлению многих, предлагает Конвенту заявить, что "секции Парижа заслужили благодарность Отечества". Вслед за тем поздно вечером заслужившие благодарность секции расходятся, каждая по своим местам. Барер должен составить доклад о событиях дня. Работая головой и пером, он одиноко сидит за своим делом; в эту ночь ему не придется спать. Так окончилась пятница последнего дня мая.
Секции заслужили благодарность Отечества, но не могли бы они заслужить еще большую? Ведь если жирондистская крамола в данную минуту и повержена, то разве не может она возродиться в другую, более благоприятную минуту и сделаться еще опаснее? Тогда придется снова спасать Республику. Так рассуждают патриоты, все еще "непрерывно заседающие"; так рассуждает на следующий день и Марат, фигура которого виднеется в туманном мире секций; и эти рассуждения влияют на умы людей! В субботу вечером, когда Барер окончательно обработал свой доклад, просидев над ним целые сутки, и готовится отправить его с вечерней почтой, вдруг снова зазвонил набат. Барабаны бьют сбор, вооруженные люди располагаются на ночь на Вандомской площади и в других пунктах, снабженные провизией и напитками. Здесь, в мерцании летних звезд, они будут ждать всю ночь надлежащего сигнала от Анрио и от городской Ратуши, чтобы делать, что им велят.
На бой барабанов Конвент спешит обратно в свой зал, но лишь в количестве 100 человек; он делает немногое, откладывая все на завтра. Жирондисты не являются; они ищут надежного убежища и не ночуют в своих домах. Бедный Рабо, возвращаясь на следующее утро на свой пост к Луве с несколькими другими по охваченным волнением улицам, ломает себе руки, восклицая: "Ilia suprema dies!"42 Настало воскресенье, второй день июня 1793 года по старому стилю, а по новому - первого года Свободы, Равенства и Братства. Мы подошли к финальной сцене, завершающей историю жирондистского сенаторства.
Сомнительно, чтобы какой-нибудь Конвент на, земле собирался при таких обстоятельствах, при каких собирается в этот день наш Национальный Конвент. Звонит набат; заставы заперты; весь Париж на улице, отчасти вооруженный. Людей с оружием насчитывается до 100 тысяч - это национальные войска и вооруженные волонтеры, которые должны были спешить к границам и в Вандею, но не спешили туда, потому что измена была еще не наказана, и только метались во все стороны. Массы солдат под ружьем окружают Тюильри и сад. Тут и конница, и пехота, и артиллерия, и бородатые саперы; артиллерию с походными печами можно видеть в национальном саду; она раскаляет ядра и держит зажженные фитили наготове. Анрио с развевающимся плюмажем разъезжает, окруженный штабом также с плюмажами; все посты и выходы заняты; резервы стоят до самого Булонского леса; отборнейшие патриоты находятся ближе всех к месту действия. Заметим еще одно обстоятельство: заботливый муниципалитет, не поскупившийся на походные печи, не позабыл и о повозках с провиантом. Ни одному члену державного народа не нужно ходить домой, чтобы пообедать; все могут оставаться в строю, так как обильная еда раздается всем без всяких хлопот. Разве этот народ не понимает восстания? Вы, не неизобретательные Gualches!
Национальному представительству, "уполномоченным державного народа", не мешает поразмыслить об этих обстоятельствах. Изгоните ваших двадцать два члена и вашу Комиссию двенадцати; мы будем стоять здесь, пока это не будет сделано! Депутация за депутацией являются с этим требованием, формулируемым в выражениях все более и более резких. Барер предлагает компромисс: не согласятся ли обвиняемые депутаты удалиться добровольно, великодушно выйти в отставку, принеся себя в жертву благу родины? Инар, раскаивающийся в том, что допускал возможность вопроса, на каком берегу реки стоял Париж, заявляет, что он готов уйти в отставку. Готов и Те Deum Фоше, а старый бастилец Дюзо, которого Марат называет "vieux radoteur" (старый болтун), готов на это даже с удовольствием. Зато бретонец Ланжюине заявляет, что есть человек, который никогда не согласится добровольно подать в отставку, но будет протестовать до последней возможности, пока у него есть голос. И он начинает протестовать среди яростных криков; Лежандр кричит наконец: "Ланжюине, убирайся с трибуны, не то я сброшу тебя с нее (ou je te jette en bas)!" Дело дошло до крайностей. Некоторые ретивые члены Горы уже вцепляются в Ланжюине, но не могут сбросить его, потому что он "впивается в решетку", и "на нем разрывают платье". Доблестный сенатор, достойный состраданья! Барбару также не хочет уходить; он "поклялся умереть на своем посту и хочет сдержать эту клятву". Тогда галереи бурно поднимаются; некоторые размахивают оружием и выбегают, крича: "Allons, мы должны спасти Отчизну!" Таково заседание в воскресенье 2 июня.
Церкви в христианской Европе наполняются и потом пустеют, но наш Конвент все это время не пустеет: это день криков и споров, день агонии, унижения и раздирания риз; ilia suprema dies! Кругом стоят Анрио и его 100 тысяч, обильно подкрепляемые пищей и питьем: Анрио "раздает даже каждому по 5 франков"; мы, жирондисты, видели это собственными глазами; 5 франков, чтобы поддержать в них настроение! А безумие вооруженного мятежа заграждает наши двери, шумит у нашей решетки; мы пленники в нашем собственном зале: епископ Грегуар не мог выйти для besoin actuel без четырех жандармов, следивших за каждым его шагом! Во что превратилось значение национального представителя? Солнечный свет падает, уже желтея, за западные окна, трубы отбрасывают более длинные тени, но ни подкрепившиеся 100 тысяч, ни тени их не двигаются! Что предпринять? Вносится предложение - излишнее, как понятно всякому, - чтобы Конвент вышел в полном составе, дабы собственными глазами убедиться, свободен он или нет. Согласно этому предложению, из восточных ворот Тюильри выходит угнетенный Конвент; впереди шествует красивый Эро де Сешель[71] в шляпе в знак общественного бедствия, остальные с непокрытыми головами; они идут к Анрио и его украшенному плюмажем штабу. "Именем Национального Конвента, посторонитесь!" Анрио не сторонится ни на вершок: "Я не принимаю приказаний, пока не будет исполнена воля вашего и моего суверена". Конвент протискивается вперед: Анрио со своим штабом отскакивает шагов на пятнадцать назад. "К оружию! Канониры, к пушкам!" Он выхватывает свою саблю, штаб и гусары делают то же. Канониры размахивают зажженными фитилями, пехота берет ружья... но, увы, не на караул, а в горизонтальном положении, как для стрельбы! Эро, в шляпе, ведет свое растерянное стадо через тюильрийский загон, через сад, к воротам на противоположной стороне. Здесь фейянская терраса, здесь наш старый зал Манежа, но из этих ворот, ведущих на Point Tournant, также нет выхода. Пытаются пройти в другие, в третьи ворота - нет выхода ниоткуда. Мы бродим в отчаянии между вооруженными рядами, которые, правда, приветствуют нас криками: "Да здравствует Республика!", но также и криками: "Смерть Жиронде!" Другого такого зрелища заходящее солнце еще не видывало в первый год свободы.
Смотрите: навстречу нам идет Марат, так как он не примкнул к нашему просительному шествию, а собрал около себя человек сто отборных патриотов и приказывает нам именем державного народа вернуться на наше место и сделать то, что нам велит наша обязанность. Конвент возвращается. "Разве Конвент не видит, что он свободен, что его окружают только друзья?" - говорит Кутон с выражением необыкновенной силы в лице. Конвент, наводненный друзьями и вооруженными членами секций, приступает к голосованию, согласно приказанию. Многие не хотят голосовать и безмолвствуют; один или два протестуют на словах; Гора проявляет полное единодушие. Комиссия двенадцати и обвиняемые двадцать два члена, к которым прибавлены экс-министры Клавьер и Лебрен, объявляются, с небольшими импровизированными изменениями (предлагаемыми разными ораторами, причем решает Марат), "под домашним арестом". Бриссо, Бюзо, Верньо, Гюаде, Луве, Жансонне, Барбару, Ласурс, Ланжюине, Рабо тридцать два человека, известных и неизвестных нам жирондистов, "под охраной французского народа", а мало-помалу под охраной двух жандармов каждый, должны мирно жить в своих домах в качестве простых смертных, а не сенаторов впредь до дальнейших распоряжений. Этим заканчивается заседание в воскресенье 2 июня 1793 года[72].
В десять часов, при кротком сиянии звезд, наши сто тысяч, благополучно сделав свое дело, расходятся по домам. В тот же самый день Центральный революционный комитет арестовал г-жу Ролан и заключил ее в тюрьму Аббатства. Муж ее бежал неизвестно куда.
Таким-то революционным путем пали жирондисты, и угасла их партия, возбуждая сожаление у большинства историков. Они были люди даровитые, с философской культурой, добропорядочного поведения; они не виноваты, что были только педантами и не имели лучших дарований; это не вина, а беда их. Они делали республику добродетелей, во главе которой стояли бы они сами, а получили республику силы, во главе которой стояли другие.
Впрочем, Барер составит об этом доклад. Вечер заканчивается "гражданской прогулкой при свете факелов"43: ведь ясно, что истинное царство братства теперь уже недалеко.
Книга IV. ТЕРРОР
Глава первая. ШАРЛОТТА КОРДЕ
В июне и июле, когда природа щедро одарена листвой, многие французские департаменты наводняются массой мятежных бумажных листков, называемых прокламациями, резолюциями, журналами или дневниками "Союза для борьбы против притеснений". В особенности город Кан в Кальвадосе видит, как его листок "Bulletin de Caen" вдруг распускается, вдруг укореняется там в качестве газеты, редактируемой жирондистскими народными представителями!
Некоторые опальные жирондисты обладают отчаянным характером. Иные, как Верньо, Валазе, Жансонне, "подвергнутые домашнему аресту", решили ожидать исхода со стоической покорностью. Другие, как Бриссо, Рабо, убегут, скроются, что пока еще нетрудно, так как парижские заставы снова открываются через день или два. Но есть и такие, которые устремятся вместе с Бюзо в Кальвадос или дальше, через всю Францию, в Лион, Тулон, Нант и другие места, назначив друг другу свидание в Кане, чтобы звуком боевой трубы пробудить почтенные департаменты и низвергнуть анархическую партию Горы или по крайней мере не уступить ей без боя. Таких бесстрашных голов мы насчитываем десятка два и даже больше среди арестованных и еще неарестованных: Бюзо, Барбару, Луве, Гюаде, Петион, бежавшие из-под домашнего ареста; Саль[73], пифагореец Валади, Дюшатель - тот Дюшатель, который явился в одеяле и ночном колпаке, чтобы подать голос за жизнь Людовика, - ускользнувшие от опасности и возможности ареста. Все они - число их достигало одно время 27 человек живут здесь в Intendance, или доме управления департаментом города Кана, в Кальвадосе. Власти приветствуют их и платят за них, так как у них нет своих денег. А "Bulletin de Caen" продолжает выходить с чрезвычайно воодушевляющими статьями о том, как Бордоский, Лионский департаменты, один департамент за другим, высказываются за них. Шестьдесят, как говорят, даже шестьдесят девять или семьдесят два1 почтенных департамента или приняли их сторону, или готовы принять. Более того, город Марсель сам пойдет на Париж, если в этом будет необходимость. Так объявил этот город. Но с другой стороны, о том, что город Монтелимар сказал: "Прохода не будет" - и даже прибавил, что предпочитает скорее "похоронить себя" под своими собственными мортирами и стенами, - об этом не упоминается в "Bulletin de Caen".
Дюшатель (1766-1793) - землевладелец, депутат Конвента от департамента Де-Севр.
Вот какие воодушевляющие статьи читаем мы в новой газете; тут и пламенные строки, и красноречивый сарказм - тирады против Горы, принадлежащие перу депутата Саля, которые походят, по словам друзей, на Provincials Паскаля. Что более кстати, это то, что жирондисты приобрели главнокомандующего - некоего Вимпфена[74], служившего раньше под командованием Дюмурье, а также подчиненного ему сомнительного генерала Пюизэ и других и делают все возможное, чтобы собрать войско для войны из национальных волонтеров с бесстрашными сердцами. Собирайтесь, вы, национальные волонтеры, друзья Свободы, собирайтесь из округов нашего Кальвадоса, с Юры, из Бретани, отовсюду; вперед, на Париж, и уничтожьте анархию. Так в Кане в ранние июльские дни бьют барабаны, маршируют волонтеры, произносятся речи и происходят совещания; тут и штаб, и армия, и совет, и клуб Carabote антиякобинских друзей Свободы, обвиняющий перед нацией жестокого Марата. Со всем этим и с изданием "Bulletins" у национальных представителей дел выше головы. В Кане очень оживленно, и, надо надеяться, более или менее оживленно в "семидесяти двух департаментах, которые присоединяются к нам". И во Франции, окруженной вторгающейся киммерийской коалицией и раздираемой Вандеей внутри, мы пришли к такому заключению: подавить анархию посредством междоусобной войны! "Durum et durum, - говорит пословица, - non faciunt murum". Вандея горит, Сантер ничего не может сделать там, он может только вернуться домой и варить пиво. Киммерийские гранаты летают вдоль всего севера. Осада Майнца сделалась знаменитой; любители живописи (как утверждает Гете) рисовали местное население обоего пола; совершали туда прогулки по воскресеньям, чтобы посмотреть на стрельбу артиллерии воюющих сторон: "Вы только склоняетесь на мгновение, и ядро со свистом пролетает мимо". Конде капитулировал перед австрийцами. Его королевское высочество принц Йоркский в эти последние недели яростно бомбардирует Валансьен. Увы, наш укрепленный Фамарский лагерь взят штурмом; генерал Дампьер убит, генералу Кюстину высказано порицание, и он явился теперь в Париж, чтобы дать "объяснения".
Со всем этим Гора и жестокий Марат должны справляться как умеют. Каким бы анархическим Конвентом они ни были, они публикуют декреты, полные жалоб и объяснений, хотя и не без строгости; они посылают комиссаров, поодиночке или по двое, с оливковой ветвью в одной руке, но с мечом в другой. Комиссары являются даже в Кан, но без успеха. Математик Ромм и настоятель, выбранный от Кот-д'Ор, осмелившиеся явиться туда с оливковой ветвью и мечом, заключены в тюрьму; там, под замком "на 50 дней", Ромм может покоиться и размышлять о своем новом календаре, если это ему нравится. Киммерия, Вандея и междоусобная война! Никогда не была Республика, "единая и неразделимая", в большем упадке.
В этом мрачном брожении Кана и всего мира история отмечает одну вещь: в передней дома de l'Intendance, где снуют занятые депутаты, молодая дама, сопровождаемая пожилым слугой, грациозно, с серьезным видом прощается с депутатом Барбару. У нее статная фигура нормандки и красивое лицо; ей двадцать пятый год; ее имя Шарлотта Корде - Корде д'Арман, когда еще существовало дворянство. Барбару дал ей письмо к депутату Дюперре, тому, который однажды обнажил свою шпагу в минуту гнева. Очевидно, она отправляется в Париж с каким-то поручением. "До революции она принадлежала к республиканцам, и у нее никогда не было недостатка в энергии"; в этой прекрасной женской фигуре ощущается цельность и решимость. "Она понимала под энергией пыл сердца, побуждающий человека жертвовать собой во имя родины". Не явилась ли, подобно звезде, эта молодая, прекрасная Шарлотта из своего тихого уединения, прекрасная жестокой полуангельской, полудемонической красотой, чтобы на мгновение блеснуть и мгновенно погаснуть, чтобы оставить в памяти людей на долгие века свою светлую цельную личность? Оставив в стороне киммерийскую коалицию вне Франции и мрачное брожение 25 миллионов людей внутри ее, История будет пристально смотреть на одно это прекрасное видение, Шарлотту Корде, следя, куда она направляется и как эта короткая жизнь вспыхивает так ярко и затем исчезает, поглощенная ночью.
Во вторник 9 июля мы видим Шарлотту сидящей в канском дилижансе с билетом до Парижа, рекомендательным письмом Барбару и небольшим багажом. Никто не прощается с нею, не желает ей счастливого пути: ее отец найдет оставленную записку, извещающую, что Шарлотта уехала в Англию и что он должен простить и забыть ее. Нагоняющий дремоту дилижанс медленно тащится среди похвал Горе и скучных разговоров о политике, в которые Шарлотта не вмешивается; проходит ночь, день и еще ночь. В четверг, незадолго до полудня, показывается мост Нельи. Вот он, Париж, с его тысячью черных куполов, конец и цель твоего путешествия! Прибыв в гостиницу "Провиданс" на улице Старых Огюстенов, Шарлотта требует комнату, спешит в постель и спит весь остальной день и всю ночь до следующего утра.
На другой день утром она передает письмо Дюперре. Оно касается некоторых фамильных документов, находящихся в руках министерства внутренних дел, которые необходимы одной канской монахине, бывшей монастырской подруге Шарлотты, и которые Дюперре должен помочь ей добыть. Так вот какое поручение привело Шарлотту в Париж? Она покончила с этим в пятницу, однако ничего не говорит о возвращении домой. Она видела и молча разузнавала многое; видела Конвент в его реальном воплощении, видела Гору. Ей только не удалось видеть Марата в натуре: он болен сейчас и не выходит из дома.
В субботу, около 8 часов утра, она покупает большой нож в ножнах в Пале-Руаяле, затем тотчас же идет на площадь Побед и нанимает фиакр "до улицы Медицинской Школы, No 44". Здесь живет гражданин Марат, но он болен и его нельзя видеть, что. видимо, огорчает Шарлотту. Значит, у нее есть дело и к Марату? Злополучная прекрасная Шарлотта; злополучный, презренный Марат! Из Кана, на крайнем западе, из Нешателя, на крайнем востоке, они оба приближаются один к другому; оба, как это ни странно, имеют дело друг к другу. Шарлотта, возвратившись к себе в гостиницу, посылает Марату короткую записку, извещая, что она приехала из Кана, очага возмущения, что она горячо желает видеть его и "дать ему возможность оказать Франции громадную услугу". Ответа нет. Шарлотта пишет другую записку, еще более настойчивую, и отправляется с ней в карете около семи часов вечера сама. Утомленные поденщики окончили свою неделю. Огромный Париж движется и волнуется своими разнообразными смуглыми желаниями. Только эта прекрасная женщина дышит решимостью, направляется прямо к цели.
Стоит золотистый июльский вечер тринадцатого числа, канун годовщины взятия Бастилии, когда "господин Марат" четыре года тому назад в толпе на Пон-Неф язвительно требовал от гусарского отряда Безанваля, который имел такие дружеские намерения, "слезть в таком случае с коней и отдать свое оружие", этим он снискал себе славу среди патриотов; четыре года - какой путь прошел он с тех пор! Теперь около половины восьмого вечера он сидит по пояс в ванне, задыхаясь от жары, глубоко огорченный, больной революционной лихорадкой, - другую его болезнь история предпочитает не называть. Бедняга крайне истощен и болен; в кармане у него ровно И су бумажными деньгами; возле ванны стоит крепкий треногий табурет, чтобы писать на нем пока; если прибавить к этому грязную прачку, вот и весь его домашний обиход на улице Медицинской Школы. Сюда, и более никуда, привел избранный им путь. Не в царство братства и полного блаженства, но уж наверное на путь к нему? Чу, опять стучат? Мелодичный женский голос отказывается уйти. Это опять та гражданка, которая хочет оказать услугу Франции. Марат, узнав ее голос, кричит из комнаты: "Примите". Шарлотта Корде принята.
"Гражданин Марат, я приехала из Кана, очага возмущения, и желала бы поговорить с вами". - "Садитесь, mon enfant (дитя мое). Ну, что поделывают изменники в Кане? Кто там из депутатов?" Шарлотта называет некоторых. "Их головы упадут через две недели", - хрипит пылкий Друг Народа, схватывая свои листки, чтобы записать. "Барбару, Петион, - пишет он обнаженной сморщенной рукой, повернувшись боком в своей ванне, - Петион, и Луве, и... " Шарлотта вынимает свой нож из ножен и вонзает его верным ударом в сердце пишущего. "A moi, chere amie!" (Ko мне, милая!) Более он ничего не мог произнести, не мог даже крикнуть, настигнутый смертью. Помощь под рукой, прачка вбегает, но Друга Народа или друга прачки уже не стало; жизнь его, негодуя, со стоном изливается в царство теней.
Итак, Марат, Друг Народа, убит; одинокий Столпник низвергнут со своего столба. Куда? Про то знает тот, кто его создал. Патриотический Париж стонет и плачет, но если бы он и в десять крат сильнее стонал, то это было бы напрасно; патриотическая Франция вторит ему; Конвент с Шабо, "бледным от ужаса, заявляющим, что все они будут убиты"; постановляет, чтобы Марату были возданы почести Пантеона и общественные похороны; прах Мирабо должен посторониться для него. Якобинские общества в горестных речах резюмируют его характер, сравнивают его с тем, кому они думали сделать честь, назвав его "добрым санкюлотом", но кого мы не называем здесь. На площади Карусель должна быть воздвигнута часовня для урны, содержащей сердце Друга Народа, и новорожденных детей будут называть Маратами; каменщики с Лаго-ди-Комо изведут горы гипса на некрасивые бюсты; Давид будет писать свою картину или сцену смерти, но, какие бы понести ни изобретал человеческий ум, Марат уже не увидит света земного солнца. Единственная подробность, которую мы прочли с сочувствием в старой газете "Moniteur", - это как брат Марата приходил из Нешателя просить Конвент, чтобы ему отдали ружье покойного Жан Поля. Значит, и Марат имел родственные связи, и был когда-то завернут в пеленки, и спал безмятежно в колыбели, подобно всем нам! Значит, все вы дети людей! Одна из его сестер, говорят, еще до сих пор живет в Париже.
Что касается Шарлотты, то она выполнила задачу. Вознаграждение за нее близко и несомненно. Милая подруга Марата и соседи по дому бросаются к ней; она "опрокидывает часть мебели" и загораживается, пока не приходят жандармы; тогда она спокойно выходит, спокойно идет в тюрьму Аббатства: она одна спокойна; весь Париж трепещет от удивления, ярости или восхищения вокруг нее. Дюперре арестован из-за нее; его бумаги опечатаны, что может иметь последствия. Фоше также арестован, хотя Фоше даже не слыхал о ней. Шарлотта, поставленная на очную ставку с этими двумя депутатами, хвалит серьезную твердость Дюперре и порицает уныние Фоше.
В среду утром народ, переполняющий зал суда, может видеть ее лицо: прекрасное, спокойное лицо. Она называет этот день "четвертым днем приготовления к миру". Странный шепот пробегает по залу при виде ее, трудно сказать, какого характера. Тенвиль приготовил свой обвинительный акт и свитки бумаги; торговец из Пале-Руаяля засвидетельствовал, что он продал ей нож в ножнах. "Все эти подробности излишни, - прерывает Шарлотта. - Это я, я убила Марата". - "По наущению кого?" - "Никого". - "Что же побудило вас к этому?" - "Его преступления. Я убила одного человека, добавила она, сильно повысив голос, так как судьи продолжали свои вопросы, я убила одного человека, чтобы спасти сотни тысяч других; убила негодяя, свирепое дикое животное, чтобы спасти невинных и дать отдых моей родине. До революции я была республиканкой; у меня никогда не было недостатка в энергии". Значит, не о чем больше и говорить. Публика смотрит с удивлением; миниатюристы поспешно набрасывают ее черты; Шарлотта не противится; судьи исполняют формальности. Приговор: смерть, как убийце. Она благодарит своего адвоката в кротких выражениях, полных гордого сознания; благодарит священника, которого привели к ней, но она не нуждается ни в исповеди, ни в духовной или какой-либо другой его помощи.
Итак, в тот же вечер, около половины восьмого, из ворот Консьержери по направлению к городу, где все на ногах, выезжает роковая колесница с сидящим на ней молодым, прекрасным созданием, одетым в красную рубашку убийцы; созданием, таким прекрасным, ясным, таким полным жизни... и направляющимся к смерти - одиноким среди всего мира. Многие снимают шляпы в знак почтительного приветствия, ибо чье сердце может остаться равнодушным?7 Другие кричат и ревут. Адам Люкс из Майнца объявляет ее более великой, чем Брут, говорит, что было бы счастьем умереть вместе с нею. По-видимому, голова этого молодого человека вскружена. На площади Революции лицо Шарлотты сохраняет спокойную улыбку. Палачи начинают связывать ей ноги; она противится, принимая это за оскорбление, но после нескольких слов объяснения подчиняется с ласковым извинением. Как последнее приготовление они снимают косынку с ее шеи - краска девичьего стыда заливает это прекрасное лицо и шею; щеки ее еще были окрашены, когда палач поднял отрубленную голову, чтобы показать ее народу. "Несомненно, - говорит Форстер, - что он презрительно ударил ее по щеке; я видел это собственными глазами; полиция заключила его за это в тюрьму".
Таким образом, прекраснейшее и презреннейшее столкнулись и уничтожили друг друга. Жан Поль Марат и Мария Анна Шарлотта Корде оба внезапно перестали существовать. "День приготовления к миру?" Увы, возможны ли мир или подготовление к нему, когда даже сердца прелестных девушек в тиши монастырских стен мечтают не 6 рае любви и радостях жизни, а о самопожертвовании Корде и достойной смерти? В том, что 25 миллионов сердец бьются таким чувством, - вот в чем анархия, в этом ее сущность, и не мир может быть ее воплощением! Смерть Марата, в десять раз сильнее обострившая старую вражду, хуже, чем какая бы то ни было жизнь. О вы, злополучные двое, взаимно уничтожившие друг друга, прекрасная и презренный, спите спокойно в лоне Матери, давшей жизнь вам обоим!
Вот история Шарлотты Корде, самая точная, самая полная, ангельски демоническая подобная звезде! Адам Люкс идет домой в полубреду, чтобы излить свое поклонение ей на бумаге и в печати и предложить поставить ей статую с надписью: "Более великая, чем Брут"[75]. Друзья указывают ему на опасность. Люкс равнодушен. Он думает, что было бы прекрасно умереть вместе с нею.
Глава вторая. МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА
В те же самые часы другая гильотина производит свою работу над другим существом. Сегодня Шарлотта умирает в Париже за жирондистов, завтра Шалье падает в Лионе от руки жирондистов.
От грохота провозимых пушек по улицам этого города дело дошло до стрельбы из них, до бешеной схватки. Нивьер-Шоль и жирондиcты торжествуют, а за их спиной, как и повсюду, стоит роялистская партия, выжидающая удобный момент, чтобы выступить. Много волнений в Лионе, и господствующая партия победоносно одерживает верх. В самом деле, весь Юг на ногах, заключает в тюрьму якобинцев, вооружается в поддержку жирондистов, в связи с чем созван Лионский конгресс, учрежден "Революционный Лионский трибунал", трепещите, анархисты! Так Шалье скоро был признан виновным в якобинстве, в заговоре убийц, в том, что "обратился с речью, обнажив шпагу, 6-го минувшего февраля"; и назавтра он совершает свой последний путь по улицам Лиона "рядом со священником, с которым он бурно разговаривает". Невдалеке уже сверкает топор. Этот человек плакал в былые годы и "падал на колени на мостовую", благословляя небо при виде листовок федерации или чего-либо подобного, но после того он ездил в Париж на поклонение Марату и Горе, и вот теперь и Марат, и он оба погибли; можно было предвидеть, что он кончит плохо. Якобинцы втайне стонут в Лионе, но не смеют высказаться громко. Шалье, когда суд вынес ему приговор, ответил: "Моя смерть будет дорого стоить этому городу".
Город Монтелимар не погребен под своими развалинами, но Марсель действительно выступает в поход под командой Лионского конгресса и заключает в тюрьму патриотов; теперь и роялисты снимают маски. Против них сражается генерал Карто, хотя и с малыми силами, и с ним майор артиллерии по имени Наполеон Бонапарт. Этот Наполеон, чтобы доказать, что марсельцы не имеют никакой надежды на успех, не только сражается, но и пишет; он публикует свой "Ужин в Бокере" - диалог, ставший любопытным. Несчастный город, сколько в нем противоречий! Насилие оплачено насилием в геометрической прогрессии; роялизм и анархизм оба выступают разом; кто сможет подвести конечный итог этих геометрических рядов?
Железные перила еще никогда не плавали в Марсельской гавани, но тело утопившегося Ребекки было найдено плавающим в ней. Пылкий Ребекки, видя, как росла смута и заражались роялизмом почтенные люди, почувствовал, что для республиканца не осталось иного убежища, кроме смерти. Ребекки исчез; никто не знал куда, пока однажды утром не нашли его пустой оболочки, или тела, всплывшего вниз головой и носившегося по соленым волнам10, и не поняли, что Ребекки не стало. Тулон также заключает в тюрьму патриотов, посылает делегатов в конгресс, заводит на всякий случай интриги с роялистами и англичанами. Монпелье, Бордо, Нант, вся Франция, не находящаяся под властью Австрии и Киммерии, кажется, предались безумию и самоубийственному уничтожению. Гора работает, подобно вулкану в жаркой вулканической стране. Учрежденные Конвентом комитеты безопасности, спасения заняты день и ночь. Комиссары Конвента быстро мчатся по всем дорогам, неся оливковую ветвь и меч или теперь, быть может, один только меч. Шометт и муниципалитеты ежедневно являются в Тюильри с требованием конституции. Вот уже несколько недель, как Шометт решил в Ратуше, что депутация должна ходить каждый день и требовать конституцию, пока она не будет получена11; посредством ее могла бы соединиться и примириться предающаяся самоубийству Франция - вещь, несомненно весьма желательная.
Так вот какие плоды пожали антианархические жирондисты, подняв эту войну в Кальвадосе? Только эти, можно сказать, и никаких других. Ведь в самом деле, прежде чем пала голова Шарлотты или Шалье, Кальвадосская война рассеялась как сон в мгновение ока. С 72 департаментами да своей стороне можно было бы надеяться на лучшее. Но оказывается, что эти почтенные департаменты хотя и охотно подают голоса, но не желают сражаться. Обладание всегда дает по закону девять шансов из десяти, а в юридических процессах этого рода даже девяносто девять. Люди делают то, что они привыкли делать, и обладают неизмеримой нерешительностью и инертностью: они повинуются тому, кто обладает атрибутами, требующими повиновения. Посмотрите, что означает в современном обществе один этот факт: метрополия заодно с нашими врагами; метрополия, мать-город, справедливо названная так; все остальные только ее дети, ее питомцы. Ведь это не кожаный дилижанс с почтовым мешком и ящиком для багажа под козлами медленно выезжает из нее, это громадный пульс жизни; метрополия - сердце всего. Отрежьте один этот кожаный дилижанс, как много будет отрезано! Генерал Вимпфен, смотрящий на дело практически, не может найти другого выхода, кроме возврата к роялизму; нужно войти в сношения с Питтом! Он делает туманные намеки в этом роде, от которых жирондисты содрогаются. Он поступает, как его помощник по командованию, некий ci-devant граф Пюизэ, совершенно неизвестный Луве и сильно им подозреваемый.
Мало войн начиналось когда-либо так неудовлетворительно, как эта Кальвадосская война. Кто интересуется подобными вещами, тот может прочесть подробности о ней в мемуарах того же самого ci-devant Пюизэ, человека, много испытавшего и к тому же роялиста; мы узнаем из этих мемуаров, что жирондистские национальные войска, выступившие под гром духовой музыки, вошли около старинного замка Брекур в лесистую местность близ Вернова, чтобы встретить национальные войска Горы, идущие из Парижа; что 15 июля пополудни они встретились, обоюдно закричали, после чего обе стороны обратились в бегство без потерь; что Пюизэ после этого - так как национальные войска Горы бежали первые и мы сочли себя победителями - был поднят со своей теплой постели в замке Брекур и принужден скакать без сапог; наши национальные войска, стоявшие в ночном карауле, неожиданно бросились спасаться кто куда мог; одним словом, Кальвадосская война потухла в самом начале, и теперь осталось решить только один вопрос: куда бежать и в какой щели укрыться?12
Национальные волонтеры разбегаются по домам быстрее, чем пришли. 72 почтенных департамента, говорит Мейан, "все поворачивают к нам тыл и покидают нас в двадцать четыре часа". Несчастные те, которые, как, например, в Лионе, зашли слишком далеко, чтобы возвращаться! "Однажды утром" мы нашли на нашем доме управления прибитый декрет Конвента, который объявляет нас вне закона. Он прибит нашими канскими должностными лицами - ясный намек, что и мы должны исчезнуть. Но куда? Горса имеет друзей в Ренне, его спрячут там к несчастью, он не хочет сидеть спрятанным. Гюаде, Ланжюине находятся на перепутье и направляются в Бордо. "В Бордо!" - кричит общий голос, голос доблестней отчаяния. Кое-какие знамена почтенного жирондизма еще развеваются там, или мы думаем, что развеваются.
Итак, туда; каждый как умеет! Одиннадцать из этих злополучных депутатов, к которым можно причислить как двенадцатого литератора Риуффа, делают оригинальную вещь: надевают мундир национальных волонтеров и отступают к югу с батальоном бретонцев в качестве простых солдат этого корпуса. Эти храбрые бретонцы стояли за нас вернее, чем все другие, однако в конце первого или второго дня они также становятся нерешительными, разделяются; мы должны оставить их и с какой-нибудь полудюжиной солдат в качестве конвоя или проводников отступать сами по себе, одиноко шествующим отрядом через обширные области Запада.
Глава третья. ОТСТУПЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТИ
Это отступление одиннадцати - одно из самых замечательных, какие только представляет история: горстка покинутых законодателей, отступающих без отдыха с ружьями на плечах и туго набитыми патронташами среди золотистых покровов осени! Сотни миль отделяют их от Бордо; население становится все враждебнее, подозревая правду; брожение и темные слухи идут со всех сторон и постоянно растут. Луве сохранил дорожный дневник этого отступления - цель, стоящая всего того, что он когда-либо написал.
О доблестный Петион со своей рано поседевшей головой, о мужественный молодой Барбару, неужели дошло до этого! Утомительные дороги, изношенные башмаки, пустой кошелек, вокруг опасности, как на море! Революционные комитеты находятся в каждом городском округе якобинского характера; все наши друзья запуганы; наше дело проиграло. В местечке Монконтур по несчастной случайности базарный день; зевакам подозрительно такое прохождение одиноко шествующего отряда; нам необходимы энергия, быстрота и удача, чтобы добиться позволения пройти. Торопитесь, усталые странники! Страна подымается; молва о двенадцати путниках, одиноко пробирающихся столь таинственным образом, следует за вами по пятам; широкая волна назойливо любопытного и преследующего говора растет, пока весь Запад не приходит в движение. "Кюсси мучает подагра; Бюзо слишком толст для ходьбы"; Риуфф с потертыми в кровь, покрытыми пузырями ногами может ходить только на носках; Барбару растянул лодыжку и хромает, но все еще весел, полон надежд и мужества. Ветреный Луве робко озирается, но в сердце его нет робости. Невозмутимость добродетельного Петиона "была всего лишь раз омрачена". Они спят в скирдах соломы, в лесных чащах; самый жесткий соломенный матрац, брошенный на полу у тайного друга, уже роскошь. Они захвачены среди ночи якобинскими мэрами с барабанным боем, но выпутываются благодаря своему решительному виду, бряцанию мушкетов и находчивости.
Пытаться дойти до Бордо через объятую пламенем восстания Вандею и оставшиеся длинные географические пространства было бы безумием; хорошо, если бы можно было достичь Кемпе на морском берегу и сесть там на корабль. Скорее, скорее! Под конец пути решено было идти всю ночь, так велико было возбуждение в стране. Они так и поступают; под покровом мирной ночи с трудом продвигаются вперед, и, однако, что же это, молва опередила их. В жалкой деревушке Карэ (да будет она долго памятна путешественникам своими соломенными лачугами и бездонными торфяными болотами) они с удивлением замечают еще мерцание огней: граждане бодрствуют с горящими ночниками в этом уголке планеты; когда они быстро проходят по единственной жалкой улице, слышится голос, говорящий: "Вот они идут!" (Les voila qui passent!)15 Скорее, вы, двенадцать, осужденные, хромые; бегите, прежде чем они успеют вооружиться; достигайте лесов Кемпе до рассвета и лежите там притаившись.
Осужденные двенадцать так и поступают, хотя с трудом, заблудившись в незнакомой местности и преодолевая ночные опасности. В Кемпе есть друзья жирондистов, которые, вероятно, укроют бездомных, пока бордоский корабль не поднимет якоря. Измученные дорогой, с усталым сердцем, в мучительной нерешимости, пока будут уведомлены кемпские друзья, они лежат там, притаившись под густым мокрым кустарником, подозревая каждое человеческое лицо. Пожалейте этих отважных несчастных людей! Несчастнейшие из законодателей! Думали ли вы двадцать или сорок месяцев назад, когда, уложив свой багаж, сели в кожаную повозку, чтобы сделаться римскими сенаторами возрожденной Франции и пожать бессмертные лавры, думали ли вы, что ваше путешествие приведет вас сюда? Кемпские самаритяне находят их, притаившихся, поднимают, чтобы помочь и ободрить, и прячут в надежных местах. Оттуда им помогут ускользнуть постепенно, или же они могут сидеть там спокойно и писать свои мемуары. пока не распустит паруса бордоский корабль.
Итак, в Кальвадосе все усмирено; Ромм выпущен из тюрьмы и обдумывает свой календарь; зачинщики заключены в его комнату. В Кане семья Корде молча плачет; дом Бюзо представляет кучу праха и развалин, и среди обломков стоит столб с надписью: "Здесь жил изменник Бюзо, злоумышлявший против Республики". Бюзо и другие скрывшиеся депутаты объявлены, как мы видели, вне закона, они могут быть лишены жизни там, где будут найдены. Хуже всего приходится бедным арестованным парижским депутатам. "Домашний арест" грозит превратиться в "заключение в Люксембургской тюрьме", а где кончится? Кто, например, этот бледный худой человек, едущий по направлению к Швейцарии в качестве нешательского негоцианта и арестованный в городе "Мулене? Революционному комитету он кажется подозрительным. Для революционного комитета очевидно: он - депутат Бриссо! Назад! Под арест, бедный Бриссо, или в строгое заключение, куда суждено последовать и другим. Рабо соорудил себе фальшивую внутреннюю стену в доме друга, живет в непроглядной темноте, между двух стен. Этот арест кончится в тюрьме и в Революционном трибунале.
Не должны мы забывать и Дюперре, и, печати, наложенной на его бумаги из-за Шарлотты. Там есть одна бумага, способная причинить много бедствий, это тайный торжественный протест против suprema dies 2 июня; наш бедный Дюперре составил этот тайный протест в ту же неделю со всею ясностью выражений, выжидая время, когда можно будет опубликовать его; под этим тайным протестом стоит ясно написанная подпись его и подписи немалого числа других жирондистских депутатов. Что, если печати будут сняты, когда Гора еще господствует? Все протестующие, Мерсье, Байель, по слухам, еще 73 депутата, все, что еще осталось от почтенного жирондизма в Конвенте, должны трепетать при этой мысли!.. Вот плоды начатой междоусобной войны.
Мы находим также, что в эти последние июльские дни окончена знаменитая осада Майнца; гарнизон должен выйти с военными почестями и не сражаться против коалиции в течение года. Любители живописи и Гете стояли на Майнцском шоссе и смотрели с должным интересом на процессию, выходившую со всей подобающей торжественностью.
"Первым вышел сопровождаемый прусской кавалерией французский гарнизон. Трудно представить себе более странное зрелище: колонна марсельцев, исхудавших, загорелых, пестрых, в заплатанных одеждах, вышла быстрым шагом, словно король Эдвин открыл гору и выпустил из нее свое войско карликов. Затем следовали регулярные войска: серьезные, сумрачные, хотя не унылые и не пристыженные. Но самым замечательным явлением, поразившим всех, были конные егеря. Они приблизились в полном молчании к тому месту, где мы стояли, и тогда их оркестр заиграл "Марсельезу". Это революционное Те Deum заключает в себе что-то грустное и пророческое даже при быстром темпе, но теперь его играли медленно, в унисон с тихим аллюром егерей. Было что-то трогательное, жуткое и очень серьезное в зрелище этих всадников, высоких, исхудавших людей пожилого возраста, с выражением лиц, соответствующим музыке, когда они мерным шагом двигались вперед. Каждого из них можно было сравнить с Дон-Кихотом; в массе они выглядели в высшей степени благородно.
Затем выходит отряд, привлекающий особое внимание, - это комиссары или представители. Мерлей де Тионвиль в гусарском мундире, диковатый на вид, с бородой, по левую руку от него другое лицо в подобном же костюме; при виде последнего толпа яростно выкрикивает имя одного горожанина - члена Якобинского клуба; она дрогнула, чтобы схватить его. Мерлей, потянув узду, напоминает о его достоинстве как французского представителя, о мести, которая последовала бы за всякое нанесенное ему оскорбление, и советует всем успокоиться, потому что его видят здесь не в последний раз". Так выехал Мерлей, угрожающий в самом поражении. Но что остановит теперь эту лавину пруссаков, направляющуюся через открытый северо-восток? Счастье, если укрепленные линии Вейсембурга и непроходимые Вогезы ограничат ее французским Эльзасом, удержат от наводнения самого сердца страны!
В эти же самые дни окончена и осада Валансьена, павшего под раскаленным градом Йорка! Конде пал уже несколько недель назад. Киммерийская коалиция продвигается вперед. Достойно при этом внимания, что во всех этих занятых неприятелем французских городах развевается знамя не с королевскими лилиями во имя нового претендента Людовика, а с австрийским орлом, словно Австрия предполагает удержать их все за собой. Не может ли генерал Кюстин, находящийся еще в Париже, дать какие-нибудь объяснения по поводу падения этих укрепленных городов? Мать патриотизма громко ревет с трибуны и галерей, что он должен сделать это, однако желчно замечает, что "господа из Пале-Руаяля" кричат "многие лета" этому генералу.
Мать патриотизма, избавленная теперь последовательными чистками от всякой тени жирондизма, приобрела большой авторитет: можно назвать ее щитоносцем, или питомником, или даже предводителем самого очищенного Национального Конвента. Якобинские дебаты публикуются в "Moniteur", подобно парламентским.
Глава четвертая. О ПРИРОДА!
Но заглянем пристальнее в город Париж: что замечает там История 10 августа первого года Свободы, "по старому стилю 1793 года"? Хвала Небу, новый праздник Пик!
"Ежедневная депутация" Шометта добилась своего: конституции. Это была одна из наиболее быстро составленных конституций, написанная, как иные говорят, в неделю Эро де Сешелем и другими; вероятно, это была достаточно искусная, годная к применению конституция; впрочем, на этот счет мы не считаем себя призванными составить основательное суждение. Искусна была или нет эта конституция, но 44 тысячи французских общин подавляющим большинством поспешили принять ее, обрадованные хоть какой-нибудь конституцией. В Париж прибыли делегаты от департаментов из почтенных республиканцев с поручением торжественно изъявить согласие на принятие ее, и теперь все, что еще остается, - это публично провозгласить последнюю конституцию и присягнуть ей на празднике Пик? Департаментские депутаты приехали несколько времени тому назад, и Шометт очень беспокоится за них, как бы господа спекулянты-жирондисты или, не приведи господи, Filles de joie жирондистского нрава не повредили их морали. Этот день, 10 августа, бессмертная годовщина, почти более великая, чем июльская годовщина взятия Бастилии.
Художник Давид не ленился. Благодаря ему и французскому гению в этот день выступает на свет беспримерная сценичная фантасмагория, о которой История, занятая реальными фантасмагориями, говорит очень немного.
Одну вещь История может отметить с удовольствием: на развалинах Бастилии сооружена статуя Природы, колоссальная, изливающая воду из своих грудей. Это не сон, а реальность, осязаемая, очевидная. И стоит она, изливаясь, великая Природа, в серых предрассветных сумерках; но лишь только восходящее солнце окрасит пурпуром восток, как начинают приходить бесчисленные толпы, стройные и нестройные. Приходят департаментские делегаты, приходят Мать патриотизма и ее Дочери, приходит Национальный Конвент, предводительствуемый красивым Эро де Сешелем; нежная духовая музыка льется звуками ожидания. И вот, как только великое светило рассыпало первую горсть огней, позолотив холмы и верхушки труб, Эро де Сешель уже у ног великой Природы (она просто из гипса); он поднимает в железной чаше воду, струящуюся из священной груди, пьет ее с красноречивой языческой молитвой, начинающейся словами: "О природа!", и все департаментские депутаты пьют за ним вслед, каждый с наиболее подходящим к случаю восклицанием или пророческим изречением, какие кому приходят на ум; все это среди вздохов, переходящих в бурю духовой музыки; гром артиллерии и рев людских глоток таким образом завершается первый акт этого торжества.
Затем следует процессия вдоль бульваров: депутаты и должностные лица, связанные вместе одной длинной трехцветной лентой, далее идут "члены парижских секций Народа", идут в беспорядке, с пиками, молотами, с орудиями и эмблемами своих цехов, среди которых мы замечаем плуг и древних Филемона и Бавкиду, сидящих на плуге и везомых своими детьми. Нестройные и гармонические звуки множества голосов наполняют воздух. Многие направляются через Триумфальные арки, и у подножия первой мы замечаем - кого бы, ты думал? - героинь восстания женщин, энергичных дам Рынка; они расположились здесь (Теруань отсутствует; опасаются, что она слишком больна, чтобы быть здесь) с дубовыми ветками, трехцветными украшениями, плотно усевшись на своих пушках. Красавец Эро де Сешель, остановившись полюбоваться ими, обращается к ним с льстивой, красноречивой речью, после которой они встают и присоединяются к шествию.
А теперь посмотрите: на площади Революции кому посвящена эта другая величественная статуя, закутанная в холст, который быстро поднимается посредством блока и веревки? Статуя Свободы! Она тоже из гипса, но полагают, что будет из металла; стоит она на том месте, где некогда красовалась статуя деспота Людовика XV. "Три тысячи птиц" выпущены на волю, в Божий мир, с бирками на шее: "Мы свободны"; подражайте нам. Жертвоприношения из королевской мишуры и ci-devant, какую еще могли найти, уже совершены; красавец Эро произносит пышную речь; возносятся языческие молитвы.
И затем вперед, за реку, где находится новое огромное изваяние, целая гора гипса: Народ-Геркулес с поднятой всепобеждающей палицей; "многоголовый дракон жирондистского федерализма, поднимающийся из зловонного болота" требует нового потока красноречия от Эро де Сешеля. Уж не говорим о Марсовом поле, о находящемся там Алтаре Отечества с урной, содержащей прах погибших защитников равенства перед законом, о стольких излияниях, жестах и речах, что губы Эро де Сешеля, вероятно, побелели и язык его стал прилипать к гортани.
Около шести часов усталый председатель и парижские патриоты садятся за общественную трапезу, какая найдется, и бокалами пенящегося вина открывают новую и новейшую эру. В самом деле, разве не готов уже новый календарь Ромма? На всех выступах домов мелькают маленькие трехцветные флаги; флагштоком служит пика с шапкой Свободы. На стенах всех домов, так как ни один неподозреваемый патриот не захочет отстать от других, виднеются напечатанные слова: "Республика, единая и неделимая, Свобода, Равенство, Братство или Смерть".
Что касается нового календаря, то можно сказать, что здесь, больше чем где бы то ни было, мыслящие люди давно уже поражались неравенствам и несоответствиям и необходимость замены старого календаря новым была давно решена. Марешаль, атеист, почти десять лет назад предложил новый календарь, свободный по крайней мере от суеверия; парижскому муниципалитету оставалось только принять его теперь за неимением лучшего. Во всяком случае с календарем ли Марешаля или с другим, лучшим, а новая эра наступила. Петиции в этом смысле посылались уже неоднократно, и прошлый год все общественные учреждения, журналисты и патриоты вообще называли первым годом Республики. Вопрос этот не простой, но Конвент взялся за него, и Ромм, как мы видели, трудился над ним; не новый календарь Марешаля, а лучший, новейший календарь Ромма будет принят. Ромм, которому помогают Монж, Лагранж и другие, производит математические вычисления; Фабр д'Эглантин придумывает поэтические наименования, и 5 октября 1793 года, после многих волнении, они представляют свой новый, республиканский календарь в законченном виде, и он входит в силу законным порядком.
Четыре равных времени года, двенадцать равных месяцев по тридцать дней каждый; это составляет триста шестьдесят дней; остается пять лишних дней, которые необходимо распределить. Эти пять лишних дней мы отводим на праздники и называем их пятью санкюлотидами или днями бесштанными. Праздник Гения, праздник Труда, Действия, Вознаграждения, Мнения - так называются пять санкюлотид. Ими великий круг, или год, закончен; в каждый четвертый год, прежде называвшийся високосным, мы вводим шестую санкюлотиду и называем ее праздником Революции. Что касается начала, представляющего наибольшие затруднения, то не есть ли это одно из счастливейших совпадений, что Республика сама началась 21 сентября, около дня осеннего равноденствия? В осеннее равноденствие, в полночь по Парижскому меридиану, в некогда христианском 1792 году начинает свой счет новая эра. Vendemiaire, Brumaire, Frimaire (виноградный, туманный, морозный) - это три наших осенних месяца. Nivose, Pluviose, Ventose (снежный, дождливый, ветреный) составляют нашу зиму. Germinal, Floreal, Prairial (прорастающий, цветущий, луговой) - это наше весеннее время года. Messidor, Thermidor, Fructidor - dor по-гречески "дар" (жатвенный, жаркий, плодовый) - составляют республиканское лето. Эти двенадцать месяцев своеобразно делят республиканский год. Что касается более мелких подразделений, то мы дерзаем принять ваше десятичное деление и вместо древней, как мир, недели, или седь-мицы, сделать десятидницу, или декаду (Decade), и не без выгоды. В каждом месяце тогда получается три декады, что очень правильно, и Decadi, или десятый день, должен быть всегда "днем отдыха". А христианское воскресенье в таком случае? Исчезнет само собой!
Таков вкратце новый календарь Ромма и Конвента, вычисленный по Парижскому меридиану и евангелию Жан Жака. Этот календарь составляет не последнее неудобство для нынешних британских читателей французской истории, смущая их душу мессидорами и прериалями, так что приходится наконец в целях самозащиты составить какую-нибудь основную схему или таблицу соотношений между новым и старым стилями и держать ее под рукой. Такую таблицу, почти истрепавшуюся в наших руках, но все еще годную для чтения и печати, мы предлагаем теперь читателю в примечании, потому что календарь Ромма глубоко запечатлелся в газетах, мемуарах и официальных актах того времени; новой эрой, которая длится двенадцать с лишком лет, нельзя пренебрегать[76].
Итак, пусть читатель с такой основной схемой сможет, где надо, перевести новый стиль на старый, называемый также "рабским стилем" (stile esclave); мы же на этих страницах будем придерживаться, насколько возможно, только последнего.
Так, с новым праздником Пик и новой эрой, или новым, календарем, приняла Франция свою новую конституцию, самую демократическую из когда-либо написанных на бумаге. Как-то она будет действовать на практике? Патриотические депутации время от времени просят разрешения пользоваться ею; просят, чтобы она была приведена в действие. Всегда, однако, это кажется сомнительным, для данного момента неудобным. Наконец через несколько недель Комитет общественного спасения извещает через Сен-Жюста, что при настоящих тревожных обстоятельствах Франция находится в состоянии революционном и правительство ее должно быть революционным, пока не наступит успокоение. Следовательно, эта бедная новая конституция должна существовать только как бумага и как надежда; в этом виде мы можем вообразить ее даже теперь лежащею с бесконечным множеством других вещей в этой темнице подлунного мера. Более чем бумагой ей и не суждено было сделаться.
Глава пятая. ОСТРЫЙ МЕЧ
Франции действительно нужны теперь не изложенные на бумаге теории, а нечто совсем другое: ей нужны железо и смелость.
Ведь Вандея еще пылает, увы, в буквальном смысле; негодяй Россиньоль сжигает даже мельницы. Генерал Сантер не мог ничего сделать там; генерал Россиньоль в слепой ярости, часто пьяный, может сделать менее чем ничего. Мятеж разгорается, становясь все безумнее. К счастью, те тощие Дон-Кихоты, которых мы видели выходящими из Майнца и которые "обязались не служить против коалиции в течение года", прибыли в Париж. Национальный Конвент упаковывает их в почтовые дилижансы и повозки и поспешно отправляет в Вандею. Там, мужественно сражаясь в безвестных битвах и схватках под командой бездельника Россиньоля, пусть они, не увенчанные лаврами, спасут Республику и "будут постепенно вырезаны все до единого".
Разве коалиция не разливается внутри Франции, подобно огненному потоку: Пруссия - через открытый северо-восток, Австрия - с своей стороны, Англия через северо-запад. Генерал Гушар имеет не более успеха, чем генерал Кюстин; пусть он хорошенько подумает об этом! Через восточные и западные Пиренеи проникает Испания и развертывается по границе Южной Франции, шурша бурбонскими знаменами. Зола и пепел хаотической жирондистской междоусобицы уже покрыли всю эту область. Марсель
подавлен, но не усмирен, он будет усмирен в крови. Тулон, охваченный ужасом и зашедший слишком далеко, чтобы возвращаться, бросился, о вы, праведные державы, в объятия англичан![77] На Тулонском арсенале развевается флаг даже не с лилиями Людовика-претендента, а с крестом св. Георгия англичан и адмирала Худа![78] Все, что еще оставалось у Франции от ее военного флота, боевых судов, арсеналов, канатных заводов, предалось "этим врагам рода человеческого". Осаждайте их, бомбардируйте их, вы, комиссары Баррас, Фрерон, Робеспьер-младший, и вы, генералы Карто и Дюгомье, особенно же ты, замечательный майор артиллерии Наполеон Бонапарт! Худ укрепляется, запасается провизией, очевидно намереваясь сделать из Тулона новый Гибралтар.
Но глядите, что это за столб пламени внезапно взвился над городом Лионом осенней поздней ночью, в конце августа, наполнив окрестность оглушительным шумом? Это лионский арсенал с четырьмя пороховыми башнями загорелся от бомбардировки и взлетел на воздух, увлекая за собой "117 домов". Можно себе представить это сияние, подобное полуденному солнцу, этот грохот, уступающий разве лишь грому трубы последнего суда! Все спящее живое на далекое пространство вокруг было разбужено. И какое зрелище представилось глазам истории в этом неожиданном ночном блеске! Крыши злосчастного Лиона со всеми его куполами и шпилями мгновенно осветились, воды Соны и Роны вдруг явственно засверкали, и все вокруг стало видимым: горы и долины, деревушки и гладкое жнивье, холмы, увы, все изрытые окопами, траншеями, редутами осаждающих и осажденных, и голубые артиллеристы, и маленькие чертенята с порохом, занимающиеся своим адским делом в эту неблагоуханную ночь! Пусть мрак снова скроет все это, слишком печалящее взор. Поистине, смерть Шалье дорого стоит этому городу. Комиссары Конвента, лионские конгрессы появлялись и исчезали; одни меры сменялись другими, противоположными; дурное становилось худшим, пока не дошло до того, что комиссар Дюбуа-Крансе с "семидесятью тысячами войска и артиллерией из нескольких провинций" бомбардирует Лион денно и нощно.
Но впереди еще хуже. В Лионе голод, разорение и пожар. Осажденные делают отчаянные вылазки; храбрый Преси[79], их национальный полковник и командир, делает все, что в силах человека, сражается отчаянно, но безуспешно. Снабжение провиантом отрезано; ничего больше не попадает в город, кроме пуль и гранат! Арсенал взлетел на воздух; даже госпиталь будет обстреливаться, и больные будут погребены заживо. Черный флаг, вывешенный на этом здании, взывает к состраданию осаждающих: ведь хотя они и обезумели, но все же наши братья. Однако в своей слепой ярости осаждающие принимают этот флаг за знак вызова и еще ожесточеннее направляют туда свой огонь. Дурное становится худшим, и как остановить это ухудшение, пока оно не дойдет до самого ужасного? Комиссар Дюбуа не хочет слушать никаких доводов, никаких переговоров, кроме одного: обещания безусловной сдачи. В Лионе находятся усмиренные якобинцы, господствующие жирондисты и тайные роялисты. И теперь, когда муниципалитет окружен кольцом глухого ко всему безумия и артиллерийского огня, не бросится ли он с отчаяния в объятия самого роялизма? Король Сардинии должен был помочь, но помощь не приходит. Эмигрант д'Отишан от имени двух принцев-претендентов идет с помощью через Швейцарию, но также еще не пришел; Преси поднимает знамя с лилиями!
При виде его все верные жирондисты грустно опускают оружие - пусть наши трехцветные братья берут нас приступом и убивают в своей ярости: с вами мы не победим. Умирающие с голоду женщины и дети высланы из города, но неумолимый Дюбуа отправляет их обратно и в безумном ожесточении, посылает им только град ядер. Наши "редуты из хлопчатобумажных мешков" взяты и отбиты; Преси под своим знаменем с лилиями дерется с отчаянной храбростью.
Что станется с Лионом? Эта осада длится 70 дней.
На той же неделе в далеких западных водах смело разрезает волны Бискайского залива грязный и мрачный небольшой торговый корабль шотландского шкипера, под палубой которого обескураженно сидит последняя покинутая горсть депутатов-жирондистов из Кемпе! Часть их рассеялась кто куда мог. Бедный Риуфф попал в когти Революционного комитета и в парижскую тюрьму. Остальные - седовласый Петион, сердитый Бюзо, подозрительный Луве, храбрый молодой Барбару и другие - сидят здесь в трюме. Они бежали из Кемпе на этом жалком судне и теперь плывут, подвергаясь риску со всех сторон: грозят им и волны, и англичане, но пуще всего их братья-французы. Загнанные небом и землею в чрево этого торгового корабля шотландского шкипера, среди бушующего вокруг Атлантического океана, они направляются в Бордо, если случайно для них еще остается там надежда. Не входите в Бордо, о друзья! Кровожадные представители Конвента - Тальен и ему подобные уже прибыли туда со своими декретами, со своей гильотиной. Почтенный жирондизм загнан под землю; якобинцы господствуют наверху. С этой пристани Реоля, или мыса Амбес, как будто бледная смерть машет вам своим острым революционным мечом, советуя направиться в другое место!
Шотландский шкипер, ловкий, грязный человек, с трудом причаливает к одной из сторон этого мыса Амбес и высаживает своих пассажиров. Наведя необходимые справки, они быстро прячутся под землю и таким образом, в подземных проходах, в чуланах, погребах, на чердаках амбаров своих друзей и в пещерах Сент-Эмилиона и Либурна, избегают жестокой смерти. Несчастнейшие из сенаторов!
Глава шестая. ВОССТАВШИЕ ПРОТИВ ДЕСПОТОВ
Что может противопоставить якобинский Конвент всем этим неисчислимым трудностям, ужасам и бедствиям? Неспособный рассчитывать дух якобинства и анархическое безумие санкюлотства! Наши враги теснят нас, говорит Дантон, но покорить нас им не удастся; "скорее мы обратим в пепел Францию".
Комитет общественной безопасности и Комитет общественного спасения поднялись "на высоту обстоятельств". Пускай все сделают то же. Пусть 44 тысячи секций с их революционными комитетами заставят трепетать каждую фибру Республики, чтобы каждый француз почувствовал, что он обязан действовать или умереть. Они, эти секции и комитеты, - артерии якобинства; Дантон посредством органа Барера и Комитета общественного спасения издает декрет, чтобы в Париже по постановлению закона еженедельно собиралось по два митинга секций и чтобы бедным гражданам платили за участие в них, дабы они не теряли своих 40 су дневного заработка. Это и есть знаменитый "закон о 40 су", горячо побуждающий к санкюлотизму, способствующий обращению жизненных соков якобинства.
23 августа Комитет общественного спасения, по обыкновению через Барера, обнародовал в словах, которые стоит запомнить, свое постановление, скоро сделавшееся законом, о поголовном ополчении. "Вся Франция, сколько бы она ни заключала в себе людей и денег, должна быть поставлена под реквизицию", говорит Барер поистине словами Тиртея[80], красноречивее которых мы у него не знаем. "Республика - это один громадный осажденный город". 250 кузниц должны быть устроены на этих днях в Люксембургском саду, вокруг внешней стены Тюильри, чтобы выделывать ружейные стволы пред лицом земли и неба! Из всех деревушек по направлению к их департаментскому городу, из всех департаментских городов по направлению к указанному лагерю или очагу войны пойдут сыны свободы, на знамени которых будет написано: Le peuple francais debout contre les tyrans (Французский народ, восставший против деспотов). Молодые люди пойдут на битву; их дело - побеждать; семейные люди будут ковать оружие, возить обоз и артиллерию, доставлять провиант; женщины будут шить одежду воинам, делать палатки, служить в госпиталях; дети будут щипать корпию из старого полотна; пожилые люди будут объезжать публичные места и своими речами возбуждать храбрость молодых, проповедовать ненависть к королям и единение с республикой. Это слова Тиртея, которые отдаются в сердцах всех французов.
Вот в каком настроении, раз никакое другое не помогает, ринется Франция на своих врагов! Ринется, очертя голову, не думая об издержках и последствиях, не руководствуясь никаким другим законом и правилом, кроме одного верховного закона - спасения народа! Оружием послужит все железо, находящееся во Франции, силою - все мужчины, женщины и дети Франции. Там, в своих 250 кузницах в саду Люксембургского дворца и Тюильри, пусть они выковывают ружейные стволы пред лицом земли и неба.
Но геройская отвага в отношении чужеземного врага не может заглушить черной ненависти к врагу домашнему. В то время как циркуляция жизненных соков в революционных комитетах была ускорена законом о 40 су, депутат Мерлей - не Тионвиль, которого мы видели выезжающим из Майнца, а Мерлей из Дуэ, прозванный впоследствии Мерленом Suspect (подозрительным), - выступает около недели спустя со своим прогремевшим на весь мир законом о подозрительных, предписывающим всем секциям, через их комитеты немедленно арестовывать всех подозрительных лиц и объясняющим вместе с тем, кто именно должен считаться подозрительным и подлежащим аресту. "Подозрительны, говорит он, - вce те, кто своими действиями, сношениями, речами, сочинениями и, короче говоря, чем бы то ни было навлекли на себя подозрение". Мало того, Шометт, разъясняя предмет в своих муниципальных плакатах и прокламациях, договорится до того, что подозрительного почти всегда можно узнать на улице и, схватив его, тащить в комитет и в тюрьму. Следите хорошенько за своими словами, наблюдайте тщательно за своими взглядами: если вы не подозрительны ни в чем другом, то можете сделаться, как вошло в поговорку, "подозреваемым в подозрительности"! Ибо не находимся ли мы в состоянии революции?
Более ужасный закон никогда не управлял ни одной нацией. Все тюрьмы и арестные дома на французской земле переполнены людьми до самой кровли; 44 тысячи комитетов, подобно 44 тысячам жнецов и собирателей колосьев, очищают Францию, собирают свою жатву и складывают ее в эти дома. Это жатва аристократических плевел! Мало того, из опасения, что сорок четыре тысячи, каждая на своем собственном жатвенном поле, окажутся недостаточными, учреждается на подмогу им странствующая "революционная армия" в шесть тысяч человек под командой надежных капитанов; она будет обходить всю страну и вмешиваться там, где найдет, что жатвенная работа ведется недостаточно энергично. Так просили муниципалитет и Мать патриотизма, так постановил Конвент. Да исчезнут все аристократы, федералисты, все господа! Да вострепещет все человечество! "Почва свободы должна быть очищена" местью!
И Революционный трибунал не отдыхает. Бланшланд за потерю Сан-Доминго, "орлеанские заговорщики" за "убийство", за нападение на священную особу депутата Леонарда Бурдона, многие другие, имена которых остались неизвестными, но которым жизнь была дорога, уже погибли. Ежедневно великая гильотина собирает свою дань. Ежевечерне среди пестрого разнообразия вещей, подобно мрачному призраку, появляется и скользит колесница смерти. Разноликая толпа на мгновение содрогается при виде ее, но в следующее мгновение забывает о ней. Аристократы! Они были виноваты перед Республикой; их смерть, хотя бы только потому, что их имущество будет конфисковано, принесет пользу Республике; "Vive la Republique!"
В последние дни августа упала более знаменитая голова - голова генерала Кюстина. Он обвинялся в жестокости, в неспособности, в измене и во многом другом, но оказался виновным, можно сказать, только в одном: в том, что не был удачлив. Услышав свой неожиданный приговор, "Кюстин упал перед распятием" и не произносил ни слова в течение двух часов; он ехал на площадь Революции с влажным молящим взором; взглянув наверх, на сверкающий топор, он быстро взошел на эшафот26 и быстро был вычеркнут из списка живых. Он сражался в Америке, этот гордый, отважный человек, а его судьба - куда она его привела!
Второго числа того же месяца, в три часа утра, повозка с опущенными шторами выехала из Тампля по направлению к тюрьме Консьержери. В ней находились два должностных лица и Мария Антуанетта, бывшая королева Франции! Там, в этой Консьержери, в позорной, мрачной камере, лишенная детей, родных, друзей и надежды, она сидела долгие недели в ожидании своего конца.
Можно заметить, что гильотина все ускоряет свое движение, по мере того как ускоряется ход других дел; она служит показателем общего ускорения деятельности Республики. Звук ее громадного топора, который периодически поднимается и падает, как сильно пульсирующее сердце, есть только часть всего огромного движения жизни и пульсации санкюлотской системы! "Орлеанские заговорщики" и оскорбители должны умереть, несмотря на многие просьбы и слезы, доводы о том, насколько священна особа депутата. И однако, священное может быть лишено своего священного значения, даже депутат оказывается не важнее гильотины. Бедный журналист Горса, тоже депутат, которого мы видели спрятавшимся в Ренне, когда Кальвадосская война ознаменовалась неудачей в самом начале, пробрался потом, в августе, в Париж и несколько недель прятался около бывшего Пале-Руаяля, но однажды он был узнан, схвачен и, как лишенный уже покровительства закона, без церемонии отправлен на площадь Революции. Он умер, оставив свою жену и детей на милость Республики. Это было 9 октября 1793 года. Горса - первый депутат, погибший на эшафоте, первый, но не последний.
Бывший мэр Байи в тюрьме, бывший прокурор Манюэль, Бриссо и наши бедные арестованные жирондисты также сидят в тюрьме, и над ними тяготеет обвинение. Всеобщее якобинство криками требует наказания их. Печати на бумагах Дюперре сняты! В один несчастный день внезапно вносится доклад о 73 депутатах, подписавших тайный протест, и все они признаны виновными; двери Конвента "предусмотрительно заперты", чтобы никто из замешанных не мог ускользнуть. Счастливы те из них, кто по чистой случайности отсутствовал! Кондорсе исчез во мраке неизвестности, быть может, и он, подобно Рабо, сидит между двумя стенами в доме друга.
Глава седьмая. МАРИЯ АНТУАНЕТТА
В понедельник 14 октября 1793 года в здании суда, в новой революционной палате, разбирается дело, подобного которому никогда еще не было в этих старых каменных стенах.
Некогда блистательнейшая королева, теперь поблекшая, подурневшая, одинокая, стоит здесь перед судейским столом Фукье-Тенвиля и дает отчет о своей жизни. Обвинительный акт был вручен ей прошлой ночью!28 Какими словами выразить чувство, вызываемое такими переменами человеческой судьбы? Его можно выразить только молчанием.
Мало встречается печатных листов такого трагического, даже страшного значения, как эти простые страницы бюллетеня Революционного трибунала, которые носят заглавие: "Процесс вдовы Капет". Мрачны, мрачны, как зловещее затмение, как бледные тени царства Плутона, эти плутонические судьи, плутонический Тенвиль, окруженные девять раз Стиксом и Летой, огненным Флегетоном[81] и Коцитом[82], названным так от стенаний! Сами вызванные свидетели подобны привидениям: оправдывающие, обвиняющие - над всеми ними самими занесена рука смерти и рока; они рисуются в нашем воображении как добыча гильотины. Не избежать ее ни этому высокому бывшему вельможе графу д'Эстену, старающемуся показать себя патриотом; ни Байи, который, когда его спросили, знает ли он обвиняемую, отвечает с почтительным поклоном в ее сторону: "О да, я знаю Madame". Есть здесь и экс-патриоты, с которыми обращаются резко, как, например, с прокурором Манюэлем; есть и экс-министры, лишенные своего блеска. Мы видим холодное аристократическое бесстрастие у людей, верных себе даже в аду; видим яростную глупость патриотических капралов и патриотических прачек, которые могут многое порассказать о заговорах, изменах, о 10 августа, о восстании женщин. Ведь все идет на счет проигравшей ставку.
Мария Антуанетта, эта царственная женщина, не изменяет себе и в эти часы полного одиночества и беспомощности. Говорят, взор ее оставался спокоен, когда ей читали гнусный обвинительный акт, и "иногда она шевелила пальцами, как будто играя на клавесине". Вы не без интереса видите из самого этого мрачного революционного бюллетеня, что она держалась с достоинством королевы. Ее ответы быстры, толковы, подчас лаконически кратки; в ее спокойных словах слышится решимость не без оттенка презрения, но не в ущерб достоинству. "Так вы упорствуете в отрицании?" - "Мое намерение - не отрицать: я сказала правду и настаиваю на ней". Низкий клеветник Эбер дает свидетельское показание как относительно многого другого, так и относительно одной вещи, касающейся Марии Антуанетты и ее маленького сына, - вещи, которой лучше не осквернять более человеческой речи. Королева возражала Эберу, и один из судей просит заметить, что она не ответила на это. "Я потому не ответила, - восклицает она с благородным волнением, - что природа отказывается отвечать на подобные обвинения, возводимые на мать. Я призываю в свидетели всех матерей, находящихся здесь!" Робеспьер, услышав об этом инциденте, разразился почти ругательствами по поводу животной глупости этого Эбера29, на гнусную голову которого обрушилась его же грязная ложь. В среду, в четыре часа утра, после двух суток допросов, судебных речей и других неясностей дела, выносится решение: смертный приговор. "Имеете ли вы что-нибудь сказать?" Обвиняемая покачала головой, не проронив ни слова. Ночные свечи догорают, время также кончается, и наступают вечность и день. Этот зал Тенвиля темен, плохо освещен, кроме того места, где стоит осужденная. Она молча покидает его, чтобы уйти в мир иной.
Две процессии, или два королевских шествия, разделенные промежутком в 23 года, часто поражали нас странным чувством контраста. Первая - это процессия прекрасной эрцгерцогини и супруги дофина, покидавшей свой родной город в возрасте 15 лет, идя навстречу надеждам, каких не могла питать в ту пору никакая другая дочь Евы. "Поутру, - говорит очевидец Вебер, - супруга дофина оставила Вену. Весь город высыпал, сначала с молчаливой грустью. Она показалась; ее видели откинувшейся в глубь кареты, с лицом, залитым слезами; она закрывала глаза то платком, то руками; иногда она выглядывала из кареты, чтобы еще раз увидеть этот дворец своих предков, куда ей не суждено было более возвратиться. Она показывала знаками свое сожаление, свою благодарность доброму народу, столпившемуся здесь, чтобы сказать ей "прости". Тогда начались не только слезы, но и пронзительные вопли со всех сторон. Мужчины и женщины одинаково выражали свое горе; улицы и бульвары Вены огласились рыданиями. Только когда последний курьер из сопровождавших отъезжающую скрылся из виду, толпа рассеялась".
Эта молодая царственная пятнадцатилетняя девушка стала теперь, в 38 лет, развенчанной вдовой, преждевременно поседевшей; то последняя процессия, в которой она участвует. "Через несколько минут после того, как окончился процесс, барабаны забили сбор во всех секциях; к восходу солнца вооруженное войско было на ногах, пушки были расставлены на концах мостов, в скверах, на перекрестках, на всем протяжении от здания суда до площади Революции. С десяти часов многочисленные патрули начали объезжать улицы; выстроено было 30 тысяч кавалерии и пехоты. В одиннадцать показалась Мария Антуанетта. На ней был шлафрок из белого пике; ее везли на место казни как обыкновенную преступницу, связанную, в обычной повозке, в сопровождении конституционного священника в гражданском платье и конвоя из пехоты и кавалерии. На них и на двойной ряд войск на протяжении всего своего пути она, казалось, смотрела равнодушно. На ее лице не было ни смущения, ни гордости. На крики "Vive la Republique!" и "Долой тиранию!", сопровождавшие ее на всем пути, она, казалось, не обращала внимания. С духовником своим она почти не разговаривала. На улицах Дю-Руль и Сент-Оноре внимание ее привлекли трехцветные знамена на выступах домов, а также надписи на фронтонах. По прибытии на площадь Революции взор ее обратился на национальный сад, бывший Тюильрийский, и на лице ее появились признаки живейшего волнения. Она поднялась на эшафот с достаточным мужеством, и в четверть первого ее голова скатилась; палач показал ее народу среди всеобщих, долго продолжавшихся криков "Vive la Republique!"".
Глава восьмая. ДВАДЦАТЬ ДВА
Кого теперь, о Тенвиль! Теперь следуют люди другого цвета - наши бедные жирондистские депутаты, т. е. те из них, кого удалось задержать. Это Верньо, Бриссо, Фоше, Валазе, Жансонне, некогда цвет французского патриотизма, числом двадцать два; сюда, к судейскому столу Тенвиля, привела их сила обстоятельств - из-под "защиты французского народа", из люксембургского заключения, из тюрьмы Консьержери. Фукье-Тенвиль должен дать о них отчет, какой он может.
Несомненно, что этот процесс жирондистов - важнейший из всех, какой приходилось ему вести. Перед ним выстроены в ряд двадцать два человека, все республиканские вожаки, красноречивейшие во Франции, к тому же адвокаты и не без друзей среди присутствующих. Как докажет Тенвиль виновность этих людей в роялизме, в федерализме, в заговоре против республики? Красноречие Верньо пробуждается еще раз и, как говорят, "вызывает слезы". Журналисты пишут отчеты, процесс затягивается изо дня в день, "грозит стать вечным", как ворчат многие. Якобинцы и муниципалитет приходят Фукье на помощь. Двадцать восьмого того же месяца Эбер и другие являются в качестве депутации известить патриотический Конвент, что Революционный трибунал совсем "скован формальностями судебного производства", что патриотические присяжные должны иметь "власть прекращать прения, раз они чувствуют себя убежденными". Это внушительное предложение о прекращении прений поспешно превращается в декрет.
Итак, в десять часов вечера 13 октября эти двадцать два, вызванные в суд еще раз, уведомляются, что присяжные, чувствуя себя убежденными, прекратили прения и вынесли свое решение: обвиняемые признаны виновными и приговорены все до единого к смертной казни с конфискацией имущества.
Громкий крик невольно вырывается у бедных жирондистов, и возникает такое волнение, что для усмирения его приходится вызвать жандармов. Валазе закалывается кинжалом и падает мертвым на месте. Остальных, среди громких криков и смятения, уводят обратно в Консьержери; Ласурс восклицает: "Я умираю в тот день, когда народ потерял свой рассудок, а вы умрете, когда он вновь обретет его!"32 Ничто не помогает. Уступая силе, осужденные запевают "Марсельезу" и с пением возвращаются в свою темницу.
Риуфф, который был их товарищем по заключению в эти последние дни, трогательно описывает, как они умерли. По нашему мнению, это не назидательная смерть. Веселое, сатирическое Pot-pourri, составленное Дюко; написанные стихами сцены трагедии, в которых Барер и Робеспьер разговаривают с сатаной; вечер перед смертью, проведенный "в пении и веселых выходках", с "речами о счастье народов", - все это и тому подобное мы можем принимать только за то, чего оно стоит. Таким образом жирондисты справляли свою последнюю вечерю. Валазе с окровавленной грудью спит в холодных объятиях смерти, не слышит пения. У Верньо есть доза яда, но ее недостаточно для его друзей, а достаточно только для него одного, поэтому он выбрасывает ее и председательствует на этом последнем ужине жирондистов с блеском отчаянного красноречия, с пением, весельем. Бедная человеческая воля силится заявить свою самостоятельность не тем, так другим путем. Нa следующий день, утром, весь Париж на улицах; толпа, какой еще не видывал ни один человек. Колесницы смерти с холодным трупом Валазе, вытянутым среди еще живых двадцати одного, тянутся длинным рядом по улицам Парижа. Осужденные с обнаженными головами, со связанными руками, в одних рубашках и брюках, прикрыты свободно накинутыми на плечи плащами. Так едут представители красноречия Франции, сопровождаемые говором и криками. На крики "Vive la Republique!" некоторые из них отвечают криками же: "Vive la Republique!" Другие, как, например, Бриссо, сидят, погруженные в молчание. У подножия эшафота они вновь запевают "Марсельезу" с соответствующими случаю вариациями. Представьте себе этот концерт! Живые еще поют, но хор быстро тает. Топор Сансона проворен: в каждую минуту падает по голове. Хор слабеет и слабеет и наконец смолкает. Прощайте, жирондисты, прощайте навеки! Те Deum Фоше умолк навсегда; мертвая голова Валазе отрублена; серп гильотины пожал всех жирондистов. "Красноречивые, молодые, прекрасные и отважные!" восклицает Риуфф. О смерть, какое пиршество готовится в твоих мрачных чертогах!
Увы, не лучше судьба жирондистов и в далеком Бордоском округе. Целые месяцы уныло тянутся в пещерах Сент-Эмилиона, на чердаках и в погребах; одежда износилась, кошелек пуст, а грядет холодный ноябрь; с Тальеном и его гильотиной всякая надежда теперь исчезла. Опасность все приближается, препятствия теснят все сильнее; жирондисты решаются разделиться. Прощание было трогательным: высокий Барбару, самый веселый из этих отважных людей, наклоняется, чтобы обнять своего друга Луве. "Где бы ты ни нашел мою мать, восклицает он, - постарайся быть ей вместо сына! Нет средств, которых бы я не разделил с твоей женой, если бы когда-нибудь случай свел меня с нею!"34
Луве отправился с Гюаде, Салем и Валади, Барбару - с Бюзо и Петионом. Валади вскоре отделился и пошел своей дорогой на юг. Два друга и Луве провели 14 ноября 1793 года, тяжелые сутки, измученные сыростью, усталостью и голодом, наутро они стучатся, прося помощи в доме друга, в деревне; трусливый друг отказывается принять их, и они остаются стоять под деревьями, под проливным дождем. С отчаяния Луве решается идти в Париж и пускается в путь, разбрызгивая грязь вокруг себя, с новой силой, вызванной яростью или безумием. Он проходит деревни, находя "часовых, заснувших в своих будках под проливным дождем", он проходит раньше, чем его успевают окликнуть. Он обманывает революционные комитеты, проезжает в закрытых и открытых телегах ломовых извозчиков, спрятанный под кладью; проезжает однажды по улицам Орлеана под ранцами и плащами солдатских жен, в то время когда его ищут; испытывает такие приключения, которые составили бы три романа; наконец попадает в Париж к своей прекрасной подруге, бежит с нею в Швейцарию и ждет гам лучших дней.
Бедные Гюаде и Саль были оба вскоре схвачены и умерли в Бордо на гильотине; барабанный бой заглушил их голоса. Валади также схвачен и гильотинирован. Барбару и двое его товарищей выдержали долее, до лета 1794 года, но недостаточно долго. В одно июльское утро, меняя свое убежище, как они это часто делали, "приблизительно в трех милях от Сент-Эмилиона, они заметили большую толпу поселян": без сомнения, это якобинцы пришли схватить их. Барбару вынимает пистолет и убивает себя наповал. Увы! это были не якобинцы, а безобидные поселяне, шедшие на храмовый праздник. Два дня спустя Бюзо и Петион были найдены на ниве; их тела были наполовину обглоданы собаками.
Таков был конец жирондизма. Эти люди поднялись, чтобы возродить Францию, и совершили это. Увы, какова бы ни была причина нашей ссоры с ними, разве их жестокая судьба не загладила все? Только сострадание все переживает. Сколько прекрасных геройских душ послано в царство теней и сами жирондисты отданы на добычу псам и разным птицам! Но и здесь также исполнилась Высшая воля. Как сказал Верньо, "революция, подобно Сатурну, пожирает своих собственных детей".
Книга V. ТЕРРОР В ПОРЯДКЕ ДНЯ
Глава первая. НИЗВЕРЖЕНИЕ
Итак, мы подошли к краю мрачной бездны, к которой давно стремительно двигались все события; теперь они низвергаются оттуда, с головокружительной высоты, в беспорядочном падении, вперемешку, очертя голову, все ниже и ниже, пока санкюлотизм не уничтожит сам себя. И в этой удивительной Французской революции, как в день Страшного суда, целый мир будет если не создан вновь, то разрушен и низвергнут в пропасть. Террор долго был ужасен, но самим деятелям теперь стало ясно, что принятый ими путь - путь террора, и они говорят: "Que la terreur soit a l'ordre du jour!" (Да будет террор в порядке дня!)
Сколько веков подряд, считая только от Гуго Капета, накапливалась растущая от столетия к столетию масса злобы, обмана, притеснения человека человеком! Грешили короли, грешили священники, грешил народ. Явные негодяи шествовали, торжествуя, украшенные диадемами, коронами, митрами; еще вреднее были скрытые негодяи со своими прекрасно звучащими формулами, благовидностью, благонравием и пустотой внутри. Раса шарлатанов стала многочисленной, словно песок на морском берегу, пока наконец не скопилось столько шарлатанства, что, образно говоря, им стали тяготиться и земля и небо. День расплаты, казалось, медлит, незримо приближаясь среди трубных звуков и фанфаронства придворной жизни, героизма завоевателей, наихристианнейшего великого монархизма, возлюбленного помпадурства; однако смотрите, он все приближается, смотрите, он уже настал, неожиданный и не замеченный всеми! Жатва на ниве, вспаханной долгими столетиями, в последнее время желтела и созревала все быстрее, и вот она созрела и снимается так быстро, будто всю ее хотят убрать за один день. Снимается в этом царстве террора и доставляется домой, в царство теней! Несчастные сыны Адама, всегда бывает так, и никогда они не знают этого и не желают знать. С улыбкой на лице день за днем и поколение за поколением они ласково говорят друг другу: "Бог в помощь!" - и трудятся, сеют ветер. И однако, - жив Господь! - они пожнут бурю; ничто другое, повторяем, невозможно, поскольку Господь есть истина и мир его - истина.
Однако История, разбираясь в этом царстве террора, встречает некоторые затруднения. В то время как описываемый феномен существовал в своем первозданном виде просто как "ужасы Французской революции", была масса вещей, о которых можно было говорить и кричать с пользой или без пользы. Богу известно, что ужасов и террора было достаточно и тогда, но это был еще не весь феномен, собственно говоря, это даже вовсе не был феномен, а скорее тень, негативная сторона его. Теперь же, в новой стадии развития, когда История, перестав кричать, должна была бы попытаться включить этот новый поразительный факт в свои старые формы речи и мышления, для того чтобы какой-нибудь признанный наукой закон природы был достаточен для объяснения неожиданного продукта природы и История могла бы заговорить о нем членораздельно, извлекая из него выводы и пользу для себя, - в этой новой стадии История, надо признаться, только бормочет и еще более мучительно запинается. Возьмите, например, недавние рассуждения, которые предложил нам в последние месяцы как самые подходящие к предмету почтенный г-н Ру в своей "Histoire parlementaire". Это новейшее и самое странное определение гласит, что Французская революция была отчаянным и напрасным усилием - после восемнадцати столетий приготовления - осуществить христианскую религию. Слова "Единение, Нераздельность, Братство или Смерть" действительно были написаны на домах всех живых людей, так же как на кладбищах, или жилищах мертвецов, по приказанию прокурора Шометта было написано: "Здесь вечный сон"2; но христианская религия, осуществляемая гильотиной и вечным сном, "подозрительна мне" (m'est suspecte), как обыкновенно говорил Робеспьер.
Увы, нет, г-н Ру! Евангелие братства не согласно с евангелиями четырех древних евангелистов, призывающих людей раскаяться и исправить свою собственную дурную жизнь, чтобы они могли быть спасены; это скорее евангелие в духе нового пятого евангелиста Жан Жака, призывающее каждого исправлять грешное бытие всего мира и спастись составлением конституции. Это две вещи, совершенно различные и разделенные одна от другой, как говорится, toto coelo, всем простором небес и далее, если возможно! Впрочем, История, как и вообще человеческие речь и разум, стремится, подобно праотцу Адаму в начале его жизни, давать имена новым вещам, которые она видит среди произведений природы, и часто делает это довольно неудачно.
Но что, если бы История хоть раз допустила, что все известные ей названия и теоремы не подходят к предмету; что это великое произведение природы было велико и ново именно тем, что оно не подходит под известные законы природы, а открывает какие-то новые? В таком случае История, отказавшись от претензии сейчас же дать имя явлению, стала бы добросовестно всматриваться в него и называть в нем только то, что она может назвать. Всякое, хоть бы и приблизительно верное имя имеет ценность: раз верное имя найдено, предмет становится известным; мы овладеваем им и можем пользоваться им.
Но конечно, не осуществление христианства или чего-либо земного замечаем мы в этом царстве террора, в этой Французской революции, завершением которой он является. Скорее мы видим разрушение всего, что может быть разрушено. Словно 25 миллионов людей, восстав наконец в пророческом трансе, поднялись одновременно, чтобы заявить громовым голосом, проносящимся через далекие страны и времена, что ложь существования сделалась невыносимой. О вы, лицемерие, благовидность, королевские мантии, бархатные епанчи кардиналов; вы, догматы, формулы, благонравие, красиво расписанные склепы с костями мертвецов, смотрите, вы кажетесь нам воплощенной ложью! Но наша жизнь не ложь, наши голод и нищета не ложь! Смотрите, все мы, двадцать пять миллионов, поднимаем правую руку и призываем в свидетели небо, землю и самый ад в том, что или вы перестанете существовать, или мы!
Клятва нешуточная; это, как уже часто говорено, самое замечательное дело за последнюю тысячу лет. За ним следуют и будут следовать результаты. Исполнение этой клятвы означает мрачную, отчаянную борьбу людей со всеми условиями и окружением, борьбу с грехом и мраком, увы, пребывающими в них самих настолько же, насколько и в других; таково царство террора. Смыслом его, хотя и неосознанным, было трансцендентальное отчаяние. На что только люди во все времена не надеялись понапрасну: на братство, на наступление Золотого Века Политики; истинным всегда было незримое сердце всего трансцендентальное отчаяние; никогда оно не оставалось без последствий. Отчаяние, зашедшее столь далеко, так сказать, замыкает круг и становится своего рода источником подлинной и плодотворной надежды.
Учение о братстве, унаследованное от старого католицизма, действительно неожиданно спускается на колеснице Жан-Жакова евангелия со своей облачной небесной тверди и из теории с определенностью становится практикой. Но то же самое бывает у французов со всеми верованиями, намерениями, обычаями, знаниями, идеями и явлениями, которые внезапно сваливаются на людей. Католицизм, классицизм, сентиментализм, каннибализм - все "измы", составляющие человека во Франции, с грохотом рушатся в эту бездну, и теория становится практикой, и то, что не может плавать, тонет. Не только евангелист Жан Жак - нет ни одного сельского учителя, который не внес бы свою лепту; разве мы не говорим "ты" друг другу, подобно свободным народам древности? Французский патриот в красном фригийском колпаке Свободы называет своего бедного маленького наследника Катоном-цензором или, как там его, Утическим. Бабеф, издающий газету, стал Гракхом; Муций Сцевола - сапожник с подобной же геройской душой - председательствует в секции Муция Сцеволы; короче говоря, весь мир здесь перемешался, чтобы испытать, что всплывет.
Поэтому мы, во всяком случае, назовем это царство террора очень странным. Господствующий санкюлотизм расчищает себе, так сказать, поле действий; это одно из самых странных состояний, в каком когда-либо находилось человечество. Целая нация с массой потребностей и обычаев! Старые обычаи обветшали и отброшены, так как они устарели; люди, движимые нуждой и пифийским безумием, хотят тотчас найти способ удовлетворения этой нужды. Обычное рушится; подражание и изобретательность поспешно создают необычайное. Все, что содержит в себе французский национальный разум, проявляется наружу, и если результат получается не великий, то, наверное, один из самых странных.
Но читатель не должен воображать, что царство террора было сплошь мрачным; до этого далеко. Сколько кузнецов и плотников, пекарей и пивоваров, чистильщиков и прессовщиков во всей этой Франции продолжают отправлять свои обычные, повседневные обязанности, будь то правительство ужаса или правительство радости! В этом Париже каждый вечер открыты 23 театра и, как иные насчитывают, до 60 танцевальных залов. Писатели-драматурги сочиняют пьесы строго республиканского содержания. Всегда свежие вороха романов, как в старину, поставляют передвижные библиотеки для чтения. "Сточная яма спекуляции" теперь, во времена бумажных денег, работает с беспримерной невообразимой быстротой, извергая из себя "неожиданные богатства", подобные дворцам Аладдина, поистине чудесные миражи, поскольку в них можно жить, хотя бы и временно. Террор подобен чернозему, на котором прорастают самые разнообразные сцены. Великое, смешное, ужасное в ошеломляющих переходах, в сгущенных красках следуют одно за другим или, вернее, сопровождают одно другое в беспорядочной суматохе.
Итак, здесь, скорее чем где бы то ни было, "сотня языков", которых часто просили старые поэты, оказала бы величайшую услугу! За неимением у нас такого органа пусть читатель заставит поработать собственное воображение, а мы постараемся подметить для него ту или иную значительную сторону явлений в наиболее удобном порядке, какой только нам доступен.
Глава вторая. СМЕРТЬ
В первые дни ноября нужно отметить одно мимолетное обстоятельство последний путь в свой вечный дом Филиппа Орлеанского-Эгалите. Филипп был "обвинен" вместе с жирондистами, к удивлению их и своему собственному, но не был судим одновременно с ними. Они были уже осуждены и казнены дня три назад, когда Филипп, после своего полугодового заключения в Марселе, был привезен в Париж. Это происходило, по нашему расчету, 3 ноября 1793 года.
В этот же самый день заключены под стражу две знаменитые женщины: г-жа Дюбарри и Жозефина Богарне. Несчастная Дюбарри, некогда графиня, возвратилась из Лондона, и ее схватили не только как бывшую любовницу покойного короля и уже поэтому подозрительную, но и по обвинению в том, что она "снабжала эмигрантов деньгами". Одновременно с ней заключена в тюрьму жена Богарне, которой скоро суждено стать вдовой; это Жозефина Таше Богарне, будущая императрица Жозефина Бонапарт; чернокожая прорицательница из тропиков давно предсказала ей, что она будет королевой, и даже более того. В те же самые часы бедный Адам Люкс, почти помещавшийся и, по словам Форстера, "не принимавший пищи в последние три недели", отправляется на гильотину за свою брошюру о Шарлотте Корде: "он взбежал на эшафот и сказал, что умирает за нее с великой радостью". Вот с какими спутниками приезжает Филипп. Ибо, называется ли месяц брюмером года второго Свободы или ноябрем 1793 года рабства, работа гильотины не прекращается. Guillotine va toujours.
Обвинительный акт Филиппа быстро составлен; судьи его быстро пришли к убеждению. Он обвинен в роялизме, заговоре и многом другом; ему вменяется в вину даже то, что он подал голос за казнь Людовика, хотя он и отвечает: "Я подал голос по убеждению и совести". Он приговорен к немедленной смерти; наступающий мрачный день 6 ноября - последний, который суждено ему видеть. Выслушав приговор, Филипп, говорит Монгайяр, пожелал позавтракать: он съел "изрядное количество устриц, две котлеты, выпил добрую часть бутылки превосходного кларета", и все это с явным удовольствием. Затем явился революционный судья, или официальный эмиссар Конвента, и заявил ему, что он может оказать некоторую услугу государству, открыв правду относительно каких-нибудь заговоров. Филипп ответил, что после всего происшедшего государство, как ему кажется, имеет мало прав на него; тем не менее в интересах свободы он, еще располагая свободным временем, согласен, если ему зададут разумный вопрос, дать разумный ответ. Он облокотился, как говорит Монгайяр, на каминную доску и, судя по выражению лица, с большим спокойствием разговаривал вполголоса с эмиссаром, пока не истекли данные ему свободные минуты, после чего эмиссар ушел.
В дверях Консьержери осанка Филиппа была уверенна и непринужденна, почти повелительна. Прошло без малого пять лет с тех пор, как Филипп с любезным видом стоял под этими же каменными сводами и спрашивал короля Людовика: "Было ли то парламентским заседанием под председательством короля или судилищем?" О небо! Трое простых разбойников должны были ехать на казнь вместе с ним, и некоторые утверждают, что он протестовал против такой компании, и его пришлось втащить на повозку!5 Но это неправдоподобно... Протестовал он или нет, а наводящая ужас повозка выезжает. Костюм Филиппа отличается изяществом: зеленый кафтан, жилет из белого пике, желтые лосевые брюки, блестящие, как зеркало, сапоги; его осанка по-прежнему спокойна, бесстрастна и холодно непринужденна. Повозка, осыпаемая проклятиями, медленно проезжает, улицу за улицей, мимо дворца Эгалите, некогда Пале-Руаяля! Жестокая чернь останавливает ее здесь на несколько минут: говорят, г-жа Бюффон выглянула здесь посмотреть на него, в головном уборе Иезавели. На стене из дикого камня были выведены огромными трехцветными буквами слова: "Республика, единая и нераздельная; Свобода, Равенство, Братство или Смерть; Национальная собственность". Глаза Филиппа блеснули на мгновение дьявольским огнем, но он тотчас же погас, и Филипп продолжал сидеть бесстрастный, холодно-вежливый. На эшафоте, когда Сансон собирался снять с него сапоги, осужденный сказал: "Оставьте; они лучше снимутся после, а теперь поспешим (depechons nous)!"
Значит, и у Филиппа Эгалите были свои добродетели? Упаси боже, чтобы был хотя бы один человек без них! Он имел уже ту добродетель, что прожил весело до 45 лет; быть может, были и другие, но какие, мы не знаем. Несомненно только, что ни о ком из смертных не рассказывали так много фактов и так много небылиц, как о нем. Он был якобинским принцем крови, подумайте, какая комбинация. К тому же он жил в век памфлетов, а не в века Нерона или Борджиа. Этого с нас довольно; хаос дал его и вновь поглотил; пожелаем, чтобы он долго или никогда больше не производил ему подобного! Храбрый молодой Орлеан-Эгалите, лишенный всего, за исключением жизни, отправился в Кур, в кантоне Граабюндене, под именем Корби преподавать математику. Семейство Эгалите пришло в полный упадок.
Гораздо более благородная жертва следует за Филиппом, одна из тех, память о которых живет несколько столетий, - Жанна Мария Флипон, жена Ролана. Царственной, великой в своей молчаливой скорби казалась она Риуффу в своей тюрьме. "Что-то большее, чем обыкновенно находишь во взорах женщин, отражалось6 в ее больших черных глазах, полных выразительности и мягкости. Она часто говорила со мной через решетку; мы все вокруг внимали ей с восторгом и удивлением: она говорила так правильно, гармонично и выразительно, что речь ее походила на музыку, которой никогда не мог в полной мере насладиться слух. Ее беседы были серьезны, но не холодны; речи этой прелестной женщины были искренни и мужественны, как речи великого мужчины". И, однако, ее горничная говорила нам: "Перед вами она сдерживается; но в своей комнате она сидит иногда часа по три, облокотясь на окно, и плачет". Она находилась в тюрьме с 1 июня, однажды освобожденная, но снова задержанная в тот же час. Дни ее проходили в волнении и неизвестности, которая скоро перешла в твердую уверенность в неизбежности смерти. В тюрьме Аббатства она занимала комнату Шарлотты Корде. Здесь, в Консьержери, она беседует с Риуффом, с экс-министром Клавьером, называет 22 обезглавленных "nos amis" (нашими друзьями), за которыми мы скоро последуем. В течение этих пяти месяцев ею были написаны мемуары, которые еще и теперь читает весь мир.
Но вот 8 ноября, "одетая в белое", рассказывает Риуфф, "с длинными, ниспадающими до пояса" черными волосами, она отправляется в зал суда. Возвращаясь быстрыми шагами, она подняла палец, чтобы показать нам, что она осуждена; ее глаза, казалось, были влажны. Вопросы Фукье-Тенвиля были "грубы"; оскорбленная женская честь бросала их ему обратно с гневом, не без слез.
Теперь, когда короткие приготовления кончены, предстоит и ей совершить свой последний путь. С нею ехал Ламарш, "заведовавший печатанием ассигнаций". Жанна Ролан старается ободрить его, поднять упавший дух его. Прибыв к подножию эшафота, она просит дать ей перо и бумагу, "чтобы записать странные мысли, пришедшие ей на ум"7, - замечательное требование, в котором ей, однако, было отказано. Посмотрев на стоящую на площади статую Свободы, она с горечью заметила: "О Свобода, какие дела творятся твоим именем!" Ради Ламарша она хочет умереть первой, "чтобы показать ему, как легко умирать". Это противоречит приказу, возразил Сансон. "Полноте, неужели вы откажете женщине в ее последней просьбе?" Сансон уступил.
Благородное белое видение с гордым царственным лицом, мягкими, гордыми глазами, длинными черными волосами, ниспадающими до пояса, и с отважнейшим сердцем, какое когда-либо билось в груди женщины! Подобно греческой статуе из белого мрамора, законченно ясная, она сияет, надолго памятная среди мрачных развалин окружающего. Хвала великой природе, которая в городе Париже в эпоху дворянских чувств и помпадурства смогла создать Жанну Флипон и воспитать в ней чистую женственность, хотя и на логиках, энциклопедиях и евангелии по Жан Жаку! Биографы будут долго помнить ее просьбу о пере, "чтобы записать странные мысли, пришедшие на ум". Это как бы маленький луч света, проливающий теплоту и что-то священное надо всем, что предшествовало. В ней также было нечто неопределимое; она также была дочерью бесконечного; существуют тайны, о которых и не снилось философии! Она оставила длинную рукопись с наставлениями своей маленькой дочери и говорила, что муж ее не переживет ее.
Еще более жестокой была судьба бедного Байи, председателя Национального собрания и первого мэра города Парижа, осужденного теперь за роялизм, лафайетизм, за дело с красным флагом на Марсовом поле, можно сказать, вообще за то, что он оставил астрономию и вмешался в революцию. 10 ноября 1793 года под холодным мелким дождем бедного Байи везут по улицам; ревущая чернь осыпает его проклятиями, забрасывает грязью, размахивает в насмешку перед его лицом горящим или дымящимся красным флагом. Безвинный старец сидит молча, ни у кого не возбуждая сострадания. Повозка, медленно двигаясь под мокрой изморосью, достигает Марсова поля. "Не здесь! - с проклятиями вопит чернь. - Такая кровь не должна пятнать Алтарь Отечества; не здесь; вон на той куче мусора, на берегу реки!" И власти внимают ей. Гильотина снята окоченевшими от мокрого снега руками и перевезена на берег реки, где опять медленно устанавливается окоченевшими руками. Усталое сердце старика еще отбивает удар за ударом в продолжение долгих часов среди проклятий, под леденящим дождем! "Байи, ты дрожишь!" - замечает кто-то. "От холода, друг мой" (Mon ami, c'est de froid), - отвечает Байи. Более жестокого конца не испытал ни один смертный.
Несколько дней спустя Ролан, получив известие о случившемся 8 ноября, обнимает своих дорогих друзей в Руане, покидая их гостеприимный дом, давший ему убежище, и уезжает после прощания, слишком печального для слез. На другой день, утром 16 ноября, "в нескольких милях от Руана, по дороге на Париж, близ Бур-Бодуана, в аллее Нормана" виднеется сидящая, прислонившись к дереву, фигура человека с суровым морщинистым лицом, застывшего в неподвижности смерти; в груди его торчал стилет, и у ног лежала записка такого содержания: "Кто бы ни был ты, нашедший меня лежащим здесь, почти мои останки. Это останки человека, посвятившего всю жизнь тому, чтобы быть полезным, и умершего, как он жил, добродетельным и честным. Не страх, а негодование заставило меня покинуть мое уединение, узнав, что моя жена убита. Я не желал долее оставаться на земле, оскверненной преступлениями".
Барнав держал себя перед Революционным трибуналом в высшей степени мужественно, но это не помогло ему. За ним послали в Гренобль, чтобы он испил одну чашу с другими. Напрасно красноречие, судебное или всякое иное, пред безгласными сотрудниками Тенвиля. Барнаву еще только 32 года, а он испытал уже много превратностей судьбы. Еще недавно мы видели его на верху колеса фортуны, когда его слова были законом для всех патриотов, а теперь он уже на самом низу колеса, в бурных прениях с трибуналом Тенвиля, обрекающим его на смерть. Петион, некогда принадлежавший к крайней левой и прозванный добродетельным Петионом, где он теперь? Умер гражданской смертью в пещерах Сент-Эмилиона и будет обглодан собаками. А Робеспьер, которого народ нес рядом с ним на плечах, заседает теперь в Комитете общественного спасения, граждански еще живой, но и он не будет жить вечно. Так-то головокружительно быстро несется и кружится диким ревом это неизмеримое tourmentum революции! Взор не успевает следить за ним. Барнав на эшафоте топнул ногой, и слышно было, как он произнес, взглянув на небо: "Так это моя награда?"
Депутат и бывший прокурор Манюэль уже умер; скоро за ним последует и депутат Осселен[83], также прославившийся в августе и сентябре, и Рабо, изменнически открытый в своем убежище между двумя стенами, и брат Рабо. Немало жертв из числа национальных депутатов! Есть и генералы: сын генерала Кюстина не может защитить честь своего отца, так как и сын уже гильотинирован. Кюстин, бывший дворянин, был заменен плебеем Ушаром, но и он не имел удачи на севе ре, и ему не было пощады; он погиб на площади Революции после покушения на самоубийство в тюрьме. И генералы Бирон, Богарне, Брюне также неудачники, и непреклонный старый Люкнер со своими начинающими слезиться глазами, и эльзасец Вестерманн в Вандее, храбрый и деятельный, - никто из них не может, как поет псаломщик, избавить душу свою от смерти.
Как деятельны революционные комитеты и секции с их ежедневными 40 полупенсами! Арест за арестом следуют быстро, непрерывно, сопровождаемые смертью. Экс-министр Клавьер покончил самоубийством в тюрьме. Экс-министр Лебрен, схваченный на сеновале в одежде рабочего, немедленно предан смерти. Барер метко назвал это "чеканкой монеты на площади Революции", так как всегда "имущество виновного, если он имеет таковое", конфискуется. Во избежание случайностей издается даже закон, в силу которого самоубийство не должно обездоливать нацию: преступник, покончивший самоубийством, ни в коем случае не избавляется от конфискации его имущества. Поэтому трепещите, все виновные, и подозреваемые, и богатые, - словом, все категории людей в штанах с застежками! Люксембургский дворец, некогда королевский, превратился в огромную отвратительную тюрьму; дворец Шантильи, некогда принадлежавший Конде, - также, а их владельцы - в Бланкенберге, по ту сторону Рейна. В Париже теперь около 12 тюрем, во всей Франции их около 44 тысяч: туда густой толпой, как пожелтевшие осенние листья, с шумом направляются подозреваемые, стряхиваемые революционными комитетами; они сметаются туда, как в кладовую, в виде запасов для Сансона и Тенвиля. "Гильотина работает исправно" (La Guillotine ne va pas mal).
Глава третья. РАЗРУШЕНИЕ
Трепещите, подозрительные! Но более всего трепещите вы, явные мятежники: жирондистские южные города! Революционная армия выступила под предводительством писателя-драматурга Ронсена[84] в количестве 6 тысяч человек: "в красных колпаках, трехцветных жилетах, черных брюках и таких же куртках из грубого сукна, с огромными усами, огромными саблями, словом, в полном карманьольском снаряжении"12, имея в запасе передвижные гильотины. Депутат Каррье достиг Нанта, обогнув пылающую Вандею, которую Россиньоль буквально сжигает. Каррье хочет разведать, кто попался в плен, какие у пленных сообщники, роялисты или жирондисты; его гильотина и "рота Марата" в вязаных колпаках работают без отдыха, гильотинируют маленьких детей и стариков. Как ни быстро работает машина, она не справляется с массой работы; палач и его помощники выбились из сил и объявляют, что человеческие мускулы не могут больше выдержать. Приходится прибегнуть к расстрелам, за которыми, быть может, последуют еще более ужасные способы.
В Бресте с подобной же целью орудуют Жан Бон Сент-Андре с армией красных колпаков. В Бордо действует Тальен со своим Изабо[85] и его помощниками; многочисленные Гюаде, Кюссе, Сали и другие погибают; окровавленные пика и колпак представляют верховную власть; гильотина чеканит деньги. Косматый рыжий Тальен, некогда способный редактор, еще молодой, сделался теперь мрачным, всевластным Плутоном на земле, обладающим ключами Тартара. Замечают, однако, что некая синьорина Кабаррюс или, вернее, синьора замужняя и еще не овдовевшая г-жа де Фонтенэ, красивая брюнетка, дочь испанского купца Кабаррюса, нашла секрет смягчать рыжую, щетинистую личность и небезуспешно ходатайствует за себя и своих друзей. Ключи от Тартара и всякого рода власть значат кое-что для женщины, а сам мрачный Плутон не равнодушен к любви. Подобно новой Прозерпине, г-жа Фонтенэ пленена этим рыжим мрачным богом и, говорят, немного смягчает его каменное сердце.
Менье в Оранже, на юге, Лебон в Аррасе и на севере становятся предметом удивления для всего мира. Якобинские народные суды с национальными представителями возникают по мере надобности то здесь, то там, быть может на том же самом месте, где еще недавно находился жирондистский трибунал. Разные Фуше, Менье, Баррасы, Фрероны очищают южные департаменты, подобно жнецам, своими серпами-гильотинами. Работников много, жатва обильна. Сотнями, тысячами косятся человеческие жизни и бросаются в общий костер, подобно головням.
Марсель взят и объявлен на военном положении. Что это за грязный рыжий колосс, который там срезают? Речь идет о дородном мужчине с медно-красным лицом и большой бородой кирпичного цвета. Клянусь Немезидой и Парками, это Журдан Головорез! Его схватили в этом округе, находящемся на военном положении, и беспощадно скосили "национальной бритвой". Низко упала собственная голова палача Журдана, так же низко, как головы Дешюта и Вариньи, которые он надел на пики во время восстания женщин.
Его не будут более видеть разъезжающим, подобно медно-красному зловещему призраку, по городам Юга; не будут видеть сидящим в роли судьи, с трубкой и стаканом коньяка, в Ледяной башне Авиньона. Всепокрывающая земля приняла и его, зазнавшегося бородача, и дай Бог, чтобы нам никогда более не приходилось знать человека, подобного ему! Журдан один назван, сотни других не названы. Увы! Они, подобно разрозненным вязанкам, лежат, собранные в кучу, перед нами, считаются количеством телег, и, однако, нет ни одной отдельной лозы среди этих вязанок, которая не была бы когда-то живой и не имела своей истории и была бы срезана без таких же мук, какие испытывают и монархи, когда умирают!
Менее всех других городов может ждать пощады Лион, который мы видели в страшном зареве в ту осеннюю ночь, когда взлетела на воздух пороховая башня. Лион видимо и неизбежно приближается к печальному концу. Что могли сделать отчаянная храбрость и Преси, когда Дюбуа-Крансе, неумолимый, как судьба, жестокий, как рок, захватил их "редуты из хлопчатобумажных мешков" и теснит их все сильнее своей лавой артиллерийских ядер? Никогда не прибудет этот cidevant д'Оттишан; никогда не явится помощь из Бланкенберга! Лионские якобинцы попрятались в погребах; жирондистский муниципалитет побледнел от голода, измены и адского огня. Преси и около 15 тысяч с ним вскочили на коней, обнажили сабли, чтобы пробить себе дорогу в Швейцарию. Они бились яростно и были яростно перебиты; не сотни, а едва ли несколько единиц из них когда-либо увидели Швейцарию! 9 октября Лион сдается безусловно и обречен на гибель. Аббат Ламурет, теперь епископ Ламурет, некогда член Законодательного собрания, прозванный Baiser l'Amourette, или Поцелуй Далилы, схвачен и отвезен в Париж, чтобы быть гильотинированным. Говорят, "он перекрестился", когда Тенвиль объявил ему смертный приговор, и умер, как красноречивый конституционный епископ. Но горе теперь всем епископам, священникам, аристократам и федералистам, находящимся в Лионе. Прах Шалье требует успокоения; Республика, дошедшая до безумного состояния Сивиллы, обнажила свою правую руку. Смотрите! Представитель Фуше, этот Фуше из Нанта, имя которого приобретет громкую известность, отправляется с толпой патриотов, удивительной процессией, вынуть из могилы прах Шалье. Осел в священном облачении с митрой на голове, с привязанными к хвосту церковными книгами, в числе которых называют даже Библию, шествует по улицам Лиона, сопровождаемый многочисленными патриотами и криками, как в театре, по направлению к могиле мученика Шалье. Тело вырыто и сожжено; пепел собран в урну для почитания парижскими патриотами. Священные книги составили часть погребального костра, и пепел был развеян по ветру. Все это при криках: "Месть! Месть!", которая, пишет Фуше, будет удовлетворена.
Лион фактически обречен на разрушение; отныне на его месте будет только Commune affranchie (свободная община): самое имя его должно исчезнуть. Этот большой город будет стерт с лица земли, если сбудется якобинское пророчество, и на развалинах его будет воздвигнут столб с такою надписью: "Лион восстал против Республики; Лион больше не существует". Фуше, Кутон, Колло, представители Конвента, следуют один за другим; здесь есть работа для палача, и есть работа для каменщика, но не строительная. Самые дома аристократов обречены на уничтожение. Парализованный Кутон, принесенный в кресле, ударяет по стене символическим молотком, говоря: "La loi te frappe" (Закон уничтожает тебя), и каменщики киркой и ломом начинают разрушение. Грохот падения, серые развалины и тучи пыли разносятся зимним ветром. Если бы Лион был из более мягкого материала, он весь исчез бы в эти недели, и якобинское пророчество исполнилось бы. Но города строятся не из мыльной пены, город Лион построен из камня, и хотя он и восстал против Республики, однако существует до нынешнего дня.
Точно так же и у лионских жирондистов не одна шея, чтобы можно было покончить с ними одним ударом. Революционный трибунал и военная комиссия, находящиеся там, гильотинируют, расстреливают, делают все, что могут: в канавах площади Терро течет кровь; Рона несет обезглавленные трупы. Говорят, Колло д'Эрбуа был некогда освистан на лионской сцене; но каким свистом, каким всемирным кошачьим концертом или хриплой адской трубой освищете вы его теперь, в этой его новой роли представителя Конвента, с тем чтобы она более не повторялась? 209 человек перешли через реку, чтобы быть расстрелянными из мушкетов и пушек на бульваре Бротто. Это уже вторая партия осужденных; в первой было 70 человек. Тела первой партии были сброшены в Рону, но река выбросила часть их на берег, поэтому вторая партия будет погребена в земле. Общая длинная могила вырыта; осужденные стоят, выстроившись рядами, около пустого рва; самые молодые поют "Марсельезу". Якобинская Национальная гвардия дает залп, но должна снова стрелять, и еще раз, а потом взяться за штыки и заступы, потому что хотя все осужденные упали, но не все мертвы, и начинается бойня. Слишком ужасная, чтобы описывать ее. Сами национальные гвардейцы, стреляя, отворачиваются. Колло, вырвав мушкет у одного из них, прицеливается с невозмутимым видом, говоря: "Вот как должен стрелять республиканец!"
Это второй расстрел, и, к счастью, последний: он найден слишком ужасным, даже неприличным. 209 перешли через мост; один ускользнул у конца моста; однако смотрите, когда считают тела, их оказывается. Разреши нам эту загадку, Колло. После долгих рассуждений вспомнили, что два человека, уже на бульваре Бротто, пытались выйти из рядов, заявляя с отчаянием, что они не осужденные, что они полицейские комиссары! Им не поверили, их втолкнули в ряды и расстреляли вместе с остальными!16 Такова месть разъяренной Республики! Конечно, это, по выражению Барера, "справедливость в грубых формах" (sous des formes acerbes). Но Республика должна, как говорит Фуше, "идти к свободе по трупам". Или как сказал Барер: "Только мертвые не возвращаются" (II n'y a que les morts qui ne reviennent pas). Террор витает повсюду! "Гильотина работает исправно".
Но прежде чем покинуть эти южные области, на которые история может бросить взгляд только сверху, она спустится на мгновение, чтобы пристальнее взглянуть на одно событие - на осаду Тулона. Много тут стрельбы и бомбардировки, закаливания ядер в печах и на фермах, плохих и хороших маневров артиллерии, атак Оллиульских ущелий и фортов Мальбоске, но все с незначительными результатами. Здесь генерал Карто, бывший художник, выдвинувшийся во время волнений в Марселе; здесь генерал Доппе, бывший медик, выдвинувшийся во время мятежа в Пьемонте, который под командой Крансе взял Лион, но не может взять Тулона. Наконец, здесь генерал Дюгомье, ученик Вашингтона. Здесь и представители Конвента - разные Баррасы, Саличетти, Робеспьер-младший, а также весьма усердный начальник артиллерийской бригады, который часто и ночует рядом со своими пушками. Это невысокий молчаливый молодой человек с оливковым цветом лица, уже небезызвестный нам; его имя Бонапарт, это один из лучших артиллерийских офицеров, какие нам встречались. И все же Тулон еще не взят. Идет четвертый месяц осады, декабрь по рабскому стилю или фример по новому, и все еще этот проклятый красно-синий флаг развевается над Тулоном. Осажденным доставляется провизия с моря; они захватили все высоты, срубая леса и укрепляясь; подобно кроликам, они выстроили свои гнезда в скалах.
Между тем фример еще не сменился нивозом, как собирается военный совет: только что прибыли инструкции от Конвента и Комитета общественного спасения. Карно из этого последнего прислал план осады. План этот критикуют и генерал Дюгомье, и комиссар Саличетти, но и критика и поправки очень различны; тогда осмеливается высказать свое мнение молодой артиллерийский офицер, тот самый, который спит среди пушек и уже не раз упоминался в этой книге, - словом, Наполеон Бонапарт; его почтительное мнение, выведенное из наблюдений в подзорную трубу и вычислений, состоит в том, что некий форт Эгильет может быть захвачен внезапно, так сказать, львиным прыжком, а раз он будет в наших руках, мы получим возможность обстреливать самое сердце Тулона. Английские укрепленные линии будут вдвинуты внутрь, и Худ и наши естественные враги должны будут на следующий же день отплыть в море или превратиться в пепел. Комиссары вопросительно, с сомнением поднимают брови: "Кто этот молодой человек, который считает себя умнее всех нас?" Однако храбрый ветеран Дюгомье полагает, что эта идея заслуживает внимания; он расспрашивает молодого человека, убеждается и в результате говорит: "Попробуйте".
Когда все приготовления сделаны, бронзовое лицо молчаливого офицера становится мрачнее и сосредоточеннее, чем когда-либо; видно, что ум работает горячо в этой голове. Вот этот форт Эгильет; нужен отчаянный, львиный прыжок, но он возможен и должен быть испробован в этот же день! Попытка сделана и оказалась удачной. Благодаря хитрости и храбрости осаждающие, прокрадываясь по оврагам, бросаясь в самую бурю огня, овладевают фортом Эгильет; когда дым рассеивается, мы различаем на этом форте трехцветное знамя; смуглый молодой человек был прав. На следующее утро Худ, видя, что внутренние линии открыты огню, а внешние, оборонительные, отброшены к ним, готовится к отплытию. Взяв с собой на корабль тех роялистов, которые желают уехать, он поднимает якорь, и с этого дня, 19 декабря 1793 года, Тулон вновь принадлежит Республике!
Канонада прекратилась в Тулоне; теперь могут начаться гильотинирование и расстрелы. Правда, гражданская война ужасна, но по крайней мере смыто бесчестье английского господства. Нужно устроить гражданское празднество во всей Франции, так предлагает Барер или художник Давид, и Конвент должен присутствовать на празднестве в полном составе. В довершение всего говорят, что эти бессовестные англичане (принимая во внимание скорее свои интересы, чем наши) подожгли перед отплытием все наши склады, арсеналы и военные корабли Тулонской гавани, около 20 прекрасных военных кораблей, единственные, которые у нас были! Однако эта попытка не удалась: хотя пламя распространилось повсюду, но сгорело не более двух кораблей; даже каторжники с галер бросались с ведрами тушить эти самые гордые корабли. Корабль "Ориент" и остальные должны везти молодого артиллериста в Египет и не смеют превратиться до времени ни в пепел, ни в морских нимф, ни в ракеты, ни сделаться добычей англичан!
Итак, во Франции всенародный гражданский праздник и ликование, а в Тулоне людей расстреливают массами из мушкетов и пушек, как в Лионе, и "смерть изрыгается широким потоком" (vomie a grands flots); 12 тысяч каменщиков вытребованы из окрестностей, чтобы срыть Тулон с лица земли. "Он должен быть срыт весь, - заявляет Барер, - весь, за исключением национальных корабельных заведений, и впредь должен называться не Тулоном, а Горным Портом". Оставим его теперь в мрачном облаке смерти, но с надеждой, что и Тулон построен из камня и даже 20 тысяч каменщиков не смогут снести его с лица земли, прежде чем пройдет вспышка гнева.
Становится уже тошно от "изрыгаемой потоками смерти". Тем не менее разве не слышишь ты, читатель (ведь эти звуки не смолкают столетия), в глухие декабрьские и январские ночи над городом Нантом неясный шум, как будто выстрелы и крики ярости и рыдания смешиваются с ропотом и стонами вод Луары? Город Нант погружен в сон, но депутат Каррье не спит, не спит и рота Марата в шерстяных колпаках. Зачем снимается с якоря в двенадцатом часу ночи это плоскодонное судно, эта барка с сидящими в ее трюме 90 священниками? Они отправляются на Бель-Иль? Посредине Луары по данному сигналу дно судна раздвигается, и оно погружается в воду со всем своим грузом. "Приговор к изгнанию, - пишет Каррье, - был исполнен вертикально". 90 священников с их гробом-баркой лежат на дне реки! Это первая из Noyades, которые мы можем назвать потоплениями Каррье, сделавшимися знаменитыми навеки.
Гильотинирование продолжалось в Нанте, пока палач не отказался, выбившись из сил. Затем последовали расстрелы "в долине Сен-Мов"; расстреливались маленькие дети и женщины с грудными младенцами; тех и других убивали по 120, расстреливали по 500 человек зараз, так горячо было дело в Вандее, пока сами якобинцы не возмутились и все, кроме роты Марата, не стали кричать: "Остановитесь!" Поэтому и придумали потопление. В ночь 24-го фримера года второго, которое приходится на 14 декабря 1793 года, мы видим вторую Noyade18, стоившую жизни "138 человекам".
Но зачем жертвовать баркой? Не проще ли сталкивать в воду со связанными руками и осыпать свинцовым градом все пространство реки, пока последний из барахтающихся не пойдет на дно? Неспящие больные жители города Нанта и окрестных деревень слышат стрельбу, доносимую ночным ветром, и удивляются, что бы это могло значить? В барке были и женщины, которых красные колпаки раздевали донага, как ни молили они, чтобы с них не снимали юбок. И маленькие дети были брошены туда, несмотря на мольбы матерей. "Это волчата, - отвечала рота Марата, - из них вырастут волки".
Потом и дневной свет становится свидетелем нояд; женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают. Это называют "республиканской свадьбой". Жестока пантера лесов, самка, лишенная своих детенышей, но есть в человеке ненависть, более жестокая, чем эта. Окоченелые, не знающие больше страдания, бледные, вздутые тела жертв беспорядочно несутся к морю волнами Луары; прилив отбрасывает их обратно; тучи воронов затемняют реку; волки бродят по отмелям. Каррье пишет: "Quel torrent revolutionnaire!" (Какой революционный поток!) Человек свиреп, и время свирепо. Таковы нояды Каррье; их насчитывают 25, потому что все сделанное во мраке ночи рано или поздно выходит на свет божий19 и не забывается в продолжение веков. Мы обратимся теперь к другому виду завершения санкюлотизма, оставив этот, как самый мрачный.
Но в самом деле, все люди свирепы так же, как и время. Депутат Лебон в Аррасе, обмакивая свою шпагу в кровь, текущую с гильотины, восклицает: "Как мне это нравится!" Говорят, по его приказанию матери должны были присутствовать, когда гильотина пожирала их детей. Оркестр поставлен вблизи и при падении каждой головы начинает играть "Ca ira". В Бур-Бедуен, в Оранжском округе, было срублено ночью дерево Свободы. Депутат Менье, услышав об этом, сжигает местечко до последней собачьей конуры и гильотинирует жителей, не успевших спрятаться в погребах или в горах. Республика единая и нераздельная! Она новейшее порождение огромного неорганического чрева природы, которое люди называют адом, хаосом, первобытной ночью, и знает один только закон - закон самосохранения. Tigresse Nationale! Не заденьте даже кончика ее усов! Быстр ее ответный удар; посмотрите, какую она вытянула лапу; сострадание не закрадывалось в ее сердце.
Прюдом, глупый хвастливый печатник, неспособный редактор, пока якобинский, замышляет сделаться ренегатом и опубликовать объемистые тома на такую тему: "Преступления революции", прибавляя к ним бесчисленную ложь, как будто недостаточно одной правды. Мы, со своей стороны, находим более назидательным запомнить раз и навсегда, что эта республика и национальная тигрица - новое явление, факт, созданный природой среди формул в век формул, и молча присматриваться, как такое естественное проявление природы будет вести себя среди формул. Ведь последние только отчасти естественны, отчасти же призрачны, предположительны; мы называем их метафорически правильно вылитыми формами, из которых иные еще имеют тело, и в них теплится жизнь; но большинство, согласно немецкому писателю, представляет внутри пустоту: "стеклянные глаза, смотрящие на вас с призрачной жизнью, а внутри только нечистое скопление трутней и пауков"! Но не забывайте, что это факт естественный, праведный факт, ужасный в своей правдивости, как сама смерть. Все, что так же правдиво, может встретить его лицом к лицу и пренебречь им; а что не правдиво?
Глава четвертая. ПОЛНАЯ КАРМАНЬОЛА
Одновременно с этим адски-черным зрелищем развертывается другое, которое можно назвать адски-красным, - уничтожение католической религии, а в продолжение некоторого времени уничтожение религии вообще. Мы видели, что новый календарь Ромма установил десятый день отдыха, и спрашивали: что станется с христианским воскресением?[86] Едва прошел месяц с выхода нового календаря, как все это определилось. Странно вспомнить, замечает Мерсье, что в последний праздник Тела Господня в 1792 году вся Франция и все верховные власти шествовали в религиозной процессии с самым набожным видом; мясник Лежандр, заподозренный в непочтительности, едва не был убит в своей двуколке, когда процессия проходила мимо. Галликанская иерархия, церковь и церковные формулы, казалось, цвели, хотя с несколько пожелтевшими листьями, но не более желтыми, чем в прежние годы или десятилетия; цвели повсюду, среди симпатии чуждого софистике народа, вопреки философам, законодателям и энциклопедистам. Но, увы, цвели, подобно темнолистой vallombrosa, которую первый же ноябрьский вихрь обнажает в один час. Со времени этого праздника Тела Господня прошли Брауншвейг, эмигранты, Вандея и восемнадцать месяцев; всему цветущему, особенно растению с темными листьями, приходит, хотя и медленно, конец.
7 ноября некий гражданин Паран, викарий из Буасси-ле-Бертрань, пишет Конвенту, что он всю свою жизнь проповедовал ложь и что она наскучила ему, вследствие чего он хочет теперь отказаться от звания священника и от пенсии и просить высочайший Конвент дать ему какое-нибудь другое дело, которым можно было бы жить. Дать ему "mention honorable" (почетный отзыв)? Или рекомендацию в министерство финансов? Едва это решено, как простоватый Гобель, конституционный парижский епископ, является со своим капитулом, с муниципальным и департаментским эскортом в красных колпаках, чтобы поступить по примеру Парана. Гобель признает, что "нет религии, кроме свободы", поэтому снимает свои священнические облачения и заключается в братские объятия. Все это совершается, к великой радости департаментского депутата Моморо, муниципалов Шометтов и Эберов, Венсана и революционной армии. Шометт спрашивает, не следует ли при таких обстоятельствах прибавить к санкюлотизму праздник Разума?22 Конечно, следует! Да возрадуются атеисты Марешаль, Лаланд и маленький атеист Нежон! Оратор человечества Клоотс может представлять Конвенту с благодарностью свои "Доказательства магометанской религии" - работу, доказывающую ничтожество всех религий. Теперь, думает Клоотс, будет всемирная республика и "только один Бог - Le peuple (народ)".
Французы - нация стадно-подражательного характера; ей был необходим только сигнал для движения в этом направлении, и простофиля Гобель, побуждаемый муниципалитетом и силой обстоятельств, подал его. Какой священник захочет остаться позади священника из Буасси; какой епископ отстанет от епископа Парижского? Епископ Грегуар, правда, мужественно уклоняется; ему говорят: "Мы не принуждаем никого; пускай Грегуар спросит свою совесть". Но и протестанты и католики сотнями изъявляют желание присоединиться. Отовсюду в ноябре и декабре, пока дело не довершено, поступают письма с отказами, приходят священники с целью выучиться ремеслу плотника; приезжают викарии со своими недавно обвенчанными монахинями; словом, день Разума занялся и очень быстро стал полднем. Из отдаленных округов поступают адреса, прямо заявляющие, хотя и на местном диалекте, что Подписавшиеся "не хотят иметь ничего общего с черным животным, называемым кюре" (animal noir apelle curay).
Кроме того, получены патриотические подарки из церковной утвари. Оставшиеся колокола, за исключением набатных, снимаются с колоколен и отправляются в плавильные тигли для изготовления из них пушек. Кадильницы и все священные сосуды разломаны на куски: серебряные годятся для обедневшего Монетного двора; из оловянных же пусть отливаются пули, чтобы разить "врагов человеческого рода". Плюшевые стихари послужат для брюк тем, у кого их нет; полотняные епитрахили будут перекроены на рубашки для защитников родины; старьевщики, евреи и язычники ведут самую бойкую торговлю. Процессия с ослом к могиле Шалье в Лионе была только прообразом того, что происходило в эти самые дни во всех городах. Насколько быстро может действовать гильотина, настолько же быстро действуют теперь во всех городах и округах топор и отмычка; ризницы, налои, напрестольные пелены обобраны и содраны, церковные книги изорваны на бумагу для патронов, люди пляшут "Карманьолу" каждую ночь вокруг праздничных костров. По всем большим дорогам звенят возы с металлической церковной утварью, разбитой в куски и посылаемой в Конвент для терпящего нужду Монетного двора. Рака доброй святой Женевьевы снесена, увы, чтобы быть взломанной на этих днях и сожженной на Гревской площади. Рубашка св. Людовика сожжена, разве не могли бы отдать ее защитнику страны? В городе Сен-Дени - теперь уже не Сен-Дени, а Франсиаде - патриоты даже разрывали могилы, и революционная армия грабила их.
Вот что видели улицы Парижа: "Большинство этих людей были еще пьяны от вина, выпитого ими из потиров, и закусывали скумбрией на дискосах! Усевшись верхом на ослов, одетых в рясы священников, они правили священническими орарями, сжимая в той же руке чашу причастия и освященные просфоры. Они останавливались у дверей таверн, протягивали дароносицы, и хозяин с бутылью в руке должен был трижды наполнять их, затем показались мулы, тяжело нагруженные крестами, канделябрами, кадильницами, сосудами для святой воды и травой иссопом. Это напоминало жрецов Кибелы, корзины которых, наполненные предметами их богослужения, служили в то же время кладовой, ризницей и храмом. В таком виде приблизились эти нечестивцы к Конвенту. Они вошли туда бесконечной лентой, выстроившись в два ряда, все задрапированные, подобно актерам, в фантастические священнические одеяния, неся носилки с наваленной на них добычей: дароносицами, канделябрами, золотыми и серебряными блюдами".
Адреса их мы не приводим, так как он был, разумеется, в стихах и пропет Viva voce всеми присутствующими; Дантон сильно хмурится, сидя на своем месте, и просит, чтобы говорили прозой и в будущем вели себя сдержаннее. Тем не менее обладатели такой spolia optima, отуманенные ликером, просят позволения протанцевать "Карманьолу" здесь же, на месте, на что развеселившийся Конвент не может не согласиться. Мало того, "многие депутаты, - продолжает склонный к преувеличениям Мерсье, который не был свидетелем-очевидцем, так как находился уже в преддверии ада в качестве одного из семидесяти трех, имена которых стояли под протестом Дюперре, многие депутаты, покинув свои курульные кресла, взяли за руки девушек, щеголявших в священнических облачениях, и протанцевали с ними "Карманьолу"". Вот какой античный священный вечер был у них в этом году, прежде называвшемся 1793 годом от Рождества Христова!
Среди такого падения формул, беспорядочно низвергаемых в грязь и попираемых патриотическими танцами, не странно ли видеть возникновение новой формулы? Человеческого языка недостаточно, чтобы выразить то, что происходит в природе людей, подпавшей одуряющему влиянию пошлости. Можно понять лесных чернокожих мумбо-юмбо, еще больше можно понять индейцев вау-вау; но кто поймет этого прокурора Анаксагора, некогда Жана Пьера Шометта? Мы можем только сказать: человек рожден идолопоклонником, поклонником видимого, так он чувственно-впечатлителен и так много общего имеет с природой обезьян.
Дело в том, что в тот же самый день, едва окончился веселый танец "Карманьола", как явился прокурор Шометт с муниципалами и представителями департаментов и с ними странный багаж: новая религия! В зал Конвента вносят на плечах, в паланкине, г-жу Кандейль из Оперы, красивую, когда она хорошо подкрашена, в красном вязаном колпаке и голубом платье; увитая гирляндами из дубовых листьев, она держит в руке пику Юпитера-Народа; впереди нее идут молодые женщины в белых платьях с трехцветными поясами. Пусть мир посмотрит на это! О Национальный Конвент, чудо Вселенной, это наше новое божество богиня Разума, достойная, единственно достойная поклонения! Отныне мы будем поклоняться ей. Ведь не будет слишком смелым просить верховное национальное представительство, чтобы и оно также отправилось с нами в ci-devant собор Богоматери и исполнило несколько строф в честь богини Разума?
Председатель и секретари посылают по очереди богине Кандейль, обносимой вокруг их эстрады, братский поцелуй, после чего ее, по положению, подносят к председателю и сажают по правую руку его. Потом, после надлежащего отдыха и цветов красноречия, Конвент, собрав своих членов, пускается в путь в требуемой процессии по направлению к собору Богоматери. Богиня Разума опять сидит в своем паланкине, несомая впереди, конечно, людьми в римских тогах и сопровождаемая духовой музыкой, красными колпаками и безумием человечества. Богиню Разума сажают на высокий алтарь собора, и требуемое поклонение, или квазипоклонение, говорят газеты, совершается; Национальный Конвент поет "гимн Свободе, слова Шенье, музыка Госсека". Это первый праздник Разума, первое общественное богослужение новой религии Шометта.
"Соответствующий фестиваль в церкви Св. Евстахия, - говорит Мерсье, имел вид празднества в большой таверне. Внутренность клироса представляла пейзаж, украшенный хижинами и группами деревьев. Вокруг клироса стояли столы, уставленные бутылками, колбасами, свиными сосисками, пирогами и другими кушаньями; гости входят и выходят во все двери; кто бы ни являлся, всякий отведывал вкусного угощения. Восьмилетние дети, мальчики и девочки, отведывали яства в честь Свободы и пили вино из бутылок; их быстрое опьянение вызывало смех. Богиня восседала на возвышении в лазоревой мантии с невозмутимо спокойным видом; канониры с трубкой во рту прислуживали ей в качестве церковных служителей, а на улице, - продолжает склонный к преувеличениям писатель, - безумные толпы танцевали вокруг костров, сложенных из балюстрад приделов, скамеек священников и каноников; и танцующие - я ничего не преувеличиваю, - танцующие были почти без брюк, с обнаженными грудью и шеей, со спущенными чулками. Все это неслось и кружилось вихрем, подобно облакам пыли, предшествующим буре и разрушению". В церкви Св. Жерве "ужасно пахло селедкой". Секция или муниципалитет не позаботились о пище, предоставив это воле случая. Другие мистерии, по-видимому кабирического или даже пифийского характера, мы оставляем под завесой, которая была благоразумно протянута "вдоль колонн боковых приделов", и не будем отодвигать ее рукой Истории.
Но есть одна вещь, которая интересует нас больше всего другого: что думал об этом сам Разум в продолжение всего этого торжества? Какие именно слова произнесла бедная Г-жа Моморо, когда она перестала быть богиней и вместе со своим мужем мирно сидела дома за ужином? Ведь книгопродавец Моморо был человеком серьезным; он имел понятие об аграрном законе. Госпожа Моморо, как признано, представляла собой одну из самых лучших богинь Разума, хотя зубы ее были немного испорчены. Если читатель уже составил себе понятие о том, что представляло собой это видимое поклонение Разуму, происходившее во всей Республике в эти ноябрьские и декабрьские недели, пока все церковные деревянные изделия не были сожжены и дело не было довершено и в других отношениях, то он, быть может, уже достаточно ясно уразумел, что это была за республиканская религия, и охотно оставит эту сторону предмета.
Принесенные дары из награбленной церковной утвари были главным образом делом революционной армии, созданной, как мы уже сказали, несколько времени тому назад. Командовал этой армией имевший при себе переносную гильотину писатель-драматург Ронсен со страшными усами, а также стоявший несколько в тени привратник Майяр, старый герой Бастилии, предводитель менад и сентябрьский "человек в сером". Клерк Венсан из канцелярии военного министерства, один из старых клерков министра Паша, "человек с воображением", возбужденным чтением древних ораторов, имел в этой армии влияние на назначения, по крайней мере на назначения штабных офицеров.
Но походы и отступления этих шести тысяч не имели своего Ксенофонта[87]. Ничего, кроме нечленораздельного ропота, смутных проклятий мрачного безумия, не сохранится о них в памяти веков! Они рыщут вокруг Парижа, ища, кого бы посадить в тюрьму; собирают реквизиции; наблюдают, чтобы декреты исполнялись, чтобы фермеры достаточно работали; снимают церковные колокола и металлических богородиц. Отряды постепенно продвигаются в отдаленные части Франции; кроме того, возникают то здесь, то там, подобно облакам в насыщенной электричеством атмосфере, провинциальные революционные армии, например рота Марата у Каррье, бордоские отряды Тальена. Говорят, Ронсен признавался в минуту откровенности, что его войска были квинтэссенцией негодяев. Их видят проходящими через базарные площади, забрызганных дорожной грязью, со всклокоченными бородами, в полном карманьольном виде. Первым подвигом их обычно было низвержение какого-нибудь монархического или церковного памятника, распятия или чего-нибудь в этом роде, что только попадется, затем наведение пушки на колокольню, чтобы снять колокол, не лазая за ним, колокол и колокольню вместе. Впрочем, как говорят, это отчасти зависело от величины города; если город имел много жителей и эти последние считались ненадежными, вспыльчивого характера, то революционная армия исполняла свою работу деликатно, с помощью лестницы и отмычки; мало того, случалось даже, что она брала свой билет на постой, совсем не выполняя подобного рода работу, и, слегка подкрепившись водкой и сном, шла дальше, к следующему этапу. С трубкой в зубах, с саблей у бедра она шествовала в полном карманьольном снаряжении.
Такое уже бывало и может повториться снова. Карл II выслал своих горцев против западных шотландских вигов; плантаторы Ямайки выписали собак с испанского материка, чтобы охотиться с ними на беглых негров; Франция также раздираема дьявольской сворой, лай которой на расстоянии полувека все еще звучит в наших ушах.
Глава пятая. ПОДОБНО ГРОЗОВОЙ ТУЧЕ
Но великую и поистине существенно главную и отличительную особенность конца террора нам еще предстоит увидеть, ведь прищурившаяся история по большей части всегда только небрежно пробегала глазами эту особенность, эту душу целого, ту особенность террора, которая делала его страшным врагом Франции. Пусть это примут во внимание деспоты и киммерийская коалиция. Все французы и все французское имущество находятся в состоянии реквизиции; четырнадцать армий поставлены под ружье; патриотизм со всем, что он имеет пригодного в сердце, уме, душе и теле или в карманах брюк, бросается к границам, чтобы победить или умереть! Карно сидит в Комитете общественного спасения, занятый "организацией побед". Не быстрее пульсирует гильотина в своем ужасном сердцебиении на площади Революции, чем поражает меч патриотизма, оттесняя Киммерию назад, в ее собственные границы, со священной почвы.
Фактически правительство можно по справедливости назвать революционным; некоторые его члены стоят "a la hauteur" - на высоте обстоятельств, а другие не стоят "а la hauteur", и тем хуже для них. Но анархия, можно сказать, организовалась сама собою: общество буквально перевернуто вверх дном; его старые силы работают с бешеной энергией, но в обратном порядке: разрушительно и саморазрушительно.
Любопытно видеть, как все обращается еще к какой-нибудь власти или источнику ее; даже анархия должна иметь центр, чтобы вращаться вокруг него. Вот уже шесть месяцев прошло с тех пор, как существует Комитет общественного спасения, и около трех месяцев с тех пор, как Дантон предложил, чтобы ему была предоставлена вся власть и "сумма в 50 миллионов" и чтобы "правительство было объявлено революционным". Сам он с этого дня не принимает в Комитете никакого участия, хотя его просят об этом много раз, но занимает свое место на Горе приватно. С этого дня 9 человек, хотя бы число их дошло и до 12, сделались бессменными, всегда избираемыми вновь, когда истекал их срок; Комитеты общественного спасения и общественной безопасности приняли свои позднейшие формы и порядок действия.
Комитет общественного спасения - в качестве верховного, Комитет общественной безопасности - в качестве подчиненного, они, подобно малому и большому советам, действуя до сих пор вполне единодушно, сделались центром всего. Они несутся в этом вихре, вознесенные силой обстоятельств странным, бессмысленным образом на эту ужасную высоту, и управляют этим вихрем или кажется, что управляют. Более странного собрания Юпитеров-громовержцев никогда еще не видела земля. Робеспьер, Бийо, Колло, Кутон, Сен-Жюст, не называя еще менее значительных: Амара, Вадье и др. в Комитете общественной безопасности, - вот ваши Юпитеры-громовержцы! Необходим сколько-нибудь выдающийся ум, но где его искать среди них, за исключением головы Карно, занятой организацией побед. У них не ум, а скорее инстинкт, способность угадывать, чего желает этот великий безгласный вихрь; способность безумнее других желать того, чего желают все, способность не останавливаться ни перед какими препятствиями; не обращать внимания ни на какие соображения, божеские или человеческие; твердо знать, что от божественного или человеческого нужно только одно: торжество Республики, уничтожение врагов Республики! При этом единственном духовном даре и таком малом количестве других даров у этих людей странно видеть, как безгласный, бесформенный, бушующий вихрь сам вкладывает свои вожжи в их руки и приглашает, даже принуждает их быть его руководителями!
Рядом заседает муниципальный совет Парижа; все в красных колпаках с 4 ноября; это собрание людей, стоящих вполне "на высоте положения" или даже выше его. Здесь ловкий мэр Паш, не упускающий из виду своей безопасности среди этих людей; здесь Шометт, Эбер, Варле и великий полководец Анрио, не говоря о Венсане, клерке из военного министерства, о Моморо, Добсане и других; все они стремятся разрушать церкви, поклоняться Разуму, истреблять подозрительных и обеспечить торжество революции. Быть может, они заходят в этом слишком далеко? Слышали, как Дантон ворчал на гражданские стихи и рекомендовал прозу и сдержанность. Робеспьер тоже ворчит, как бы, уничтожая суеверия, не вздумали создать религию из атеизма. В самом деле, Шометт и компания представляют род сверхъякобинства, или неистовую "партию бешеных[88] (des Enrages)", которая возбуждает в последние месяцы некоторое подозрение у ортодоксальных патриотов. "Узнать подозрительного на улице" - разве это не значит придать самому Закону о подозрительных дурной оттенок? Тем не менее люди, наполовину безумные, люди, ревностные сверх меры, трудятся здесь в своих красных колпаках без отдыха, быстро исполняя то, что определила им жизнь.
И 44 тысячи других округов, каждый с революционным комитетом, основанным на якобинской Дочери патриотизма, просвещенным духом якобинства, поощряемым 40 су в день! Французская конституция всегда пренебрегала чем-либо подобным двум палатам, а смотрите, не получились ли у нее в действительности две палаты? Национальный Конвент, избранный в качестве одной, Мать патриотизма, самоизбранная, в качестве другой! Дебаты Якобинского общества печатаются в "Moniteur" как важные государственные акты, каковыми они, бесспорно, и являются. Мы назвали Якобинское общество второй законодательной палатой, но не походило ли оно скорее на тот старый шотландский корпус, называемый Lord of the Articles (Лорды уставов), без почина и сигнала которого так называемый парламент не мог провести ни одного билля, ни выполнить никакой работы? Сам Робеспьер, слово которого - закон, не устает раскрывать свои неподкупные уста в якобинском зале. Члены большого Совета - общественного спасения и меньшего - общественной безопасности, равно как и всех действующих партий, приходят сюда произнести свои речи, определить предварительно, к какому решению они должны прийти, какой судьбы должны ожидать. Что ответить, если бы встал вопрос, какая из этих двух палат сильнее - Конвент или Лорды уставов? К счастью, они пока еще идут рука об руку.
Что касается Национального Конвента, то поистине он стал весьма степенным корпусом. Погас прежний пыл; 73 депутата упрятаны под стражу; некогда шумные друзья жирондизма все превратились теперь в безмолвных депутатов Равнины, прозванных даже "болотными лягушками". Поступают адреса, революционная церковная добыча; приходят депутации с прозой и стихами; всех их Конвент принимает. Но сверх этого главная обязанность его состоит в том, чтобы выслушивать предложения Комитета общественного спасения и говорить "да".
Однажды утром Базир при поддержке Шабо не без горячности заявил, что такой Конвент нельзя назвать собранием, свободным в своих действиях. "Должна существовать партия оппозиции, правая сторона! -кричит Шабо. - Если никто не хочет составлять ее, то я составлю. Народ говорит мне: все вы будете гильотинированы в свою очередь, сначала вы и Базир, затем Дантон, а потом и Робеспьер". Громко кричит этот поп-расстрига, а через неделю Базир и он сидят в тюрьме Аббатства, на пути, как можно опасаться, к Тенвилю и гильотине; и то, что говорил народ, по-видимому, готово сбыться. Кровь Базира была возбуждена революционной горячкой, крепким кофе и лихорадочными грезами. А Шабо, как он был счастлив со своей богатой женой, австрийской еврейкой, бывшей Fraulein Frey! Но вот он сидит в тюрьме, и его два шурина, австрийские евреи банкиры Фрей, сидят вместе с ним, ожидая своего жребия. Пускай же Национальный Конвент примет это предостережение и осознает свои обязанности. Пусть он весь, как один человек, примется за работу, но не потоками парламентского красноречия, а другим, более целесообразным способом!
Комиссары Конвента, "представители в командировках", мчатся, подобно посланнику богов Меркурию, во все концы Франции, развозя приказы. В своих "круглых шляпах, украшенных трехцветными перьями и развевающейся трехцветной тафтой, в узких куртках, в трехцветных шарфах, со шпагой у бедра и в жокейских ботфортах" эти люди могущественнее королей или императоров. Они говорят каждому, кого бы ни встретили: "Делай", и он должен делать. Все имущество граждан в их распоряжении, так как Франция - огромный осажденный город. Они разоряют людей реквизициями и принудительными займами; они имеют власть над жизнью и смертью. Сен-Жюст и Леба приказывают богатым жителям Страсбурга "снять сапоги" и послать их в армию, где нужны "10 тысяч пар сапог". Приказывают также, чтобы в двадцать четыре часа "тысяча постелей" были готовы30, завернуты в рогожи и отправлены, так как время не терпит! Подобно стрелам, вылетающим с мрачного Олимпа общественного спасения, несутся эти люди, большей частью по двое, развозят громовые приказы Конвента по Франции, делают Францию одной огромной революционной грозовой тучей.
Глава шестая. ИСПОЛНЯЙ СВОЙ ДОЛГ
Наряду с кострами из церковных балюстрад и звуками расстрела и потоплений возникает другой род огней и звуков: огни кузниц и пробные залпы при выделке оружия.
Республика, отрезанная от Швеции и остального мира, должна выучиться сама изготовлять для себя стальное оружие, и с помощью химиков она научилась этому. Города, знавшие только железо, теперь знают и сталь; из своих новых темниц в Шантильи аристократы могут слышать шум нового горна для стали. Колокола превращаются в пушки, железные стойки - в холодное оружие (arme blance) посредством оружейного мастерства. Колеса Лангре визжат среди огненного венца искр, шлифуя только шаги. Наковальни Шарльвиля звенят от выделки ружей. Да разве только Шарльвиля? 258 кузниц находятся под открытым небом в самом Париже, 140 из них - на эспланаде Инвалидов, 54 - в Люксембургском саду: вот сколько кузниц в работе! Умелые кузнецы выковывают замки и дула. Вызваны по реквизиции часовщики, чтобы высверливать отверстия для запалов, исполнять работу по выпиливанию деталей. Пять больших барж покачиваются на якоре в водах Сены, среди шума буравления; большие гидравлические коловороты терзают слух окружающих своим скрипом. Искусные мастера-резчики шлифуют и долбят, и все работают сообразно своим знаниям; на языке надежды это означает "в день можно изготовить до тысячи мушкетов". Химики Республики научили нас чудесам быстрого дубления кож32; сапожник прокалывает и тачает сапоги - не из "дерева и картона", иначе он ответит перед Тенвилем! Женщины шьют палатки и куртки; дети щиплют корпию, старики сидят на рынках; годные люди - в походе; все завербованы; от города до города развевается по вольному ветру знамя со словами: "Французский народ восстал против деспотов!"
Все это прекрасно. Но возникает вопрос: как быть с селитрой? Нарушенная торговля и английский флот прекратили доставку селитры, а без селитры нет пороха. Республиканская наука снова в раздумье, открыв, что есть селитра здесь и там, хотя в незначительном количестве; что старая штукатурка стен содержит некоторое количество ее; что в почве парижских погребов есть частицы ее, рассеянные среди обычного мусора, и если бы все это вырыть и промыть, удалось бы получить селитру. И вот, смотрите, граждане со сдвинутыми на затылок красными колпаками или без них, с мокрыми от пота волосами усиленно роют, каждый в своем погребе, чтобы получить селитру. Перед каждой дверью вырастает куча земли, гражданки корытами и ведрами уносят ее прочь; граждане, напрягая каждый мускул, выбрасывают землю и копают: ради жизни и селитры копайте, mes braves, и да сопутствует вам удача! У Республики будет столько селитры, сколько ей необходимо.
Завершение санкюлотизма имеет много особенностей и оттенков; но самый яркий оттенок, поистине солнечного или звездного блеска, - это тот, который представляют армии. Тот самый пыл якобинства, который внутри наполняет Францию ненавистью, подозрениями, эшафотами и поклонением Разуму, на границах выказывает себя как славное Pro patria mori. Co времени отступления Дюмурье при каждом генерале состоят три представителя Конвента. Комитет общественного спасения часто посылал их только с таким лаконичным приказом: "Исполняй свой долг" (Fais ton devoir). Замечательно, среди каких препятствий горит, как и другие подобные огни, этот огонь якобинства. У этих солдат сапоги деревянные и картонные, или же они в разгар зимы обуты в пучки сена, они прикрывают плечи лыковой циновкой и вообще терпят всякие лишения. Что за беда! Они борются за права французского народа и человечества: несокрушимый дух здесь, как и везде, творит чудеса. "Со сталью и хлебом, говорит представитель Конвента, - можно достичь Китая". Генералы, справедливо или нет, один за другим отправляются на гильотину. Какой же вывод отсюда? Среди прочих такой: неудача - это смерть, жизнь только в победе! Победить или умереть - в таких обстоятельствах не театральная фраза, а практическая истина и необходимость. Всякие жирондизмы, половинчатости, компромиссы сметены. Вперед, вы, солдаты Республики, капитан и рядовой! Ударьте со своим галльским пылом на Австрию, Англию, Пруссию, Испанию, Сардинию, на Питта, Кобурга, Йорка, на самого дьявола и весь мир! Позади нас только гильотина; впереди победа, апофеоз и бесконечный Золотой Век! Смотрите, как на всех границах сыны мрака в изумлении отступают после краткого триумфа, а сыны Республики преследуют их с диким "Ca ira!" или "Aux armes!". Марсельцы преследуют с яростью тигрицы или дьявола во плоти, которой ни один сын мрака не может противостоять! Испания, хлынувшая через Пиренеи, шелестя знаменами Бурбонов, и победоносно шествовавшая в течение года, вздрагивает при появлении этой тигрицы и отступает назад; счастлива была бы она теперь, если бы Пиренеи оказались непроходимыми. Генерал Дюгомье, завоеватель Тулона, не только оттесняет Испанию назад, он сам наводняет эту страну. Дюгомье вторгается в нее через Восточные Пиренеи; генерал Мюллер должен вторгнуться через Западные. Должен - вот настоящее слово; Комитет общественной безопасности произнес его; делегат Кавеньяк, посланный туда, должен наблюдать, чтобы оно было исполнено. "Невозможно!" кричит Мюллер. "Необходимо!" - отвечает Кавеньяк. Слова "трудно", "невозможно" бесполезны. "Комитет глух на это ухо, - отвечает Кавеньяк (n'entend pas de cette oreille la). Сколько людей, лошадей, пушек нужно тебе? Ты получишь их. Победим ли мы или будем побеждены и повешены, мы должны идти вперед"[89]. И все исполняется, как сказал делегат. Весна следующего года видит Испанию захваченной; редуты взяты, взяты самые крутые проходы и высоты. Испанские штаб-офицеры онемели от удивления перед такой отвагой тигрицы; пушки забывают стрелять. Пиренеи заняты; город за городом распахивают свои ворота, понуждаемые ужасом или ядрами. В будущем году Испания запросит мира; признает свои грехи и Республику; мало того, в Мадриде мир будет встречен с ликованием, как победа.
Мало кто, повторяем, имел большее значение, чем эти представители Конвента; их власть превышала королевскую. Да в сущности разве они не короли в своем роде, эти способнейшие люди, избранные из 749 французских королей с таким предписанием: "Исполняй свой долг!" Представитель Левассер, маленького роста, мирный врач-акушер, должен усмирять мятежи. Разъяренные войска (возмущенные до неистовства судьбой генерала Кюстина) бушуют повсюду; Левассер один среди них, но этот маленький представитель твердый, как кремень, который вдобавок заключает в себе огонь! При Гондшутене далеко за полдень он заявляет, что битва еще не потеряна, что она должна быть выиграна, и сражается сам своей родовспомогательной рукой; лошадь убита под ним, и этот маленький желчный представитель, спешившись, по колено в воде прилива, наносит и отражает удары шпагой, бросая вызовы земле, воде, воздуху и огню! Естественно, что его высочеству герцогу Йоркскому приходится отступить, даже во весь опор, словно из боязни быть поглощенным приливом, и его осада Дюнкерка сделалась сном, после которого осталось одно только реальное - большие потери превосходной осадной артиллерии и отважных людей.
Генерал Ушар, как окажется, прятался за забором во время этого дела при Гондшутене, вследствие чего он уже гильотинирован. Новый генерал Журдан, бывший сержант, принимает вместо него командование и в нескончаемых боях при Ватиньи "убийственным артиллерийским огнем, соединяющимся со звуками революционных боевых гимнов" заставляет Австрию вновь отступить за Самбру и надеется очистить почву Свободы. С помощью жестокой борьбы, артиллерийского огня и пения "Ca ira!" это будет сделано. Следующим летом Валансьен увидит себя осажденным, Конде - также осажденным; все, что еще находится в руках Австрии, окажется осажденным, подвергнутым бомбардировке; мало того, декретом Конвента всем им даже приказано "или сдаться в течение двадцати четырех часов, или подвергнуться поголовному истреблению"; громкие слова, которые, хотя и остаются неисполненными, показывают, однако, состояние духа.
Представитель Друэ, старый драгун, мог сражаться так, как будто война его вторая натура, но ему не повезло. В октябре во время ночного нападения при Мобеже австрийцы захватили его живым в плен. Они раздели его почти донага, говорит он, показывая его как главного героя захвата короля в Варенне. Его бросили в телегу и отправили далеко в глубь Киммерии, в крепость Шпильберг на берегу Дуная, где предоставили ему на высоте около 150 футов предаваться своим горьким размышлениям... но также и замыслам! Неукротимый старый драгун устраивает летательный снаряд из бумажного змея, перепиливает оконную решетку и решается слететь вниз. Он завладеет лодкой, спустится вниз по течению реки, высадится где-то в татарском Крыму, в пределах Черного моря, или Константинополя a la Синдбад. Подлинная же история, заглянув далеко в глубь Киммерии, смутно различает необъяснимое явление. В глухую ночную вахту часовые Шпильберга едва не падают в обморок от ужаса: громадный, неясный, зловещий призрак спускается в ночном воздухе. Это национальный представитель, старый драгун спускается на бумажном змее, спускается, увы! слишком быстро. Друэ взял с собой маленький запас провизии, фунтов двадцать или около того, который ускорил падение; драгун упал, сломав себе ногу, и лежал, стеная, пока не настал день и не стало возможным ясно различить, что это не призрак, а бывший представитель.
Или посмотрите на Сен-Жюста на линиях Вейсембурга: по натуре это робкий, осторожный человек, а как он со своими наспех вооруженными эльзасскими крестьянами бросается в атаку! Его торжественное лицо сияет в отблеске пламени; его черные волосы и трехцветная тафта на шляпе развеваются по ветру! Наши линии при Вейсембурге были уже захвачены. Пруссия и эмигранты прорвались через них, но мы вновь завладели окопами Вейсембурга, и пруссаки с эмигрантами бегут обратно быстрее, чем пришли, отброшенные атаками штыков и бешеным "Ca ira!".
Ci-devant сержант Пишегрю, ci-devant сержант Гош, произведенные теперь в генералы, делали чудеса на театре войны. Высокий Пишегрю предназначался к духовному сану, был некогда учителем математики в бриеннской школе - самым замечательным учеником его был юный Наполеон Бонапарт. Затем он, не в самом миролюбивом настроении, поступил в солдаты, променял ферулу на мушкет, достиг служебной ступени, за которой уже нечего больше ожидать, но бастильские заставы, падая, пропустили его, и теперь он здесь. Гош помогал окончательному разрушению Бастилии; он был, как мы видели, сержантом Gardes Francaises, растрачивающим свое жалованье на ночники и дешевые издания книг. Разверзаются горы, заключенные в них Энцелады выходят на свободу, а полководцы, звание которых основано на четырех дворянских грамотах, унесены со своими грамотами ураганом за Рейн или в преддверие ада!
Пусть вообразит себе читатель, какие высокие военные подвиги совершались в этих четырнадцати армиях; как из-за любви к свободе и надежды на повышение низкорожденная доблесть отчаянно пробивала себе дорогу к генеральскому званию и как от Карно, сидевшего в центре Комитета общественного спасения, до последнего барабанщика на границах люди боролись за свою Республику. Снежные покровы зимы, цветы лета продолжают окрашиваться кровью борцов. Галльский пыл растет с победами, к духу якобинства присоединяется национальное тщеславие. Солдаты Республики становятся, как мы и предсказывали, истинными сынами огня. С босыми ногами, с обнаженными плечами, но с хлебом и сталью можно достичь Китая! Здесь одна нация против всего мира, но нация, носящая в себе то, чего не победит целый мир! Удивленная Киммерия отступает более или менее быстро, всюду вокруг Республики поднимается пламенеющее, как бы магическое, кольцо мушкетных залпов и "Ca ira!". Король Пруссии, как и король Испании, со временем признает свои грехи и Республику и заключит Базельский мир[90].
Заграничная торговля, колонии, фактории на востоке и на западе попали или попадают в руки господствующего на море Питта, врага человеческого рода. Тем не менее что за звук доносится до нас 1 июня 1794 года, звук, подобный грому войны и вдобавок гремящий со стороны океана? Это гром войны с вод Бреста: Вилларе Жуайез и английский Хоу после долгих маневров выстроились там друг против друга и изрыгают огонь. Враги человеческого рода находятся в своей стихии и не могут быть побеждены, не могут не победить. Яростная канонада продолжается двенадцать часов; солнце уже склоняется к западу сквозь дым битвы: шесть французских кораблей взяты, битва проиграна; все корабли, которые еще в состоянии поднять паруса, обращаются в бегство! Но что же такое творится с кораблем "Vengeur". Он не стреляет более и не унывает. Он поврежден, он не может плыть, а стрелять не хочет. Ядра летят на него, обстреливая его нос и корму со стороны победивших врагов; "Vengeur" погружается в воду. Сильны вы, владыки морей, но разве мы слабы? Глядите! Все флаги, знамена, гюйсы, всякий трехцветный клочок, какой только может подняться и развеваться, с шумом взвивается вверх; вся команда на верхней палубе - и с общим, доводящим до безумия ревом кричит: "Vive la Republique!", погружаясь и погружаясь в воду. Корабль вздрагивает, кренится, качается как пьяный; бездонный океан разверзается, и "Vengeur" скрывается в бездне непобедимый, унося в вечность свой крик: "Vive la Republique!"36 Пускай иностранные деспоты подумают об этом! Есть что-то непобедимое в человеке, когда он отстаивает свои человеческие права; пускай все деспоты, все рабы и народы знают это, и только у тех, кто опирается на человеческую несправедливость, это вызывает трепет! Вот какой вывод, ничтоже сумняшеся, делает история из гибели корабля "Vengeur".
Читатель! Мендес Пинто, Мюнхгаузен, Калиостро, Салманасар были великими людьми, но не самыми великими. О Барер, Барер, Анакреон гильотины! Должна ли любознательная и живописующая история в новом издании еще раз спросить: "Как же было с "Vengeur", при этом славном самоубийственном потоплении?" И мстительным ударом зорко очернить тебя и его. Увы, увы! "Le Vengeur" после храброй битвы погрузился точно так же, как это делают все другие корабли; капитан и более 200 человек команды весьма охотно спаслись на британских лодках, и этот беспримерный вдохновенный подвиг и эхо "громоподобного звука" обращаются в нечто беспримерное и вдохновенное, но несуществующее, не находящееся нигде, за исключением мозга Барера! Да, это так. Все это, основанное, подобно самому миру, на фикции, подтвержденное донесением Конвенту, его торжественными декретами и предписаниями и деревянной моделью корабля "Vengeur", все это, принятое на веру, оплаканное, воспеваемое всем французским народом до сего дня, должно рассматриваться как мастерская работа Барера, как величайший, наиболее воодушевляющий образец blague (лжи) из всех созданных за эти несколько столетий каким бы то ни было человеком или нацией. Только как таковое, и не иначе, будет это памятно отныне.
Глава седьмая. ОГНЕННАЯ КАРТИНА
Так, пламенея безумным огнем всевозможных оттенков, от адски-красного до звездно-сверкающего, сияет это завершение санкюлотизма.
Но сотая часть того, что сделано, и тысячная того, что было запланировано и предписано сделать, утомили бы язык истории. Статуя Peuple Souverain вышиной со Страсбургскую колокольню, бросающая тень от Пон-Неф на Национальный сад и зал Конвента, - громадная, но существующая только в воображении художника Давида! Немало и других таких же громадных статуй осуществилось только в бумажных декретах. Даже сама статуя Свободы на площади Революции остается еще гипсовой. Затем уравнение мер и весов десятичным делением; учебные заведения, музыка и всякое другое обучение вообще: Школа искусств, Военная школа, Eleves de la Patrie, Нормальные школы - все это среди такого сверления пушечных дул, сжигания алтарей, выкапывания селитры и сказочных усовершенствований в кожевенном деле, все это остается еще в проектах!
Но что делает этот инженер Шапп[91] в Венсеннском парке? В этом парке и дальше, в парке убитого депутата Лепелетье де Сен-Фаржо, и еще дальше, до высот Экуана и за ними, он установил подмостки, поставил столбы; деревянные фигуры наподобие рук с суставчатыми соединениями болтаются и движутся в воздухе чрезвычайно быстро и весьма таинственно! Граждане сбегаются и глядят подозрительно. Да, граждане, мы подаем сигналы: это хитрая выдумка, достойная мешков; по-гречески это будет названо телеграфом. "Telegraphe sacre! - отвечают граждане. - Чтобы писать изменникам, Австрии?" - И разбивают его. Шапп принужден скрыться и добыть новый законодательный декрет. Тем не менее он осуществил свою идею, этот неутомимый Шапп: его дальнописание с деревянными руками и суставчатыми соединениями может понятно передавать сигналы, и для него установлены ряды столбов до северных границ и в других местах. В один осенний вечер года второго, когда дальнописатель только что известил, что город Конде пал, Конвент послал с Тюильрийского холма следующий ответ в форме декрета: "Имя Конде изменяется на Nord Libre (Свободный Север). Северная армия не перестает быть достойной родины". Да, удивляются люди! А через какие-нибудь полчаса, когда Конвент еще заседает, приходит такой ответ: "Извещаю тебя, гражданин председатель, что декрет Конвента, повелевающий изменить название Конде на Свободный Север, и другой, объявляющий, что Северная армия не перестает оставаться вполне достойной родины, переданы и объявлены по телеграфу. Я приказал моему ординарцу в Лилле препроводить их в Свободный Север с нарочным. Подписано Шапп".
Или взгляните на Флерюс[92], в Нидерландах, где генерал Журдан, очистив почву Свободы и зайдя очень далеко, как раз собирается приступить к сражению и смести или быть сметенным; не висит ли там под небесным сводом некое чудо, видимое австрийцами простым глазом и в подзорные трубы: чудо, похожее на огромный воздушный мешок с сеткой и огромной чашкой, висящей под ним. Это весы Юпитера, о вы, австрийские подзорные трубы! Одна из чашек весов, ваша бедная австрийская чашка, отскочила совсем вверх, за пределы зрения! Клянусь небом, отвечают подзорные трубы, это воздушный шар Монгольфье, и он подает сигналы. Австрийская батарея лает на этот воздушный шар, как собака на луну - без всякого результата: шар продолжает подавать сигналы; обнаруживает, где может находиться австрийская засада, и спокойно спускается. Чего только не выдумают эти дьяволы во плоти!
В общем, о читатель, разве это не одна из самых странных, когда-либо вырисовывавшихся огненных картин, вспыхивающая на фоне мрака гильотины? А вечером - 33 театра и 60 танцевальных залов, полных веселящихся Egalite, Fraternite и "Карманьолы". И 48 секционных комитетских залов, пропахших табаком и водкой, подкрепляемых ежедневными 40 су, они задерживают подозрительных. И 12 тюрем для одного Парижа, они не пустуют, они даже переполнены! И для каждого шага вам необходимо ваше "свидетельство о гражданстве", хотя бы только для того, чтобы войти или выйти; более того, без него вы не получите и за деньги вашу ежедневную порцию хлеба. Около булочных - вереницы в красных колпаках, они не молчат, так как цены все еще высоки, поддерживаемые обнищанием и смутой. Лица людей омрачены взаимной подозрительностью. Улицы остаются неметеными; дороги не исправляются. Закон закрыл свои книги и говорит мало или экспромтом устами Тенвиля. Преступления остаются ненаказанными, но только не преступления против революции. "Число подкинутых детей, как вычисляют некоторые, удвоилось".
Молчит теперь роялизм; молчат аристократизм и все почтенное сословие, державшее свои кабриолеты. Почестью и безопасностью пользуется теперь бедность, а не богатство. Гражданин, желающий следовать моде, выходит на прогулку об руку со своей женой в красном вязаном колпаке, грубом черном кафтане и полной карманьоле. Аристократизм прячется в последние оставшиеся убежища, подчиняясь всем требованиям, неприятностям, вполне счастливый, если ему удается спасти жизнь. Мрачные замки без крыш, без окон смотрят на прохожих по сторонам дороги; национальный разрушитель разграбил их для свинца и камня. Прежние владельцы в отчаянии бегут за Рейн, в Конде, представляя любопытное зрелище для мира. Ci-devant сеньор с утонченным вкусом сделался превосходным ресторанным поваром в Гамбурге; ci-devant madame, отличавшаяся изяществом туалета, - хорошо торгующею marchande de modes в Лондоне. На Ньюгет-стрит вы встречаете маркиза M. le Marquis с тяжелой доской на плечах, стругом и рубанком под мышкой: он занялся столярным ремеслом - нужно же чем-нибудь жить (faut vivre). Больше всех других французов преуспевают теперь, в дни бумажных денег, торговцы процентными бумагами. Фермеры также процветают. "Дома фермеров, говорит Марсье, - стали похожи на лавки ростовщиков"; здесь скопились все предметы домашней обстановки, костюмы, золотые и серебряные сосуды; теперь дороже всего хлеб. Доход фермера - бумажные деньги, и он один из всех имеет хлеб; фермер чувствует себя лучше, чем лендлорд, и сам сделается лендлордом.
И как уже говорилось, каждое утро молчаливо, подобно мрачному призраку, проезжает среди этой суеты революционная повозка, словно пишущая на стелах свое "мене", "мене". Ты взвешен на весах и найден очень легким! К этому призраку люди относятся равнодушно, к нему уже привыкли, жалобы не доносятся из этой колесницы смерти. Слабые женщины и ci-devants в своем поблекшем оперении сидят безмолвно, уставившись глазами вперед, как бы в темное будущее. Иногда тонкие губы искривляются иронией, но не произносят ни слова, и телега движется дальше. Виновны они перед небом или нет - перед революцией они, конечно, виновны. Притом разве Республика не "чеканит деньги" из них своим большим топором? Красные колпаки ревут с жестоким одобрением; остальной Париж смотрит если со вздохом, то уж и этого много; нашим ближним, которыми завладели мрачная неизбежность и Тенвиль, вздохи уже не помогут.
Отметим еще одну или, вернее, две вещи, не более: белокурые парики и кожевенное производство в Медоне. Много было толков об этих белокурых париках (perruques blondes). О читатель, они сделаны из волос гильотинированных женщин! Локонам герцогини, таким образом, может быть, случится покрывать череп кожевника; ее белокурому германскому франкизму его черный галльский затылок, если он плешив. Или, быть может, эти локоны носят с любовью, как реликвии, делая носящего подозрительным? Граждане употребляют их не без насмешки весьма каннибальского толка.
Еще глубже поражает сердце человека кожевенная мастерская в Медоне, не упомянутая среди других чудес кожевенного дела! "В Медоне, - спокойно говорит Монгайяр, - существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши", служившая для брюк и для другого употребления. Кожа мужчины, добавляет он, превосходила прочностью и иными качествами кожу серны; женская же кожа почти ни на что не годилась - ткань ее была слишком мягкой! История, оглядываясь назад, на каннибализм от пилигримов (Purchase's Pilgrims) и всех ранних и позднейших упоминаний о нем, едва ли найдет в целом мире более отвратительный каннибализм. Ведь это утонченный, изощренный вид, так сказать perfide, коварный! Увы! Цивилизация все еще только внешняя оболочка, сквозь которую проглядывает дикая, дьявольская природа человека. Он все еще остается созданием природы, в которой есть как небесное, так и адское.
Книга VI. ТЕРМИДОР
Глава первая. БОГИ ЖАЖДУТ
Что же это за явление, называемое революцией, которое, подобно ангелу смерти, нависло над Францией, топя, расстреливая, сражаясь, сверля дула, выделывая человеческие кожи? Слово "революция" - это лишь несколько букв алфавита; революция же - это явление, которым нельзя овладеть, которое нельзя запереть под замок. Где оно находится? Что оно такое? Это безумие, которое живет в сердцах людей. Оно и в том, и в другом человеке; как ярость или как ужас оно во всех людях. Невидимое, неосязаемое, и, однако, никакой черный Азраиль[93], распростерший крылья над половиной материка и размахивающий мечом от моря до моря, не мог бы быть большей действительностью.
Объяснять, как вообще понимается объяснение, развитие этого революционного правительства - не наша задача. Человек не может объяснить этого. Паралитик Кутон, спрашивающий якобинца: "Что ты сделал, чтобы быть повешенным, если бы победила контрреволюция?"; мрачный Сен-Жюст, не достигший и 26 лет, объявляющий, что "революционеры найдут покой только в могиле"; зеленоликий Робеспьер, превратившийся в уксус и желчь; кроме того, Амар и Вадье, Колло и Бийо - как знать, какие мысли, предопределения или предвидения могли быть в головах этих людей! Упоминания об их мыслях не осталось; смерть и мрак окончательно смели их. Но если бы мы и знали их мысли, все, которые они могли бы ясно выразить нам, какая бы это была малая часть всего того, что осуществилось или было провозглашено по данному ими сигналу! Уже не раз говорилось, что это революционное правительство было не сознательное, а слепое, роковое. Каждый человек, окунувшийся в окружающий его воздух революционного фанатизма, стремится вперед, увлекаемый и увлекающий, и становится слепой, грубой силой; да, для него нет отдыха, кроме успокоения в могиле! Мрак и тайна ужасной жестокости скрывают его от нас в истории, как и в природе. Эта хаотическая грозовая туча со своей непроглядной тьмой, со своим блеском ослепительных молний, падающих зигзагами, в наэлектризованном мире; кто возьмется объяснить нам, как это подготовлялось, какие тайны скрывались в темных недрах тучи, из каких источников, с какими особенностями молния, содержащаяся там, падала в смутном блеске террора, разрушительная и саморазрушающаяся, пока это не кончилось? Не подобна ли в сущности природа пожирающего самое себя санкюлотизма мраку Эреба, который волею провидения поднялся на время в царство лазури? Можно только различить, что из этого мрака Эреба исходят, следуя одно за другим, почти не вызванные чьей-либо волей, но в силу великой необходимости, то ослепительная молния, то огненный поток, разрушительные и саморазрушающиеся, пока не наступит конец.
Роялизм уничтожен, "погружен", как говорят, "в тину Луары"; республиканизм господствует внутри и вовне. Что же мы видим 15 марта 1794 года? Арест, неожиданный как гром среди ясного неба, настигает такие жертвы, как Эбер (Pere Duchesne), книгопродавец Моморо, клерк Венсан, генерал Ронсен, высокопатриотичные кордельеры, наряженные в красные колпаки, должностные лица Парижа, почитатели Разума, командующие революционной армией! Каких-нибудь восемь дней назад их Клуб кордельеров сотрясался невиданными патриотическими речами. Эбер "сдерживал свой язык и негодование в течение этих двух месяцев при виде умеренных, тайных роялистов, Камиллов, Scelerats в самом Конвенте, но не мог сдерживаться долее; прибегнул бы, если бы не оказалось другого средства, к священному праву восстания". Так говорил Эбер в собрании кордельеров под гром аплодисментов, от которых дрожали своды зала. Это было каких-нибудь восемь дней назад, а теперь, теперь! Они протирают глаза: нет, это не сон, они находятся в Люксембургской тюрьме. Среди них и простофиля Гобель; и это они, сжигавшие церкви!
Сам Шометт, могущественный прокурор, agent national, как его называют теперь, который мог "узнавать подозрительных по лицу", остается на свободе только три дня; на третий день он также брошен в тюрьму. Осунувшийся, посиневший, входит этот agent national в то самое преддверие ада, куда он послал столько людей. Заключенные толпятся вокруг него, издеваясь. "Верховный национальный агент, - говорит один, - именем твоей бессмертной прокламации, смотри! Я подозрителен, ты подозрителен, он подозрителен, мы подозрительны, вы подозрительны, они подозрительны!"
Что же все это значит? А то, что открыт широко разветвленный заговор, все нити которого находятся уже в руках Барера. Что могло вызвать такие скандальные явления, как сжигание церквей и атлетические маскарады, способные сделать революцию отвратительной, как не золото Питта? Питт, несомненно; он, как показывает сверхъестественно-проницательное изучение предмета, подкупил эту партию Eranges, чтобы они разыгрывали свои фантастические плутни; гремели в своем Клубе кордельеров против умеренных; печатали своего "Pere Duchesne", поклонялись Разуму в голубом платье и красном колпаке; грабили алтари и приносили нам награбленное!
Еще более несомненно и очевидно даже простому человеческому глазу, что Клуб кордельеров сидит бледный от злобы и страха и что он "предал забвению Права Человека" без результата. Но и якобинцы, видимо, пребывают в сильном смущении и заняты "самоочисткой", как они это неоднократно делали во времена заговоров и народных бедствий. И не один Камиль Демулен навлек на себя подозрения; слышится ропот и против самого Дантона, но Дантон окриком заставил замолчать обвинителей, и Робеспьер положил конец недоразумению, "обняв его на трибуне".
Кому же может теперь довериться Республика и ревностно охраняющая ее Мать патриотизма, в эти времена соблазнов и сверхъестественной проницательности? Так как существует заговор иностранцев, заговор умеренных, заговор "бешеных", всевозможные заговоры, ясно, что вокруг нас сети, протянутые повсюду, смертоносные западни и ловушки, созданные золотом Питта! Неподкупный Робеспьер устранил Клоотса, так называемого оратора человечества с его "Доказательствами магометанской религии" и лепетом о всемирной республике, и барон Клоотс вместе с мятежным портным Пейном уже два месяца сидят в Люксембургской тюрьме как сообщники заговора иностранцев. Делегат Фелиппо изгнан, он возвратился из Вандеи с нелестным отзывом о бездельнике Россиньоле и о принятом нами способе усмирения восстания. Отрекись от своих слов, Фелиппо, отрекись, умоляем тебя! Но Фелиппо не хочет отречься - его устраняют.
Депутат Фабр д'Эглантин, знаменитый сотрудник календаря Ромма, изгнан из Конвента и заключен в Люксембургскую тюрьму. Его обвиняют в злоупотреблении своим депутатским званием, в мошеннических операциях "с деньгами Индской компании". В том же обвиняют Шабо и Базира, и все трое ждут в тюрьме своей участи. Исключен из Якобинского клуба и Вестерман, друг Дантона; он предводительствовал марсельцами 10 августа и славно сражался в Вандее, но так же нехорошо отозвался о негодяе Россиньоле, и счастье его, если и он не попадет в Люксембург! А с Проли и Гуцманом, сообщниками заговора иностранцев, уже покончено, равно как и с Перейрой, хотя он и бежал; "его взяли переодетым поваром в таверне". Я подозрителен, ты подозрителен, он подозрителен!
Великое сердце Дантона измучено всем этим. Он уехал в родной Арси на короткое время, чтобы отдохнуть от этих мрачных паучьих тенет, от этого мира жестокости, ужаса и подозрений. Приветствую тебя, бессмертная мать-природа, с твоей весенней зеленью, твоими милыми семейными привязанностями и воспоминаниями! Ты одна не изменяешь, когда все изменяет! Титан, молча, бродит по берегам журчащей Обе, в зеленеющих родных уголках, знавших его еще мальчиком, и размышляет, каким может быть конец всего этого.
Всего удивительнее то, что исключен Камиль Демулен. Приведенный выше вопрос Кутона может служить образчиком этого якобинского очищения: "Что ты сделал, чтобы быть повешенным, если бы победила контрреволюция?" Камиль знал, что ответить на этот вопрос, и все же он исключен! Правда, Камиль в начале прошлого декабря начал издавать новый журнал или серию памфлетов, озаглавленную "Vieux Cordelier" ("Старый кордельер"). Камиль, не боявшийся когда-то "обнимать Свободу на куче смертных тел", начинает теперь спрашивать: не должен ли среди стольких арестовывающих и карающих комитетов существовать "комитет милосердия"? "Сен-Жюст, - замечает он, - чрезвычайно торжественный молодой республиканец, который носит свою голову, как св. Дары или как истинное вместилище св. Духа". Камиль, этот старый кордельер, Дантон и он были из первых кордельеров - мечет огненные стрелы в новых кордельеров, этих Эберов, Моморо, с их крикливой жестокостью и низостями, как бог-солнце (бедный Камиль был поэт) в змия, рожденного из грязи.
Естественно, эбертистский змий шипел и извивался, угрожал "священным правом восстания" и, как мы видели, попал в тюрьму. Мало того, Камиль со своим прежним остроумием, находчивостью и грациозной иронией, переводя "из Тацита о царствовании Тиберия", пускает шпильки в самый "закон о подозрительных", делая его ненавистным. Два раза в декаду выходят его кипучие страницы, полные остроумия, юмора, гармоничной простоты и глубины. Эти страницы -одно из самых замечательных явлений той мрачной эпохи; они смело поражают сверкающими стрелами безобразия вроде головы, носимой, как св. Дары, или идолов Юггернавто, к великой радости Жозефины Богарне и других пяти с лишком тысяч подозрительных, наполняющих 12 парижских тюрем, над которыми еще брезжит луч надежды! Робеспьер, сначала одобрявший, не знает, наконец, что и думать, а затем решает со своими якобинцами, что Камиль должен быть исключен. Истинный республиканец по духу этот Камиль, но с самыми безрассудными выходками; аристократы и умеренные искусно развращают его; якобинизм находится в крайнем затруднении, весь опутанный заговорами, подкупами, западнями и ловушками врага рода человеческого Питта. Первый номер журнала Камиля начинается словами: "О Питт!"; последний помечен 15-м плювиоза года второго, т. е. 3 февраля 1794 года, и оканчивается следующими словами Моктесумы: "Les dieux ont soif (Боги жаждут)".
Но как бы то ни было, эбертисты сидят в тюрьме всего девять дней. 24 марта революционная колесница везет среди уличной суеты новый груз: Эбера, Венсана, Моморо, Ронсена, всего 19 человек; замечательно, что с ними сидит и Клоотс, оратор человечества. Все они собраны в кучу, в смешение неописуемых жизней и совершают теперь свой последний путь. Ничто не поможет: все они должны "посмотреть в маленькое окошко"; все должны "чихнуть в мешок" (eternuer dans le sac); как они заставляли это делать других, так заставят теперь их самих. Святая гильотина, думается мне, хуже, чем святые древних суеверий, это - святой, пожирающий людей. Клоотс все еще с видом тонкого сарказма старается шутить, излагать "аргументы материализма" и требует, чтобы его казнили последним; "он хочет установить некоторые принципы", из которых философия, кажется, до сих пор не извлекла никакой пользы. Генерал Ронсен все еще смотрит вперед с вызывающим видом, повелительным взором; остальные оцепенели в бледном отчаянии. Бедный книгопродавец Моморо, ни один аграрный закон еще не осуществился, они могли бы с таким же успехом повесить тебя в Эвре 20 месяцев назад, когда жирондист Бюзо помешал этому. Эбер (Pere Duchesne) никогда более не прибегнет в этом мире к священному праву восстания: он сидит уныло, с опущенной на грудь головой; красные колпаки кричат вокруг него, пародируя его газетные статьи: "Великий гнев Pere Duchesne'а!" Все они погибают, и мешок принимает их головы. В продолжение некоторого периода истории мелькают 19 призраков, невнятно крича и бормоча, пока забвение не поглотит их.
Сама революционная армия распущена на неделю по домам, так как генерал сделался призраком. Таким образом и заговор "бешеных" сметен с республиканской почвы, и здесь также удалось без вреда для себя уничтожить наполненные приманками ловушки этого Питта, и снова господствует радость по поводу раскрытого заговора. Стало быть, правда, что революция пожирает своих собственных детей? Всякая анархия по природе своей не только разрушительна.
Глава вторая. ДАНТОН, МУЖАЙСЯ!
За Дантоном между тем спешно послали в Арси: он должен возвратиться немедленно, кричал Камиль, кричал Фелиппо и друзья, чуявшие опасность в воздухе. Опасность немалая! Дантон, Робеспьер, главные продукты победоносной революции, очутились теперь лицом к лицу и должны выяснить, как они будут жить вместе, управлять вместе. Легко понять глубокое различие, разделявшее этих двух людей; легко понять, с каким страхом и чисто женской завистью глядела жалкая зеленоватая формула на необозримую реальность и становилась, глядя на нее, все зеленее! Реальность с своей стороны старалась не думать дурно об этом главном продукте революции, но в глубине души чувствовала, что продукт этот мало чем отличается от большого пузыря, широко раздутого популярностью; не человек это был, но жалкий неподкупный педант с логической формулой вместо сердца, иезуитского или методистско-священнического характера, полный искреннего ханжества, неподкупности, язвительности, трусости; бесплодный, как восточный ветер. Двух таких главных продуктов было слишком много для одной революции.
Друзья, дрожа при мысли о последствиях ссоры между ними - Робеспьером и Дантоном, заставляют их встретиться. "Справедливо, - сказал Дантон, скрывая сильное негодование, - обуздывать роялистов, но карать мы должны только тогда, когда этого требует польза Республики, и не должны смешивать невинного с виновным". "А кто сказал вам, - возразил Робеспьер с ядовитым взглядом, - что погиб хотя бы один невинный?" "Quoi, - сказал Дантон, круто повернувшись к своему другу Пари, прозвавшему себя Фабрицием, присяжному в Революционном трибунале. - Quoi, ни одного невинного не погибло? Что скажешь на это, Фабриций?"2 Друзья, Вестерман, этот Пари и другие убеждали его показаться, подняться на трибуну и действовать. Но Дантон не был склонен показываться - действовать или возбуждать народ ради своей безопасности. Это была беспечная, широкая натура, склонная к оптимизму и покою; он мог сидеть целыми часами, слушая болтовню Камиля, и ничего так не любил, как это. Друзья и жена уговаривали его бежать. "Куда бежать? отвечал он. - Если свободная Франция изгоняет меня, где же найдется для меня другое убежище? Нельзя унести с собой свою родину на подошвах своих сапог!" И Дантон продолжал сидеть. Даже арест его друга, Эро де Сешеля, члена Комитета общественного спасения, арестованного по приказу самого Комитета, не может поднять Дантона. В ночь на 30 марта присяжный Пари прибежал к нему с явно написанной в глазах тревогой: один клерк из Комитета общественного спасения сообщил ему, что приказ о задержании Дантона уже подписан и его должны арестовать в эту же ночь! Бедная жена, Пари и другие друзья в страхе, умоляют его бежать. Дантон помолчал, потом ответил: "Ils n'oseraient" (они не посмеют) - и не захотел принимать никаких мер. Бормоча: "Они не посмеют", он по обыкновению идет спать.
Однако на другой день, утром, по Парижу распространяется странный слух: Дантон, Камиль Демулен, Фелиппо, Лакруа накануне вечером арестованы! И это правда. Коридоры Люксембургской тюрьмы были переполнены: заключенные толпились в них, чтобы увидеть гиганта революции, входящего к ним. "Messieurs! - вежливо сказал Дантон. - Я надеялся в скором времени освободить всех вас отсюда; но вот я сам здесь, и неизвестно, чем это кончится". Слух разносится по всему Парижу; Конвент разбивается на группы, которые шепчутся с широко раскрытыми глазами: "Дантон арестован!" Кто же в таком случае в безопасности? Лежандр, поднявшись на трибуну, произносит с опасностью для себя слабую речь в его защиту, предлагая выслушать его (Дантона) у этой эстрады до предания суду, но Робеспьер сердито обрывает его: "Выслушали вы Шабо или Базира? Или у вас две меры и два веса?" Лежандр, съежившись, сходит с трибуны. Дантон, подобно другим, должен покориться своей судьбе.
Было бы интересно знать мысли Дантона в тюрьме, но ни одна из них не стала известной; в самом деле, немногие из таких замечательных людей остались настолько неизвестными нам, как этот титан революции. Слышали, как он произнес: "В это же время, двенадцать месяцев назад, я предложил учредить этот Революционный трибунал. Теперь я прошу прощения за это у Бога и у людей. Они все братья Каина; Бриссо желал, чтобы меня гильотинировали, как желает этого теперь Робеспьер. Я оставляю дело в страшной путанице (gachis epouvantable); никто из них ничего не смыслит в управлении страной. Робеспьер последует за мною; я увлекаю Робеспьера. О, лучше быть бедным рыбаком, чем вмешиваться в управление людьми". Молодая прелестная жена Камиля, обогатившая его не одними деньгами, бродит день и ночь вокруг Люксембургской тюрьмы, подобно бесплотному духу. Еще сохранились тайные письма к ней Камиля, покрытые следами ее слез. Слышали, как Сен-Жюст пробормотал: "Я ношу свою голову, как св. Дары, а Камиль, пожалуй, будет носить ее, как св. Денис".
Несчастный Дантон и ты, еще более несчастный, легкомысленный Камиль, некогда веселый Procureur de la Lanterne, вот и вы также дошли до предела мироздания, подобно Одиссею на границе Ада; смотрите в туманную пустоту за пределами мира, где человек видит бледную, бесплотную тень своей матери и думает: "Как не похоже настоящее на те дни, когда мать кормила и пеленала меня!" Дантон, Камиль, Эро, Вестерман и другие, странно смешанные с Базиром, с плутом Шабо, с Фабром д'Эглантином, с банкиром Фреем в одну пеструю кучу "Four-nee", как будут называть такие группы, -стоят, выстроенные в ряд перед эстрадой Тенвиля. Было это 2 апреля 1794 года. Дантону пришлось только три дня просидеть в тюрьме, так как время не ждет.
Как ваше имя, место жительства и тому подобное, спрашивает Фукье-Тенвиль, как требуют формальности. "Мое имя Дантон, - отвечает титан, - имя довольно известное в революции; моим местопребыванием скоро будет ничто (Le Neant), но я буду жить в Пантеоне истории". Человек старается в этом случае сказать что-нибудь сильное, все равно, в характере его это или нет! Эро де Сешель заявляет эпиграмматически, что он "сидел в этом зале, ненавистный парламентским деятелям". Камиль отвечает: "Мой возраст - это возраст bon Sanculotte Jesus[94], роковой для революционеров". О Камиль, Камиль! И, однако, ведь в этом божественном событии заключался, между прочим, самый роковой упрек, когда-либо сделанный на земле мирскому правосудию: "важнейший факт", как это называет набожный Новалис[95], "признание прав человека". Истинный возраст Камиля, кажется, 34 года. Дантон годом старше.
Каких-нибудь пять месяцев назад процесс 22 жирондистов был важнейшим, какой когда-либо приходилось вести Фукье-Тенвилю. Но вот ему приходится вести еще более важный, требующий всей его изворотливости, заставляющий трепетать его сердце, так как голос Дантона раздается теперь под этими сводами в страстных речах, потрясающих своей ярой искренностью, окрыленных гневом. Показания важнейших свидетелей он разбивает в прах одним ударом. Он требует, чтобы члены комитета сами выступили в качестве свидетелей и в качестве обвинителей; он "покроет их бесчестием". Он поднимается во весь свой огромный рост, встряхивает своей огромной черной головой; глаза его мечут молнии, зажигающие все республиканские сердца, так что сами галереи, хотя заполненные по билетам, шепчутся сочувственно и как бы готовы броситься вниз и поднять народ, чтобы освободить Дантона! Он громко жалуется на то, что его причислили к разряду Шабо, мошенников, биржевых спекулянтов, что его обвинительный акт - ряд пошлостей и ужасов. "Дантон прятался 10 августа? возражает он, подобно реву льва в тенетах. - А где те люди, которые побуждали его показаться в этот день? Где те возвышенные души, у которых он черпал энергию? Пусть они покажутся, эти мои обвинители; я требую этого, находясь в полной ясности ума, я сорву личины с трех пошлых негодяев (les trois plats coquins) - Сен-Жюста, Кутона, Леба, которые раболепствуют перед Робеспьером и ведут его к погибели. Пусть они явятся сюда; я обращу их в ничтожество, из которого им никогда не подняться!" Взволнованный председатель звонит, призывает к порядку строгим голосом. "Что тебе до того, как я защищаюсь! - кричит Дантон. - Право осудить меня останется за тобой. Голос человека, защищающего свою честь и жизнь, заглушит звон твоего колокольчика!" Так гремит Дантон все сильнее и сильнее, пока его львиный голос не "замирает в горле": слова не могут выразить того, что есть в этом человеке. Галереи зловеще ропщут. Первое дневное заседание окончено.
О Тенвиль и ты, председатель Герман, что вы будете делать? По строго революционному закону процесс может продолжиться еще два дня, но галереи уже ропщут. Что, если этот Дантон прорвет ваши сети? В самом деле, интересно было бы посмотреть. Ведь все висит на волоске. И что за сумятица наступила бы тогда! Судьи и подсудимый поменялись бы местами, и вся история Франции пошла бы другим путем! Ведь один Дантон мог бы еще попытаться управлять Францией. Только он, этот неукротимый бесформенный титан, да разве еще тот смуглый артиллерийский офицер в Тулоне, которого мы оставили делать свою карьеру на Юге.
Вечером второго дня, так как дело все более грозило принять дурной оборот, Фукье-Тенвиль и Герман, растерянные, бросаются в Комитет общественного спасения. Что тут делать? Комитет спешно издает новый декрет, в силу которого лица, оскорбляющие судей, "могут быть устранены от прений". В самом деле, разве не существует "заговора в Люксембургской тюрьме"? Ci-devant генерал Диллон и другие подозрительные вступили в заговор с женой Камиля с целью раздавать ассигнации, чтобы открыть тюрьмы и ниспровергнуть Республику. Гражданин Лафлот, сам подозрительный, но желающий получить свободу, донес об этом заговоре, и донос этот может принести плоды! На следующее утро послушный Конвент утверждает новый декрет, и комитет бросается с ним за помощью к Тенвилю, поставленному почти в безвыходное положение. Итак, hors de Debats (без прений), вы, дерзкие! Стража, исполняй свой долг! Таким образом, благодаря отчаянным усилиям комитета Фукье-Тенвиля, Германа, Леруа Dix Aout и всех славных присяжных, приложивших к этому весь ум и все силы, суд присяжных становится достаточно осведомленным, приговор постановлен, послан с курьером, изорван и растоптан ногами: смерть в этот же день. Это было 5 апреля 1794 года. Бедная жена Камиля может перестать бродить около тюрьмы. Даже более: пусть она поцелует своих бедных детей и приготовится сама войти в нее, чтобы последовать за мужем!
"Дантон гордо держался на колеснице смерти. Не то Камиль: прошла всего одна неделя, и все перевернулось вверх дном: ангел-жена оставлена плачущей; любовь, богатство, революционная слава - все оставлено у решетки тюрьмы; кровожадная чернь ревет теперь вокруг. Все это очевидно и, однако, так невероятно, словно бред сумасшедшего! Камиль борется и вырывается; движениями плеч он сбрасывает с себя камзол, который висит на нем привязанный; руки связаны. "Успокойтесь, мой друг, - говорит ему Дантон, не обращайте внимания на эту подлую чернь (laissez la cette vile canaille)". У подножия эшафота было слышно, как Дантон произнес: "О моя жена, моя дорогая возлюбленная, я никогда не увижу тебя больше!" Но он прервал себя словами: "Дантон, мужайся!" Он сказал Эро де Сешелю, подошедшему обнять его: "Наши головы встретятся там", в мешке палача. Его последние слова были обращены к самому палачу Сансону: "Ты покажешь мою голову народу; она стоит этого".
Так, подобно гигантской массе доблести, тщеславия, ярости, страстей, дикой революционной силы и мужества, отходит этот Дантон в неведомый мир. Он родился в Арси-на-Обе, в "добропорядочной фермерской семье". У него было много пороков, но не было худшего - шарлатанства. Не пустым формалистом, обманывающим себя и других, чуждым естественного чувства, был он, а настоящим человеком со всеми своими недостатками; человеком пылко-реальным, словно вышедшим из великого огненного чрева самой природы. Он спас Францию от герцога Брауншвейгского; он шел прямо своей крутой дорогой туда, куда она вела его, и будет жить в памяти людей многих поколений.
Глава третья. ТЕЛЕГИ
Не далее как через пять дней, 10 апреля, следуют новые 19 жертв, в том числе Шометт, Гобель, вдова Эбера, вдова Камиля Демулена. И они также проезжают свой роковой путь навстречу мрачной смерти. Робкая вдова Эбера плачет, вдова Камиля старается ободрить ее. О вы, благие небеса, лазурные, прекрасные, вечные за вашими временными бурями и тучами, неужели у вас нет жалости ко всем этим людям? Гобель, по-видимому, раскаялся, он просил отпущения грехов у священника, и умер так хорошо, как только мог умереть Гобель. Что касается Анаксагора Шометта, этой лысой головы, лишенной теперь своего красного колпака, то какая может быть для него надежда? Разве только та, что смерть есть "вечный сон"? Жалкий Анаксагор! Бог тебе судья, а не я!
Итак, Эбер погиб, погибли и эбертисты, грабившие церкви и поклонявшиеся голубой богине Разума в красном колпаке! Великий Дантон и дантонисты также исчезли. Они безмолвствуют в глубине катакомб. Ни один парижский муниципалитет, ни одна секта или партия того или другого оттенка не смеют теперь противиться воле Робеспьера и Комитета общественного спасения. Мэр Паш, недостаточно поторопившийся донести об этих заговорах Питта, может поздравлять теперь с открытием их; но как бы искренне ни делал он это, а пользы для него от этого мало. Его путь также лежит в Люксембургскую тюрьму. Временным мэром на его место назначен некто Флюрио-Леско, "архитектор из Бельгии"; по слухам, это человек, на которого можно положиться. Новым же национальным агентом стал Пайан, бывший присяжный, креатура Робеспьера.
Таким образом, мы замечаем, что это беспорядочное электрическое облако Эреба, революционное правительство, изменило несколько свою форму. Две массы, или два крыла, принадлежат к нему: верхняя - наэлектризованная масса бешеных кордельеров и нижняя - также наэлектризованная масса умеренных дантонистов и людей, не чуждых милосердия; эти две массы, осыпая друг друга молниями, так сказать, уничтожили одна другую. Как мы не раз замечали, облако Эреба имеет самоубийственное свойство и при неправильности зигзагов попадает своими молниями в самое себя. Но теперь, когда эти две несходные массы уничтожили одна другую, облако Эреба как бы достигло внутреннего спокойствия и низвергает свой адский огонь только на мир, лежащий под ним. Проще говоря, террор гильотины никогда не был так ужасен, как теперь. Топор Сансона стучит все быстрее и быстрее. Постепенно обвинения утрачивают благовидную форму; Фукье-Тенвиль выбирает из 12 тюрем то, что он называет "Fournees", охапками, десятка два или более человек зараз, и велит своим присяжным открывать по ним огонь рядами, feu de file, пока почва не будет очищена. Донос гражданина Лафлота о заговоре в Люксембургской тюрьме принес свои плоды. Если не существует никакого повода к обвинению человека или группы людей, то у Фукье-Тенвиля всегда есть в запасе заговор в тюрьме. И Сансон работает все проворнее и проворнее, отправляя, наконец, до шестидесяти и более человек в один раз. Это праздник смерти: ведь только мертвые не возвращаются.
О мрачный д'Эпремениль, что это за день 22 апреля, твой последний день! Этот зал дворца тот самый, где ты пять лет назад стоял в утренних сумерках, ораторствуя среди бесконечных, полных пафоса речей мятежного парламента, приговоренный вместе с д'Агу к ссылке на Гиерские острова. Эти стены все те же, но остальное: люди, мятеж, пафос, красноречие - смотри! - все это исчезло, подобно смутной толпе духов, подобно фантасмагории умирающего мозга. С д'Эпременилем, в том же траурном ряду телег, едут разные люди: здесь Шапелье, бывший популярный председатель Учредительного собрания, которого менады и Майяр встретили в собственной карете на Версальской дороге. Здесь Туре, также бывший председатель, автор конституционных законов; когда-то, давно, мы слышали, как он сказал громким голосом: "Учредительное собрание исполнило свою миссию!" Здесь и благородный старик Мальзерб, который, защищая Людовика, потерял способность говорить, подобно седой старой скале, неожиданно растаявшей, превратившись в воду; он молча едет на смерть вместе со своими родными - вместе с дочерьми, сыновьями и внуками своими, Ламуаньонами и Шатобрианами. Только один молодой Шатобриан бродит теперь среди племени начезов под рев Ниагарского водопада и ропот бесконечных лесов. Привет тебе, великая природа, дикая, но не лживая, не злая, не чудовищная мать. Ты не формула, не бешеный спор гипотез, парламентского красноречия, статей конституции и гильотины. Говори со мною, мать-природа, и пой моему больному сердцу свою чудесную бесконечную колыбельную песнь, и пусть все остальное пребудет вдали!
Вот и другой ряд телег, в котором находится Елизавета, сестра Людовика. Ее процесс был похож на все остальные: заговоры и заговоры! Это была одна из самых кротких, самых невинных женщин. С нею сидела, среди двадцати четырех других, когда-то робкая, а теперь мужественная маркиза де Крюссоль, относившаяся к ней с живейшею преданностью. У подножия эшафота Елизавета со слезами на глазах благодарила эту маркизу, выказывала печаль, что ничем не может наградить ее. "Ах, Madame, если бы ваше королевское высочество удостоили поцеловать меня, то все мои желания были бы исполнены". - "Очень охотно, маркиза, и от всего моего сердца". И вот они у подножия эшафота! Королевская семья сократилась до двух членов: девочки и маленького мальчика. Мальчик, некогда называвшийся дофином, был отнят у своей матери еще при ее жизни и отдан некоему ремесленнику Симону, кожевнику, служившему тогда при тюрьмах Тампля, чтобы воспитать его в принципах санкюлотизма. Тот научил его пить, ругаться, петь "Карманьолу". Симон попал теперь в муниципалитет, а бедный мальчик, спрятанный в одной из башен Тампля, из которой он от страха, растерянности и преждевременной дряхлости не хочет выходить, лежит, умирая среди грязи и "мрака", в рубашке, не менявшейся в течение шести месяцев. Так плачевно5 умирают, никем не оплаканные, только бедные дети, работающие на фабриках, и другие подобные бедняки.
Весна посылает свои зеленые листья и ясную погоду: светлый май светлее, чем когда-либо, а смерть не отдыхает. Знаменитый химик Лавуазье должен умереть; химик Лавуазье был в свое время генеральным откупщиком, а теперь все генеральные откупщики арестованы и должны дать отчет в своих доходах и умереть за то, что "замачивали для большего веса табак"6; Лавуазье просил дать ему еще две недели жизни, чтобы закончить некоторые опыты, но "Республика не нуждается в таковых"; топор должен исполнить свое дело. Циник Шамфор, читая надписи: "Братство или Смерть", замечает: "Это братство Каина"; его арестовывают, потом освобождают; потом, узнав, что его намерены снова арестовать, этот Шамфор наносит себе раны, зарезывается безумной, неверной рукой и не без труда достигает убежища смерти. Кондорсе был хорошо спрятан в продолжение этих месяцев, но глаза Аргуса подстерегают, ищут его. Убежище его сделалось опасным и для других, и для него самого; он должен снова бежать, прятаться в окрестностях Парижа, в лесах и каменоломнях. И вот в деревне Кламар в одно пасмурное майское утро появляется оборванец со всклокоченной бородой, изнуренный голодом, и требует себе завтрак в таверне. По виду подозрительный! "Слуга без места, говоришь ты?" Председатель комитета 40 су находит при нем Горация по латыни. "Не из тех ли ты cidevants, которые привыкли держать слуг? Подозрительный!" Его тащат немедленно, не дав окончить завтрака, в Бур-ла-Рен пешком; он лишается чувств от истощения, его сажают на крестьянскую лошадь; бросают в сырую тюремную камеру; наутро, вспомнив о нем, входят: Кондорсе лежит мертвый на полу. Они умирают быстро и исчезают, исчезают знаменитые люди Франции, гаснут, подобно затушенным огням в театре.
При таких обстоятельствах не странно ли, даже не трогательно ли, видеть, как город Париж высыпает в мягкие майские ночи на улицы для гражданской церемонии, которую называют "Souper Fraternel". Братским ужином? Добровольно или отчасти добровольно это делается по вечерам 12, 13 и 14 мая. На улице Сент-Оноре и на других главных улицах и площадях каждый гражданин выносит на вольный воздух свой ужин, какой доставил ему суровый maximum, и присоединяет его к ужину своего соседа; и за общим столом с веселыми огоньками и с подобающим количеством граненого стекла и другого убранства и лакомств обыватели скромно ужинают вместе, под кротким сиянием звезд. Взгляни на это, о ночь! С веселой заздравной чашей вина, чокаясь за царство Свободы, Равенства и Братства со своими женами, наряженными в лучшие ленты, со своими малютками, резвящимися вокруг, сидят граждане за скромным праздником любви. Ночь в своих обширных владениях нигде более не видит ничего подобного. О братья, отчего же царство братства не пришло? Оно пришло, оно должно прийти, говорят граждане, скромно чокаясь. Но, увы! Эти вечные звезды, не глядят ли они вниз, "подобно ясным взорам, горящим вечным состраданием к жребию человека"!
Одно печально, однако, - это то, что отдельные личности покушаются на убийства представителей народа. Представитель Колло д'Эрбуа, член самого Комитета общественного спасения, возвращаясь домой около часу ночи, вероятно отуманенный ликером, как это обыкновенно с ним бывает, встречен на лестнице криком "Scelerat!" и щелканьем пистолета, который при выстреле дает осечку, осветив на мгновение пару свирепых, расширенных зрачков, смуглое, страшно искаженное лицо, в котором можно узнать его маленького соседа гражданина Амираля, бывшего "клерка в отделе лотерей"! Колло кричит: "Убийство!" таким голосом, который способен разбудить всю улицу Фавар. Амираль спускает курок вторично, и пистолет опять дает осечку, затем бросается в свою квартиру и там после еще нескольких выстрелов из мушкета с таким же результатом сначала в себя, потом в арестовывающего его он схвачен и заключен в тюрьму. Негодующий человек этот маленький Амираль, с южным темпераментом и комплекцией, "с значительной мускульной силой". Он не отрицает, что намеревался "очистить Францию от тирана", даже сознается, что следил за самим Неподкупным, но избрал Колло, как более доступного!
Много было шума по этому случаю; много напыщенных поздравлений Колло и братских объятий в Якобинском клубе и в других местах. И однако, дух убийства оказывается заразительным. Спустя всего два дня, 23 мая, около 9 часов вечера, Сесиль Рено, дочь писчебумажного торговца, молодая женщина с кротким, цветущим лицом, является к токарю на улице Сент-Оноре и говорит, что желает видеть Робеспьера. Робеспьера нельзя видеть. Она непочтительно ворчит, ее задерживают. Она оставила корзинку в ближайшей лавке; в корзинке находят женское платье и два ножа! Бедная Сесиль, допрошенная Комитетом, объявляет, что она хотела посмотреть, "на что похож тиран". Платье же было "для моей собственной надобности в том месте, в которое я, наверное, направлюсь". - "Какое место?" - "Тюрьма и затем гильотина", - отвечает она. Такие факты являются следствием поступка Шарлотты Корде у народа, склонного к подражанию и мономании! Смуглые, желчные люди пробуют совершить подвиг Шарлотты, но их пистолеты не стреляют; кроткие, цветущие женщины пробуют то же самое и, только вполовину решившись, оставляют свои ножи в лавке.
О Питт и вы, заговорщики в чужих краях, неужели Республика никогда не будет иметь покоя, но постоянно будет раздираема полными приманок силками и проволоками взрывчатых снарядов? Смуглый Амираль, прелестная молодая Сесиль, и все знавшие их, и многие из тех, кто совсем не знал их, сидят под замком, ожидая расследования Тенвиля.
Глава четвертая. МУМБО-ЮМБО
Но что такое готовится в Национальном саду, бывшем Тюильрийском, в день декады, заменивший воскресенье, 20 прериаля, или 8 июня по старому стилю?
Весь город здесь в праздничных одеждах. Грязное белье исчезло вместе с эбертистами, хотя Робеспьер, например, никогда не имел неопрятного вида, его всегда видели элегантным и завитым, даже не без тщеславия, и комната его была вся украшена зеленолицыми портретами и бюстами. Как мы сказали, все бесчисленные граждане и гражданки одеты в праздничные платья; погода солнечная, веселое ожидание озаряет все лица. Присяжный Вилат дает завтрак многим депутатам в своем официальном помещении, в бывшем павильоне Флоры, и радуется благоприятной декаде, глядя на веселую толпу, на пышную июньскую зелень. В этот день, если будет угодно небу, мы получим новую религию, основанную на усовершенствованных антишометтовских принципах.
Поскольку католицизм был выжжен, а поклонение Разуму - гильотинировано, надо же было придумать какую-нибудь новую религию. Неподкупный Робеспьер, законодатель свободного народа, хочет быть, как в древности, также священнослужителем и пророком. Он облачился в заказанный для этого случая голубой камзол, белый шелковый жилет, вышитый серебром, черные шелковые брюки, белые чулки и башмаки с золотыми пряжками. Как председатель Конвента, он заставил его декретировать признание Верховного Существа и бессмертия души. Эти утешительные принципы объявлены указом как основа рациональной республиканской религии, и вот в эту благословенную декаду с помощью неба и художника Давида должен произойти первый акт поклонения новому божеству.
Итак, смотрите: после того как декрет утвержден и произнесена по этому поводу "самая тощая из пророческих речей, когда-либо произнесенных", Магомет Робеспьер, в голубом камзоле и черных брюках, завитой и тщательно напудренный, неся в руке букет цветов и колосьев, гордо выходит из зала Конвента; депутаты его следуют за ним, однако, как замечают, на некотором расстоянии. Сооружено нечто вроде амфитеатра или, вернее, возвышения, на котором сложены отвратительные статуи атеизма, анархии и тому подобного, возбуждающие благодаря небу и художнику Давиду отвращение во всех сердцах. К несчастью, однако, возвышение слишком тесно, и на вершине его не может уместиться и половина любопытных, вследствие чего поднимается неприличная толкотня и даже изменнический непочтительный шум. Тише, ты, Бурдон с Уазы! Молчи, или тебе придется плохо!
Зеленоликий первосвященник берет факел, подаваемый художником Давидом, бормочет еще несколько пышных, бессодержательных слов, которых, к счастью, нельзя расслышать, потом делает несколько решительных шагов перед лицом ожидающей Франции и прикладывает свой факел к атеизму и компании, которые, будучи сделаны из картона и облиты скипидаром, быстро сгорают. Из-под них поднимается "посредством механизма" несгораемая статуя Мудрости, которая по несчастной случайности оказывается немного закоптелой, но тем не менее она стоит на виду с невозмутимой ясностью.
А затем? Ну, затем следуют другие процессии, другие бессодержательные речи, и вот состоялся наш праздник в честь l'Etre Supreme; наша новая религия, худшая или лучшая, явилась! Брось на это один взгляд, читатель, не более. Это самая жалкая страница человеческих летописей. Или тебе известны еще более жалкие? Мумбо-юмбо африканских лесов кажется мне почтенным рядом с этим новым божеством Робеспьера, так как это сознательный мумбо-юмбо, знающий, что он всего лишь механизм. О зеленоликий пророк, несчастнейший из пузырей, надутый до того, что почти готов лопнуть, в какую безумную химеру среди реальностей превращаешься ты! Так этот смоляной факел из картона для зажигания фейерверков изображает чудодейственный жезл Аарона, который ты хочешь простереть над объятой кошмаром и адом Францией, и приказать ее египетским казням прекратиться? Исчезни ты вместе с ним! "(Avec ton Etre Supreme!) - сказал Бийо. - Tu commences a m'embeter, ты начинаешь надоедать мне с твоим высшим существом"10[96].
С другой стороны, Катерина Тео, бывшая служанка, 73 лет, исстари привыкшая пророчествовать и сидеть в Бастилии, сидит теперь в мезонине улицы Контрескарп, внимательно изучая Книгу Откровения по отношению к Робеспьеру, и находит, что этот удивительный, трижды могущественный Максимилиан действительно тот человек, которому, по словам пророка, суждено обновить землю. С нею сидят набожные старые маркизы, ci-devant почтенные дамы, среди которых неизбежно присутствует и бывший член Учредительного собрания тупоголовый Дом Герль. Так сидят они там, на улице Контрескарп, в таинственном обожании: Мумбо есть Мумбо, и Робеспьер пророк его. Замечательный человек этот Робеспьер. У него есть своя лейб-гвардия, состоящая из Tappe-durs, так сказать жестоко бьющих, пылких патриотов, вооруженных палками с железными наконечниками, и якобинцы целуют край его одежды. Многие восхищаются им, а иные и поклоняются ему, и он вполне достоин удивления всех людей.
Однако главный вопрос и надежда вот в чем: является ли этот праздник мумбо-юмбо в Тюильри предвестием, что деятельность гильотины ослабеет? Увы, до этого еще далеко! Как раз на другой день после празднества Кутон, один из трех "пустоголовых негодяев", велит поднять себя на трибуну и предъявляет пачку бумаг. Он предлагает, чтобы ввиду непрекращающихся заговоров Закон о подозрительных получил более широкое толкование и чтобы аресты продолжались с усиленной настойчивостью и были облегчены. А так как и работы будет при этом более, то Революционный трибунал должен быть расширен, вернее, разделен на четыре трибунала, каждый со своим председателем, со своим Фукье или заместителем Фукье. Все четыре будут работать одновременно, и все остатки формальностей и затяжек будут устранены. Таким образом, быть может, еще удастся справиться с работой. Таков этот нашумевший в свое время декрет от 22-го прериаля, предложенный Кутоном. При чтении его у самой Горы захватило дыхание от ужаса, и Рюан решился сказать, что если этот декрет пройдет без отсрочки и прений, то он, Рюан, как один из представителей, "разнесет себе череп". Напрасные слова! Неподкупный сдвинул брови, сказал несколько пророческих, роковых слов, - и Закон Прериаля вошел в силу. Опрометчивый Рюан рад, что череп его остался на своем месте. Значит, смерть и смерть! Фукье расширяет помещение своего суда, чтобы было место одновременно для 150 человек, и добывает усовершенствованную гильотину, работающую быстрее; он велит поставить ее в закрытом помещении возле своего суда. Тут уж сам Комитет общественного спасения признал нужным вмешаться и обуздать его. "Ты хочешь деморализовать гильотину?" - спросил Колло с упреком ("demoraliser le Supplice").
В самом деле этого можно опасаться; если бы республиканская вера не была так глубока, слова Колло уже оправдались бы. Посмотрите, например, "охапку" от 17 июня, партию в 54 человека! Здесь смуглый Амираль, пистолет которого дал осечку; здесь молодая Сесиль Рено со своим отцом, семьей, всеми близкими и родней, и вдова д'Эпремениля, и старый де Сомбрей из Дома инвалидов со своим сыном, бедный старый Сомбрей 73 лет! Дочь спасла его в сентябре, но только для этого! Пятьдесят четыре из заговора иностранцев! В красных рубашках и юбках, как убийцы и члены заговора иностранцев, они проезжают словно страшные красные видения, направляющиеся в страну теней.
Между тем народ на площади Революции и обитатели улицы Сент-Оноре начинают смотреть все мрачнее на эти бесконечные ряды телег, ведь и у республиканцев есть сердце. Гильотину переносят в одно место, потом в другое и, наконец, устанавливают на отдаленной юго-восточной окраине. Полагают, что у жителей предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо если и есть сердца, то очень жестокие.
Глава пятая. ТЮРЬМЫ
Пора, однако, бросить взгляд на тюрьмы. Когда Демулен предложил свой Комитет милосердия, в 12 парижских тюрьмах сидело 5 тысяч человек. С тех пор число это постепенно возрастало и дошло уже до 12 тысяч. Там находятся ci-devants роялисты; по большей части они республиканцы различных жирондистских, лафайетистских, антиякобинских оттенков. Наверное, никакое человеческое жилье или тюрьма не сравнялись бы в отношении грязи и отвратительного ужаса с этими двенадцатью арестными домами. Существует воспоминание о них, написанное по личному опыту: Memoires sur les prisons[97] это одна из самых страшных глав в жизнеописании человека.
Любопытно наблюдать, как при всех условиях существования между людьми устанавливаются известные порядки и, где бы ни собралось хоть два-три человека, там уже образуются формы совместной жизни, привычки, правила, являются манеры обхождения и разные удовольствия! Гражданин Куатан подробно описывает, как скудный обед из трав и падали съедался с благовоспитанными манерами и как при этом места уступались дамам; как сеньор и чистильщик сапог, герцогиня и кукольная портниха собирались вместе и рассаживались согласно правилам этикета. В тот час, когда "гражданки принимались за рукоделие, мы, уступая им стулья, стоя старались любезно беседовать или даже немного петь и играть на арфе". Не было недостатка в ревности, во вражде, даже и во флирте, и небезрезультатном.
Но, увы, постепенно даже рукоделия прекратились; начались тюремные заговоры, созданные гражданином Лафлотом и неестественной подозрительностью. Подозрительный муниципалитет отнимает у заключенных все необходимые принадлежности, все деньги и имущество; все металлические вещи бесцеремонно отнимаются, причем обыскиваются карманы, подушки, тюфяки; комиссары в красных колпаках входят в каждую камеру. Женские сердца полны негодования и отчаяния, когда у них отнимают даже наперстки. Старые монахини спорят, пронзительно кричат, просят, чтобы их тотчас убили. Крик не поможет! Лучше поступили два изобретательных гражданина, которые, желая сохранить одну или две принадлежащие им вещи, хотя бы только трубкочистку или иголку для штопания штанов, решились защищаться табаком. Заслышав, как хозяйничают в коридоре свирепые красные колпаки, хлопавшие дверьми, производя обыск, два гражданина тотчас начинают раскуривать свои трубки. Густой дым окутывает их. Красные колпаки, отворив дверь камеры и вдохнув этого дыма, разражаются кашлем и ругательствами. "Что с вами, господа, - кричат два гражданина, разве вы не курите? Разве трубка неприятна?" Но красные колпаки, ограничившись поверхностным обыском, убегают, хлопнув дверью. "Так вы не любите курить?" - кричат им вслед два гражданина. Бедные мои братья, граждане! Уж конечно в царстве братства не вас двоих стал бы я гильотинировать.
Жестокость усиливается, превращается в ужасную тиранию; тюремные заговоры зреют: эти заговоры в тюрьмах, как мы уже сказали, стали у Фукье-Тенвиля стереотипной формой обвинения, если за кем-нибудь не находилось никакой вины. Его суд сделался чем-то невероятным, признанным посмешищем, считавшимся только калиткой, через которую люди проходят к смерти. Его обвинения излагаются на бланках, имена вписываются потом. У него есть свои moutons (бараны), отвратительные предатели, шакалы, которые доносят и дают показания, чтобы продлить ненадолго собственную жизнь. Его "Fournees" приношения, говорит бесстыжий Колло, ни в коем случае не должны превышать шестидесяти; это его maximum. Ночью приезжают его телеги в Люксембургскую тюрьму с роковым барабанным боем и со списком завтрашней "Fournee". Заключенные бросаются к решетке, слушают, не находится ли в списке их имя. Глубокий вздох, если их имени там нет; еще один день жизни! Однако два или несколько десятков имен всегда стоят в нем. Обреченные поспешно прижимают к сердцу своих близких в последний раз и с коротким "прости", с влажными или сухими глазами садятся в телегу и уезжают. Эта ночь в Консьержери, а завтра, через дворец, ложно называемый Дворцом правосудия, на гильотину.
Беспечность, вызывающая легкомыслие, стоицизм если не силы, то слабости овладели всеми сердцами. Слабые женщины и ci-devants со своими локонами, еще не переделанными в белокурые парики, с кожей, еще не выделанной на брюки, привыкли "представлять гильотинирование" для препровождения времени. В фантастическом одеянии, в тюрбанах из полотенец, в горностаевых мантиях из одеял, сидит шуточный синедрион судей; мнимый Тенвиль говорит речь; преступник осужден и гильотинирован на двух опрокинутых стульях. Иногда мы продолжаем это далее: сам Тенвиль в свою очередь осужден, и не только на гильотину: рогатый и косматый сатана с черным лицом хватает его, кричащего, указывает ему протянутой рукой и словами на огонь, который не угасает, на змею, которая не умирает, на однообразие мук ада; и на вопрос его: "Который час?" - отвечает: "Вечность!"13
А тюрьмы все более и более наполняются, и все быстрее работает гильотина. По всем большим дорогам тянутся партии арестованных, направляемых в Париж. Теперь уж не роялисты - самые крикливые из них уничтожены, - теперь очередь за республиканцами. Они идут скованные по двое и в минуту отчаяния распевают свою "Марсельезу". Сто тридцать два человека из одного Нанта идут в эти дни в Париж, и это республиканцы, даже якобинцы, до мозга костей, но якобинцы, не одобрявшие потопления. Проходя по улицам городов, они кричат: "Vive la Republique!" - и ночуют в невыразимо отвратительных вертепах, набитых до того, что люди начинают задыхаться; одного или двоих наутро находят мертвыми. Они измучены дорогой, истерзаны душой и могут только кричать: "Да здравствует Республика!", за которую они умирают в каком-то ужасном, непонятном кошмаре.
Около 400 священников, о которых также упоминается, стоят на якоре "на рейдах острова Экс" на протяжении долгих месяцев и смотрят на бесплодные, безлюдные пески Олерона, слушая вечно стонущий прибой. В лохмотьях, грязные, голодные, ставшие тенью от истощения, они едят свою грязную порцию пальцами, сидя на палубе кружками по 12 человек; они выколачивают свои зловонные одежды между двумя камнями, задыхаются от ужасных испарений, запираемые в трюм на всю ночь по 70 человек в одной каюте, так что "один старый священник был найден мертвым наутро в молитвенной позе". Доколе, Господи!
Не вечно, нет. Всякая анархия, всякое зло, несправедливость по своей природе подобны зубам дракона, самоубийственны и не могут длиться.
Глава шестая. ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕРРОРА
Замечательно, что со времени праздника Верховного Существа и торжественных ночей по поводу его, которые начинали надоедать Бийо, Робеспьер редко появляется в Комитете общественного спасения и держится в стороне, как будто чем-то недовольный. Дело в том, что внесенный доклад о пророчествах старой Катерины Тео насчет человека, который возродит Францию, составлен не совсем в благоприятном для него духе. В комитете делают вид, что усматривают в тайне Тео заговор, но отзываются об этом сатирически, с непочтительной насмешкой, и не только по отношению к одной этой старухе, но и по отношению к самому возродителю Франции. Быть может, тут замешано бойкое перо Барера. Доклад этот, прочитанный торжественно гнусавым голосом старого Бадье из Комитета общественной безопасности, видимо, оказал свое действие: лица республиканцев скривились в ужасную усмешку. Разве допустимы подобные вещи?
Отметим далее, что среди заключенных в двенадцати тюрьмах находится знакомая нам синьора Фонтена, урожденная Кабаррюс, красивая Прозерпина, которой представитель Тальен, подобно Плутону, завладел в Бордо - не без последствий для себя! Тальен уже давно возвратился, отозванный из Бордо, и находится в самом плачевном положении. Тщетно тянет он громче, чем когда-либо, ноту якобинства, чтобы скрыть свои грехи: якобинцы исключают его; Робеспьер дважды произнес против него с трибуны Конвента зловещие слова. А теперь его прекрасная Кабаррюс, схваченная по доносу, сидит в тюрьме, заподозренная, несмотря на все его усилия. Запертая в ужасный загон смерти, синьора тайно пишет своему кроваво-мрачному Тальену самые настойчивые просьбы и заклинания: "Спаси меня, спаси себя! Разве ты не видишь, что твоя собственная голова осуждена? Ты слишком горяч и отважен, притом же дантонист; тебя не пощадит клевета. Разве не все вы осуждены, как в пещере Полифема; самый низкопоклонничающий раб из вас будет только последним съеден!" Тальен с содроганием чувствует, что это правда. Он уже получил предостережение, и Бурдон получил, и Фрерона ненавидят так же, как и Барраса: "каждый ощупывает свою голову, держится ли она еще на плечах".
Между тем Робеспьер, как мы сказали, редко показывается в Конвенте и никогда не показывается в комитете; говорит он только в своей якобинской палате лордов среди своих телохранителей, прозванных Tappe-durs. B продолжение этих "сорока дней", так как у нас теперь уже конец июля, он не казал глаз в комитет и влиял на его дела только через своих трех пустых негодяев, поддерживавших страх перед его именем. Сам же Неподкупный сидит в стороне или бродит по пустынным полям, погруженный в глубокую задумчивость; некоторые замечают, что "белки его глаз в красных крапинках"16 следствие разлития желчи. Бесконечно жалкая зеленоликая химера, бродящая по земле в этом июле! О злосчастная химера, ведь и у тебя была жизнь и было сердце из плоти, к чему привели тебя суровые боги, как будто улыбавшиеся тебе всю дорогу? Не ты ли немного лет назад был обещающим молодым адвокатом, который скорее отказался бы от своей судебной карьеры в Аррасе, чем приговорил к смерти хотя одного человека?
Каковы могут быть его мысли? Его планы, чтобы покончить с террором? Никто этого не знает. Носятся смутные слухи относительно аграрного закона: победоносный санкюлотизм становится земельным собственником; престарелые солдаты живут в национальных богадельнях и госпиталях, в которые обращены дворцы Шамбора и Шантильи; мир куплен победами, трещины замазаны праздником Etre Supreme (Верховного Существа); итак, через моря крови к равенству, умеренности, трудовому благосостоянию, братству и добродетельной республике. Благословенный берег, виднеющийся из моря аристократической крови! Но как пристать к нему? С последним валом: с валом крови развращенного санкюлотства, изменников или полуизменников, членов Конвента, мятежных Тальенов, Бийо, которым я надоел с моим Etre Supreme; с моей апокалиптической старухой, предметом насмешек! Вот что в голове у этого жалкого Робеспьера, похожего на зеленоликий призрак среди цветущего июля! О проектах его носятся смутные слухи, но, каковы были эти проекты или идеи в действительности, этого люди никогда не узнают.
Поговаривают, что очищаются новые катакомбы для страшной одновременной бойни: Конвент будет весь, до последнего человека, перебит генералом Анрио и компанией; якобинская палата лордов станет господствующей, и Робеспьер сделается диктатором. Правда или нет, но говорят, будто уже составлен список, в который удалось заглянуть парикмахеру, когда он завивал волосы Неподкупного. Каждый спрашивает себя: "Не там ли и я?" Как передают предание и анекдотичный слух, в один жаркий день у Барера был достопримечательный холостяцкий обед. Да, да, читатель, Барер и другие давали обеды, имели "дачи в Клиши" с довольно роскошной обстановкой и вообще наслаждались жизнью. Во время обеда, о котором мы говорим, день был очень жаркий, все гости сняли свои камзолы и оставили их в гостиной, после чего Карно, незаметно проскользнув туда, обыскал карманы Робеспьера и нашел список сорока и свое собственное имя среди них. Безотлагательно, в тот же день он объявил за чашей вина: "Проснитесь, друзья! Вы, глупые болотные лягушки, немые с тех пор, как пал жирондизм, даже вы должны теперь заквакать или умереть. Происходят ночные совещания, таинственные, как сама смерть, на которых объясняются знаками и словами. Не тигр ли Максимилиан крадется там, молчаливый, как всегда, с зелеными глазами, в красных пятнах, с выгнутой спиной и ощетинившейся шерстью?" Пылкий Тальен со своим порывистым темпераментом и смелой речью готов первый поднять тревогу. Назначьте день и не откладывайте, иначе будет поздно!
Но вот, еще до назначенного дня, 8-го термидора, или 24 июля 1794 года, Робеспьер сам появляется в Конвенте и всходит на трибуну! Желчное лицо его мрачнее обычного; судите, с интересом ли слушают его Тальены, Бурдоны. Это голос, предвещающий жизнь или смерть. Нескончаемо, немелодично, подобно крику совы, звучит этот пророческий голос: разлагающееся состояние республиканского духа, развращенный оппортунизм, сами комитеты спасения и безопасности заражены; отступление замечается то с той, то с другой стороны; я, Максимилиан, один остаюсь неразвращенным, готовым умереть, чтобы подать пример. Какое же может быть средство против всего этого? Гильотина, подкрепление энергии все исцеляющей гильотины; смерть изменникам всех оттенков! Так звучит пророческий голос под отражающими звуки сводами Конвента. Старая песня... Но сегодня, о небо! Разве своды перестали отражать? Нет отзвука в Конвенте! Лекуэнтр, старый торговец сукнами в Версале, в таких сомнительных обстоятельствах не видит более безопасного выхода, как подняться и "вкрадчиво" или невкрадчиво предложить, согласно установившемуся обычаю, чтобы речь Робеспьера "была напечатана и разослана по департаментам". Но слышите? Что это за резкие звуки, даже диссонансы? Почтенные члены как будто несогласны; члены комитетов, обвиненные в речи, протестуют, требуют "отсрочки печатания". Разлад слышен все явственнее; издатель Фрерон даже вносит запрос: "Что сталось со свободой мнений в этом Конвенте?" Принятое было постановление о напечатании и рассылке отменено. Робеспьер, позеленевший более, чем когда-либо, принужден удалиться побежденным; он понял, что это мятеж, что беда близка!
Мятеж - явление самое роковое в каких бы то ни было предприятиях, явление, не поддающееся расчету, быстрое, ужасное, с которым нельзя бороться, робея; но мятеж в Конвенте Робеспьера в особенности, это - огонь, вспыхнувший в пороховой камере корабля! Один отчаянно-смелый прыжок, и вы еще можете затоплять его, но промедлите одно мгновение, и корабль, и капитан его, команда и груз разлетятся далеко, и путешествие корабля неожиданно кончится между небом и землей. Если Робеспьер успеет в эту же ночь поднять Анрио и компанию и заставить их исполнить свой план, он и санкюлотизм еще могут существовать некоторое время; если нет, то им конец! Когда перед Оливером Кромвелем выступил из рядов агитатор-сержант и начал в качестве представителя многих тысяч возложивших на него надежды излагать жалобы на обиды, Кромвель своими свирепыми глазами тотчас увидел, как обстоит дело; он выхватил из кобуры пистолет и уничтожил агитатора, и мятеж прекратился в одно мгновение. Кромвелю было по плечу такое дело.
Что касается Робеспьера, то он пробирается вечером в свою якобинскую палату лордов, распространяется там вместо соответствующего решения о своих горестях, о своих необыкновенных добродетелях и неподкупности, о своей отвергнутой зловещей речи, потом читает ее вновь и объявляет, что он готов умереть ради предостережения. "Ты не должен умереть!" - кричит якобинство своими тысячами голосов. "Робеспьер, я выпью яд вместе с тобой!" - кричит художник Давид. "Je boirai la cique avec toi" - вещь несущественная, исполнять которую нет необходимости, но которая может быть произнесена в пылу мгновения.
Итак, якобинский резонатор действует! Гром рукоплесканий покрывает отвергнутую Конвентом речь, на всех якобинских лицах глаза горят огнем ярости: восстание - священный долг; Конвент должен быть очищен! С помощью всевластного народа, предводимого Анрио и муниципалитетом, мы устроим новое 2 июня. К твоим шатрам, Израиль! Вот в каком тоне поет якобинство в полном смятении восстания. Вон Тальена и всю оппозицию! Колло д'Эрбуа, хотя член Верховного комитета спасения, еще недавно едва не расстрелянный, осыпан бранью, толчками и рад, что успевает ускользнуть живой. Когда он вошел, весь растрепанный, в зал комитета, находившийся там в числе других мрачный Сен-Жюст спросил вкрадчивым голосом: "Что происходит у якобинцев?" ""Что происходит?" - повторяет Колло в нешуточном настроении Камбиса. - Бунт происходит, вот что! Бунт и всякие ужасы! Вам нужны наши жизни - вы не получите их!" Сен-Жюст бормочет что-то, запинаясь, при такой камбизовской речи и берет свою шляпу, чтобы удалиться. Доклад, о котором он говорил в комитете, доклад о республиканских делах вообще, который должен быть прочитан на другой день в Конвенте, он не может показать им в эту минуту: он оставил его у друга; он достанет его и пришлет, как только вернется домой. Но, придя домой, он посылает не доклад, а извещение, что он не пришлет его и что комитет услышит его завтра с трибуны.
Итак, пусть каждый, согласно известному благому совету, "молится богу и держит свой порох сухим!" Завтра Париж увидит нечто. Проворные разведчики носятся незаметные или невидимые всю ночь из одного комитета в другой, от собрания к собранию, от Якобинского клуба в Ратушу. Может ли сон смежить веки Тальену, Фрерону, Колло? Могущественный Анрио, мэр Флерио, судья Коффингаль, прокурор Пайан, Робеспьер и все якобинцы держатся наготове.
Глава седьмая. ПАДЕНИЕ
На другое утро, 9-го термидора, "около девяти часов", глаза Тальена блестят: он видит, что Конвент собрался. Париж полон слухов, но по крайней мере мы собрались здесь, в законном Конвенте; мы не были схвачены ни группами, ни поодиночке; не были остановлены в дверях очищающей метлой. "Allons, храбрые депутаты Равнины, недавние болотные лягушки!" - кричит Тальен, входя и пожимая руки. С трибуны слышится звучный голос Сен-Жюста; игра началась.
Сен-Жюст действительно читает свой доклад; зеленая месть в образе Робеспьера подстерегает вблизи. Посмотрите, однако: едва успел Сен-Жюст прочесть несколько фраз, как начинаются перерывы, идущие crescendo. Вскакивает Тальен, вторично поднимается со словами: "Граждане, вчера вечером, у якобинцев, я дрожал за Республику. Я сказал себе, что если Конвент не решится низложить тирана, то сделаю это я и с помощью вот этой вещи, если понадобится!" Он обнажает сверкающий кинжал и потрясает им: сталь Брута, вот как это называется. Тут все вскакивают, потрясают кулаками, кричат: "Тирания! Диктатура! Триумвират!" И члены Комитета общественного спасения обвиняют, все обвиняют, кричат или горячо аплодируют. Сен-Жюст стоит неподвижно с бледным лицом; Кутон произносит: "Триумвират?", бросив взгляд на свои парализованные ноги. Робеспьер пытается говорить, но председатель Тюрио звонит в колокольчик, мешая ему, и весь зал шумит, как чертог Эола. Робеспьер поднимается на трибуну, но должен сойти; он уходит и возвращается, его душат ярость, ужас, отчаяние... Теперь в порядке дня мятеж!19
О председатель Тюрио, ты, который был избирателем Тюрио; из бойниц Бастилии ты видел Сент-Антуан, поднимающийся, подобно приливу океана, видел с тех пор и многое другое; видел ли ты когда-либо что-нибудь подобное этому заседанию? Звон колокольчика, чтобы помешать Робеспьеру говорить, едва слышен среди этого шума Бедлама; люди неистовствуют, борясь за свою жизнь. "Председатель убийц, - кричит Робеспьер, - я требую от тебя слова в последний раз!" Оно не может быть дано. "К вам, добродетельные люди Равнины, - снова кричит он, улучив минуту тишины, - к вам взываю я!" Добродетельные люди Равнины сидят безмолвно, как скалы. А колокольчик Тюрио продолжает звонить, и зал гудит, как чертог Эола. Покрытые пеной губы Робеспьера посинели; сухой язык его прилипает к небу. "Кровь Дантона душит его!" кричат в зале. "Обвинение! Декретируйте обвинение!" Тюрио быстро ставит этот вопрос. Обвинение проходит; неподкупный Максимилиан обвинен.
"Я прошу позволения разделить участь моего брата; я всегда старался быть таким, как он!" - кричит Огюстен Робеспьер-младший. И он также обвинен. И Кутон, и Сен-Жюст, и Леба; все они обвинены и уведены, но не без труда: приставы повиновались почти с трепетом. Триумвират и компания отправлены в помещение Комитета общественного спасения; языки их прилипли к гортани. Теперь остается только созвать муниципалитет, уволить и арестовать командира Анрио и, выполнив все формальности, передать Тенвилю новые жертвы. Полдень. Чертог Эола освободился и звучит теперь победоносно, гармонично, как непреодолимый вихрь.
Значит, дело кончено? Так думают, но это неверно. Увы, кончился только первый акт; следуют еще три или четыре акта, а затем неведомый еще финал. Огромный город полон смятения, ведь в нем 700 тысяч человеческих голов, из которых ни одна не знает, что делает ее сосед, ни даже того, что сама она делает. Посмотрите, например, около трех часов пополудни на командира Анрио, как вместо того, чтобы быть смененным и арестованным, он галопирует по набережным в сопровождении муниципальных жандармов и "давит нескольких человек". В Ратуше совещается Совет города, открыто возмутившийся; городские заставы велено запереть; тюремщикам приказано не принимать в этот день ни одного обвиняемого, и Анрио скачет в Тюильри, чтобы освободить Робеспьера. На набережной Феррайери один молодой гражданин, прогуливающийся со своей женой, говорит громко: "Жандармы, этот человек не командир ваш более: он находится под арестом". Ударами шашек плашмя20 жандармы сбивают молодого гражданина с ног.
Самих представителей (как, например, Мерлена из Тионвиля), которые обращаются к Анрио, он приказывает отвести на гауптвахту. Он мчится по направлению к Тюильри, в помещение комитета, "чтобы поговорить с Робеспьером". Приставы и тюильрийские жандармы, обнажив сабли, с трудом задерживают его и успевают убедить его жандармов не сражаться. Наконец Робеспьера и компанию усаживают в наемные экипажи и отправляют под конвоем в Люксембургскую и другие тюрьмы. Значит, теперь конец! Нельзя ли утомленному Конвенту отсрочить заседание, чтобы отдохнуть и подкрепиться теперь, "в пять часов"?
Утомленный Конвент так и делает - и раскаивается в этом. Конец еще не наступил. Это только конец второго акта. Услышьте: пока усталые депутаты закусывают в этот летний вечер, на всех колокольнях раздается звон набата, к которому примешивается барабанный бой. Судья Коффингаль скачет с новым отрядом жандармов в Тюильри освобождать Анрио - и освобождает его! Могущественный Анрио вскакивает на лошадь, держит речь к тюильрийским жандармам, убеждает их и увлекает за собою к Ратуше.
Увы, Робеспьер не в тюрьме: тюремщик не посмел, под страхом смерти, нарушить приказ не принимать ни одного узника, и наемные кареты Робеспьера среди этой беспорядочной суеты и раздора нерешительных жандармов благополучно прибывают в Ратушу! Там сидят Робеспьер и компания, окруженные муниципалами и якобинцами, пользующимися священным правом восстания; они редактируют прокламации, велят звонить в набат и сносятся с секциями и с "Обществом - Мать". Разве это не эффектный третий акт настоящей греческой драмы? Предсказать развязку труднее, чем когда-либо.
Конвент опять поспешно собирается при надвигающейся зловещей ночи. Председатель Колло - так как его очередь председательствовать - входит большими шагами, с бледным лицом; надев шляпу, он говорит торжественным тоном: "Граждане, вооруженные негодяи осадили помещение комитета и завладели им. Для нас настал час умереть на своем посту!" "Да, - отвечают все. - Мы клянемся в этом!" Теперь это не хвастливая фраза, а грустный неизбежный факт: мы должны действовать на своем посту или умереть. Поэтому они тотчас объявляют Робеспьера, Анрио и муниципалитет мятежниками, лишенными покровительства закона, поставленными hors la loi (вне закона). Больше того, Баррас назначается командующим всеми вооруженными силами, какие найдутся; посылаем депутатов во все секции и кварталы проповедовать и набирать войска; умрем по крайней мере в своих доспехах.
Какая тревога в городе! Скачут верховые, бегут пешие с докладами, со слухами; это час родовых мук; дитя не может быть названо, пока не появилось на свет! Бедные узники в Люксембургской тюрьме слышат шум и трепещут, опасаясь повторения сентябрьских дней. Они видят людей, делающих им знаки, указывающих на слуховые окна и крышу; очевидно, это знаки надежды, но как угадать, что именно означают они?21 Однако мы видим под вечер колесницы смерти, по обыкновению едущие на юго-восток, через Сент-Антуанское предместье к заставе Трона. Грубые сердца сектантуанцев смягчаются; они окружают повозки, говорят, что этого не должно быть. О небо, ведь это правда! Но Анрио и жандармы, очищающие улицы, кричат, размахивая саблями, что так должно быть. Оставьте же надежду, вы, бедные осужденные. Повозки трогаются далее.
В этом ряду повозок следует заметить две вещи: присутствие одной замечательной личности и отсутствие другой, также значительной. Замечательная личность - это генерал-лейтенант Луазроль, человек благородный по рождению и по характеру, жертвующий своею жизнью за сына. В тюрьме Сен-Лазар в предыдущую ночь, бросившись к решетке, чтобы услышать чтение списка смерти, он расслышал имя своего сына. Тот спал в эту минуту. "Я Луазроль!" - крикнул старик перед трибуной Тенвиля. Ошибка в крестном имени мало значит - возражений почти не было. Отсутствующим значительным лицом был депутат Пейн. Он сидел в Люксембургской тюрьме с января, и о нем, казалось, забыли, но Фукье наконец заметил его. Когда тюремщик со списком в руке отмечал мелом наружные двери камер для завтрашней "Fournee", наружная дверь Пейна случайно стояла отворенной и обращенной внешней стороной к стене; тюремщик отметил ее на ближайшей к нему стороне и поспешил далее; другой тюремщик пришел и захлопнул дверь, и так как теперь не стало видно никакой отметки мелом, то "Fournee" уехала без Пейна. Он еще не на дороге к смерти.
Пятый акт этой настоящей греческой драмы с ее обязательными единствами может быть набросан только в общих чертах, образом, похожим на то, как один древний художник, доведенный до отчаяния, изобразил пену. В эту благодатную июльскую ночь слышны сильный шум, и великое смятение, и топот идущих войск; секции направляются в ту или другую сторону; делегаты Конвента читают прокламации при свете факелов; делегат Лежандр, набрав где-то войско, изгоняет якобинцев из их клуба и бросает ключи от него на стол Конвента, говоря: "Я запер их дверь; вновь ее отворит только добродетель". Париж, как мы сказали, восстал против самого себя и мечется беспорядочно, как встречные течения в океане, как огромный Мальстрем, ревущий во мраке ночи. В Конвенте непрерывное заседание, в Ратуше также, и еще продолжительнее. Бедные узники слышат звон набата и шум и стараются уяснить себе знаки, очевидно, надежды. Мягкие сумерки, которые должны смениться рассветом и завтрашним днем, стелются и серебрят северную кайму ночи, распространяя все далее и далее свой мягкий свет, подобно молчаливому пророчеству, по далекой окраине неба. Мирное, вечное небо! А на земле смятение и вражда, разногласия, бурные смены мрака и яркого блеска, и "судьба все еще пребывает в нерешимости, потряхивая своею загадочной урной".
Около трех часов утра враждебные вооруженные силы встретились. Войска Анрио выстроены на Гревской площади, и туда же приходят войска Барраса; вот они стоят лицом к лицу, с пушками, направленными против пушек. "Граждане! кричит голос благоразумия достаточно громко. - Прежде чем начать кровопролитие и бесконечную гражданскую войну, выслушайте постановление Конвента: "Робеспьер и все бунтовщики объявляются вне закона!"" "Вне закона?" В этих словах ужас. Безоружные граждане спешат разойтись по домам. Муниципальные канониры, охваченные паникой, разом с криками переходят на сторону Конвента. Услыхав эти крики, Анрио, по словам иных сильно пьяный, спускается из своей комнаты в верхнем этаже и находит Гревскую площадь пустой; жерла пушек повернуты против него. Теперь катастрофа наступила!
Вбежав обратно в комнату, несчастный отрезвившийся Анрио восклицает: "Все потеряно!" "Miserable, это ты погубил все!" - кричат ему и выбрасывают его в окно, или он сам выбрасывается. Он падает с довольно значительной высоты на каменную кладку в ужасную помойную яму, но не убивается насмерть; ему суждено худшее. Огюстен Робеспьер следует за ним, с такой же участью. Сен-Жюст, говорят, просил Леба убить его, но тот не согласился. Кутон заполз под стол и пытался убить себя, но неудачно. Войдя в этот синедрион восстания, мы находим все почти поконченным, разрушенным, ждущим только ареста. Робеспьер сидит на стуле, у него раздроблена пулей нижняя челюсть: он метил в голову, но рука самоубийцы дрогнула22[98]. Поспешно и не без смущения подбираем мы этих потерпевших крушение заговорщиков; вытаскиваем даже Анрио и Огюстена, окровавленных и грязных. И взваливаем их всех, довольно грубо, на телеги; они будут у нас до восхода солнца в безопасности, под замком. Все это сопровождается радостными возгласами и объятиями.
Робеспьер лежит в одном из коридоров Конвента, пока собирают его тюремный конвой; на раздробленную челюсть небрежно наложена окровавленная перевязка; вот какое зрелище представляет он людям! Он лежит распростертый на столе, деревянный ящик служит ему изголовьем; кобура пистолета еще конвульсивно сжата в его руке. Люди бранят его, оскорбляют; в глазах у него еще выражается сознание, но он не говорит ни слова. "На нем был голубой камзол, который он заказал для праздника Etre Supreme". О читатель, устоит ли твое жесткое сердце перед таким зрелищем? На нем нанковые брюки; чулки сползли на лодыжки. Он не сказал более ни слова в этом мире.
Итак, в шесть часов утра победоносный Конвент прекращает заседание; слух о происшедшем разносится по всему Парижу, как на золотых крыльях, проникает в тюрьмы, озаряет радостью лица тех, которые были на краю гибели; тюремщики и moutons, спустившиеся с высоты своего положения, бледны и молчаливы. Это 28 июля, называемое 10-м термидора 1794 года.
Фукье оставалось только удостовериться в личностях, так как его пленники были уже вне закона. Никогда еще улицы Парижа не были так запружены народом, как в четыре часа этого дня. От здания суда до площади Революции, так как телеги опять ехали прежним путем, стояла сплошная стена народа. Изо всех окон, даже с крыш и кровельных коньков, глядели любопытные с удивленными и радостными лицами. Колесницы смерти с пестрой группой объявленных вне закона, около 23 человек, от Максимилиана до мэра Флерио и сапожника Симона, продолжают свой путь. Все глаза устремлены на телегу Робеспьера, где он, с челюстью, перевязанной грязной тряпкой, сидит возле своего полумертвого брата и полумертвого Анрио, которые лежат разбитые в ожидании близкого конца их "семнадцатой агонии". Жандармы указывают на Робеспьера шашками, чтобы народ узнал его. Одна женщина вскакивает на подножку телеги и, держась одной рукой за край ее, другою размахивает, подобно Сивилле, и восклицает: "Твоя смерть радует меня до глубины моего сердца, m'enivre de joie". Робеспьер открывает глаза. "Scelerat, отправляйся в ад, проклинаемый всеми женами и матерями!" У подножия эшафота его кладут на землю в ожидании очереди. Когда его подняли, он опять открыл глаза, и взгляд его упал на окровавленную сталь. Сансон сорвал с него камзол; сорвал грязную тряпку с его лица, и челюсть бессильно отвисла; тут из груди жертвы вырвался крик, - крик ужасный, как и само зрелище. Сансон, поспеши!
Как только работа Сансона исполнена, воздух оглашается криком одобрения, и крик этот разносится не только по Парижу, но и по всей Франции, по всей Европе и далее, а во времени - вплоть до настоящего поколения. Заслуженно и в то же время незаслуженно. О несчастнейший адвокат из Арраса, чем ты был хуже других адвокатов? Более твердого человека в своей формуле, в своем credo, в своем ханжестве, а также и в честности, благосклонности, в знании цены добродетели и тому подобного, не было в ту эпоху. В более счастливые времена такой человек был бы одной из тех честных бесплодных личностей, которые ставятся в пример и получают после смерти мраморную доску и надгробную речь.
Бедный хозяин его, токарь на улице Сент-Оноре, любил его; брат умер за него. Да будет же Бог милосерден к нему и к нам!
Таков конец царства террора! Новая славная революция, называемая термидорианской, произошла 9-го термидора года II, что в переводе на старый, рабский стиль означает 27 июля 1794 года; террор кончился; кончится и смерть на площади Революции, когда будет казнено "охвостье Робеспьера", что быстро исполняет услужливый Фукье, отправляя на казнь большими группами.
Книга VII. ВАНДЕМЬЕР
Глава первая. УПАДОК
Мало кто предполагал, что это был конец не только Робеспьера, но и самой революционной системы! Менее всех предполагали это взбунтовавшиеся члены Конвента, восставшие с одной целью: продолжать национальное возрождение, сохраняя собственные головы на плечах. И однако, это было в самом деле так. Незначительный камень, который они вынули, такой незначительный в любом другом месте, оказался здесь краеугольным: весь свод здания санкюлотизма стал расшатываться, оседать, давать трещины и обваливаться по частям довольно быстро, пока бездна не поглотила его всего и на поверхности земли не осталось санкюлотизма.
Как бы ни был презираем сам Робеспьер, но смерть его была сигналом, побудившим массы людей, до сих пор безмолвных от ужаса перед террором, выйти из своих укромных нор и заговорить, излагая свои жалобы. Тысячи, миллионы пострадали от жестокой несправедливости. Все громче звучат эти жалобы масс, переходят в непрерывный всенародный крик, называемый общественным мнением. Камиль требовал Комитета милосердия и не мог добиться его; но теперь вся нация обращается в Комитет милосердия: нация испытала санкюлотизм и считает, что пора покончить с ним. Сила общественного мнения! Какой король или Конвент может противостоять ему? Борьба тщетна: то, что сегодня отвергается как "клевета", на следующий день торжественно принимается за истину. Боги и люди объявили, что санкюлотизм не может больше существовать. Он самоубийственно раздробил себе нижнюю челюсть в ночь на 9-е термидора и лежит в конвульсиях, чтобы никогда больше не подняться.
В последующие пятнадцать месяцев мы наблюдаем, так сказать, его предсмертную агонию. Санкюлотизм, анархия по евангелию Жан Жака, проникнув довольно глубоко, должен погибнуть в новой особенной системе "кюлотизма" и порядка. Порядок необходим человеку, хотя бы этот порядок был основан только на первобытном евангелии силы со скипетром в виде молота. Пусть будет метод, пусть будет порядок, кричат все люди, хотя бы этот порядок был основан на солдатской муштре! Легче снести обученный ряд штыков, чем необузданную гильотину, непредсказуемую, как ветер. Теперь нам нужно обозреть беглым взглядом с надлежащего расстояния, как санкюлотизм, корчась в предсмертных муках, пытался еще раза два-три подняться на ноги, но падал, снова опрокинутый, и наконец испустил дух. Мы сделаем это, и тогда, о читатель! ободрись, я вижу берег!
Мы должны отметить две первые естественные меры, принятые Конвентом после термидора: во-первых, обновление и пополнение Комитета общественной безопасности и Комитета общественного спасения, опустошенных гильотиной. Разумеется, пополняют их Тальенами, Фреронами и другими победителями термидорских дней. Еще более кстати постановление, чтобы комитеты, как это предписывает закон, обновлялись время от времени не только на словах: четвертая часть членов должна выходить из их состава ежемесячно. Конвент не будет более находиться в рабстве у комитетов под страхом смерти, а будет свободно руководствоваться своими собственными суждениями и общественным мнением. Не менее естественно и второе постановление: заключенные и обвиненные имеют право требовать свой "обвинительный акт", чтобы знать, в чем их обвиняют. Все эти вполне естественные меры - предвестники сотен других таких же.
Роль Фукье-Тенвиля, ограниченная декретом о предъявлении обвинительного акта и законных доказательств, почти утратила всякое значение и действительна еще только для "охвостья Робеспьера". Тюрьмы выдают своих подозрительных, выпускают их все чаще и чаще! Комитеты, осаждаемые друзьями заключенных, жалуются, что им мешают работать. Заключенные рвутся на волю, подобно людям, которые выходят из переполненного места и теснятся в дверях, задерживая друг друга. Счастье переменилось: узники выливаются потоками, а тюремщики, moutons, прихвостни Робеспьера идут туда, куда они привыкли посылать других! 132 нантских республиканца, которых мы видели идущими в оковах, прибыли в Париж, но число их сократилось до 94; пятая часть погибла дорогой. Они приходят и неожиданно видят себя не ходатаями за свою жизнь, а обвинителями, грозящими смертью другим. Их процесс сулит им оправдание, и даже более. Этот процесс, подобно трубному звуку, дает широкую огласку жестокостям царства террора. В продолжение 19 дней деяния Каррье, роты Марата, потопления, луарские свадьбы - все это, совершавшееся во мраке, торжественно выходит на свет. Звонок голос этих бедных воскресших нантцев; и журналы, и речи, и всеобщий Комитет милосердия достаточно громко отзываются на них, чтобы быть услышанными всеми ушами и сердцами. Приходит депутация из Арраса с жалобами на жестокости, совершаемые делегатом Лебоном. Присмиревший Конвент дрожит за свою собственную жизнь, однако что толку? Делегат Лебон, делегат Каррье должны быть привлечены к Революционному трибуналу; никакие увертки, никакие отсрочки не помогут: голос народа преследует их все громче и громче. Их также должен уничтожить Тенвиль, если не будет уничтожен сам.
Мы должны отметить, кроме того, дряхлое состояние, в которое впало некогда всемогущее Якобинское "Общество-Мать". Лежандр бросил ключ от его клуба на стол Конвента в ночь термидора; его председатель гильотинирован вместе с Робеспьером. Некогда могущественная "Мать" патриотизма некоторое время спустя с покорным видом просит возвратить ей ключи; они возвращены, но прежняя сила не возвратится: она исчезла навеки, и время ее, увы, увы, прошло. Напрасно якобинская трибуна звучит по-прежнему: для слуха всех она стала ужасной и даже скучной. Вскоре принятие новых членов в Якобинское общество запрещается; могущественная "Мать" неожиданно оказывается бездетной; плачет, как только может плакать такая охрипшая Рахиль.
Революционные комитеты, не имея подозрительных, чтобы охотиться за ними, быстро погибают от истощения. В Париже вместо прежних 48 комитетов осталось 12; плата их членам по 40 су отменена; пройдет совсем немного времени, и революционные комитеты перестанут существовать; такса на продукты (maximum) также будет отменена; санкюлотизм может питаться чем хочет. И нет теперь никакого муниципалитета, никакого центра в Ратуше. Мэр Флерио и компания погибли, и их не торопятся заменять.
Городской совет чувствует, что власть его подорвана, что он поставлен в зависимое положение, и не знает, к чему все это приведет; знает только, что он стал слабым и должен повиноваться. Что, если разделить Париж, скажем, на 12 отдельных муниципалитетов, неспособных к соглашению! С секциями было бы тогда легко управляться, а не упразднить ли и самые секции? Тогда у нас осталось бы только 12 послушных и мирных городских округов, без центра и подразделений2, и священное право восстания стало бы выморочным.
Многое отменяется таким образом и перестает существовать. Ведь и пресса говорит, и человеческий язык говорит; журналы, увесистые и легкие, высказываются в филиппиках и сатире, и ренегат Фрерон, и ренегат Прюдом гремят по-прежнему, только в противоположном духе. И ci-devants появляются, даже почти выставляют себя напоказ, воскресшие как бы от смертного сна, и рассказывают в печати, какие страдания перенесены ими. Даже болотные лягушки напыщенно квакают. 73 члена Конвента, подписавшие известный протест, освобождаются из тюрьмы, хотя и не без некоторых усилий, и возвращаются на свои места. Луве, Инары, Ланжюине и остатки жирондизма, естественные враги террора, вызволенные из сеновалов и погребов Швейцарии, снова займут свои места в Конвенте.
В нем и вне его господствуют теперь термидорианские Тальены и отъявленные враги террора. Обузданная Гора становится все молчаливее, а умеренность возвышает свой голос все громче, но не бурно и без угроз, скорее как волна могучего органного звука, как оглушающая сила общественного мнения, гармонично исходящего из 25 миллионов народных уст, которые все принадлежат теперь Комитету милосердия. Какие же отдельные группы в силах противостоять этому?
Глава вторая. ДОЧЬ КАБАРРЮСА
Где же устоять этому жалкому Национальному Конвенту, разрозненному, сбитому с толку долгим террором, тревогами и гильотиной? Притом у него нет кормчего, нет даже Дантона, который отважился бы направить его куда-нибудь среди такого напора бури. Самое большее, что может сделать растерявшийся Конвент, - это изменить направление, поставить паруса по ветру и держаться так, чтобы не потонуть. Бесполезно было бы бороться, ставить руль на подветренную сторону и командовать повороты! Растерявшийся Конвент пытался плыть против ветра, но его быстро повернуло обратно, так силен был напор переменчивого ветра. Он дует теперь все сильнее и сильнее с теплого юго-запада; опустошительный северо-восточный ветер и бурные порывы вихря совсем стихли. Все санкюлотское исчезает и заменяется кюлотским.
Взгляните, например, на покрой одежды, этот видимый признак, свидетельствующий о тысяче вещей невидимых. Зимой 1793 года мужчины ходили в красных колпаках и сами муниципалы носили деревянные башмаки. Даже гражданки принуждены были подавать прошение об отмене такого головного убора. А теперь, в эту зиму 1794 года, куда девался красный колпак? Он унесен потоком, как и многое другое. Наш зажиточный гражданин обдумывает, как бы ему одеться поизящнее? Не одеться ли, как одевались свободные народы древности? Более смелая гражданка уже так и поступила. Посмотрите на нее, на эту предприимчивую гражданку: она в костюме древних греков, в таком греческом костюме, какой мог предлагать художник Давид; ее распущенные волосы перехвачены блестящим античным обручем; на ней яркого цвета туника, какие носили гречанки; маленькие ножки ее, обнаженные, как у античных статуй, и обутые в сандалии, привязанные лентами, бросают вызов морозу.
Жажда роскоши овладела всеми. Эмигранты не увезли с собой свои отели и замки с их обстановкой, и при быстрой смене владельцев благодаря чеканке денег на площади Революции, военным поставкам, продаже эмигрантских, церковных и королевских земель, а также ажиотажу с бумажными деньгами - этой волшебной лампе Аладдина - такие отели не замедлили найти новых жильцов. Старое вино из погребов аристократии вливается в новые глотки. Париж подметен и освещен; салоны, ужины, не братские, опять сверкают подобающим блеском, хотя и особого оттенка. Красавица Кабаррюс, освобожденная из тюрьмы, повенчалась со своим рыжим и мрачным богом ада, с которым она обращается, как говорят, очень надменно. Она дает блестящие вечера; вокруг нее собирается новая республиканская армия гражданок в сандалиях, аристократок и других; собираются все пережитки старого лоска. Правой рукой г-жи Тальен служит в таких случаях прелестная Жозефина, вдова Богарне, хотя находящаяся в стесненных обстоятельствах; обе задались целью смягчить безобразие республиканской строгости и вновь цивилизовать человечество.
Вновь цивилизовать совсем по-прежнему: волшебством смычка Орфея, ритмом Евтерпы[99], грацией, улыбками. На этих вечерах бывают и термидорианские депутаты: Фрерон, издатель "Orateur du Peuple", Бар-рас, умевший танцевать не только "Карманьолу", и суровые генералы Республики в огромных воротниках и галстуках, пригодных для защиты от сабельных ударов, с волосами, собранными в узел "под гребенку и ниспадающими на спину". Среди этих последних мы узнаем невысокого артиллерийского офицера из Тулона с бронзовым цветом лица, возвратившегося из Итальянского похода. У него мрачный вид, жестокое, почти свирепое выражение лица, так как он имел неприятности и был болен; притом же он в немилости, как человек, выдвинутый - все равно, по заслугам или нет - террористами и Робеспьером-младшим. Но разве Баррас не знает его? Разве Баррас не замолвит за него слова? Да, если когда-нибудь для Барраса будет выгодно сделать это. А сейчас этот артиллерийский офицер стоит и смотрит своими глубокими, серьезными глазами в будущее, которое представляется ему безнадежно пустым. Он молчалив, но, когда его расшевелят, он высказывает своеобразные мысли, меткие, излучающие свет, как молния; вообще это человек "необщительный", скорее опасный. Необщительность делает его предметом страха и антипатии для всякого рода фантазий, так как он сама реальность! Стоит он здесь без дела и надежды, как бы отчужденный, однако нередко посматривает в ласковые глаза Жозефины Богарне. На все остальное он смотрит строго, с открытыми глазами и с сомкнутыми губами, как бы выжидая, что будет дальше.
Всякий может заметить, что балы имеют в эту зиму совсем новый вид. Не "Карманьолу" видим мы, этот грубый "вихрь лохмотьев", как назвал ее Мерсье, "предвестницу бури и разрушения", а мягкие ионические движения, гармонирующие с легкими сандалиями и греческой туникой! Лихорадка роскоши вышла наружу; люди разбогатели, прибавилось много новых богачей, а при терроре нельзя было танцевать иначе как в лохмотьях. Среди бесчисленных балов разного рода обратим внимание читателя на один род - на так называемые балы жертв (Bals a victime). У всех танцующих на левой руке надет черный креп. Чтобы быть допущенным на такой бал, нужно, чтобы вы были жертвой террора или чтобы вы потеряли кого-нибудь из родственников во время террора. Мир усопшим; будем танцевать в память их! Потому что, как бы то ни было, нам надо танцевать.
И примечательно, какие разнообразные формы принимает это великое занятие - танцы. "Женщины, - говорит Мерсье, - это нимфы и султанши, иногда Венеры, Юноны, даже Дианы. Они кружатся, плавают с легкой, безупречной стройностью, серьезные, молчаливые, видимо поглощенные своим делом. И зрители как бы сливаются с танцующими, образуя кольцо вокруг различных контрдансов, но не мешая им. Редко случается, чтобы султанша в подобных обстоятельствах испытала хотя малейший толчок. Ее хорошенькая ножка появляется на вершок от вашей, и вот ее уже нет: она унеслась, как яркая искра; но скоро темп танца возвращает ее на прежнее место. Подобно яркой комете, она несется, кружась, по своей орбите, как бы подчиняясь двоякому действию тяготения и влечения". Заглянув немного вперед, тот же Мерсье видит Merveilleuses в "шароварах телесного цвета", с золотыми браслетами на ногах; настоящих танцующих гурий искусственного рая Магомета, слишком уже магометанского. Монгайяр замечает своим меланхолическим взором не менее странную вещь: каждая светская гражданка, которую вы встречаете, находится в интересном положении. Великий боже, каждая! "Настоящие подушки!" - прибавляет этот язвительный человек; такова мода во время, когда народонаселение сократилось вследствие войн и гильотины. Не вникайте глубже в достоинства этой моды.
Взгляните теперь на эти новые группы на улицах вместо прежних страшных Tappe-durs Робеспьера. Это молодые люди, одетые не в черные куртки карманьолы из грубого сукна, а в изящное habit carre, или фраки с прямыми фалдами, с изящным, антигильотинного фасона воротником; волосы их заплетены на висках и, свернутые сзади узлом, ниспадают на военный манер; это так называемые muscadin (щеголи) или денди. Фрерон ласково называет их jeunesse doree - золотая или позолоченная молодежь. Эта "золотая молодежь" появилась, как бы воскреснув из мертвых. Те, кто были жертвами, носят креп на левой руке. Мало того, они носят дубинки, налитые свинцом, и имеют сердитый вид. Если с ними встретится какой-нибудь Tappedur или осколок якобинства, ему придется плохо. Они много страдали; их друзья были гильотинированы; их удовольствия, шалости, тончайшие воротнички безжалостно преследовались: горе подлым красным колпакам, которые делали это! Красавица Кабаррюс и армия греческих сандалий улыбаются одобрительно. В театре Фейдо храбрая молодежь во фраках с прямыми фалдами любуется красавицами в греческих сандалиях и воспламеняется от их взглядов. Долой якобинство! Никакие якобинские гимны или демонстрации, кроме термидорианских, не будут более терпимы; мы свергнем якобинство нашими свинцовыми дубинками.
Но пусть всякий, кто всматривался в буйную природу этих денди, особенно в стадном состоянии, представит себе, какой элемент составляла эта "золотая молодежь" при "священном праве восстания"! Ссоры и побоища, война без перемирия и без меры! Санкюлотизм ненавистен, как смерть и ночь! А денди, действительно разве они не кюлоты, разве они не одетые в силу самого закона своего существования: это "животное одетое, которое живет, движется и проводит свое существование в одежде"?
Так и идут дела. Люди вальсируют, ссорятся; красавица Кабаррюс старается чарами Орфея вновь цивилизовать человечество. И как говорят, небезуспешно. Какая суровость, хотя бы и республиканская, может устоять перед греческими сандалиями в ионических движениях, с золотыми кольцами даже на больших пальцах ног?6 Постепенно возникает и быстро растет неоспоримая новая благовоспитанность. Однако возродился ли хотя бы к нынешним дням тот непередаваемый настрой общества времен старых королей, когда порок "утратил свое безобразие" (с выгодой или без выгоды для людей) и легкомысленная пустота получила право гражданства и утвердилась так прочно, как никогда? Или же не утрачен он безвозвратно?7 Так ли это или нет, а мир должен продолжать свою борьбу за существование.
Глава третья. КИБЕРОН
Не обнаруживают ли бессознательно эти ниспадающие волосы "золотой молодежи" в полувоенном костюме другого, более важного стремления? Республика, проникшаяся отвращением к гильотине, любит свою армию.
И не без основания. Если в свое время военная доблесть почетна, а в глазах массы даже почетнее всего, то в описываемую эпоху военная доблесть была своевременнее и важнее, чем когда-либо. Сыны Республики поднялись в безумной ярости, чтобы освободить ее от рабства и Киммерии. И разве они не достигли этого? Из Приморских Альп, из проходов, Пиренеев, из Нидерландов, из долины Рейна Киммерия отброшена далеко назад со священной родной земли. Сыны ее, пылкие, как пламень, пронесли ее трехцветное знамя над головами всех ее врагов, и оно победоносно развевается и над крутыми горами, и над пушечными батареями. У этой Республики под ружьем миллион сто тысяч воинов, а в один исключительный момент у нее было, как полагают, по крайней мере "миллион семьсот тысяч". Подобно кольцу молний, опоясывают они свою страну от берега до берега, давая залпы и распевая "Ca ira". Киммерийская коалиция деспотов отступает, охваченная удивлением и страхом.
Огню, пылающему в сердцах этих галльских республиканцев, никакая коалиция не может противостоять! Ими предводительствуют не обладатели гербов с четырьмя поколениями дворянства, а бывшие сержанты, вырвавшие свой генеральский чин из жерла пушек: Пишегрю, Журдан, Гош. У них есть хлеб, у них есть железо, а "с хлебом и железом можно дойти до Китая". Посмотрите на солдат Пишегрю в эту суровую зиму: оборванные, обтрепанные, "в башмаках из жгутов соломы, в плащах из лыковых рогож", они наводняют Голландию, словно орда демонов, когда лед перекинул мосты через все воды, и с криками стремятся от победы к победе! Корабли на Тексле захвачены конными гусарами; герцог Йоркский бежал; штатгальтер также бежал, довольный тем, что удалось ускользнуть в Англию и оставить Голландию брататься с французами. Огонь, пылающий в этих галльских сердцах, подобен пламени горящей травы и сухого хвороста; ни один смертный не может противостоять ему в первую минуту.
И все так же будет гореть он и стремиться вперед, уничтожая все, и от Кадикса до Архангельска безумный санкюлотизм, превратившийся теперь благодаря обучению в регулярную армию, предводительствуемый каким-нибудь солдатом демократии (положим, молчаливым артиллерийским офицером), жестоко наступит на шею своих врагов, и его победные клики и их вопли огласят мир! Вот какой пожар зажгли вы, поспешно объединившиеся короли, будучи сами лишены огня и имея солдат, воодушевляемых только обучающими их сержантами, нравоучениями в общих столовых и барабанщиками! Однако дело начато и будет продолжаться целых 20 лет. Вот как долго этот галльский огонь, меняя свой цвет и характер, будет гореть на лице Европы и мучить и обжигать людей, пока он не раздражит всех, не зажжет другого рода огонь - тевтонский - и не будет поглощен, так сказать, в один день! Бывают пожары, вспыхивающие внезапно и ярко, подобно горению хвороста и травы, и бывают иные, которые трудно разжечь, как уголь или даже антрацит, но которые, если уж разгорелись, невозможно потушить никакими усилиями. Ярко вспыхнувший галльский огонь мы замечаем не только в войсках Пишегрю, но и в не менее бесчисленных Вольтерах, Расинах, Лапласах, так как француз, сражается ли он, поет ли или думает, всегда сохраняет ту совокупность человеческих свойств, которая дает отличный жар для поджаривания яиц, в каком бы смысле ни понимать это. Тевтонский же антрацитовый огонь, как мы видим в Лютерах, Лейбницах, Шекспирах, предпочтителен для плавления металлов. Как счастлива наша Европа, что у нее есть оба вида топлива!
Но как бы то ни было, а Республика явно торжествует. Весной этого года город Майнц снова видит себя осажденным и опять переменит хозяина; правду сказал Мерлей из Тионвиля, "с диким взглядом и бородой", что его видели там не в последний раз. Курфюрст Майнцский обращается к своем братьям государям со следующим уместным вопросом: не благоразумнее ли начать переговоры о мире? "Да!" - отвечают в душе многие другие курфюрсты. Но в то же время Австрия колеблется и в конце концов отказывается, получив субсидию от Питта. Что касается последнего, то кто бы ни колебался, а он, приостановив у себя действие своего Habeas Corpus[100], прекратив платежи звонкой монетой, остается непреклонным, несмотря ни на перевороты в других государствах, ни на свои домашние затруднения со стороны шотландского национального парламента и английских Друзей Народа, которых он принужден судить, вешать или даже видеть оправданными и торжествующими; жесткий, непреклонный человек! Его Величество король Испании, как мы и предсказывали, заключает мир, то же делает и король прусский, и составляется Базельский договор. Договор с мрачными анархистами и цареубийцами! Увы, что делать? Нельзя повесить эту анархию; пожалуй, она скорее повесит вас самих; волей-неволей приходится вступить в переговоры с нею.
Между тем генералу Гошу удается установить мир в Вандее. Негодяй Россиньоль и его "адские колонны" исчезли; Гош достиг мира твердостью, справедливостью, рассудительностью и умными мерами. Набирая свои "подвижные колонны" не из адских элементов, оцепляя ими страну, прощая покорных, казня оказывающих сопротивление, он шаг за шагом усмиряет восстание. Ларошжаклен, последний из дворян, пал в бою; Стоффле сам вступает в переговоры; Жорж Кадудаль возвращается в Бретань, к своим шуанам; ужасная гангрена Вандеи, по-видимому, окончательно устранена. Она стоила круглым счетом 100 тысяч жизней, а с потоплениями, поджогами и адскими колоннами число жертв не поддается исчислению. Такова вандейская война.
Однако несколько месяцев спустя она вспыхивает вновь, но уже в последний раз, раздутая Питтом и нашими ci-devants Пюизе из Кальвадоса и другими. В июле 1795 года английские корабли вступают на рейд Киберона. Там предполагается высадка воинственных ci-devants роялистов, добровольцев из военнопленных, страстно желающих дезертировать; выгружаются огнестрельное оружие, прокламации, амуниция и звонкая монета. Но и республиканцы быстро вооружаются, идут в полночь тайком по побережью Киберона и штурмуют форт Пантьевр; гром войны смешивается с ночным ревом моря, и утренняя заря освещает редкую картину. Высадившиеся бросаются обратно в свои лодки или в морские волны и с воплями погибают. Словом, ci-devant Пюизе терпит здесь такую же неудачу, как и в Кальвадосе, когда он мчался из Вернонского замка без сапог.
Таким образом, и это дело стоило жизни многим смелым людям, в числе которых все оплакивают храброго сына Сомбрейя. Злополучная семья! Отец и младший сын погибли на гильотине; героиня дочь, доведенная до нищеты, прячет свое горе от истории; старший сын погибает здесь, на Кибероне, расстрелянный военным трибуналом как эмигрант, сам Гош не может спасти его. Если все войны, гражданские или другие, суть плоды недоразумений, то где же скрывается разумение?!
Глава четвертая. ЛЕВ НЕ УМЕР
Конвент, несомый течением судьбы к чуждой победе и гонимый сильным ветром общественного мнения к милосердию и роскоши, несется так быстро, что нужно все искусство кормчего, и даже более, при такой скорости.
Интересно смотреть, как мы поворачиваем и кружимся и все-таки принуждены плыть по ветру. Если, с одной стороны, мы вновь принимаем в Конвент 73 протестовавших, то с другой - принуждены согласиться на довершение апофеоза Марата: взять его тело из церкви кордельеров и перенести в Пантеон великих людей, вырыв прах Мирабо, чтобы очистить место. Все напрасно: напор общественного мнения не ослабевает! "Золотая молодежь" в заплетенных косичках сбрасывает бюсты Марата в театре Фейдо, топчет их ногами, бросает их с яростными криками в сточную яму Монмартра. Снесена его часовня на площади Карусель; сточная яма Монмартра принимает даже прах его. Ни один обоготворенный человек не оставался божеством более короткое время. Каких-нибудь четыре месяца в Пантеоне, храме всех бессмертных, - и затем в сточную яму, великую клоаку Парижа и мира! "Число бюстов Марата достигло одно время около четырех тысяч". Из храма бессмертных в клоаку! Так бросает судьба бедные человеческие существа!
Наряду с этим поднимается вопрос: когда войдет в силу конституция девяносто третьего года, т. е. 1793 года? Рассудительные умы думают про себя, что конституция девяносто третьего года никогда не вступит в действие. Пусть теперь другие люди займутся составлением лучшей!
Опять же, где теперь якобинцы? Бездетная, дряхлая, как мы видим, сидит теперь когда-то могущественная Мать патриотизма, скрежеща не зубами, а пустыми деснами на предательский термидорианский Конвент и на весь ход вещей. Бийо, Колло и компания дважды обвинялись в Конвенте Лекуэнтром и Лежандром, и во второй раз обвинение не было признано клеветой. Бийо с якобинской трибуны говорит: "Лев еще не умер, он только спит". Его спрашивают в Конвенте, что он подразумевает под пробуждением льва? И в бывшем дворце Эгалите начинаются бесконечные столкновения между tappe-durs и "золотой молодежью". Слышны крики: "Долой якобинцев, Jacoquins!" Coquin означает "негодяй". С высокой трибуны раздается боевой звук, но ответом служат лишь молчание и тяжелое дыхание. В правительственных комитетах поговаривают о приостановке якобинских собраний. Но что это? В день Всех Святых или накануне этого дня, в ci-devant ноябре 1794 года от Рождества Христова, - печальный канун для якобинцев - град камней с проклятиями летит в окна Якобинского клуба. Якобинки, знаменитые Tricoteuses с вязальными спицами в руках, обращаются в бегство, но у дверей их встречает "золотая молодежь" с "толпой в четыре тысячи человек", которые преследуют их с гиканьем, пинками, насмешками, секут их лозами самым скандальным образом, задрав юбки, пока они, доведенные до истерики, не успевают скрыться. Выходите теперь вы, мужчины! Якобинцы выходят, но только для боя, поражения и полного расстройства. Пришлось вмешаться вооруженной власти, и не только в этот, но и на другой день, после чего якобинские собрания прекратились навсегда. Якобинцы исчезли среди бури смеха и рева. На месте их клуба явилась Нормальная школа, первая школа этого рода; потом она уступает место "рынку 9-го термидора", потом рынку Сент-Оноре, где и поныне мирно торгуют домашней птицей и овощами. Пышные храмы, сам великий земной шар все это сооружения без основания! Разве мы и этот наш мир не созданы из того же материала, что и сны?
Максимальные таксы отменены: торговля должна быть свободной. Увы, торговля, стесненная, перевернутая вверх дном, как мы видели, и теперь вдруг снова предоставленная самой себе, не может воспользоваться свободой: торговли, можно сказать, не существует вовсе в это время. Ассигнации, давно падающие и выпущенные в таком огромном количестве, падают теперь с беспримерной быстротой. "Combien? - спросил некто у извозчика. - Сколько возьмешь?" "Шесть тысяч ливров", - ответил тот (около 300 фунтов стерлингов ассигнациями15[101]). Давление таксы устранено, но вместе с тем исчезают и товары, на которые она была наложена. "Две унции хлеба ежедневно" - таков пожалованный кусочек! Далеко тянутся хвосты перед булочными, и лица печальны; дома фермеров превратились в лавки ростовщиков.
Можно представить себе при таких обстоятельствах, с каким чувством санкюлотизм рычал про себя: "La Cabarus" - и смотрел на возвратившихся и танцующих ci-devants, на термидорианскую лихорадку цивилизования, на балы в шароварах телесного цвета. Там греческие туники и сандалии, рои франтов, щеголяющих со своими свинцовыми Дубинками, а здесь мы, отверженные, внушающие отвращение, "собираем крохи на улицах"16, волнуемся, стоя в хвостах перед булочными за нашими двумя унциями хлеба! Не проснется ли якобинский лев? Ведь говорят, он тайно собирается в красных колпаках и с заряженными пистолетами во дворце архиепископства. По-видимому, не проснется. Наши Колло, Бийо, Барер, Бадье в эти последние мартовские дни 1795 года признаны заслуживающими ссылки за моря и будут пока отвезены в крепость Гам. Лев умер или бьется в предсмертной агонии!
Посмотрите, какое оживление снова царит на парижских улицах 12-го жерминаля (называемого также 1 апреля, не очень счастливый день). Толпы голодных женщин и грязных, также голодных мужчин кричат: "Хлеба, хлеба и конституции девяносто третьего года!" Париж поднялся еще раз, подобно приливу океана, и толпами течет к Тюильри за хлебом и конституцией. Тюильрийская стража делает все, что может, - ничто не помогает; прилив уносит ее прочь, наводняет сам зал Конвента с ревом: "Хлеба и конституции!"
Несчастные сенаторы, несчастный народ! После всех усилий и ссор нет ни хлеба, ни конституции! "Du pain, pas tant le longs discours!" (Хлеба, а не потоков парламентского красноречия!) - так стонали менады Майяра более пяти лет назад; так взываете и вы в эту минуту! Конвент, неизвестно что думающий, невозмутимо остается на своих местах среди этого ревущего хаоса; на павильоне Единения звонит набат. Секция Лепелетье, прежняя Filles-Saint-Thomas, состоящая преимущественно из менял, и "золотая молодежь" бегут на выручку и снова сметают хаос штыками. Париж объявлен "на осадном положении". Пишегрю, завоеватель Голландии, который случайно находится здесь, назначен командующим до подавления мятежа. Он подавляет его, так сказать, в один день: отправляет в ссылку Бийо, Колло и компанию и рассеивает всякую оппозицию "двумя пушечными выстрелами" холостыми зарядами и страхом, который внушает его имя. Сделав это и донеся с лаконизмом, которому следовало бы подражать: "Представители, ваши предписания исполнены"17, он слагает с себя командование.
Итак, восстание жерминаля стихло, как подавленный вопль. Заключенные сидят в надежном месте, в Гаме, в ожидании кораблей; около 900 "главных террористов в Париже" обезоружены. Санкюлотизм, сметенный штыками, скрылся со своей нищетой в глубине предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо. Было время, когда конный пристав Майяр с менадами могли изменять направление законодательства, но это время миновало. У законодателей теперь штыки, секция Лепелетье взялась за оружие, и не в нашу защиту! Мы удаляемся в наши мрачные трущобы; наши крики голода названы заговором Питта. Салоны сверкают, шаровары телесного цвета вальсируют по-прежнему. Значит, мы сражались за дочь Кабаррюса, за ее франтов и менял? Значит, для балов в телесного цвета шароварах мы схватили за бороду феодализм и действовали, и дерзали, и проливали свою кровь, как воду? Чем можно ответить на это, кроме выразительного молчания!
Глава пятая. ЛЕВ ВЫТЯГИВАЕТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Представитель Каррье погиб на гильотине в декабре минувшего года, протестуя и говоря, что он действовал по предписаниям. Революционному трибуналу, после того как он истребил все, осталось теперь только, как это бывает со всеми анархическими явлениями, уничтожить самого себя. В первые майские дни люди видят замечательное зрелище: Фукье-Тенвиль защищается перед судом, в котором главенствовал когда-то он сам. Вместе с ним привлечены к суду его бывшие главные присяжные: Леруа Десятое Августа, Вилат и еще 16 человек; все они горячо защищаются, ссылаясь на то, что они действовали согласно предписаниям; но все напрасно. С этими людьми покончит топор, которым они совершали ненавистные дела; топор сам стал ненавистен. Впрочем, Фукье умер довольно твердо. "Где твои "охапки"?" - ревел народ. "Голодная сволочь, - отвечал Фукье, - разве твой хлеб стал дешевле от того, что их нет более?"
Замечателен этот Фукье: некогда это был просто стряпчий, подобный другим стряпчим, этим судейским ищейкам, которые жадно охотятся на людей; теперь же он стал и останется самым замечательным из стряпчих, какой когда-либо жил и охотился на земле!
Ибо в этом земном беге времени должно было явиться воплощение крючкотворства. Небо сказало, пусть будет воплощение не божественного духа, а продажного духа стряпчего, который следит только за сделками, и вот оно явилось, и другие стряпчие в свою очередь выследили его. Исчезни же ты, воплощение духа стряпчего с крысиными глазами, которое в сущности было только подобно другим стряпчим и слишком алчным сынам Адама! Присяжный Вилат упорно боролся за свою жизнь и опубликовал из тюрьмы остроумную книгу, не оставшуюся неизвестной; но это не помогло, он также должен был исчезнуть, и от него осталась только эта книга о тайных причинах термидорианского переворота, - книга, полная лжи, но с крупицами правды, которых нигде более не найдешь.
С Революционным трибуналом покончено, но месть еще не утолена. Депутат Лебон после долгой борьбы предан суду обыкновенной судебной палаты и гильотинирован ею. Мало того, в Лионе и других местах воскресший модерантизм в своей жажде мести не хочет ждать медленного судебного разбирательства, но врывается в тюрьмы, поджигает их, сжигает около 60 заключенных-якобинцев, погибающих жестокой смертью, или душит их "дымом горящей соломы". Так бродят мстительные, жестокие "роты Иисуса" и "роты Солнца", убивая якобинцев всюду, где бы они ни встретились, бросая их в воды Роны, которая опять несет к морю страшный груз. Между тем в Тулоне якобинцы восстают и собираются повесить национальных представителей. Каково бедному Конвенту справляться с такими противоположными течениями! Он как бы помещен в центр борющихся ветров и волн на море, взволнованном сильной бурей, и плывет, одолеваемый беспорядками и спорами. Корабль Республики, то вздымаемый наверх, то исчезающий в бездне между двумя волнами, нуждается в самом искусном кормчем.
Какой парламент в этом подлунном мире пережил столько превратностей судьбы, как этот национальный парламент Франции? Он собрался, чтобы составить конституцию, но ему не было суждено создать ничего, кроме разрушения и смуты. Он выжег католицизм и аристократизм, поклонялся Разуму, откапывал селитру и титанически сражался с самим собою и с целым миром. Он был опустошен гильотиной: десятая часть его членов подставила свою шею под топор. Стены его видели танцующих "Карманьолу", поющих патриотические строфы среди награбленной в церквах добычи; видели раненых 10 августа, дефилирующих на носилках, и в пандемоническую полночь видели дам Эгалите в трехцветных костюмах, пьющих лимонад; видели призрак Сиейеса, поднимающийся, произнося: "Смерть без разговоров!" Этот Конвент горел и леденел, краснел от ярости и бледнел от нее же, сидел с пистолетами в кармане, выхватывал шпагу (в минуту вспышек) и то гремел на все стороны голосом Дантона: "Проснись, о Франция, и порази тиранов!", то застывал в безволии при Робеспьере и отвечал на его похоронный голос только задыхающимися звуками. Убиваемый, опустошаемый, закалываемый, расстреливаемый в ваннах, на улицах, на лестницах, он был ядром хаоса. Слыхал он и звон набата в полночь, совещался, окруженный стотысячной вооруженной толпой с артиллерийскими печами и повозками с провиантом. Оглушенный набатом, штурмуемый, наводненный грязным потоком санкюлотизма, он слышал пронзительные крики: "Хлеба и мыла!" И это все потому, что, повторяем, он был ядром хаоса, центром санкюлотизма; он раскинул свой шатер над зияющей бездной, где нет ни дороги, ни маяка, ни дна, ни берега. В истинной доблести, талантливости, искренности и вообще в силе и мужестве он, вероятно, немногим превосходил средний уровень парламентов, но в прямоте стремления к цели и в исключительности положения едва ли найдется равный ему. Еще одно санкюлотское наводнение или самое большее два - и этот усталый корабль Конвента достигнет берега.
Возмущение 12-го жерминаля окончилось, как напрасный вопль; умирающий санкюлотизм был сметен обратно в незримое и лежал там, стеная, эти шесть недель; стеная, но не переставая строить планы. Якобинцы, разоруженные, прогнанные со своей высокой трибуны, принуждены были придумывать, как помочь себе, в тайных подпольных совещаниях. И вот в первый день прериаля, или 20 мая 1795 года, опять забили барабаны: "Трам-там-там! К оружию! К оружию!"
Санкюлотизм снова восстал со своего смертного одра, восстал дикий, опустошительный, как бесплодное море. Сент-Антуан на ногах. "Хлеба и конституции 93 года!" - гудит толпа, и так написано мелом на шляпах мужчин. У них есть пики, есть винтовки, знамена, печатные прокламации, изложенные в официальной форме: принимая во внимание это и принимая во внимание то, многострадальный державный народ восстал; он хочет хлеба и конституции 93 года. Заставы закрыты, барабаны бьют сбор, набат нестройно звонит тревогу. Темный поток людей наводняет Тюильри, не обращая внимания на часовых; само святилище наводнено; вместо порядка дня вторгается толпа женщин с растрепанными волосами, кричащих: "Хлеба, хлеба!" Тщетно председатель покрывает голову и звонит в свой небольшой колокол в "павильоне Единения" государственный корабль снова испытывает сильную качку, дает течь и готов погрузиться, заливаемый волной.
Какой опять день! Женщины вытеснены, мужчины неудержимо ломятся внутрь, заполняют все коридоры, гремят у всех решеток. Депутаты, высунув головы, умоляют, заклинают, но Сент-Антуан неистово ревет: "Хлеба и конституции!" Распространился слух, будто "Конвент убивает женщин". Напор и треск, шум и неистовство! Дубовые двери, словно дубовые тамбурины, трещат под топорами, штукатурка обваливается, дерево с треском расщепляется; двери сорваны, и толпа врывается с неистовым ревом, с обрывками знамен, с прокламациями, барабанным боем, на удивление глазам и ушам. Жандармы, верные секционеры вторгаются через другую дверь, но их оттесняют; мушкеты разряжаются: сентантуанцев не удается вытеснить. Тщетно депутаты умоляют толпу иметь уважение к председателю, не приближаться к нему; тщетно депутат Феро протягивает руки, обнажает свою грудь, покрытую рубцами в испанских войнах, умоляет, грозит и сопротивляется. "Мятежный депутат верховного народа, ты сражался, а разве мы не сражались? У нас нет хлеба, нет конституции!" Они хватают бедного Феро, бьют, топчут его, ярость увеличивается при виде собственного дела. Они вытаскивают его в коридор, мертвого или умирающего, отрубают ему голову и надевают ее на пику. Ах, неужели недоставало беспримерному Конвенту еще таких ударов судьбы? Окровавленную голову Феро несут на пике. Дело началось; Париж и мир ждут, чем оно кончится.
Толпа свободно бушует теперь во всех коридорах, внутри и снаружи, так далеко, насколько хватает глаз, не видно ничего, кроме Бедлама и разверзшегося ада! Председатель Буасси д'Англа сидит, подобно скале; остальные члены Конвента оттеснены "к верхним скамейкам"; секционеры и жандармы еще выстроены в зале, образуя род стены между ними и толпой. А восставшие неистовствуют, бьют в барабаны, хотят читать свои жалобы, требуют издания такого-то и такого-то декрета. Председатель Буасси не уступает и сидит с покрытой головой, подобно скале среди бушующего моря. Ему угрожают, в него прицеливаются из мушкетов - он не уступает; к нему протягивают окровавленную голову Феро - он склоняется перед нею с серьезным, строгим видом и не уступает.
Страшный шум не позволяет прочесть жалоб; барабаны бьют, глотки орут, и восстание, словно музыка сфер, заглушается собственным шумом. Постановите то, постановите это. Кто-то кричит в продолжение часа во всех перерывах: "Je demande l'arrestation des coquins et des laches" (Я требую ареста мошенников и подлецов). Это одна из наиболее понятных петиций, когда-либо внесенных в парламент; в этот час она заключает в себе все, чего можно разумно требовать от конституции года I, с гнилыми местечками, с баллотировочным ящиком или с другими чудесами политического ковчега завета, установленного для вас до скончания мира! И я также требую ареста всех подлецов и мошенников, и ничего более. Национальное представительство, затопленное грязным санкюлотством, выскальзывает вон, чтобы найти себе где-нибудь помощь и обрести безопасность; здесь оно беспомощно.
К четырем часам пополудни в зале остаются всего каких-нибудь 60 членов, истинных друзей народа или даже тайных руководителей его, остаток гребня Горы, порабощенный и вынужденный к молчанию термидорианским переворотом. Теперь пришло их время, теперь или никогда; пусть они спустятся и говорят. Они спускаются, эти шестьдесят, приглашенные санкюлотизмом: Ромм - автор нового календаря, Рюль, разбивший дароносицу, Гужон, Дюкнуа, Субрани и другие. Санкюлотизм радостно окружает их. Ромм занимает председательское место, и начинается принятие резолюций и декретов. Быстро следуют декрет за декретом после чередующихся кратких прений или, вернее, строф и антистроф: они удешевят хлеб, пробудят спящего льва. И при каждом новом декрете санкюлотизм кричит: "Постановлено, постановлено!" - и бьет в барабаны.
Работа, требующая месяцев, исполняется в несколько часов. Вдруг входит фигура, в которой при свете ламп все узнают Лежандра, и произносит слова, достойные быть освистанными! А затем, смотрите, входит секция Лепелетье или другая секция, Muscadin, и "золотая молодежь" со штыками и с таким видом, который явно свидетельствует о готовности пронзить ими людей. Слышится топот ног, сверкают при свете ламп штыки. Что тут остается делать народу, измученному долгим бунтом, упавшему духом, темному, голодному, как не бежать, не прятаться, куда только можно? Даже в окна приходится прыгать, чтобы спастись. Секции менял и "золотая молодежь" сметают его стальными метлами далеко в глубь предместий. Новая победа! Декреты шестидесяти не только отменены, но и объявлены несуществующими. Ромм, Рюль, Гужон и другие руководители, в числе тринадцати, отданы под суд. Непрерывное заседание оканчивается в три часа утра. Санкюлотизм, еще раз отброшенный, лежит, вытягивая свои члены, вытягивая их в последний раз.
Таково было 1-е прериаля, 20 мая 1795 года. 2-го и 3-го прериаля санкюлотизм все еще продолжал вытягиваться и вдруг неожиданно забил в свой набат и стал сходиться вооруженный, но это не помогло ему. Что пользы в том, что мы с нашими Роммом и Рюлем, обвиненными, но еще не арестованными, учреждаем новый, "истинно национальный Конвент", свой собственный, в восточной части Парижа и объявляем других вне закона? Что пользы, что мы выстраиваемся вооруженные и выступаем? Военная сила и секции Muscadin, в числе около 30 тысяч человек, окружают этот ложный Конвент, и нам остается только переругиваться, перебрасываться насмешливыми прозвищами: Muscadins против Кровопийцы (Buveurs de Sang). Убийца Феро, захваченный с окровавленной рукой, приговоренный к смерти и отправляемый на гильотину на Гревской площади, отбит, отведен обратно в Сент-Антуанское предместье; но все напрасно. Секционеры Конвента и "золотая молодежь" приходят, согласно декрету, искать его и даже более: разоружить Сент-Антуан! И его разоружают благодаря привозу пушек, отбитию орудий у мятежников, военной отваге и страху перед законом. Сент-Антуан отдает свое оружие; Сантер даже советует сделать это, опасаясь за свою жизнь и за пивоварню. Убийца Феро бросается с высокой крыши - и все пропало.
Видя это, старый Рюль прострелил, из пистолета свою старую седую голову, разбил на куски свою жизнь, как дароносицу в Реймсе. Ромм, Гужон и другие стоят перед наскоро назначенным военным трибуналом. Услышав приговор, Гужон вынул нож, пронзил им свою грудь и, передав его своему соседу Ромму, упал мертвым. Ромм и почти все остальные сделали то же самое: римская смерть пронеслась здесь, как в электрической цепи, прежде чем успели вмешаться судебные, приставы! Гильотина получила только остальных.
Это были Ultimi Romanorum[102]. Бийо, Колло и компанию теперь велено было приговорить к смерти, но они, как оказалось, уже уехали, отплыли в Синамарри и к горячим грязям Суринама. Там Бийо будет жить, окруженный стаями ручных попугаев, а Колло получит лихорадку и, выпив целую бутылку водки, сожжет себе внутренности. Санкюлотизм не расправляет более своих членов. Спавший лев теперь мертв, и теперь, как мы видим, всякое копыто может лягать его.
Глава шестая. ЖАРЕНЫЕ СЕЛЬДИ
Так умирает санкюлотизм, плоть санкюлотизма, или так он видоизменяется. Его пифийская "Карманьола" в лохмотьях превратилась в пирровы танцы балов дочери Кабаррюса. Санкюлотизм умер, уничтоженный новыми "измами" такого рода, которые были его же собственным естественным порождением, и похоронен, можно сказать, с таким оглушительным ликованием и дисгармонией похоронного звона с их стороны, что только спустя полстолетия или около того начинают ясно понимать, почему он когда-либо существовал.
И, однако, в нем есть смысл: санкюлотизм действительно жил как новое порождение своего времени и даже продолжает жить и теперь; он не умер, а только видоизменился. Дух его жив и распространяется вширь и вдаль, переходя из одного телесного образа в другой, менее уродливый, как это вообще делает время с новыми порождениями, пока в какой-нибудь совершенной форме он не обнимет весь мир. Уже и теперь умные люди повсюду понимают, что они должны опираться на свое человеческое достоинство, а не на украшения к нему. Кто в эти эпохи в нашей Европе опирается на украшения, формулы, кюлотизм какого бы то ни было сорта, тот рядится в стародавнюю одежду, в овчину, и не может долго существовать. Но что касается плоти санкюлотизма, то она умерла и погребена и, надо надеяться, не воскреснет в своей первоначальной уродливой форме еще тысячу лет.
Был ли он страшнейшим явлением, когда-либо порожденным временем? Был по крайней мере одним из самых страшных. Этот Конвент, ныне антиякобинский, с намерением оправдаться и упрочить свое положение публикует списки преступлений, совершенных царством террора, - списки гильотинированных. "Эти списки неполны", - кричит желчный аббат Монгайяр. "Сколько же в них стояло имен?" - думает читатель. Две тысячи без малого. "Их было свыше четырех тысяч", - кричит Монгайяр, считая гильотинированных, расстрелянных, потопленных, преданных жесточайшей смерти, в том числе 900 женщин. Это ужасная сумма человеческих жизней, господин аббат: такое же число людей, увеличенное в десять раз, было расстреляно на полях битв и доставило славную победу с молебствиями. Это почти двухсотая часть того, сколько погибло во всю Семилетнюю войну, а этой Семилетней войной великий Фридрих отнял Силезию у великой Терезии, и г-жа Помпадур, язвимая жалом эпиграмм, убедилась, что она не может быть Агнессой Сорель! Голова человека - это странная, пустая и гулкая оболочка, господин аббат, которой не приносит пользы изучение петушиных боев.
Но что, если б история услышала о существовании где-нибудь на этой планете нации, третьей части которой не хватает в продолжение 30 недель ежегодно третьей части картофеля, нужного ей для пропитания?22 История в таком случае чувствует себя обязанной признать, что голод есть голод, что голод из года в год заставляет предполагать многое; история дерзает утверждать, что французские санкюлоты 95 года, которые, пробудившись после долгого мертвого сна, могли сразу устремиться на границы и умирать, сражаясь за бессмертную надежду и веру в освобождение для себя и для своих, были несчастнейшими людьми только второй степени. Разве ирландский бескартофельник (Sans-Potato) бесчувствен, бездушен? Горько было и ему умирать от голода в своем холодном, темном жилище! Горько было и ему видеть своих детей голодающими! Горько было сознавать себя нищим, лжецом и плутом. Мало того, если это ледяное дыхание беспросветной нищеты, переходившее долгие годы в наследство от отца к сыну, довело его до некоторого рода оцепенения, притупило его чувства настолько, что он не замечал и не сознавал его, то было ли это для создания, имеющего душу, некоторым облегчением или величайшим из несчастий?
Таковы были обстоятельства; такими они и остаются, только в мирном молчании, и санкюлотизм покоряется им. История, оглядываясь на Францию за много лет до описываемых дней, ко временам Тюрго, например, когда безгласная масса черных рабочих нерешительно приблизилась к королевскому дворцу и среди громадного моря бледных лиц, грязи и развевающихся лохмотьев подала свои написанные иероглифами жалобы и вместо ответа была повешена на "новых виселицах, 40 футов высотой", - История с грустью признается, что нельзя найти такого периода, в который все 25 миллионов французского народа страдали бы менее, чем в тот период, который называется царством террора! Но в ту пору эти страдающие миллионы не были немы; тысячи, сотни и единицы из них говорили, кричали, печатали свои требования и заставляли мир отзываться на свое горе, как они могли и должны были делать, - вот в чем великая особенность той эпохи. Самыми страшными порождениями времени бывают не те, которые громко кричат, - они скоро умирают, а те, которые молчат; эти могут жить из века в век. Анархия, ненавистная, как смерть, противна самой природе человека и поэтому сама должна скоро умереть.
Поэтому пусть будет известно всем то низкое и возвышенное, которое открывается еще в человеке, и пусть все со страхом и с удивлением, со справедливыми симпатией и антипатией, с ясным взором и открытым сердцем вникают в это и делают свои выводы, а их может быть бесчисленное множество. Одним из первых выводов может быть, например, тот, что "если боги этого подлунного мира будут восседать на своих блистающих тронах, беспечные, как боги Эпикура, не обращая внимания на живой хаос невежества и голода, валяющийся в грязи у их ног, и гладить по голове паразитов, проповедующих: "Мир, мир", когда мира нет, то темный хаос может подняться, как уже и поднимался. Не из ваших ли кож - о Боже! - он делал себе брюки? Для того чтобы не было на Земле второго санкюлотизма в продолжение тысячи лет, нам надо хорошо понять, чем был первый, и постараться, чтобы бедные и богатые из нас жили и поступали иначе. Но вернемся к нашему повествованию.
Секция щеголей в радости; на балах дочери Кабаррюса кружатся; разве мы не разрешили почти неразрешимую задачу -республика без анархии? Закон "братства или смерти" исчез; химерное "получай, кто нуждается" превратилось в практическое "держи, кто имеет". Анархическая республика бедности сменилась упорядоченной республикой роскоши, которая будет продолжаться так долго, как только может.
На Банковском мосту и на Гревской площади под длинными навесами Мерсье видел в эти летние вечера ужинающих рабочих. Отмериваемая ежедневная порция хлеба уменьшилась до полутора унций. "На каждой тарелке лежало по три жареных селедки, посыпанных рубленым луком и политых уксусом; к этому было прибавлено несколько штук вареного чернослива и чечевиц, плавающих в жидком соусе; за столами с этим скудным ужином, с шипящей возле решеткой для жарения и с кипящим на огне котелком, подвешенным между двух камней, я видел сотни рабочих, истреблявших свое скудное кушанье, слишком умеренное для их аппетита и пустых желудков". Вода Сены, в изобилии струящаяся под рукою, пополняла недостающее.
Стало быть, тебе, труженик, твоя борьба и отвага в продолжение этих долгих шести лет восстаний и бедствий не принесли никакой пользы? Ты по-прежнему ешь свою селедку и запиваешь водой в благословенный золотисто-багряный вечер. О, зачем Земля так прекрасна, облитая румянцем заката в сгущающиеся сумерки, если взаимные отношения между людьми делают ее юдолью нужды, слез, и даже не тихих слез? Разрушение Бастилии, поражение герцога Брауншвейгского, смелое выступление против королей и князей, против земли и ада, все, на что ты дерзал и что претерпел, - неужели все это делалось только для республики салонов Кабаррюс? Терпение! Ты должен иметь терпение: конец еще не наступил.
Глава седьмая. ЗАЛП КАРТЕЧИ
В сущности, какое положение могло бы быть естественнее этого и даже неизбежнее, как не переходное после санкюлотства? Беспорядочное разрушение Республики бедности, окончившейся царством террора, улеглось в такую форму, в какую только могло улечься. Евангелие Жан Жака и большинство других учений потеряли доверие людей, и что же еще оставалось им, как не вернуться к старому евангелию Маммоны? Общественный договор не то правда, не то нет; "братство есть братство или смерть", а на деньги всегда можно купить стоящее денег; в хаосе человеческих сомнений одно осталось несомненным - это то, что удовольствие приятно. Аристократия феодальных грамот рухнула с треском, и теперь в силу естественного хода вещей мы пришли к аристократии денежного мешка. Это путь, которым идут в этот час все европейские общества. Значит, это более низкий сорт аристократии? Бесконечно более низкий, самый низкий из всех известных.
В ней, однако, есть то преимущество, что, подобно самой анархии, она не может продолжаться. Замечал ли ты, насколько мысль сильнее артиллерийских парков и как она (через полвека ли после смерти и мученичества или через две тысячи лет) пишет и переписывает парламентские акты, сдвигает горы, преобразует мир, как мягкую глину? И замечал ли ты, что началом всякой мысли, достойной этого имени, бывает любовь и что никогда еще не существовало мудрой головы без благородного сердца? Небо не перестает изливать свои благости, оно посылает нам великодушные сердца в каждом поколении. А какое великодушное сердце может притворяться или обманываться, будто оно верит, что приверженность к денежному мешку - чувство благородное? Маммона, кричит великодушное сердце во все века и во всех странах, самый презренный из известных богов и даже из известных демонов. Какое в нем достоинство, перед которым можно было бы преклониться? Никакого. Он не внушает даже страха, а, самое большее, внушает омерзение, соединенное с презрением! Великодушные сердца, замечая, с одной стороны, широко распространившуюся нищету, темную снаружи и внутри, смачивающую свои полторы унции хлеба слезами, а с другой - только балы в телесного цвета шароварах, пустоту и бесплодие блеска этого сорта, могут только восклицать: "Слишком много, о божественный Маммона, уж слишком много!" И голос их, раз раздавшись, влечет за собой fiat и pereat для всего земного.
Между тем мы ненавидим анархию, как смерть, каковой она и является, а все, что еще хуже анархии, должно быть ненавидимо еще сильнее. Поистине плодотворен только мир. Анархия - это разрушение, сжигание всего ложного и нестерпимого, но сжигание, оставляющее после себя пустоту. Знай также, что из мира безрассудства ничего не может выйти, кроме безрассудства. Приведи его в порядок, построй из него конституцию, просей через баллотировочные ящики, если хочешь, - оно есть и останется безрассудством - новая добыча новых шарлатанов и нечистых рук, и конец его будет едва ли лучше начала. Кто может получить что-нибудь разумное от неразумных людей? Никто. Для Франции наступили пустота и всеобщее упразднение, и что может прибавить к этому анархия? Пусть будет порядок, хотя бы под солдатскими саблями, пусть будет мир, чтобы благость неба не пропала даром; чтобы та доля мудрости, которую оно посылает нам, принесла нам плоды в урочный час! Остается посмотреть, как усмирители санкюлотизма были сами усмирены и священное право восстания было взорвано ружейным порохом, чем и кончается эта странная, полная событий история, называемая Французской революцией.
Конвенту, подгоняемому в его деятельности в эти три года таким бурным ветром и противоположными течениями, то с кормчим, то без кормчего, наскучило свое собственное существование; он видит, что оно и всем наскучило, и сердечно желает разойтись. До самого конца он должен был бороться с противоречиями и не знает покоя даже теперь, когда конституция почти выработана. Как уже говорилось, Сиейес составляет конституцию еще раз, и она почти готова. Наученный опытом, великий архитектор многое изменяет и многое прибавляет. В результате получаются: различие между активными и пассивными гражданами, т. е. денежный ценз для избирателей; две палаты Совет старейшин, а также Совет пятисот. В подобном же духе, избегая рокового самоотрицающего постановления старого Учредительного собрания, мы постановляем, что настоящие члены Конвента не только могут быть избираемы вновь, но и две трети из них должны быть вновь избираемы. Активные граждане-избиратели могут теперь выбирать только одну треть Национального собрания. Включив это постановление об обязательном переизбрании двух третей, мы представляем нашу конституцию на рассмотрение всем округам Франции и говорим: примите то и другое или отвергните то и другое. Как ни неприятно такое добавление, однако округа подавляющим большинством принимают и утверждают его. С Директорией из пяти членов, с двумя палатами, в каждой из которых две трети членов назначаются нами самими, можно надеяться, что эта конституция будет последней. Она пойдет, ведь ногами ей будут служить переизбираемые две трети, а они уже налицо и способны ходить. Сиейес смотрит на свое бумажное производство со справедливой гордостью.
Но теперь посмотрите, как несговорчивые секции, и секция Лепелетье прежде всех, натыкаются на шипы! Разве не нарушение избирательных прав человека и верховного народа это добавление о переизбираемых двух третях? Алчные тираны, вы хотите увековечить себя! Действительно, эти люди зазнались от своей победы над Сент-Антуаном и над священным правом восстания! Мало того, эта победа повредила всем. Ведь подумайте: прежде всякий мог надеяться получить то, чего он желает, а теперь не должно быть такой надежды; теперь каждый должен пользоваться, и пользоваться, и пользоваться именно этим.
Какое неясное брожение поднимется в людях, испорченных продолжительным правом восстания, раз зашевелятся языки! Журналисты - Лакретели, Лагарпы за работой; ораторы изливаются в красноречии, в котором слышится и роялизм, и якобинизм. На западной границе Пишегрю, рискнув положиться на свою армию, ведет в глубокой тайне переговоры с Конде, а в парижских секциях разглагольствуют волки в овечьих шкурах, замаскированные эмигранты и роялисты. Каждый, как мы сказали, надеялся, что выборы сделают что-нибудь для него лично, а теперь нет более выборов или есть только третья часть их. Черные соединились с белыми против этой оговорки о двух третях, и к ним присоединились все непокорные элементы, которые видят свое дело почти проигранным благодаря этой статье конституции.
Секция Лепелетье после многих адресов находит, что такая статья есть явное посягательство на свободу, и просто-напросто отказывается подчиниться ей и приглашает все другие свободные секции соединиться с нею в "центральный комитет" для борьбы с притеснениями. Секции присоединяются к ней почти все, опираясь на свои 40 тысяч борцов. Теперь будь осторожен, Конвент! Секция Лепелетье заседает в этот день, 12-го вандемьера, 4 октября 1795 года, с заряженными ружьями, в открытом возмущении в своем монастыре Filles-Sain-Thomas на улице Вивьен. У Конвента под рукой около пяти тысяч регулярных войск, изобилие генералов и полторы тысячи преследуемых ультраякобинцев разного сорта, которых по такому критическому случаю поспешно собрали и вооружили под именем патриотов восемьдесят девятого года. Конвент, сильный тем, что закон на его стороне, посылает генерала Мену разоружить секцию Лепелетье.
Генерал Мену отправляется с подобающими требованиями и демонстрациями, но они остаются без всякого результата. Около восьми часов вечера Мену, все еще предъявляющий свои требования, выстроившись на улице Вивьен, перед заряженными ружьями, направленными в него из всех окон, убеждается, что ему не обезоружить секцию Лепелетье. Он принужден возвратиться с целой шкурой, но без успеха и подвергнуться аресту, как "изменник". После этого все 40 тысяч вооруженных борцов присоединяются к секции Лепелетье в уверенности, что она непобедима. К кому-то обратится теперь колеблющийся Конвент, этот бедный Конвент, который, войдя только что в гавань после такого трудного путешествия, уже наскочил на рифы? Он борется отчаянно с ревущим вокруг него прибоем 40 тысяч борцов, готовых захлестнуть его вместе с грузом Сиейеса и всем будущим Франции! Близкий к гибели, он в последний раз напрягает силы.
Некоторые предлагают назначить главнокомандующим Барраса: он победил в термидоре. Другие, более разумные, напоминают о гражданине Бонапарте, артиллерийском офицере не у дел, взявшем Тулон. Это человек с головой, человек дела. Баррас назначен главнокомандующим только по имени, а молодой артиллерийский офицер - действительным. Он находился на галерее в этот момент и слышал о назначении. Он удалился на полчаса, чтобы подумать, и через полчаса напряженного размышления, быть или не быть, ответил "да".
Теперь, когда в центре дела стоит человек с головой, оно оживляется. Скорее в Саблонский лагерь защитить артиллерию: ее охраняют не более 20 человек! Проворный адъютант по имени Мюрат скачет туда и поспевает как раз вовремя: секция Лепелетье уже шла в том же направлении - пушки наши. Теперь занимайте посты здесь и там быстро и твердо: в воротах Лувра, в тупике Дофина, на улице Сент-Оноре, от Пон-Неф вдоль всех северных набережных, к югу до моста, бывшего Королевского, выстройтесь вокруг святилища Тюильри кольцом железной дисциплины; у каждого канонира должен быть в руках зажженный фитиль, и все - к оружию!
Конвент проводит ночь в непрерывном заседании и с восходом солнца еще раз видит священное право восстания в полном действии: государственный корабль находится на мели; бурное море все выше вздымается вокруг него, бьет сбор, вооружается и гудит; набата не слышно, так как все колокола велено снять, за исключением нашего собственного, в павильоне Единения. Кораблекрушение кажется неизбежным всему миру, смотрящему на это. Отчаянно работает бедный корабль на расстоянии всего 100 саженей от гавани; велика опасность для него! Однако у него есть рулевой. Принимаются и не принимаются делегации от мятежников; вводится посланный с завязанными глазами; чередуются советы и контрсоветы: бедный корабль работает! Замечательно, что этот день, 13 вандемьера IV года, есть в то же время 5 октября, годовщина бунта менад шесть лет назад: вот как далеко мы подвинулись со священным правом восстания!
Секция Лепелетье захватила церковь Сен-Рок, заняла Пон-Неф; наш пикет, стоявший там, отступил, не стреляя. Шальные пули восставших залетают в Тюильри, стучат по каменной лестнице. С другой стороны приближаются женщины с распущенными волосами и кричат: "Мир!" Борцы Лепелетье, позади них, машут шляпами в знак своей готовности побрататься с войсками. Твердость! Артиллерийский офицер тверд, как бронза, а при надобности быстр, как молния. Он посылает самому Конвенту 800 мушкетов с запасом патронов; почтенные члены могут действовать ими в крайнем случае, на что они смотрят довольно серьезно. Бьет четыре часа пополудни26; секция Лепелетье, ничего не добившись через своих делегатов и призывы к братанию, рассыпается вдоль южной набережной Вольтера, вдоль улицы и проходов, с утроенной быстротой и приступает к настоящему штурму! Тогда из бронзовых уст артиллерийского офицера вылетает: "Пли!", и начинается непрерывный, перекатывающийся гром пушек, подобный извержению вулкана. Стреляет его большая пушка в тупике Дофина против церкви Сен-Рок, стреляют его большие пушки на Королевском мосту; стреляют все его большие пушки, взрывая на воздух до 200 человек, главным образом около церкви Сен-Рок! Секция Лепелетье не может выдержать такой игры; ни один секционер не может устоять, 40 тысяч отступают со всех сторон и бегут, ища прикрытия. "Около сотни из них засели в Театре Республики, но несколько гранат вытеснили их оттуда. К шести часам все было кончено".
Корабль сошел с мели и свободно плывет к берегу среди криков и виватов. Гражданин Бонапарт "выбран единогласно командиром военных сил внутренней Франции"; усмиренные секции волей-неволей должны разоружиться: священное право восстания отменено навеки! Конституция Сиейеса может высадиться и пойти. Чудесный корабль Конвента достиг берега и превратился, говоря образно, как корабли эпических поэм, в своего рода морскую нимфу, чтобы никогда более не плавать и представлять собой чудо истории.
"Неправда, - говорит Наполеон, - что мы стреляли сначала холостыми зарядами; это было бы напрасной тратой времени". Да, это неправда: пальба производилась самыми разрушительными снарядами; для всех было ясно, что это не шутка. До сих пор видны разбитые ими в щепы желоба и плинтусы церкви Сен-Рок. Странно: прежде, во времена Брольи, шесть лет назад, такими залпами картечи грозили, но не могли исполнить угрозу, да это и не помогло бы тогда. Только теперь настало для этого время и явился нужный человек. Вот он пришел к вам, и явление, которое мы обозначаем словами "Французская революция", развеяно им в прах и стало делом прошлого!
Глава восьмая. FINIS
Эпос Гомера, как замечено, подобен барельефу скульптуры: он не имеет заключения, а просто обрывается. Таков на самом деле и эпос самой всеобщей истории. Во Франции директория, консульство, империя, реставрация, буржуазное королевство чередуются одно за другим, вытекают одно из другого. Однако прародительница их всех, можно сказать, рассеялась в воздух тем путем, который мы описали. Восстание Бабефа в следующем году умрет при рождении, задушенное солдатами. Сенат, если он получит роялистский оттенок, может быть очищен солдатами, и 18-го фрюктидора он уступает при одном появлении штыков. Мало того, солдатские штыки могут быть применены к сенату a posteriori, могут заставить его прыгать в окно, даже без кровопролития, и вызвать 18-е брюмера. Нужные перемены должны произойти, но они подготовляются интригами, кознями, а затем и правильными приказами, почти как обыкновенные перемены министерства. Не благодаря священному праву восстания вообще, а все более и более мягкими способами будут отныне совершаться события французской истории.
Признано, что эта директория, обладавшая вначале только тремя вещами: "старым столом, листом бумаги и банкой чернил", без всяких признаков денег или денежных сделок29 совершила чудеса. Франция, пребывавшая в мире со времени царства террора, стала новой Францией, очнувшейся, подобно великану, от оцепенения, и продолжала свою внутреннюю жизнь, непрерывно развиваясь. Что касается внешнего образа и форм жизни, то что же мы можем еще сказать, кроме того, что от питания получается сила, а от безрассудства не может получиться мудрости? Обманчивое сожжено; мало того, - что также является особенностью Франции -самые названия обманчивого уничтожены. Новые реальности еще не явились. Ах, нет, пока имеются только призраки, бумажные образцы, соблазнительные прототипы их! Во Франции теперь четыре миллиона земельных держаний; известный мрачный прообраз аграрного закона как бы осуществлен. Еще более странно то, что все французы имеют "право дуэли": извозчик может вызвать на дуэль пэра, если тот нанесет ему оскорбление; таков закон общественного мнения. Равенство по крайней мере в смерти! Форма правления - мещанский король, в которого не раз уже стреляли, но еще не попали.
Итак, в общем, не исполнилось ли то, что было предсказано, ex postfactum правда, архишарлатаном Калиостро или каким-нибудь другим? Он, дивясь на все происходящее, в экстатическом прозрении сказал30: "Ха, что это? Ангелы, Уриель, Анахиель и вы, другие, пятеро; пятиугольник омоложения, сила, уничтожающая первородный грех; земля, небо и ты, внешняя темница, которую люди называют адом! Не царство ли обмана колеблется, вспыхивает там в сверкающем блеске, рассыпая лучи света из своего темного лона; как оно корчится, не в родовых, а в смертных муках! Да, лучи света, пронизывающие, яркие, приветствующие небо, - вот они зажигают это царство лжи; их сияние становится ярким, словно адский огонь!
Обман в пламени, обман сгорел; одно красное море огня, дико вздымающееся, покрывает мир, своими огненными языками лижет самые звезды. Троны низвергнуты в него, и митры Дюбуа, и пребендные скамейки, с которых капает жир, и - что вижу я? - все кабриолеты на свете: все! все! Горе мне! Никогда со времени колесниц фараона в Красном море не было еще подобного этому уничтожения повозок в море огня. Уничтоженные, как пепел, как газы, будут они носиться по ветру.
Все выше и выше разгорается огненное море, треща свежими, вывороченными деревьями, обжигая глаза и кожу. Металлические образа расплавились; мраморные изображения превратились в известку; каменные горы угрюмо разверзаются. Благопристойность со всеми кабриолетами, зажженными для погребального костра, рыдая, покидает землю, не с тем, чтобы возвратиться невредимой при новом Аватаре. Горит обман в продолжение поколений; сгорел он, уничтожен на время. Мир черен, как зола; когда, о когда он зазеленеет? Все образа превращены в бесформенную коринфскую медь; все жилища людей уничтожены; самые горы обнажены и расщеплены; долины мрачны и мертвы: это пустой мир! Горе тем, кто будет рожден тогда! Король, королева (о горе!) были ввергнуты туда, зашелестели и с треском взлетели вверх, подобно свертку бумаги. Искариот-Эгалите также был ввергнут; и ты, жестокий Делонэ со своей жестокой Бастилией; целые семьи с их близкими; пять миллионов истребляющих друг друга людей. И это потому, что настал конец царства обмана (который есть мрак и густой дым). И сжигаются неугасимым огнем все кабриолеты на свете". Разве не исполнилось и не исполняется это пророчество? - спрашиваем мы.
Теперь, читатель, пришло время нам расстаться. Утомительным было наше совместное путешествие, и не без неприятностей, но оно закончено. Для меня ты был как бы любимой тенью, бестелесным или еще не воплощенным духом брата. А я для тебя был только голосом. И однако, наши взаимные отношения были в некотором роде священны, верь мне! Ибо каким бы пустым звуком ни сделалось все священное, но, когда голос человека говорит с человеком, разве он для тебя не живой источник, из которого истекает и будет истекать все священное? Человек по природе своей может быть определен как "воплощенное слово". Не делает мне чести, если я сказал тебе какую-нибудь ложь; но и тебе следовало понимать меня верно. Прощай.
Послесловие ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ И ЕГО ТРУД "ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ИСТОРИЯ"
Имя выдающегося английского мыслителя, историка, философа и публициста Томаса Карлейля (1795-1881) современному читателю, исключая, разумеется, узкий круг историков-англоведов, почти ничего не говорит. А ведь было время, когда его называли "английским Львом Толстым". О Карлейле с восторгом писал А. И. Герцен, как о человеке "таланта огромного, но чересчур парадоксального". С этим патриархом британского интеллектуального мира он познакомился в Лондоне в 1853 году.
К. Маркс и Ф. Энгельс включили идею Карлейля о всесилии чистогана в капиталистическом обществе в знаменитый "Манифест Коммунистической партии". Основоположники марксизма отмечали несомненный вклад английского мыслителя в беспощадную социальную критику морали и нравов буржуазного общества на том историческом этапе, который принято называть "восходящей" линией развития капитализма. Вместе с тем Маркс и Энгельс подчеркивали слабость его позитивных рекомендаций, непоследовательность и путаность воззрений на пути преодоления антагонизмов в капиталистическом обществе. Они точно уловили главное противоречие в творчестве Карлейля: начав в первой половине XIX века с беспощадной критики пороков нового, "восходящего" класса - буржуазии, во второй половине того же века и второй половине своей долгой, почти 90-летней жизни великий гуманист, не видя выхода, начинает прославлять "цивилизаторскую миссию" буржуазии.
В этом смысле эволюция идейных взглядов Карлейля во многом типична для выдающихся мыслителей-литераторов "золотого" XIX века, который, по словам В. И. Ленина, "дал цивилизацию и культуру всему человечеству" и "прошел под знаком французской революции"[103].
В России с творчеством Томаса Карлейля образованная публика впервые познакомилась еще в 1831 году, когда вышел первый русский перевод его "Sartor Resartus" ("Жизнь и мысли герр Тейфельсдрека")[104]. Однако подлинная слава пришла к великому сыну "туманного Альбиона" только после его смерти: большинство работ Карлейля в переводе на русский язык были изданы в России в 1891 - 1907 годах. Тогда же в серии "Жизнь замечательных людей" демократического издательского дома Ф. Павленкова вышла и первая на русском языке обстоятельная биография Карлейля[105].
После Октября 1917 года имя Карлейля снова было предано забвению и, если не считать обстоятельной работы академика Н. И. Кареева[106], вновь вернулось к современному читателю лишь в наше время благодаря изданию в серии "Жизнь замечательных людей" книги английского писателя Дж. Саймонса[107]
В богатейшем литературно-публицистическом наследии Томаса Карлейля "Французская революция" (1837 год) - наиболее известное произведение, написанное в жанре исторического портрета. С точки зрения строго академического подхода профессионала-историка, книга Карлейля с трудом укладывается в прокрустово ложе нынешнего понимания того, как нужно писать "историю", - читатель не найдет здесь ни архивных шифров, ни обзора и источников литературы, ни указателей - словом, всего того, что определяет степень "учености" труда по истории.
В строгом смысле слова это не столько систематическое изложение истории Французской революции, сколько беседы с читателями о тех, кто творил эту историю. Причем зачастую Т. Карлейль мало считается с достоверными фактами, как бы "дорисовывая" своим художественным воображением отдельные портреты, например Мирабо, Лафайета и Дантона. В этом смысле его книга - и история, и роман.
Сказанное вовсе не означает, что Карлейль не был знаком с источниками по Французской революции. Как раз наоборот: работая над книгой, он перевернул горы документов в библиотеке Британского музея в Лондоне, обложился ящиками литературы у себя дома, беседовал с ветеранами революции, атаковывал своих парижских знакомых, требуя прислать ему подлинные ноты революционной песни "Ca ira!", умолял своего врача, находившегося тогда во Франции, сходить в рабочее предместье Парижа Сент-Антуан и посмотреть, не спилили ли роялисты единственное уцелевшее "дерево Свободы", посаженное там санкюлотами в 1790 году?
Следует добавить, что в процессе создания книги над автором тяготел какой-то злой рок: единственный рукописный экземпляр первого варианта "Французской революции"... безвозвратно исчез в доме его друга Джона Стюарта Милля, и Карлейлю пришлое! писать все заново. Позднее он говорил своей жене: "Эта книга чуть не стоила нам обоим жизни".
В своем повествовании Карлейль менее всего беспристрастен. Субъективизм симпатий и антипатий автора вполне очевиден. Не избежал он соблазна и как бы заново "смоделировать" ход давно минувших событий (что сегодня, спустя 100 лет после его смерти, вновь безуспешно пытаются сделать некоторые публицисты применительно к "пролетарским якобинцам"[109] 20-х годов нашей истории, выдвигая различные "альтернативные версии": что было бы, если бы победил не Сталин, а Троцкий, Бухарин, Сокольников и т. д.?).
И вместе с тем Французская революция в интерпретации Карлейля не лишена исторического оптимизма. Автор одним из первых, в 30-х годах XIX в., когда еще были живы непосредственные участники революции, например "хромой дьявол" и один из авторов знаменитой Декларации прав человека и гражданина, Шарль Морис Талейран, на весь англоязычный мир громко заявил, что эта революция была и неизбежной, и закономерной.
Приступая к написанию своего труда, Карлейль опасался, чтобы его голос не прозвучал как глас вопиющего в пустыне: Европа 30-х годов прошлого века была завалена мемуарами монархистов, бонапартистов, клерикалов, просто обскурантов, которые не видели во Французской революции либо ничего, кроме гильотины и ее "начальника" - "чудовища Робеспьера", либо, наоборот, вслед за аббатом Баррюэлем оценивали ее только как всемирный заговор иудей-масонов.
Поэтому сам Томас Карлейль, как многие гениальные люди, весьма скептически отнесся к своему произведению, когда наконец поставил последнюю точку в заново написанной рукописи: "Не знаю, стоит ли чего-нибудь эта книга и нужна ли она для чего-нибудь людям: ее или не поймут, или вовсе не заметят (что скорее всего и случится), - но я могу сказать людям следующее: сто лет не было у вас книги, которая бы так прямо, так страстно и искренне шла от сердца вашего современника".
По счастью, автор ошибся. И хотя действительно часть консервативного английского общественного мнения встретила книгу в штыки (один из тогдашних поэтов даже написал против автора злую эпиграмму), в прогрессивных кругах, напротив, "Французская революция" была принята восторженно. Соединение исторически точного описания с необычайной силой художественного изображения великой исторической драмы, протест против деспотизма в любой форме и глубокая человечность снискали труду Карлейля любовь и почитание.
Ч. Диккенс носил его повсюду вместо Библии, а когда знаменитый драматург У. Теккерей опубликовал сочувственную рецензию в респектабельной "Тайме", Карлейль сразу стал знаменитостью в литературных кругах не только Англии, но и континентальной Европы.
Отметим и еще одну примечательную особенность бессмертного произведения Карлейля - своеобразие его стиля. Как признал в свое время Джон Стюарт Милль, секрет долговечности этой книги заключается в том, что это гениальное художественное произведение. По образному выражению Дж. Саймонса, читатель видит события, как при вспышках молнии, которые освещают поразительно живые исторические сцены: 14 июля 1789 года в Париже и взятие Бастилии, поход женщин на Версаль, бегство Людовика XVI в Варенн, суд над королем и его казнь, трагизм и ярость последних лет революции. Перед читателем проходит бесконечная вереница людей и событий, нарисованных с сочувствием и осуждением, юмором и печалью.
Возрождающееся к 200-летию Великой французской революции, словно птица Феникс из пепла, новое издание творения Томаса Карлейля вновь оказывается в эпицентре бурных общеевропейских и мировых дебатов об историческом значении деяний "великих французских революционеров буржуазии"[111].
Кто же они - святые или чудовища?
В столице Франции нет ни одного крупного памятника Максимилиану Робеспьеру, его имя носит лишь станция метро в "красном поясе" Парижа. Созданная к 200-летию революции ассоциация "За Робеспьера" во главе с историком Роже Гаратини, автором "Словаря деятелей революции", потребовала от мэра столицы назвать в честь Робеспьера одну из улиц в центре Парижа. Призыв ассоциации поддержал знаменитый хореограф Морис Бежар, посвятивший один из своих "балетов 200-летия" "мистическому и щедрому поэту" Робеспьеру. Наоборот, ассоциация "антиробеспьеристов" опубликовала в 1989 году антологию биографий 17 тысяч официально зарегистрированных жертв, якобы отправленных этим "кровожадным чудовищем" на гильотину.
Наполеон Бонапарт, по словам Л. Н. Толстого бессмысленно уложивший 50 тысяч своих солдат и офицеров в Бородинской битве, - национальный герой, ему воздвигнуты сотни памятников во Франции и сопредельных странах, его прах покоится в гробнице во дворце Инвалидов, а где могила Робеспьера? Говорят, что его останки погребены в братской могиле на малоизвестном даже коренным парижанам кладбище Пик-Пюс ("Лови блох"), где захоронены 1306 "врагов нации и революции" вместе с 16 юными монахинями-кармелитками, вся вина которых состояла... в молитвах, запрещенных в период якобинской дехристианизации.
Уже во времена Карлейля отношение к революции разделило историков на ее сторонников и противников. Начиная с памфлета соотечественника Карлейля Э. Берка (1790), через труд одного из самых вдумчивых аналитиков, Алексиса де Токвилля, "Старый порядок и революция" (1856) и многотомный трактат Ипполита Тэна "Происхождение современной Франции" (1878-1893) эта линия дошла до наших дней и воплотилась в 60- 80-х годах XX века в трудах бывших бунтарей "красного мая" 1968 года во Франции, а также их последователей в ФРГ, Великобритании, США, Италии и Польше[112].
Лидеры этого "нового прочтения" истории Французской революции Ф. Фюре и Д. Рише в своих многочисленных трудах, в выступлениях в прессе, по радио и телевидению желали доказать, что Великая французская революция не была ни закономерной, ни необходимой, что якобинская диктатура являлась "заносом" на магистральном пути экономического развития Франции к капитализму и этот "занос", как, впрочем, и революция в целом, лишь затормозил поступательное развитие Франции и Европы по пути исторического прогресса.
Главный тезис Рише и Фюре (оба они начинали в левом студенческом движении, а один в молодости был даже членом Французской коммунистической партии) - тезис о "мифологизации" Французской' революции. По их мнению, к этому были причастны различные левые течения - от Карла Маркса до Жоржа Клемансо - в интересах текущей политической борьбы. Еще 20 лет назад Рише на страницах влиятельного исторического журнала "Анналы" писал: "Должны ли мы отказаться от понятия буржуазная революция? Следует отбросить всякую двусмысленность... Уложить Французскую революцию в прокрустово ложе Марксовой теории революции... кажется нам невозможным".
Своему соавтору и единомышленнику вторил Фюре, предложивший еще задолго до юбилея не праздновать 200-летие революции, поскольку данное событие является "мифологическим"[113].
Другой реинтерпретатор истории Французской революции из той же группы "обновленцев" некогда, в 30-50-х годах, знаменитой французской исторической "школы Анналов" и тоже экс-коммунист, Ле Руа Ладюри, возносит хвалу Фюре за... изобретение "таблицы Менделеева" по разоблачению "мифологии" революции: "Труды Фюре за несколько лет до двухсотлетия Французской революции наводят некоторый порядок в различных моделях, с помощью которых историки прошлого разъясняли перипетии великого десятилетия (1789-1799). Мы располагаем отныне, что касается этих моделей, некой таблицей Менделеева, то есть реестром, системой ячеек, клеток, в которых мы можем разместить каждого на свое место: концепции Кинэ, Гизо, Минье, Бюше, Маркса, Собуля и т. д."[114].
И хотя в этой "таблице" нет имени Т. Карлейля, он вполне может быть помещен в одном ряду с Гизо, К. Марксом и известным французским историком-марксистом А. Собулем (1914-1982), чей капитальный трехтомный труд "Революция и цивилизация" готовится к печати в издательстве "Прогресс".
В трудах "демифологизаторов" по мере приближения 200-летнего юбилея все отчетливее проступала тенденция распространить свою "таблицу Менделеева" не только на Французскую, но и на все остальные крупные революции в истории человечества, разделив их на "плохие" и "хорошие".
К первым помимо Французской, безусловно, отнесена Октябрьская. В работе "Думать о Французской революции" Фюре писал: "...начиная с 1917 года Французская революция не является больше матрицей, печатая с которой можно и должно создать модель другой, подлинно свободной революции, (ибо)... наша революция стала матерью другого реального события, и ее сын имеет собственное имя - это русский Октябрь"[115]. Понятно, что "мать" и "сын", по Фюре, навсегда связаны одной пуповиной - терроризмом. А вот в "хороших" революциях, к каковым относятся Английская середины XVII в. и особенно Американская 70-80-х годов XVIII в., ничего подобного гильотине не было.
Следует подчеркнуть, что сведение таких сложных и противоречивых явлений, как великие революции XVII-XX веков, к "элементарному" делению на "плохие" и "хорошие" еще со времен Томаса Карлейля разделило человечество на тех, кто умел только кричать, и тех, кто старался больше думать.
Как справедливо заметил известный советский историк и публицист H. H. Молчанов, "революция - это кровь, муки, ужас, бедствия и страдания. Только такой ценой добиваются свободы и торжества революции. Кроме сознательного творчества, в революции всегда действует нечто стихийное, роковое, страшное"[116]. Многое в этой оценке созвучно с нравственной концепцией революции Карлейля.
Справедливости ради следует сказать, что все эти сравнения (Французская революция - Октябрьская революция) при выпячивании "идеала" - Американской революции (пример тому книга американского историка Г. Гасдчарда "Французская и Американская революции: насилие и мудрость") встречают отпор со стороны не только историков-марксистов, но и немарксистских историков Франции. Так, молодой историк Ж.-П. Риу в газете
"Монд" дал язвительную отповедь и Гасдчарду, и его восторженному рецензенту из газеты "Фигаро", известному католическому историку П. Шоню: "Получается, что несколько бунтарей, которыми манипулировали идеологи домарксистского периода, захватили Бастилию, а потом учинили бойню в Вандее на манер Пол Пота и погрузили милую Францию в бездну террора как какую-нибудь "банановую республику". А вот по ту сторону Атлантики восставшие против британской короны могучие колонисты сохранили головы холодными. Их конституция не содержала сектантских мифов, а их законодательство обеспечило счастливое развитие событий, не причинивших страданий никому на протяжении двух веков - ни индейцам, ни черному населению, ни жителям Юга. 1789 год принес насилие, 1787 год (год принятия Конституции США. - В. С.) ознаменовался торжеством мудрости..."[117]
Между тем и идеалы Американской, и идеалы Французской, и идеалы Октябрьской революций в основе своей были тождественны: всеобщее благо человечества, свобода, равенство и братство людей и наций. А. В. Луначарский, выступая перед учителями Москвы в 1918 г., так сформулировал эти идеалы: "Нужно воспитывать интернациональное, человеческое. Воспитывать нужно человекa, которому ничто человеческое не было бы чуждо, для которого каждый человек, к какой бы он наций ни принадлежал, есть брат, который абсолютно одинаково любит каждую сажень нашего общего земного шара"[118].
Сравните это выступление с речами американских и французских революционеров, и вы обнаружите почти текстуальное совпадение. Различие состоит лишь в том, что, например, лидеры Французской революции хотели достичь этих идеалов - уважения прав человека - на путях буржуазного национально-политического равенства, а лидеры Октябрьской революции - на путях пролетарского социального равенства. Но в основе той и другой концепции лежит глубоко гуманистическая идея общечеловеческих интересов.
Другое дело, что во французской леворадикальной и советской марксистской историографии 20-30-х годов (H. M. Лукин, Г. С. Фридлянд и многие другие) долгое время господствовали некритическое восприятие якобинской диктатуры и едва ли не культ Робеспьера как обратная реакция на его забвение в официальной Франции. При этом затушевывался универсальный, непреходящий общечеловеческий характер главных целей Великой французской революции - свобода, равенство и братство.
Самое противоречивое и спорное во Французской революции - якобинский террор - было возведено в абсолют как единственный метод решения всех социальных, политических и религиозно-идеологических противоречий любого революционного процесса. При этом на советскую историографию межвоенного и даже послевоенного периода, как справедливо отметил крупнейший знаток проблемы В. Г. Ревуненков[119], огромное воздействие оказал леворадикальный французский историк А. Матьез, чьи труды широко переводились в 20-х годах на русский язык[120]. Но после того, как в 1930 году Матьез публично выступил с протестом против необоснованных репрессий по так называемому "академическому делу" Е. В. Тарле, С. Ф. Платонова и других беспартийных историков-"попутчиков"[121] и создал комитет французской интеллигенции в их защиту, он был немедленно отлучен от СССР, другом которого он был с 1917 года, с того времени, когда возглавлял во Франции движение "Руки прочь от Советской России!", и оказался "в стане наших врагов" [122].
Суть своей концепции революционного террора как основного инструмента разрешения всех противоречий революции Матьез изложил в опубликованной в 1920 году брошюре "Большевизм и якобинизм". "Якобинизм и большевизм, - писал он, - суть две разновидности диктатуры, рожденные гражданской войной и иностранной интервенцией, две классовые диктатуры, действующие одинаковыми методами - террором, реквизициями, политикой цен и предлагающие в конечном счете схожие цели - изменение общества, и не только общества русского или французского, но и общества всемирного"[123].
И хотя, как показало новейшее исследование нашей соотечественницы, профессора Высшей школы восточных языков в Париже Тамары Кондратьевой, влияние идеологии и практики якобинцев на большевиков в 20-х - начале 30-х годов было огромным[124], все же проводить прямую параллель, как это делал Матьез и его невольные эпигоны из "Общества историков-марксистов" в СССР, было бы ошибочным. Тем не менее, несмотря на отлучение от СССР, его идеи нашли отражение в капитальном, подготовленном к 150-летию революции труде под редакцией В. П. Волгина и Е. В. Тарле[125]. На исходе своей жизни Матьез во многом пересмотрел прежнюю идеализацию якобинской диктатуры и террора. В конце 20-х годов он писал Лукину, что, несмотря на кратковременный характер якобинского террора, этого все же "было достаточно, чтобы заставить народ ненавидеть республику и задержать на целое столетие торжество демократии"[126].
Т. Карлейль был одним из первых исследователей, который спустя 40 лет после термидорианского переворота 1794 года попытался беспристрастно разобраться в причинах массового террора во Французской революции. Он, в частности, отмечает зловещую роль "закона о подозрительных", первого акта, лишившего граждан Первой республики какой-либо правовой защиты. Он сожалеет о казнях жирондистов, скорбит о гибели Дантона и его друзей, но и не злорадствует при описании казни Робеспьера: "Да будет же Бог милосерден к нему и к нам!"[127]
Разумеется, "Французская революция" Т. Карлейля отражала тот уровень знаний и анализа, который был возможен в английском обществе 30-х годов XIX века. Его современный нам биограф Дж. Саймоне справедливо пишет, что "некоторые личности, не пользовавшиеся симпатией Карлейля, такие, как Робеспьер и Сен-Жюст, обрисованы у него однобоко, а его оценка Мирабо совершенно неприемлема с точки зрения современной науки"[128].
И все же поражает доброжелательное, без "крика", стремление Карлейля разобраться как в причинах, вызвавших массовый террор, так и в попытках нарисовать объективную картину повседневной Франции той эпохи: "...читатель не должен воображать, что царство террора было сплошь мрачным; до этого далеко. Сколько кузнецов и плотников, пекарей и пивоваров, чистильщиков и прессовщиков во всей этой Франции продолжают отправлять свои обычные, повседневные обязанности, будь то правительство ужаса или правительство радости. В этом Париже каждый вечер открыты 23 театра и... до 60 танцевальных залов. Писатели-драматурги сочиняют пьесы строго республиканского содержания. Всегда свежие вороха романов... поставляют передвижные библиотеки для чтения" [129].
С высоты сегодняшнего дня, через 200 лет после революции, хорошо видна трагедия "великих революционеров буржуазии". Искренне желая народу добра, не присвоив, как Робеспьер, ни полушки народных денег, они были в то же время доктринерами, исходили не из реальных, а из абстрактных идеалов добродетели, гуманизма, свободы, равенства и братства. Они не видели и не создали реальных рычагов народовластия, которое провозглашали на словах, так и не ввели в жизнь самую демократическую для XVIII века конституцию 1793 года. Фактически Робеспьер и его группа вернулись к принципу "просвещенного абсолютизма" - за народ думает узкая элита, правящая от имени народа, но без его участия.
Объединение добродетели и террора - страшная человеческая трагедия якобинцев. "Принципом республиканского правительства является добродетель, в противном случае - террор, - восклицал Сен-Жюст 15 апреля 1794 года. - Чего хотят те, кто не желает ни добродетели, ни террора?"
На словах монтаньяры действительно отстаивали благородные идеалы свободы, равенства и братства, к которым стремится человечество и сегодня. Все они были революционными патриотами. Вспомните Дантона: "Родину нельзя унести на подошвах своих башмаков". Робеспьер был против войны, за принцип бессословного всеобщего голосования, против дискриминации евреев, за отмену рабства негров в колониях и вообще за деколонизацию. "Лучше потерять колонии, чем лишиться принципа", - утверждал он.
Конечно, перед личным мужеством любого революционера, будь то Дмитрий Каракозов, Софья Перовская или Дантон, который даже на эшафоте не потерял чувства мужества и юмора ("Ты покажешь мою голову народу - она стоит этого", - приводит Карлейль слова Дантона, обращенные к палачу), можно только склонить голову.
Но для Робеспьера и многих его единомышленников доктрина (принцип) оказалась дороже жизни в буквальном смысле этого слова. Трагично, когда чистоту доктрины защищают... путем отсечения чужих голов, да еще во имя личной диктатуры.
В преддверии празднования 200-летия революции во Франции был проведен с помощью ЭВМ анализ социального состава жертв якобинского террора в 1793-1794 годах. Согласно его данным, "враги нации" - дворяне составляли всего 9% погибших, остальные 91% - рядовые участники революции, в том числе 28% крестьяне, 30% - рабочие. В новейшем советском исследовании в эти цифры вносится одно важное уточнение г истинных виновников голода, спекуляции, мародерства среди этих 58% "врагов нации" оказалось всего... 0,1%[130].
Глубоко справедливо суждение Ф. Энгельса в его письме К. Марксу 4 сентября 1870 года. "Террор, - писал он, - это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре"[131].
И еще одно важное суждение. Оно принадлежит великому гуманисту Жану Жоресу, написавшему на заре нашего века "Социалистическую историю Французской революции". "Революция, - говорил он, - варварская форма прогресса. Будет ли нам дано увидеть день, когда форма человеческого прогресса действительно будет человеческой?"
Доктор исторических наук профессор В. Г. Сироткин
Комментарии
К стр. 8. В 1770-1774 гг. канцлер Р.-Н. Мопу попытался провести реформу, существенно ограничивавшую полномочия парламентов и отменявшую продажу и наследование должностей. Реформа Мопу вызвала мощную оппозицию со стороны парламентов. Король Людовик XVI, вступив на престол в 1774 г., вынужден был ее отменить.
К стр. 12. "Крушитель железа (Taille fer) не разорвет даже паутинки". Тайфер де Мортен - нормандский трувер XI в. Сражался в войске Вильгельма Завоевателя и был убит в сражении с англичанами при Гастингсе в 1066 г.
К стр. 13. "Вспомним хотя бы королей вроде Людовика XI, носившего на шляпе отлитую из свинца фигурку богородицы и спокойно смотревшего на распятых на колесе, замурованных заживо". - Людовик XI был известен своей жестокостью: противников и непокорных вассалов держал в заточении в цепях в железных клетках.
К стр. 14. "Волосатый Хлодвиг на глазах всего своего войска... размахнувшись, рассек секирой голову другому волосатому франку, злорадно добавив: "Вот так ты разбил священный сосуд (св. Реми и мой) в Суассоне"". Сосуд, о котором идет речь, был захвачен язычниками-франками при разграблении церкви. Реймский епископ св. Ремигий обратился к королю Хлодвигу с просьбой вернуть сосуд. Хлодвиг согласился и при дележе военной добычи в Суассоне попросил воинов отдать ему сосуд сверх той доли, которую он должен был получить по жребию. Один из воинов возмутился нарушением обычая и разрубил сосуд секирой. Позднее, во время ежегодного сбора франков для осмотра оружия 1 марта (эти сборы назывались Мартовскими, или Марсовыми, Полями), Хлодвиг разрубил голову воину, посмевшему воспротивиться власти короля.
К стр. 14. "...В дни Меца еще ни один лепесток не упал из цветка..." Речь идет о падении престижа королевской власти во Франции в годы Регентства и правления Людовика XV.
К стр. 14. "Церковь... семьсот лет тому назад... могла позволить себе, чтобы сам император три дня простоял на снегу босиком, в одной рубашке, каясь и вымаливая себе прощение..." - Имеется в виду один из эпизодов многолетней борьбы папы Григория VII с германским императором Генрихом IV за право назначать на церковные должности. В 1077 г. отлученный от церкви и низложенный Генрих IV три дня простоял в одежде кающегося грешника у стен замка Каносса в Северной Италии, дожидаясь приема римским папой.
К стр. 15. "...Лапуль требовал отмены закона, позволявшего сеньору при возвращении с охоты убить не более двух крепостных, чтобы омыть их теплой кровью уставшие ноги". - Подобного закона никогда не существовало. Ниже речь, очевидно, идет о Ш. де Бурбоне, графе де Шароле (1700-1760), известном своей болезненной раздражительностью и бессмысленной жестокостью.
К стр. 15. "...Они только тем и занимаются, только в том и преуспели, как бы хорошо поесть да приодеться". - Карлейль повторяет аргументы идеологов; и памфлетистов третьего сословия, обвинявших дворянство в праздности, паразитизме и расточительности.
К стр. 15-16. "Стадо обязано трудиться, платить налоги... обязано обеспечивать все общество изделиями своего труда". - Крестьянство в дореволюционной Франции несло на себе тяжелое бремя феодальных повинностей и основной массы государственных налогов. Локальные исследования современных историков показывают, что размеры "феодального вычета" из валового дохода крестьян колебались от 10-12% урожая в экономически более развитых областях до 15-20% и более в районах с замедленными темпами разложения феодальных отношений. Еще большая доля валового урожая изымалась в виде государственных налогов.
К стр. 17. "...Откупщики налогов, как ни стараются, уже ничего не могут больше выжать". - В дореволюционной Франции косвенные налоги (на соль, спиртные напитки, табак и ряд других продуктов, ввозные и вывозные пошлины на границах провинций и отдельных городов) не собирались королевскими чиновниками, а отдавались на откуп компаниям финансистов, получавшим право на сбор податей, внося в казну требуемую сумму денег.
К стр. 23. "Не переставая звучат в церквах органы, поднимают раку святой Женевьевы, но все напрасно", - Святая Женевьева - покровительница Парижа. По преданию, в 451 г. ее заступничество спасло парижан от нашествия гуннов под предводительством Аттилы. Во время тяжелой болезни в Меце в 1744 г. Людовик XV дал обет в случае выздоровления заново отстроить церковь аббатства св. Женевьевы. Раку святой предполагалось перенести в эту церковь. Во время Французской революции церковь св. Женевьевы была превращена в Пантеон.
К стр. 27. "...Пост генерального контролера финансов занимает высокодобродетельный, философски образованный Тюрго, который надумал провести во Франции целый ряд реформ". - С середины XVIII в. государственные деятели Франции неоднократно предпринимали попытки реформ с целью преодолеть кризис абсолютизма. Попытка наиболее последовательных преобразований в буржуазном духе связана с именем известного ученого-экономиста А.-Р.-Ж. Тюрго (1727-1781), в 1774 г. назначенного Людовиком XVI на пост генерального контролера финансов. В 1776 г. консервативные силы добились отставки Тюрго и отмены проведенных им реформ.
К стр. 28-29. "Скромный молодой король... удалился в свои апартаменты, где и занимается под руководством некоего Гамена слесарным искусством". - В ноябре 1792 г., когда король уже был низложен, а Франция стала республикой, слесарь Гамен сообщил министру внутренних дел Ж.-М. Ролану о существовании в королевской спальне потайного сейфа, устроенного самим королем с помощью Гамена. Найденные в сейфе секретные документы изобличали Людовика XVI в тайных связях с эмигрантами и в подкупе видных политических деятелей, в том числе О.-Г. Мирабо.
К стр. 30. "...Ныне этот седой, дряхлый старик в одиночестве коротает время в Гретце..." - Речь идет о французском короле Карле X (1757- 1836), до восшествия на престол в 1824 г. носившем титул графа (не герцога) д'Артуа. Был низложен в результате Июльской революции 1830 г. и умер в изгнании.
К стр. 30. "Рабочий люд опять недоволен. Самое неприятное, пожалуй, то, что он многочислен - миллионов двадцать или двадцать пять". - Карлейль имеет в виду трудящиеся массы города и деревни. Ко времени революции население Франции достигло около 28 млн человек, из них примерно 18 млн составляли крестьяне и 3 млн - трудовое население городов (Dupaquier J. La population francaise au XVII et XVIII siecles. P., 1979. P. 79-91; Blanchi S. La revolution culturelle de l'an II. P., 1982. P. 33-34).
К стр. 30. "2 мая 1775 года к Версальскому замку стягиваются толпы изможденных, одетых в рваное и грязное тряпье людей". - Речь идет о "мучной войне", охватившей Парижский район в конце апреля - начале мая 1775 г.
К стр. 34. "...Можно согласиться с надменной Шатору, которая называла его не иначе, как мосье Faquinet". - Ж.-Ф. де Морепа, о котором идет речь, был министром Людовика XV. Известен своими постоянными столкновениями с королевскими фаворитками, одна из которых, г-жа М.-А. де Шатору, дала ему прозвище г-н Пустозвон (monsieur Faquinet).
К стр. 36. "...Хоронили обожаемого и задушенного розами патриарха тайком". - Речь идет об умершем в 1778 г. Вольтере, которому духовенство отказало в церковном погребении за то, что он отрицал божественную природу Иисуса Христа.
К стр. 36. "Взгляните, разве там, по ту сторону Атлантики, не зажглась заря нового дня?" - Здесь и ниже речь идет о Войне за независимость английских колоний в Северной Америке в 1775- 1783 гг. Франция оказывала поддержку восставшим колониям. Для ведения официальных переговоров о заключении американо-французского договора во Францию прибыл Б. Франклин. В 1777 г. в Америку отправился небольшой отряд французских волонтеров, в числе которых был М.-Ж. де Лафайет, в будущем видный деятель Французской революции. В 1778 г. Франция признала независимость США. В Америку был направлен французский экспедиционный корпус под командованием Ж.-Б. Рошамбо.
К стр. 37. "С Уэссана доносится гром корабельных орудий. Ну а чем занимался в это время наш юный принц, герцог Шартрский, прятался в трюме или, как герой, своими действиями приближал победу?" - Речь идет о герцоге Орлеанском, будущем Эгалите, который до 1785 г. носил титул герцога Шартрского. Он добровольно участвовал в войне с англичанами. О его поведении в морском сражении при Уэссане 27 июля 1778 г. сохранились крайне противоречивые отзывы, однако по возвращении в Париж ему устроили триумфальную встречу.
К стр. 38. "А тут еще беда, которая случилась с "Ville de Paris", Левиафаном морей!" - Английский адмирал Дж. Родни разгромил в Вест-Индии французскую эскадру адмирала Ф.-Ж.-П. де Грасса, один из кораблей которой назывался "Город Париж".
К стр. 38. "Что делать с финансами?" - Финансы королевства давно уже находились в критическом положении. Рост налогов не покрывал дефицита, и правительство широко прибегало к займам. В целом за годы правления Людовика XVI государственный долг утроился и к 1789 г. достиг 4,5 млрд ливров, тогда как находившаяся в то время в обращении денежная масса составляла примерно 2,5 млрд. Согласно "Отчету о состоянии казны за 1788 г.", дефицит достигал 126 млн ливров, или 20% расходов.
К стр. 38. "Но быть может, такой кошелек есть у женевца Неккера?" После отставки Тюрго и отмены его преобразований финансовое положение страны еще более осложнилось. Неккер, став в 1776 г. директором казначейства, а затем генеральным директором финансов, продолжил политику Тюрго, хотя и в более осторожной форме. Однако и более умеренный, реформаторский курс Неккера не встретил поддержки правящих верхов, и в 1781 г. Неккер получил отставку. Ее ускорил скандал, вызванный тем, что впервые в истории Франции Неккер обнародовал сведения о государственном бюджете, показав тяжелое положение финансов.
К стр. 43. "... Они боятся, как бы в это дело не вмешалась Академия наук". - По распоряжению Людовика XVI весной 1784 г. Академия занялась рассмотрением вопроса о "животном магнетизме". В ее официальном отзыве от 11 августа 1784 г. магнетизм был признан несуществующим.
К стр. 43. Кардинал ожерелья Луи де Роган. - Речь идет о знаменитом "деле об ожерелье". В 1785 г. мошенники, известные под именем графа и графини де Ламот, решили завладеть дорогим ожерельем. С этой целью они обратились к кардиналу де Рогану, зная о его намерении добиться расположения королевы и получить министерскую должность. Они сообщили де Рогану о желании королевы приобрести ожерелье с его помощью. Получив ожерелье у ювелира, кардинал отдал его графине де Ламот. Она обещала вручить его королеве, но на самом деле переправила в Англию. Чтобы усыпить бдительность де Рогана, ночью в Версале ему устроили свидание с женщиной, которую он принял за королеву. Обман раскрылся, когда ювелир потребовал от де Рогана деньги, а тот обратился к королеве, рассчитывая на благодарность за свои услуги. Граф де Ламот и замешанный в этой афере Калиостро скрылись, а де Роган и графиня де Ламот были отданы под суд. Де Рогана суд оправдал. В результате этой темной истории королева была скомпрометирована и пострадала репутация всей королевской семьи.
К стр. 44. "...Промышленность кричит своим высокооплачиваемым покровителям и руководителям: предоставьте же руководство мне самой, избавьте меня от вашего руководства!" - Развитие промышленности в дореволюционной Франции XVIII в. сдерживалось сохранением цеховой системы, регламентацией производства и торговли, предоставлением монопольных привилегий отдельным мануфактурам и торговым компаниям. С резкой критикой этих порядков в середине века выступили экономисты-физиократы. Они провозгласили принцип свободы предпринимательства наиболее соответствующим естественному порядку вещей и выдвинули известный лозунг "laissez faire, laissez passer" (дайте свободу действовать).
К стр. 51. "...Педант-военный Сен-Жермен со своими прусскими маневрами, со своими прусскими понятиями". - К.-Л. Сен-Жермен (1707-1778) - граф, в 1775-1777 гг. военный министр. На этом посту он провел ряд реформ: упразднил отряды мушкетеров и конных гренадер, сократил жандармерию, личную королевскую охрану и швейцарскую гвардию, ввел дисциплинарный устав по прусскому образцу, предусматривавший телесные наказания солдат.
К стр. 53. "...Чье появление могло быть более желанным, чем появление месье де Калонна?" - Ш.-А. Калонн (1734-1802) - генеральный контролер финансов Франции в 1783-1787 гг. В 1786 г. он представил королю широкий план реформ, в значительной мере заимствованных из опыта Тюрго и Неккера. Для обсуждения плана реформ он предложил созвать собрание нотаблей - назначенных королем знатных представителей сословий. Однако собравшиеся в 1787 г. нотабли категорически отвергли план Калонна и потребовали от правительства созыва Генеральных штатов для решения вопроса о налогах и возможных реформах. В апреле 1787 г. Калонн получил отставку и вынужден был эмигрировать в Англию.
Говоря о "маленьком грешке" Калонна, Карлейль намекает на подозрение в доносительстве. Калонна обвиняли в том, что, будучи в доверительных отношениях с оппозиционно настроенным бретонским магистратом Л.-Р. Ла Шалоте, он передал канцлеру Р.-Н. Мопу сведения, компрометирующие Ла Шалоте.
К стр. 60. "Шесть предложений" нотаблей. - Речь, очевидно, идет о резолюциях собрания нотаблей по поводу шести предложений Калонна, составлявших первую часть его плана реформ (предложения об учреждении провинциальных собраний, о земельном налоге, об уплате долгов духовенства, о налоге Талье, о торговле зерном и о дорожной повинности). Нотабли одобрили свободу торговли зерном и отмену дорожной повинности, остальные предложения Калонна были подвергнуты резкой критике.
К стр. 62. "...Давнее средство, известное всем, даже самым простым людям, - заседание в присутствии короля". - Так называлось торжественное заседание Парижского парламента, на которое являлся король в окружении принцев крови и членов своего совета. Согласно обычаям французской монархии, в таком случае парламент был обязан немедленно зарегистрировать выносимые на его рассмотрение указы, не давая к ним никаких поправок. Подобным образом 6 августа 1787 г. были зарегистрированы эдикты, предложенные Ломени де Бриенном.
К стр. 66. "Эдикт о взимании второй двадцатины". - Двадцатины взимались во Франции с 1750 г. и представляли собой прямой налог в размере 5% стоимости имущества и доходов лиц всех сословий. У Карлейля, очевидно, допущена неточность. Вторая двадцатина была введена в 1756 г. в связи с началом Семилетней войны. В данном случае речь идет о третьей двадцатине, срок взимания которой истекал 31 декабря 1786 г.
К стр. 67. "Либеральный эдикт о равноправии протестантов". - Имеется в виду эдикт от 19 ноября 1787 г. об узаконении браков и гражданского состояния протестантов. Парижский парламент зарегистрировал его в конце января 1788 г. после долгих обсуждений. В провинции сопротивление эдикту было еще сильнее.
К стр. 67. "...Эдикт о "приведении приговоров в исполнение"". Королевская декларация от 1 мая 1788 г. запретила приводить в исполнение смертный приговор раньше, чем через месяц после его вынесения. Она содержала также положения об отмене пыток и о том, что в приговоре должно быть указано, на каком основании он вынесен.
К стр. 70. "...Пусть пройдет всего лишь три года, и этот требовательный парламент увидит поверженным своего врага". - Под "врагом" здесь, очевидно, подразумевается генеральный контролер финансов Э.-Ш. Ломени де Бриенн, который в 1791 г. (через три года после описываемых событий) принес гражданскую присягу и сложил с себя пожалованный ему в 1788 г. сан кардинала. В 1793- 1794 гг. подвергался арестам и умер в тюрьме.
К стр. 71. "Можно учредить второстепенные суды". - В дореволюционной Франции существовало три основных типа судебных учреждений: верховные суды (парламенты), суды второго разряда (президиальные суды, трибуналы бальяжей и сенешальств, превотства) и специализированные суды. Здесь речь идет о судах второго разряда.
К стр. 71. "Таков план Ломени -Ламуаньона". - План судебной реформы был подготовлен Ламуаньоном. Цель плана заключалась в том, чтобы подавить парламентскую оппозицию, лишив парламенты права вмешиваться в законодательство и в управление финансами.
К стр. 76. "Едва комендант или королевский комиссар". - В присутствии коменданта или королевского комиссара осуществлялась принудительная регистрация эдиктов провинциальными парламентами, подобная процедуре lit de justice в Парижском парламенте.
К стр. 76. "Оно не приносит доброхотного даяния (don gratuit)". - Так назывался регулярный взнос духовного сословия в королевскую казну, вносимый с согласия ассамблей духовенства и заменявший прямые налоги.
К стр. 81."Парижский парламент уже однажды высказался в пользу "старой формы" 1614 года". - К осени 1788 г. правительство капитулировало перед оппозицией. На май 1789 г. было намечено открытие Генеральных штатов, отменены эдикты Ламуаньона о судебной реформе и восстановлены прежние полномочия парламентов. После этого на первый план выдвинулся вопрос о процедуре работы Генеральных штатов. Парижский парламент высказался за их созыв по форме 1614 г., т. е. за посословную структуру Генеральных штатов и посословное голосование. Лидеры и идеологи третьего сословия и поддержавшее их либеральное дворянство требовали ввести двойное представительство третьего сословия и поименное ' голосование. Вновь призванный на пост генерального директора финансов Неккер созвал в ноябре 1788 г. второе собрание нотаблей, чтобы определить процедуру созыва и работы Генеральных штатов. Подавляющее большинство нотаблей высказалось за созыв штатов по форме 1614 г.
К стр. 82. "...Монсеньер д'Артуа и другие принцы заявляют в торжественном "Адресе королю"". - Речь идет об "Адресе принцев", представленном королю 12 декабря 1788 г. Его авторы требовали сохранить сословную структуру и сословное голосование в Генеральных штатах, а также весь сословный строй, привилегии и феодальные повинности. Авторы "Адреса принцев" впоследствии стали вождями контрреволюции.
К стр. 84. "Сам Неккер еще за две недели до конца года вынужден представить доклад". - В острой борьбе по вопросу о процедуре созыва и работы Генеральных штатов Неккер занял компромиссную позицию. 27 декабря 1788 г. он выступил в Королевском совете с докладом, в котором высказался за двойное представительство третьего сословия. От решения главного спорного вопроса о посословном или поименном голосовании он уклонился.
К стр. 86. "Бретонское дворянство вынуждено разрешить обезумевшему миру идти своим путем". - Дворянство Бретани отказалось участвовать в выборах в Генеральные штаты и составлять наказ в знак протеста против нарушения провинциальных привилегий.
К стр. 132. "Было воскресенье, когда раскаленные ядра угрожающе нависли над нашими головами; сегодня пятница и "революция одобрена". Верховное Национальное собрание подготовит конституцию". - В воскресенье 12 июля в Париже начались столкновения горожан с ранее стянутыми к столице войсками, которые переросли в народное восстание 12-14 июля. После взятия Бастилии Людовик XVI уступил требованию Национального собрания отозвать войска из Парижа. В пятницу 17 июля король посетил Ратушу и утвердил в должностях выбранных парижанами мэра Ж.-С. Байи и командующего Национальной гвардией М.-Ж. де Лафайета. В знак единения с народом король принял из рук мэра трехцветную кокарду.
К стр. 133. "Эти люди сообщают с озабоченным видом, что приближаются грабители, они уже рядом, а затем едут дальше по своим делам, и будь что будет!" - Карлейль пишет о явлении, известном под названием великого страха. В июле - августе 1789 г. по Франции прокатились волны паники. Ходили слухи о "заговоре аристократов", о нашествии банд разбойников и иноземных солдат под предводительством дворян, не желавших платить налоги. Под воздействием этих слухов крестьяне вооружались и объединялись в отряды, а затем начали громить замки и жечь архивы с описями феодальных повинностей.
К стр. 133. "...Вооруженное население повсюду записывается в Национальную гвардию". - После взятия Бастилии в городах развернулась "муниципальная революция", в ходе которой были созданы новые органы местного самоуправления. Образцом для них стал служить городской муниципалитет Парижа - Парижская коммуна. В новых муниципалитетах преобладали местные буржуа, либеральные дворяне и священники. "Муниципальная революция" сопровождалась повсеместным формированием Национальной гвардии.
К стр. 155. "К концу августа наше Национальное собрание в своих конституционных трудах продвинулось уже вплоть до вопроса о праве вето". Первоначально депутаты Учредительного собрания разделились на "аристократов" (защитников старого порядка) и "патриотов" (сторонников преобразований). Постепенно среди "патриотов" наметилось размежевание. Группа "монархистов" (Ж.-Ж. Мунье, Т.-Ж. Лалли-Толандаль, П.-В. Малуэ и др.) выступала за конституционную монархию с двухпалатным парламентом и правом короля налагать абсолютное вето на постановления обеих палат. Большинство Собрания составляли "конституционалисты" (М.-Ж. Лафайет, О.-Г. Мирабо, Э.-Ж. Сиейес и др.), предлагавшие учредить монархию с однопалатным парламентом и приостанавливающим вето короля. Более левые позиции занимал "триумвират" (А. Барнав, А. Дюпор, А. де Ламет), требовавший сильнее ограничить королевскую власть. На крайне левом фланге находилась небольшая группа депутатов (М. Робеспьер, Ф. Бюзо, Ж. Петион и др.), добивавшихся конституционной монархии со всеобщим избирательным правом и отвергавших любое королевское вето. В сентябре 1789 г. подавляющим большинством голосов Учредительное собрание отвергло проект образования верхней палаты и высказалось за предоставление королю права приостанавливающего вето.
К стр. 188. "...Они рыцарски выплатят пенсию своей матери, когда предъявится Красная книга, рыцарски будут ранены на дуэлях". - Речь идет о двух участниках революции, братьях Шарле и Александре де Ламетах, но сказанное прежде всего относится к первому. Он был ранен на состоявшейся по политическим мотивам дуэли с герцогом де Кастри. В упомянутой Красной книге были записаны фамилии людей, получавших королевские пенсии. Когда ее предъявили Учредительному собранию, стало известно, что семье де Ламет было пожаловано 60 тыс. франков. На следующий день Ш. де Ламет вернул указанную сумму в Собрании. В результате этого мать Ламетов лишилась пенсии и оказалась на попечении у своих сыновей.
К стр. 190. Гражданская конституция духовенства (или гражданское устройство духовенства). - Реформа церкви, проведенная в 1790 г., имела целью поставить католическую церковь на службу государству и превратить священников в государственных служащих. Отменялась административная зависимость французской церкви от Ватикана. Регистрация актов гражданского состояния из ведения церкви передавалась государственным органам. Устанавливалась выборность священников и епископов прихожанами. Все священнослужители должны были принести гражданскую присягу, и им вменялось в обязанность разъяснять прихожанам постановления Национального собрания. Римский папа предал анафеме гражданское устройство духовенства. В результате французское духовенство раскололось на присягнувшее (или конституционное) и неприсягнувшее. Почти все епископы и около половины низшего духовенства отказались принести гражданскую присягу. Неприсягнувшее духовенство, оказывавшее сильное влияние на верующих, встало на путь борьбы с революцией.
К стр. 191. "...Карпантра осажден Авиньоном". - Расположенные на юге Франции Авиньон и графство Венессен со столицей в г. Карпантра были владениями римского папы. С началом революции жители Авиньона сформировали муниципалитет и Национальную гвардию и стали требовать присоединения к Франции. Летом 1790 г. в городе вспыхнуло контрреволюционное восстание, которое быстро было подавлено местной Национальной гвардией. Жители Карпантра предпочли сохранить верность римскому папе. В 1791 г. между Авиньоном и Карпантра началась гражданская война, в которой Авиньон опирался на поддержку Национальной гвардии других городов Юга. В сентябре 1791 г. декретом Учредительного собрания Авиньон и графство Венессен были присоединены к Франции, однако кровавые столкновения на этом не прекратились.
К стр. 195. "Loi martiale". - Закон о военном положении был принят Учредительным собранием 21 октября 1789 г. Он давал право местным властям вводить военное положение на подчиненной им территории, использовать Национальную гвардию и регулярные войска для подавления народных волнений.
К стр. 200. Составление муниципальной конституции. - В начале революции была осуществлена коренная реформа административно-территориального деления. По закону от 22 декабря 1789 г. вводилось деление страны на департаменты, дистрикты, кантоны и коммуны. Новые органы местной власти были выборными. Однако вразрез с принципом гражданского равенства, провозглашенным в Декларации прав человека и гражданина, Учредительное собрание в октябре 1789 г. ввело цензовую систему выборов и деление граждан на "активных" и "пассивных". Права "активных" граждан получили мужчины, достигшие 25 лет, платившие прямой налог в размере местной трехдневной заработной платы (не ниже 1,5 - 3 ливров) и не находившиеся в услужении. Только они имели право голоса и могли вступить в Национальную гвардию. "Активных" граждан оказалось примерно 4,3 млн человек (при населении около 28 млн человек, из которых взрослые мужчины составляли 8- 9 млн человек). Для выборщиков, которые могли избирать депутатов Национального собрания (закон предусматривал двухстепенные выборы в Национальное собрание), устанавливался еще более высокий имущественный ценз. Кандидат в депутаты Национального собрания, согласно декрету от 3 ноября 1789 г., обязан был обладать земельной собственностью и платить прямой налог в размере одной марки серебром (около 52 ливров). Коммуны больших городов делились на секции. По муниципальному закону о Париже от 21 мая - 27 июня 1790 г. столица была разделена на 48 секций (вместо прежних 60 округов, на которые был разбит Париж для выборов в Генеральные штаты): Тюильри, Елисейских Полей, Руль (позднее переименована в секцию Республики), Пале-Руаяль (позднее Бют-де-Мулен, потом Монтань), Вандомской площади (Пик), Библиотеки (1792, Лепелетье), Гранж-Бательер (Мирабо, Монблан), Лувра (Музея), Оратуар (Французской гвардии), Хлебного рынка, Почт (Общественного договора), площади Людовика XIV (Май, Вильгельма Телля), Фонтен-Монморанси (Мольер-и-Лафонтен, Брута), Бон-Нувель, Понсо (Друзей Отечества), Моконсей (Бон-Консей), Рынка Невинных (Рынка), Ломбарда, Арси, Предместья Монмартр (Предместья Мон-Марат), Пуассонъер, Бонди, Тампля, Попенкур, Монтрей, Кенз-Вен, Гравилье, Предместья Сен-Дени (Северного предместья), Бобур (Единения), Анфан-Руж (Маре, Вооруженного Человека), Короля Сицилии (Прав Человека), Отель-де-Виль (Коммунального дома, Верности), Королевской площади (Федератов, Неделимости), Арсенала, Острова Сен-Луи (Братства), Нотр-Дам (Сите, Разума), Генриха IV (Понт-Неф, Революционная), Инвалидов, Фонтен-де-Гренель, Четырех Наций (Единства), Французского театра (Марселя, Марата), Красного Креста (Красного Колпака), Люксамбур (Муция Сцеволы), Терм Юлиана (Борепер, Шалье), Святой Женевьевы (Французского Пантеона), Обсерватории, Ботанического сада (Санкюлотов), Гобеленов (Финистер).
К стр. 230. "Эта последняя поправка внесена в закон в сравнительно недавнее время одним из военных министров". - Согласно принятому в 1781 г. ордонансу военного министра маршала Ф.-А. Сегюра, для получения офицерского чина в королевской армии требовалось быть дворянином как минимум в третьем поколении.
К стр. 295. "И вот в воскресенье 17-го происходит нечто достойное воспоминания". - В результате "Вареннского кризиса" (так принято называть политический кризис, вызванный попыткой бегства короля в июне 1791 г.) во Франции впервые развернулось массовое республиканское движение. С требованиями низложить Людовика XVI особенно активно выступали парижский Клуб кордельеров и различные народные общества. 17 июля 1791 г. Клуб кордельеров организовал на Марсовом поле манифестацию для принятия республиканской петиции. Учредительное собрание повелело мэру Парижа Ж.-С. Байи разогнать собравшихся. С этой целью на основании закона о военном положении Коммуна Парижа использовала Национальную гвардию под командованием Лафайета. Национальная гвардия открыла огонь по демонстрантам, 50 человек было убито и множество ранено. За расстрелом на Марсовом поле последовали другие репрессивные меры: были отданы под суд лидеры демократического движения, запрещен ряд газет республиканской направленности, закрыт Клуб кордельеров (его заседания возобновились в конце июля). Политическим выражением раскола революционного лагеря на конституционных монархистов и республиканцев явился раскол Якобинского клуба. 16 июля сторонники конституционной монархии (А. Барнав, А. Дюпор, братья Ламет и др.) вышли из него и образовали Клуб фейянов.
К стр. 298. Принятие конституции. - Дебаты по конституции закончились в августе 1789 г. Ее принятием 3 сентября Учредительное собрание завершило свою работу. Во Франции установился режим конституционной монархии. Органом законодательной власти являлось однопалатное Законодательное собрание, формировавшееся путем цензовых двухстепенных выборов. Наследственный монарх возглавлял исполнительную власть и, кроме того, обладая правом "приостанавливающего вето", мог отсрочить принятый Собранием закон. Конституция закрепила проведенную реформу местной власти. Вводились выборность судей, гласность судопроизводства с участием сторон и суд присяжных. В конституции декларировались новые внешнеполитические принципы: отказ от завоевательных войн и использования своих вооруженных сил против свободы другого народа.
К стр. 330. "После должных потоков красноречия война декретирована в тот же вечер". - В феврале 1792 г. Австрия и Пруссия заключили против Франции военный союз. В самой Франции королевский двор добивался объявления войны, надеясь подавить революцию с помощью интервентов. Жирондисты активно пропагандировали идею революционной войны с тиранами Европы. Против войны выступали фейяны, опасавшиеся связанных с нею внутренних потрясений. М. Робеспьер и его сторонники противились объявлению войны, призывая сосредоточить все силы на борьбе с внутренней контрреволюцией. Верх одержали сторонники войны, и 20 апреля 1792 г. Франция объявила войну Австрии.
К стр. 354. "Пусть прежние муниципальные советники сложат с себя полномочия и мандаты перед лицом избравшей их верховной народной власти и передадут их этим новым ста сорока четырем!" - Для руководства народным восстанием 10 августа 1792 г. парижские секции образовали повстанческий центр. В него вошли по три представителя от каждой из 48 секций Парижа. Так возникла Повстанческая коммуна, или Коммуна 10 августа. Она взяла власть в столице в свои руки. В сентябре 1792 г. были проведены довыборы в Коммуну Парижа, и численность ее Генерального совета увеличилась до 288 человек.
К стр. 404. Провозглашение республики. - В результате народного восстания в Париже 10 августа 1792 г. монархия пала. Начались выборы в новый орган законодательной власти Национальный конвент. В них участвовали все мужчины, достигшие 21 года и не состоявшие в услужении. Таким образом, было ликвидировано деление граждан на "активных" и "пассивных". 20 сентября Конвент приступил к работе. На следующий день он принял декрет об уничтожении королевской власти, а 22 сентября провозгласил Францию республикой.
К стр. 423. Три голосования. - Осенью 1792 г. во Франции разгорелись ожесточенные споры о дальнейшей судьбе короля. Жирондисты взывали к тому, что конституция 1791 г. гарантировала неприкосновенность его особы. Коммуна Парижа, секции, народные общества, клубы и коммуны провинциальных городов добивались предания Людовика XVI суду за измену. В Конвенте их требования поддержали монтаньяры. 15-16 января в Конвенте состоялись голосования по трем вопросам: виновен ли Людовик в злоумышлениях против свободы нации и безопасности государства; нужна ли апелляция к народу по поводу вынесенного приговора; какого наказания заслуживает Людовик? Король был почти единогласно признан виновным; большинством голосов Конвент отверг апелляцию к народу; 387 голосами против 334 Людовик был приговорен к смертной казни.
К стр. 446. "Carte de civisme". - Удостоверение о цивизме (гражданской благонадежности) выдавалось революционными комитетами коммун и секций. В период якобинской диктатуры такое удостоверение должен был иметь каждый гражданин Согласно декрету от 17 сентября 1793 г., те, кому было отказано в выдаче удостоверения о цивизме, объявлялись "подозрительными" и подлежали аресту.
К стр. 456. "...Второй день июня 1793 г. по старому стилю, а по новому - первого года Свободы, Равенства и Братства". - Здесь Карлейль неточен. Первым годом Свободы называли 1789 год. 22 сентября 1792 г. Конвент постановил отныне датировать все государственные акты первым годом Французской Республики. Согласно введенному осенью 1793 г. республиканскому календарю, летосчисление также начиналось с первого года Республики (1792 г.), а не с первого года Свободы. Республиканский календарь официально действовал с 1 вандемъера II года (22 сентября 1793 г.).
К стр. 471. "Ведь Вандея еще пылает, увы, в буквальном смысле; негодяй Россиньоль сжигает даже мельницы". - В первой половине марта 1793 г. на северо-западе Франции началось антиреволюционное крестьянское восстание. Против восставших крестьян, которых возглавили роялисты, были брошены правительственные войска. Военные действия велись с крайней жестокостью с обеих сторон. С января по май 1794 г. на территории Вандеи действовали две правительственные армии, разделившиеся на 20 "адских колонн". Они прочесывали местность, убивали крестьян, разрушали и жгли их дома. Эти карательные акции и имеет в виду Карлейль. По подсчетам современного французского историка, в результате гражданской войны департамент Вандея потерял более 117 тыс. человек, или около 15% населения (Secher R. Le genocide franco-francais: La Vendee-Venge. P., 1986. Partie IV. Ch.
1).
К стр. 480. "...Они говорят... Да будет террор в порядке дня!" Карлейль односторонне рассматривает якобинский террор, объясняя его происхождение исключительно злой волей якобинских вождей. Проблема террора во время Французской революции сложна, и споры вокруг нее не утихают до сих пор. Необходимо учитывать, что якобинское правительство создало систему государственного террора в чрезвычайных обстоятельствах, когда в стране одновременно шли гражданская война (крестьянский мятеж на северо-западе и так называемый федералистский мятеж на юге, в котором активно участвовали жирондисты) и война против коалиции. Объяснение истоков якобинского террора внешними, объективными факторами сложилось в классической французской историографии XIX в. Эта точка зрения, известная как "теория обстоятельств", нашла отражение уже у видного представителя школы историков Реставрации Ф. Минье. Но одного этого объяснения явно недостаточно, так как на путь террора французских революционеров вели и субъективные факторы, т. е. особенности их мировоззрения. Причем инициатива в развязывании террора исходила не от якобинских вождей, как считает Карлейль. Изначально они были приверженцами гуманистических идеалов свободы и неприкосновенности личности. М. Робеспьер в первые годы революции настойчиво требовал отмены смертной казни.
Стихийный террор впервые пришел снизу. Уже взятие Бастилии, как показывает Карлейль, сопровождалось кровавыми расправами над теми, в чьем лице толпа видела врагов. Сильный всплеск народного терроризма, также описанный Карлейлем, произошел в начале сентября 1792 г. Год спустя, 4- 5 сентября 1793 г., санкюлоты с оружием в руках вышли на улицы Парижа, требуя от Конвента "поставить террор в порядок дня" и "внушить ужас всем заговорщикам". В ответ на это Конвент решил реорганизовать созданный в марте 1793 г. Революционный трибунал, упростив судопроизводство, и принял декрет об аресте "подозрительных". Жесткость толпы отчасти была реакцией на узаконенное насилие, пытки (их применение официально отменили только в 1788 г.) и публичные варварские казни, распространенные в XVIII в. Кроме того, насилие порождалось свойственным сознанию участников революции стремлением к полному уничтожению старого мира и к основанию нового мира, очищенного от следов прошлого. Это стремление было присуще как народной массе, так и революционной элите.
Другой особенностью мировоззрения французских революционеров, породившей у них упование на спасительную силу террора, была фанатичная вера в правоту своего дела и крайняя нетерпимость к противникам. Они представляли себе французский народ как единое целое, спаянное общим интересом, и считали себя выразителями этого интереса. Во всяком инакомыслящем они видели преступника и врага революции. С подобным взглядом на общество якобинские вожди закономерно пришли к тому, что стали полагаться на террор как на способ разрешения всех конфликтов. Введенный как средство борьбы с врагами революции, государственный террор использовался и для расправы с ее защитниками. Постепенно он превратился в орудие борьбы за власть между якобинскими вождями, и они сами стали его жертвами. По приблизительным подсчетам американского историка Д. Трира, общее число жертв якобинского террора достигло 35-40 тыс. человек (Greer D. The Incidence of the Terror during the French Revolution. Cambridge (Mass.), 1935). В это число не входят погибшие в ходе гражданской войны в северо-западных департаментах.
К стр. 488. "Осел в священном облачении с митрой на голове... шествует... по направлению к могиле мученика Шалъе". - Осенью 1793 г. во Франции развернулось движение "дехристианизации", инициаторами которого выступали радикально настроенная интеллигенция и городские низы. Во многих местах закрывались церкви, священников заставляли отрекаться от сана, католический культ запрещался и заменялся созданным на основе идей Просвещения "культом Разума". Наряду с почитанием разума и прочих гражданских добродетелей распространился народный по своим истокам культ "мучеников свободы": Ж.-П. Марата, M. Лепелетье и М.-Ж. Шалье. Характерными для того времени церемониями были дехристианизаторские карнавалы, один из которых описан Карлейлем. Отношение народа к "дехристианизации" было неоднозначным. Большинство народа, прежде всего крестьянство, не поддерживало уничтожения католического культа. В этих условиях Конвент 6 декабря 1793 г. осудил крайности антиклерикального движения и принял декрет о свободе культов.
К стр. 496. "Фактически правительство можно по справедливости назвать революционным". - Летом - осенью 1793 г. во Франции сложился режим революционной диктатуры, или, как его официально называли, "революционное правление". Конвент сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Он принимал законы, а исполнительную власть осуществляли его комитеты и депутаты, направлявшиеся в армии и департаменты в качестве комиссаров, наделенных широкими полномочиями. Центральное места в системе органов революционной диктатуры занял Комитет общественного спасения. За борьбу с внутренней контрреволюцией отвечал Комитет общественной безопасности. Для подавления контрреволюции, проведения реквизиций и охраны продовольствия была создана "революционная армия".
К стр. 497. "В самом деле, Шометт и компания представляют род сверхъякобинства, или неистовую "партию бешеных (des Enrages)", которая возбуждает в последние месяцы некоторые подозрения у ортодоксальных патриотов". - Карлейль смешивает представителей разных революционных группировок, близких к санкюлотскому движению. Участники активно развернувшей свою агитацию в конце 1792 г. группировки "бешеных" (Ж. Ру, Ж. Варле, Т. Леклерк и др.) были активистами парижских секций и членами Клуба кордельеров. "Бешеные" оказались в числе первых жертв пропагандировавшегося ими террора. Их руководители были арестованы в сентябре 1793 г. Возглавлявший Парижскую коммуну П.-Г. Шометт и его сторонники представляли собой одну из "крайних" группировок в период якобинской диктатуры. Кроме них на левом фланге находились Ж.-Р. Эбер и его сторонники в Клубе кордельеров, а также левое крыло Якобинского клуба. В позициях различных "крайних" группировок имелись серьезные расхождения.
К стр. 517. "Декрет от 22-го прериаля, предложенный Кутоном". - В соответствии с декретом от 22 прериаля II года о реорганизации Революционного трибунала в качестве единственного наказания за все преступления, рассматриваемые в этом трибунале, устанавливалась смертная казнь. Обвиняемые лишались права иметь защитника, вызов свидетелей и предъявление вещественных улик признавались необязательными. Достаточным основанием для вынесения смертного приговора стали моральные соображения, возникшие у присяжных и вызвавшие у них уверенность в виновности подсудимого.
К стр. 521. "Носятся смутные слухи относительно аграрного закона: победоносный санкюлотизм становится земельным собственником". - "Аграрным законом" в годы Французской революции называли всеобщий равный передел земель. Идея "аграрного закона" выдвигалась в народных петициях, ее защищал Ж.-Р. Эбер. Для основной массы якобинцев она была неприемлема. В марте 1793 г. Конвент принял декрет, устанавливающий смертную казнь за пропаганду "аграрного закона". Якобинская республика сохранила этот декрет в силе. Вместе с тем якобинцы приняли аграрное законодательство, беспрецедентное в истории буржуазных революций. По декрету 17 июля 1793 г. крестьяне безвозмездно освобождались от всех феодальных повинностей. 3 июня 1793 г. Конвент постановил продавать конфискованные и объявленные национальными имуществами земли эмигрантов мелкими участками с уплатой за них в рассрочку в течение 10 лет. По закону от 10 июня все захваченные сеньорами в прежние годы общинные земли объявлялись собственностью крестьянских общин и крестьяне получали право осуществить равный подушный раздел этих земель при условии, что за него выскажутся не менее 1/3 членов общины. Вопреки утверждению Карлейля это не привело к сколько-нибудь значительному перераспределению земель в пользу бедноты. Стремясь заручиться поддержкой народных низов в условиях обострения политической борьбы и активизации эбертистов, 8 и 13 вантоза II года (26 февраля и 3 марта 1794 г.) Конвент по докладу Л.-А. Сен-Жюста принял два декрета, которые предписывали конфискацию имущества лиц, признанных врагами революции, и использование фонда конфискованных земель для помощи неимущим. Вантозские декреты остались на бумаге и не привели к перераспределению земельной собственности.
Примечания
[1] Пан (греч, миф. ) - первоначально почитался как бог стад и полей, покровитель пастухов, затем приобрел значение всеобъемлющего божества, олицетворяющего природу.
(обратно)[2] Пристли Джозеф (1733-1804) - английский химик, философ-материалист. В 1794 г., преследуемый реакционными кругами, эмигрировал в США.
(обратно)[3] Клопшток Фридрих Готлиб (1724-1803) - немецкий поэт, автор прославленной в свое время поэмы "Мессиада". Творчеством Клопштока начинается расцвет немецкой литературы XVIII в.
(обратно)[4] Бентам Иеремия (1748-1832) - английский философ, социолог, юрист, родоначальник философии утилитаризма.
(обратно)[5] Наблюдательный комитет Парижской коммуны был организован 14-15 августа 1792 г.
(обратно)[6] Моморо Антуан Франсуа - активный член Клуба кордельеров, член директории Парижского департамента после 10 августа 1792 г.
(обратно)[7] Филоктет (греч. ) - царь Мелибеи (в Фессалии). Принял участие в походе на Трою греческих царей. От руки Филоктета пал Парис. Миф о Филоктете отразился в трагедиях Эсхила, Еврипида, Софокла.
(обратно)[8] Чрезвычайный трибунал, учрежденный 17 августа 1792 г.
(обратно)[9] Альбигойцы - широко распространенная ересь, возникшая в XII в. в экономически развитой Южной Франции. Альбигойцы требовали радикальной реформы церкви, ликвидации церковной иерархии, упрощения культа. В 1209 г. папа Иннокентий III организовал против альбигойцев крестовый поход, приведший к полному разорению цветущего юга Франции.
(обратно)[10] Клерфэ (1733-1798) - австрийский генерал.
(обратно)[11] Борепер Никола Жозеф (1738-1792) - комендант Верденской крепости в 1792 г.
(обратно)[12] Имеются в виду три раздела Польши в конце XVIII в. между Пруссией, Австрией и Россией.
(обратно)[13] Т. е. Дюмурье. Полипет - один из вождей фессалийских войск под Троей.
(обратно)[14] Т. е. вшивая. Так называлась часть провинции Шампань с малоплодородными землями.
(обратно)[15] Фермопилы - горный проход к югу от Фессалийской равнины. Во время греко-персидских войн в 480 г. до н. э. 300 спартанцев во главе с царем Леонидом стойко обороняли Фермопилы от персов и все погибли в неравном бою.
(обратно)[16] Фашины - пучки хвороста, перевязанные скрученными прутьями; в средние века употреблялись для постройки военных укреплений, заполнения рвов или возвышения местности.
(обратно)[17] Мильтон Дусон (1608-1674) - крупнейший английский поэт и политический деятель эпохи Английской буржуазной революции XVII в. Автор эпических поэм "Потерянный рай" и "Возвращенный рай", библейские образы которых воссоздают пафос революционной эпохи.
(обратно)[18] Мизерере - от латинского слова "miserere" - смилостивиться. Этим словом начинается один из псалмов, положенный на музыку многими композиторами.
(обратно)[19] Орк (Оркус), лат. - римское божество смерти, доставлявшее тени людей в подземное царство.
(обратно)[20] Последний довод, последнее средство (лат. ).
(обратно)[21] Людовику XVI, принадлежавшему к младшей линии династии Капетингов, после его низложения было присвоено гражданское имя Капет.
(обратно)[22] Консьержери - тюрьма в Париже, занимающая часть здания Дворца правосудия, в годы революции место заключения лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности.
(обратно)[23] Ассигнаты были выпущены во Франции во время революции (19-20 декабря 1789 г. ) в виде пятипроцентных государственных ценных бумаг, обеспечиваемых конфискованными церковными и эмигрантскими землями. Впоследствии ассигнаты превратились в бумажные деньги, курс которых постоянно падал.
(обратно)[24] Тор - второе после Одина божество древних скандинавов. Изображался в виде великана с длинной рыжей бородой, в одной руке держащего скипетр, в другой - молот.
(обратно)[25] Ювенал Децим Юний (ок. 60 - ок. 127) - римский поэт-сатирик.
(обратно)[26] Сохранившиеся документы не позволяют точно определить число жертв так называемого первого террора. Согласно подсчетам французского историка П. Карона, в сентябрьские дни 1792 г. в Париже могло быть убито от 1090 до 1395 человек из 2782 заключенных в девяти тюрьмах, где совершались избиения.
(обратно)[27] От 9 до 13 сентября 1572 г. - Примеч. авт.
(обратно)[28] Имеется в виду Манифест Наблюдательного комитета Коммуны, с которым она обратилась 3 сентября 1792 г. ко всей революционной Франции.
(обратно)[29] Лазовский Клод - поляк, капитан канониров секции Гобеленов.
(обратно)[30] 21 сентября 1792 г. было объявлено провозглашение Республики. День 21 сентября по решению Конвента стал начальной датой "новой эры" - IV года свободы, первого года Республики. В Конвент было избрано 750 депутатов. Правую Конвента составляли жирондисты, они имели около 200 мест; левую Конвента - депутаты Горы - якобинцы, они имели свыше 100 мест. Большинство Конвента составляли депутаты, формально не примыкавшие ни к Горе, ни к Жиронде и получившие ироническое название Болота или Равнины. По своему положению депутаты Конвента в большинстве были юристами, служащими и людьми свободных профессий.
(обратно)[31] Каррье Жан Батист (1756-1794) - прокурор, депутат Конвента от департамента Канталь, комиссар Конвента в Нанте в 1793 г.
(обратно)[32] Цирцея - волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней, дав им выпить волшебный напиток.
(обратно)[33] Адмет (греч. ) - фессалийский герой, царь Фер, участник Калидонской охоты и похода аргонавтов.
(обратно)[34] Изгнание (букв, лат.: "уходят" - театральная ремарка).
(обратно)[35] Сообщение Марата в "Debats des Jacobins" и "Journal de la Republique" признает факт повертывания на каблуках, но старается объяснить его иначе. Примеч. авт.
(обратно)[36] В ходе революционной войны 1792 г. французские войска заняли входившие в состав Сардинского королевства Ниццу (28 сентября) и герцогство Савойское (21 сентября).
(обратно)[37] Паш Жан Никола (1746-1823) - военный министр в 1792 г., мэр Парижа в 1793-1794 гг.
(обратно)[38] Гассенфрац Жан Анри (1755-1827) - химик, сотрудник Лавуазье, член Коммуны 10 августа.
(обратно)[39] Сарданапал - последний царь Ассирии (668- 625 гг. до н. э. ), предававшийся различным излишествам и непомерному чревоугодию.
(обратно)[40] Карл I (1600-1649) - английский король с 1625 г. В ходе Английской буржуазной революции XVII в. низложен и казнен как "тиран, изменник, убийца и враг государства".
(обратно)[41] Жемап - селение в Бельгии, близ которого 6 ноября 1792 г. войска революционной Франции разбили австрийские войска.
(обратно)[42] Варле Жан Франсуа - активный деятель секции Прав Человека, участник движения "бешеных".
(обратно)[43] Феликс, со свойственной ему любовью к чудесному, полагает, что самоубийцей в гостинице был не Пари, а какой-нибудь его двойник. -Примеч. авт.
(обратно)[44] Площадь Революции - площадь у берега Сены, между садом Тюильри и Елисейскими Полями. Центр площади занимала конная статуя Людовика XV. Первоначально площадь называлась его именем. В 1792 г. она переименована в площадь Революции, с 1795 г. - площадь Согласия.
(обратно)[45] Способ казни, придуманный агригентским тираном Фаларисом (VI в. до н. э. ).
(обратно)[46] Дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, герцогиня Ангулемская (1778-1851).
(обратно)[47] Петр Амьенский (1050-1115), прозванный Петром Пустынником. Был одним из руководителей крестьянского ополчения в первом крестовом походе.
(обратно)[48] Ян Жижка (ок. 1360-1424) - национальный герой чешского народа, полководец. Участник Грюнвальдской битвы 1410 г. С 1420 г. гетман таборитов.
(обратно)[49] Брандер - судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое поджигали и пускали по ветру или течению на неприятельские корабли.
(обратно)[50] Кимвал (греч. ) - древний музыкальный инструмент в виде двух медных тарелок.
(обратно)[51] Шалье Мари Жозеф (1747-1793) - глава лионских якобинцев.
(обратно)[52] Жиронда требовала, чтобы Марат, "виновный в подстрекательстве к покушению на национальное представительство", предстал перед судом Революционного трибунала. Он был направлен туда декретом, принятым 12 апреля 1793 г. большинством в 226 голосов против 93 при огромном числе не участвовавших в голосовании.
(обратно)[53] По христианским представлениям, столица ада.
(обратно)[54] Анакреон (ок. 570-478 гг. до н. э. ) - древнегреческий поэт-лирик.
(обратно)[55] Мейан (1748-1809) - владелец источников минеральных вод и грязей в Даксе и магазина в Байонне, депутат Конвента от департамента Нижние Пиренеи.
(обратно)[56] Против глупости бессильны сами боги (нем. ).
(обратно)[57] Аспид - ядовитая змея. Уст. - злой, коварный человек.
(обратно)[58] Девкалион, согласно греческому мифу, спасся с женой Пиррой от потопа, ниспосланного Зевсом, и создал новый человеческий род из камней.
(обратно)[59] Миранда Франсиско (1750-1816) - генерал, венесуэльский патриот, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке, друг Петиона и жирондистов. В Париже появился в 1791 г., получил назначение в Северную армию под началом Дюмурье.
(обратно)[60] Форстер Георг (1754-1794) - немецкий просветитель и революционный демократ, публицист, автор декретов 1793 г. о провозглашении Майнца республикой и о присоединении его к революционной Франции.
(обратно)[61] Кук Джеймс (1728-1779) - английский мореплаватель.
(обратно)[62] Красные мундиры - старинное прозвище английских солдат. Красные мундиры были введены в парламентской армии после военной реформы 1645 г.
(обратно)[63] Спасайся, кто может (фр. ).
(обратно)[64] Дампьер Огюст -Анри Мари, маркиз (1756- 1793). 4 апреля 1793 г., был временно назначен главнокомандующим Северной и Арденнской армиями. Во время попытки отбить натиск Конде 8 мая 1793 г., когда он шел в атаку во главе своих войск, ему оторвало ядром ногу. Он умер на следующий день. 11 мая Конвент принял постановление о перенесении его останков в Пантеон.
(обратно)[65] Т. е. государственных деятелей.
(обратно)[66] Ласурс Марк Давид (1763-1793) - протестантский священник, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Тарн.
(обратно)[67] Левассер (из Сарты) Рене (1747-1834) - депутат Конвента от департамента Сарта, монтаньяр.
(обратно)[68] Подонки, мерзавцы (фр. ).
(обратно)[69] Карманьола - короткая куртка с несколькими рядами металлических пуговиц, какую носили жители Карманьолы в Пьемонте. В сочетании с длинными черными штанами, трехцветным жилетом и красным колпаком - одежда, широко распространенная в народе в период Французской революции. Отсюда и название революционной народной песни и танца "Карманьола".
(обратно)[70] Она была жива до 1817 г., содержалась в Сальпетриере и находилась в самом отталкивающем состоянии безумия. - Примеч. авт.
(обратно)[71] Эро де Сешель Мари Жан (1759-1794) - депутат Конвента от департамента Сена и Уаза, комиссар Конвента в Савойе, член Комитета общественного спасения,
(обратно)[72] Эта глава в истории Французской революции завершается установлением якобинской диктатуры.
(обратно)[73] Саль Жан Батист (1759-1794) - депутат Генеральных штатов, депутат Конвента от департамента Мерт, один из основателей Клуба фейянов
(обратно)[74] Вимпфен Луи Феликс, барон (1744-1814) - член Учредительного собрания, главнокомандующий армией федералистов в Нормандии в 1793 г.
(обратно)[75] Марк Юний Брут (85-42 гг. до н. э. ) - один из руководителей заговора против Цезаря и организаторов его убийства. В период Французской революции XVIII в. почитался как образец республиканской добродетели.
(обратно)[76] 22 сентября 1792 г. - это 1-е вандемьера года первого, и новые месяцы все состоят из 30 дней каждый; итак,
Прибавить к/ количество дней/К числу дней в/Число дней в месяце
Vendemiaire Brumaire Frimaire Nivose Pluviose Ventose Germinal
21 21 20 20 19 18 20
Сентябрь.. Октябрь.. Ноябрь... Декабрь... Январь... Февраль... Март
30 31 30 31 31 28 31
Floreal Prairial
19 19
Апрель... Май
30 31
Messidor
18
Июнь....
30
Thermidor
18
Июль
31
Fructidor
17
Август
31
В каждом году пять санкюлотид, а в високосном году - еще и шестая, которые следует добавлять к месяцу фрюктидору. Первый високосный год в календаре Ромма - "год 4" (1795, а не 1796), что вносит дополнительную путаницу в дни каждого четвертого года с 23 сентября до 29 февраля. Новый календарь был отменен 1 января 1806 г. (Choix des Rapports XIII, 83-89; ХIХ, 199). - Примеч. авт.
(обратно)[77] В 1793 г. тулонские роялисты подняли контрреволюционный мятеж и, обратившись за помощью к Англии, впустили в город английские и испанские войска.
(обратно)[78] Худ (1724-1816) - английский адмирал, отличился во время войны в Америке, нанес поражение французскому адмиралу де Грассу.
(обратно)[79] Преси Луи, граф (1742-1820) - подполковник в конституционной гвардии короля в 1791 г., главнокомандующий мятежными войсками в Лионе в 1793 г.
(обратно)[80] Тиртей (вторая половина VII в. до н. э. ) - древнегреческий поэт-лирик. По преданию, хромой школьный учитель, посланный афинянами в Спарту взамен требуемой военной помощи и сумевший своими песнями поднять боевой дух спартанцев.
(обратно)[81] Флегетон (греч. ) - одна из рек преисподней.
(обратно)[82] Коцит - "Река Плача" в подземном царстве.
(обратно)[83] Осселен Шарль Никола (1752-1794) - депутат Конвента от Парижа.
(обратно)[84] Ронсен Шарль Филипп (1751-1794) - член Клуба кордельеров, помощник военного министра в апреле 1793 г., командующий революционной армией осенью 1793 г.
(обратно)[85] Изабо Клод Александр - депутат Конвента от департамента Эндр и Луара.
(обратно)[86] По мнению А. Олара, принятие Республиканского календаря было из всех мер революции, направленных против христианства, самой значительной. Счет дней по декадам лишал воскресенье его значения, то же можно сказать о значении декадных праздников для религиозных церемоний. Эта попытка дехристианизации повседневной жизни была дополнена декретом от 15 брюмера II года (5 ноября 1793 г. ) - установлением совокупности гражданских празднеств (см.: Жорес Ж. Указ. соч. Т. VI. С. 275).
(обратно)[87] Ксенофонт (ок. 430-355 или 354 гг. до н. э. ) - древнегреческий писатель и историк.
(обратно)[88] "Бешеными" жирондисты называли группу плебейских революционеров, которые выступили в конце 1792 - начале 1793 г. выразителями социальных устремлений городских трудящихся низов.
(обратно)[89] У Прюдома рассказывается об ужасной жестокости a la капитан Кирк, этого Кавеньяка, которая была занесена в словари des Hommes Marquans, Biographie Universelle etc.; но в этом не только нет правды, но, что особенно странно, можно доказать, что в этом рассказе нет никакой правды. Примеч. авт.
(обратно)[90] Речь идет о мирных договорах 1795 г., заключенных между Францией и двумя из участников первой антифранцузской коалиции (Пруссией, признавшей переход к Франции левого берега Рейна, и Испанией). Знаменовали начало распада коалиции.
(обратно)[91] Шапп Клод (1763-1805) - французский механик. В 1793 г. изобрел семафорный (оптический) телеграф и в 1794 г. построил первую его линию между Парижем и Лиллем.
(обратно)[92] Флерюс - селение в Бельгии, около Шарлеруа. При Флерюсе 26 июня 1794 г. во время войны революционной Франции против первой антифранцузской коалиции французская армия генерала Ж. Журдана нанесла поражение австрийским войскам.
(обратно)[93] В мусульманской мифологии ангел смерти.
(обратно)[94] Доброго Санкюлота Иисуса (фр. ).
(обратно)[95] Новалис (наст, имя и фамилия Фридрих фон Гарденберг) (1772-1801) немецкий поэт-романтик.
(обратно)[96] Рассказ Вилата очень любопытен, но его не следует принимать за достоверный, без подтасовки, так как в сущности, несмотря на свое название, это не рассказ, а защитительная речь. - Примеч. авт.
(обратно)[97] Мемуары о тюрьмах (фр. ).
(обратно)[98] Меда уверяет, что это он с удивительной храбростью, хотя не совсем удачно, подстрелил Робеспьера. Меда выдвинулся благодаря своим заслугам в эту ночь и умер генералом и бароном. Не многие верили его словам, да они и невероятны. - Примеч. asm.
(обратно)[99] Евтерпа - в греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии и музыки.
(обратно)[100] Закон, принятый в 1679 г. английским парламентом против королевского произвола, обеспечивал право всех граждан на освобождение под залог до судебного разбирательства.
(обратно)[101] 1 февраля 1796 г. на бирже Парижа золотой луидор в 20 фр. серебром стоит 5300 фр. ассигнациями (Montgaillard. IV, 419). - Примеч. авт.
(обратно)[102] Последние римляне (лат. ).
(обратно)[103] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.
(обратно)[104] Вторично эту книгу перевели в 1904 году.
(обратно)[105] Яковенко В. И. Т. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891.
(обратно)[106] Кареев Н. И. Томас Карлейль. Его жизнь, его личность, его произведения, его идеи. СПб., 1923."
(обратно)[107] Саймоне Дж. Карлейль. М., 1981 (предисловие Св. Бэлзы).
(обратно)[109] Термин взят из некролога 1926 г. Н. И. Бухарина на внезапную смерть Ф. Э. Дзержинского.
(обратно)[111] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.
(обратно)[112] Адо А. В. Буржуазная ревизия истории Французской революции XVIII в. // Социальные движения и борьба идей. Проблемы истории и историографии. М., 1982.
(обратно)[113] Pure F. faut-il celebrer le bicentenaire de la Revolution francaise // L'Histoire. 1983. N 52.
(обратно)[114] Цит. по: Молчанов H. Революция на гильотине // Литературная газета. 1986. 9 июля. С. 14.
(обратно)[115] Цит. по: Сироткин В. Г. Идеалы двух великих революций // Культура и жизнь. 1989. No 7.
(обратно)[116] Молчанов Н. Н. Монтаньяры. M , 1989. С. 553.
(обратно)[117] Цит. по: Правда. 1988. 21 окт.
(обратно)[118] Луначарский А. В. Просвещение и революция. M., 1926. С. 93.
(обратно)[119] Ревуненков В. Г. К истории споров о Великой Французской революции // Великая Французская революция и Россия. М., 1989. С. 34-44.
(обратно)[120] Матьез А. Французская революция. Т. 1-3. М. ; Л., 1925-1930; Он же. Борьба с дороговизной и социальные движения в эпоху террора. М. ; Л., 1928.
(обратно)[121] См.: Брачев В. С. "Дело" академика С. Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. No 5. С. 126-129.
(обратно)[122] Лукин H. M. Новейшая эволюция Альбера Матьеза // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 43. Впрочем, последний перевод его очередного труда еще успел выйти, хотя сразу же был запрещен к распространению. - Матьез А. Термидорианская реакция. М., 1931.
(обратно)[123] Mathiez A. Le Bolchevisme et le Jacobinisme. P., 1920. P. 3-4.
(обратно)[124] Kondratieva T. Bolcheviks et Jacobins. P., 1989.
(обратно)[125] Французская буржуазная революция. 1789- 1794 гг. М.; Л., 1941. В годы культа личности И. В. Сталина почти вся группа историков-марксистов во главе с H. M. Лукиным, готовившая этот труд, была репрессирована, а слово "Великая" из названия книги вычеркнуто. По мнению И. В. Сталина, "великой" могла быть только Октябрьская революция.
(обратно)[126] Цит. но: Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 43.
(обратно)[127] См. С. 527 данной книги.
(обратно)[128] Саймоне Дж. Указ. соч. С. 163.
(обратно)[129] См. С. 482 данной книги.
(обратно)[130] См.: Молчанов H. H. Монтаньяры. С. 551.
(обратно)[131] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 33. С. 45.
(обратно)

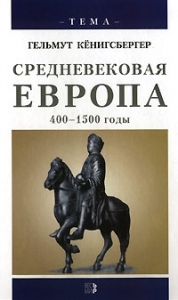
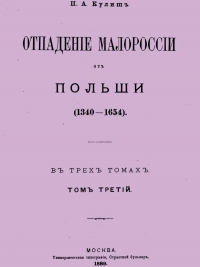
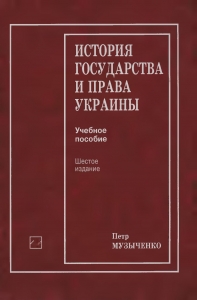
Комментарии к книге «Французская революция, Гильотина», Томас Карлейль
Всего 0 комментариев