Александр Бушков Екатерина II: алмазная Золушка
Сколько бы мы ни помышляли о благополучии человечества, никакой законодатель, никакой философ существа вещей переменить не может. Весьма вероятно, что род наш необходимо должен быть таковым, каковым мы его знаем, т. е. странным смешением добрых и худых качеств. Воспитание и науки могут распространить круг наших познаний, доброе правление может сделать лицемеров, кои будут носить личину добродетели, но никогда не переменят сущности души нашей.
Фридрих Великий. Из письма маркизу д’Аламберу, 18 мая 1782 г.Глава первая Самый причудливый век
Хорошенько запомните эпиграф – мы будем к нему возвращаться снова и снова, поскольку, по моему глубокому убеждению, эти слова наилучшим образом объясняют многое как в деятельности и героини этой книги, Екатерины Великой, так и в ее времени, романтическом и жутком восемнадцатом столетии. Хотя... Все сказанное Фридрихом в полной мере относится и к нашему нынешнему времени: и наука не в пример развитее, и воспитание располагает немыслимыми во времена Екатерины и Фридриха техническими возможностями, а вот поди ж ты – род человеческий по-прежнему являет собой «странное смешение добрых и худых качеств»...
Так что Фридриха Великого никак нельзя упрекать в пессимизме. Конечно, эти строки им написаны на закате, в семьдесят лет, за четыре года до смерти, когда практически все его свершения и поражения были уже позади. Но, поскольку они, как только что говорилось, ни капли актуальности не утратили, дело тут вовсе не в старческом усталом пессимизме, той самой житейской грусти, что заставила библейского царя Соломона заказать кольцо с надписью «Все проходит», а библейского пророка Екклесиаста – написать пронзительно-щемящую в своей запредельной тоске книгу...
В конце-то концов, еще в 1768-м Фридрих писал тому же маркизу д’Аламберу, своему многолетнему корреспонденту, нечто крайне схожее: «Не правда ли, что електрическая сила, и все чудеса, кои поныне ею открываются, служат только к возбуждению нашего любопытства? Не правда ли, что притяжение и тяготение удивляют только наше воображение? Неправда ли, что всех химических открытий такие же следствия? Не менее ли от сего происходит грабительств по большим дорогам? Сделались ли от сего откупщики ваши менее жадны? Возвращаются ли с большею точностью залоги? Менее ли клевет, истребилась ли зависть, смягчились ли сердца ожесточенные? Итак, какая нужда обществу в сих нынешних открытиях, когда философия небрежет о чести нравственной, к чему древние прилагали все свои силы?»
Это уже не пессимизм. Это – убеждения. Значительно обогнавшие свое время: тогдашние просвещенные умы, крупные ученые, современники Фридриха, наоборот, полагали, что развитие науки и техники само по себе, волшебным образом, и общество преобразит, и нравы облагородит, и людей сделает в сто раз лучше и чище...
Сегодня мы знаем, что это не так. А вот двести с лишним лет назад прусский король был едва ли не единственным, кто шел «против течения»...
Но книга, в конце концов, не о нем. Книга – о женщине, чья судьба не уступает по фантастичности истории Золушки из сказки Шарля Перро. Знатная, но бедная девчонка из микроскопического германского княжества стала единоличной правительницей огромной Российской империи – не в сказке, а в самой доподлинной реальности. Начало этой феерической карьеры зависело от других людей – но потом слишком многое, почти все зависело исключительно от нее. Не только современники (что, в конце концов, можно списать на примитивную лесть), но и потомки признавали за ней пусть и неписаный, но от того не ставший менее блистательным титул Великой.
А это ведь очень серьезно, господа мои. На протяжении всего восемнадцатого столетия только три монарха удостоились от современников и потомков прозвания Великий: Петр I, Фридрих II и Екатерина II. Подобными титулами не разбрасывались...
Наша Золушка уникальна!
В первую очередь оттого, что слишком многого она добилась собственными трудами, собственной волей, энергией, умом. В мировой истории не раз случалось, что женщины (да и мужчины тоже), вынырнув из неизвестной никому сточной канавы и перепорхнув прямиком в королевскую постель, становились титулованными дамами, усыпанными брильянтами... Классический пример – Екатерина I, девица до сих пор не проясненного историками происхождения, ставшая императрицей всероссийской.
Но это – совсем другое! Сама Екатерина тут, собственно, и ни при чем. Все происходило как бы помимо нее. Сначала смазливую девочку углядели в захваченном городе русские драгуны, хозяйственно утащили в обоз и достаточно долго учили под телегами незатейливой походно-полевой любви. Потом ее углядел фельдмаршал Шереметев, пользуясь служебным положением, выкупил у солдат за пару рублевиков, забрал себе и учить стал уже единолично. У фельдмаршала красотку самым нахальным образом отобрал Александр Данилыч Меншиков, известный шарлатан насчет дамских сердцов – а уж от него Катенька перешла к государю императору и так его очаровала постельными талантами (ничего удивительного – после стольких-то учителей!), что он, в конце концов, с ней обвенчался законным образом. Когда же Петр помер, и вдова стала единоличной правительницей, она себя не проявила абсолютно ничем таковым – только подмахивала подсунутые Меншиковым государственные бумаги да пила беспробудно, отчего в конце концов и отправилась преждевременно вслед за грозным супругом...
С Екатериной Великой все обстояло совершенно иначе. Почти всем успехам и достижениям она обязана исключительно самой себе, и с этим не поспоришь...
Но прежде чем подробно и обстоятельно рассказать о Екатерине, следует, сдается мне, посвятить целую главу ее времени – «веку золотому Екатерины», восемнадцатому столетию.
Право же, это уникальное столетие! Другого, столь же причудливого, поражающего сочетанием самых несовместимых вещей, событий и порядков, в мировой истории, пожалуй что, и не отыщется...
Потому что это был переходный век. Неким рубежом пролегший между двумя совершенно несхожими столетиями, отличавшимися друг от друга, как небо от земли.
Век семнадцатый – еще почти полное всевластие королей, жизнь, в значительной степени основанная на идеях, практике и укладах средневековья.
Век девятнадцатый – бешеный рывок научно-технического прогресса (пароходы и паровозы, телефон и телеграф, электрическое и газовое освещение, воздухоплавание и открытие радиоактивности), широко распространившееся образование, расположившиеся повсюду парламенты и получившие немалую власть над обществом газеты, невиданные прорывы в медицине, сельском хозяйстве, многих науках.
И между ними этот переходный, причудливый, совместивший, казалось бы, несовместимое, восемнадцатый век... Времена, когда наугад, почти вслепую нащупывали дорогу и сами не понимали, куда же она, собственно, ведет. Времена экспериментов решительно во всем. Времена, когда не было ничего почти устоявшегося – государственные границы мало походили на те, к которым привыкли позже, а будущее известнейших впоследствии личностей зависело от бытовых случайностей, висело на волоске: один шажок в сторону пропасти – и...
Каким же оно было, восемнадцатое столетие, таким романтичным предстающее на экранах?
Начнем с того, что тогдашнее человечество не знало других источников энергии, кроме ветра и воды. «Лошадиная сила» была не абстрактной единицей измерения мощности, а самой натуральной лошадью, которую нужно было уметь содержать и лечить. Не было ни электричества, ни паровых машин. Вообще. Ездили на лошадях или в каретах, дома освещались свечами. Печи топили дровами и углем. Токарные и типографские станки приводились в движение теми, кто на них работал – сам себе и мастер, и двигатель.
Вообще-то об электричестве уже кое-что знали – так, самую чуточку. Было известно, что «електрическая сила» существует – но никто и представления не имел, можно ли ее приспособить к реальному делу, и как ее вообще приспособить. Как раз в год рождения Екатерины, в 1729-м, некто С. Грей открыл: абсолютно все, что есть на свете, делится на две категории: тела, проводящие электричество, и тела, такового не проводящие. Для своего времени – открытие эпохальнейшее, без малейшей иронии...
Лишь в семидесятые годы восемнадцатого столетия в испанских университетах стали открыто учить студентов, что Земля шарообразна и вращается. Боже упаси, не подумайте, что до того времени кто-то полагал, будто Земля плоская! Ничего подобного. О том, что Земля круглая и вращается, в Испании прекрасно знали уже во времена Колумба – и, между прочим, заключали межгосударственные договоры о разделе сфер влияния в Америке как раз исходя из того, что наша планета – шар. Просто... Просто-напросто власть имущие полагали, что лишние знания широким массам абсолютно ни к чему. Так оно гораздо спокойнее – когда мозги подданных знаниями не особенно и перегружены... И налоги собирать легче, и вообще...
О микробах уже имели некоторое представление – еще в конце семнадцатого столетия голландец Антоний ван Левенгук изобрел микроскоп. Новомодное изобретение быстро распространилось по Европе, и в него разглядывали микробов, бактерий, инфузорий и прочих невидимых простым глазом крохотулек – но исключительно забавы ради. Практически на всем протяжении восемнадцатого века никто не связывал микробов и эпидемии. Лучшие умы тогдашней науки в простодушии своем полагали, что микробы «самозарождаются» во всякой гнили – и это всеобщее заблуждение французский ученый Пастер опроверг только в шестидесятых годах века девятнадцатого...
Ну, а поскольку никому и в голову не приходило, что микробы, вульгарно говоря, разносят заразу, то ни о какой санитарии и гигиене тогдашняя медицина не заботилась. Врачи и акушерки, принимавшие роды, тщательно мыли руки не до того, как подступали к пациенткам, а после. В результате свирепствовала хворь под названием «родильная горячка» – точнее говоря, целая куча болезней, вызываемых исключительно тем, что эскулапы немытыми руками заносили инфекцию. Смертность среди рожениц и детей была потрясающая.
Хирурги обходились без наркоза, которого к тому времени тоже еще не изобрели. Операции они, в общем, делать навострились (главным образом всевозможные ампутации), но вместо привычной нам общей или местной анестезии беднягу пациента либо глушили по голове специальным деревянным молотком, чтобы ненадолго выпал из реальности, либо поступали чуточку гуманнее – напаивали вином вусмерть. На фоне жуткого похмельного синдрома, согласитесь, отсутствие ноги или руки можно перенести гораздо легче, нежели на трезвую голову...
На протяжении всей первой половины восемнадцатого столетия по Европе, от Мадрида до Петербурга, еще болтались живые пережитки прошлых веков – странствующие алхимики, обещавшие любому, кто готов был платить звонкой монетой, сделать груды чистого золота из любого мусора с помощью загадочного «философического эликсира».
Черт побери, до чего изобретательный был народ! Одни применяли «капеллы» – горшки, на дно которых клали золотой порошок, а потом делали фальшивое дно из воска. Горшок ставили на огонь, наливали туда «философический эликсир», довольно долго в сосуде что-то бурлило, кипело и воняло – и, наконец, к радости клиента, там обнаруживалось золото. Правда, потом, когда алхимик, всучив заказчику за кругленькую сумму флакончик эликсира, растворялся в безвестности, золота почему-то уже не получалось, сколько ни кипяти...
Другие использовали выдолбленные палочки, помешивали ими варево, незаметно подбрасывая золотые опилки. Третьи демонстрировали всем и каждому гвозди, монеты и прочие металлоизделия, наполовину состоявшие опять-таки из чистейшего золота: мол, опустил краешком в философический эликсир, и вот что получилось, сами убедитесь, люди добрые...
С подобными цирковыми номерами чуть ли не всю Европу объездил, собирая денежки с доверчивых простаков, итальянский «адепт всевозможных тайных наук и алхимии» Каэтано, без всяких на то законных оснований именовавший себя «графом». Однако в Пруссии у него вышла осечка. Тамошний король Фридрих Вильгельм I был человеком суровым – и, когда не дождался не то что обещанных «графом» шести миллионов талеров, но и гроша ломаного, велел без суда и следствия итальянца вздернуть. Ну, и вздернули, конечно – уже на самой обычной виселице, не на позолоченной, как принято было в старину...
Правда, иногда из алхимических опытов неожиданным образом получалась польза. Были среди алхимиков не только циничные шарлатаны, но и упертые фанатики, искренне верившие, что магический эликсир существует, и открыть его можно при необходимом упорстве. Один из таких «упертых», Иоганн Бетгер, чуточку тронувшись умом от бесчисленных экспериментов, вообразил, будто все же изобрел «философический эликсир» – и до тех пор болтал об этом на всех перекрестках, пока его не похитили агенты саксонского курфюрста. Засадили в уединенный замок, оборудовали великолепную лабораторию и велели:
– Ну, делай золото... Страдивари! А то у нас и пытошные имеются...
Бетгер так и не сделал ни крупинки золота – но зато неожиданно как для окружающих, так и для себя самого, придумал, как изготовить самый натуральный, первоклассный фарфор (который тогда ввозили из Китая, в Европе делать не умели, и стоил он по этой причине бешеные деньги). Так и появились на свет знаменитые Мейсенские заводы, обогатившие Саксонию...
К чести наших предков, следует непременно упомянуть, что в России никогда ни один алхимик ни гроша не выцыганил из казны, как ни пытался. В 1740 году, скажем, некий голландец Иоанн де Вильде объявился в Петербурге, полагая, должно быть, что тамошние дикари поверят любым сказкам – и предложил за скромную сумму всего в тысячу червонцев открыть способ, «как делать ежемесячно по сто червонцев золотом». Императрица Анна Иоанновна (далеко не такая тупая баба, как принято считать), высочайше повелела, чтобы под носом у голландцев изобразили некую фигуру из трех пальцев.
Через год, уже при Елизавете Петровне, заявился с похожими предложениями некий французик де Шевремон, то ли настоящий барон, то ли самозваный. Этот по мелочам не работал: кроме денег, просил еще графский титул, высший русский орден Андрея Первозванного и пост русского посла при французском дворе. Вылетел из Петербурга, толком не успев сообразить, что с ним произошло, и откуда у него пониже спины отпечаток подошвы... Представления не имел, придурок, что еще в 1731 г. «Ведомости Санкт-Петербургской академии наук» напечатали огромную статью «Об алхимиках», где таким, как он, давно воздали должное. Не следил за русской научной литературой.
Итак, восемнадцатый век...
Германии как единого государства не существовало. На ее месте расположилось триста с лишним суверенных государств – некоторые вполне приличных размеров, но многие можно было за день обойти по всему периметру границ. Вообще-то все это аж с девятого века именовалось «Священной Римской империей германской нации», и все эти долгие столетия без всяких перерывов кто-нибудь да занимал императорский трон – но этот пышный титул приносил лишь моральное удовлетворение. Реальной власти у императора не было, никто ему не подчинялся, никто его не слушался...
Англия с Шотландией только в 1707 г. объединились в одно государство, получившее название Великобритания. Но после этого шотландцы устроили еще парочку крупных восстаний, борясь за прежнюю независимость. Их с превеликим трудом победили – и еще несколько десятков лет, говоря современным языком, прессовали по-черному, заставляя носить вместо юбок штаны. Упорные шотландские мужики сопротивлялись, как могли (по их твердому убеждению, только клетчатая юбка могла считаться настоящей мужской одеждой, а портки таскали всякие воры, мошенники и педерасты, вроде англичан). Но, в конце концов, поняли, что против власти не попрешь, и с тяжкими вздохами стали натягивать штаны...
Единой Италии опять-таки не существовало. Там, правда, было не триста суверенных государств, а гораздо меньше. Два королевства: Королевство Обеих Сицилий и Сардиния. Три герцогства: Милан, Парма и Модена. Великое герцогство Тоскана. Две республики – Генуя и Венеция. Не маленькое по размерам Папское государство, где вся власть принадлежала римским папам. И, наконец, загадочная Область Президии, о которой мне, несмотря на все поиски, не удалось ничего раскопать.
И все бы ничего, но на протяжении всего восемнадцатого столетия французские короли и австрийские императоры воевали меж собой за Итальянские провинции – причем все войны разворачивались на итальянской территории, а мнением самих итальянцев на этот счет не интересовались совершенно. Легко догадаться, что итальянцам приходилось несладко – их регулярно и со вкусом грабили то те, то эти, а то, что осталось, в виде налогов отбирали местные короли с герцогами. Осатанев от такой жизни, итальянцы массами бросали к чертовой матери разоренное хозяйство и подавались куда глаза глядят. Кто посмирнее уходил в нищие, кто посмелее – в разбойники. Тогдашняя Италия занимала первое место в Европе по количеству нищих и разбойников, заполонивших города и большие дороги...
Собственно говоря, никакой такой «Австрии» в те времена не существовало. Государство имелось, конечно, и немаленькое, и императоры в нем правили отнюдь не слабые и не бесправные – но тогдашняя австрийская империя именовалась «наследственным владением дома Габсбургов», официально, во всех бумагах.
Границы России, еще не устоявшиеся, нам сегодня кажутся чертовски непривычными. На западе они проходили неподалеку от Смоленска – а дальше простиралась Польша. Точнее, Речь Посполитая, чуточку шизофреническое государственное образование, где шляхта выбирала короля, восседавшего затем на троне в качестве исключительно декоративной фигуры.
Крым еще принадлежал татарским ханам, а земли к северу от него стояли необитаемые и неосвоенные. Там, где сейчас плотина Днепрогэса, вольготно обитала Запорожская Сечь – разросшаяся до гигантских размеров разбойничья шайка, грабившая всех подряд и служившая кому попало, лишь бы платили (об этом бандюганском сборище – чуть погодя).
Что еще? Ах, да, существовала еще Голландия, вольная республика, прославившаяся в восемнадцатом столетии своей уникальной системой налогов, по количеству и разнообразию способной соперничать разве что с фантазиями Петра Великого.
Подоходный налог, конечно. Налог на слуг – тот, кто держит слуг, платит государству налог с каждой головы, от престарелого дворецкого до сопливого поваренка. И превеликое множество налогов на потребление: «на вина и крепкие напитки, уксус, пиво, все виды зерна, разные сорта муки, на фрукты, на картофель, на сливочное масло, строительный лес и дрова, торф, уголь, соль мыло, рыбу, табак, курительные трубки, на свинец, черепицу, кирпич, на все виды камня, на мрамор». Сплошь и рядом налог равнялся стоимости самого продукта.
Быть может, оттого так и расцвела в Голландии живопись, что не было налога на холсты, краски и кисти?
Даже география планеты еще не устоялась! Точнее говоря, на картах оставалась масса белых пятен. Страну великанов, куда очередным штормом забросило Гулливера, Джонатан Свифт поместил в Тихом океане, где-то между Японией и Северной Америкой. И читатели в то время верили, что речь в книге идет о реальном плавании реального человека: очень уж много было на Земле совершенно неисследованных районов, и можно было допустить, что существуют еще где-то большие неоткрытые острова...
Мало того, и религии, принятые в том или ином государстве, могли в одночасье обрушиться! Об этом мало кто знает, но какое-то время в начале своего царствования Петр I всерьез носился с идеей ввести в России вместо православия... католичество. Именно так, не более и не менее.
Эту историю подробно излагает в своих знаменитых «Мемуарах» герцог де Сен-Симон, французский политический деятель и писатель (в достоверности записок коего ученый мир, в общем, давно не сомневается).
«Сей монарх, желавший вывести и себя, и свою страну из варварства и расширить ее пределы с помощью завоеваний и договоров, понимал, насколько необходимо родниться посредством браков с наиболее могущественными государями Европы. Поэтому ему стало необходимо католичество, которое с греческим обрядом разделяет столь немногое, что он полагал не особенно трудным свой план введения его у себя... Однако он был достаточно умен и потому прежде решил уяснить себе, каковы притязания Рима. Потому он послал туда некоего человека, способного собрать сведения».
Посланный, однако, хотя и проболтался в Вечном Городе полгода, ничего толкового Петру не сообщил. Тогда...
«Петр выбрал князя Куракина, о котором знал, что он человек просвещенный и умный, и велел ему поехать в Рим якобы из любознательности, предвидя, что перед столь знатным вельможей откроются двери самых лучших, значительных и выдающихся людей в Риме, и он, оставшись там под предлогом, будто ему нравится римская жизнь и хочется не торопясь все повидать и отдать дань восхищения чудесам всякого рода, в изобилии собранным в этом городе, будет иметь время и возможность наиболее полным образом получить сведения, интересующие царя. Куракин действительно прожил там три года, бывая, с одной стороны, у ученых, а с другой – в лучшем обществе, и постепенно узнал все, что хотел знать».
Мотивы Петра Сен-Симон тут же указывает: «Страстное желание открыть своему потомству возможность сочетаться браком с католическими монархами Европы, а главное, добиться чести соединиться родственными узами с царствующими домами Франции и Австрии».
Однако – не сложилось: «Прочитав длинный и верный отчет Куракина, царь вздохнул и сказал, что он хочет быть властелином у себя и не желает ставить над собой кого-то более великого, чем он, и перестал думать о переходе в католичество».
Стоить ли верить Сен-Симону касательно замыслов Петра? На все сто. Поскольку то, о чем он пишет в мемуарах, великолепно сочетается со множеством других факторов, а вдобавок еще и с характером Петра и его внешнеполитическими устремлениями...
Сен-Симон завершает: «Князь Куракин не делал тайны из этой истории про интерес царя к Риму. Все, кто знал его, слышали, как он рассказывал от этом; он обедал у меня, я обедал у него, и я много беседовал с ним и с большим удовольствием слушал его разговоры на самые разные темы».
Князь, о котором идет речь, – одна из заметнейших фигур петровского царствования. Это – Борис Иванович Куракин, свояк Петра, женатый на Ксении, сестре Евдокии Лопухиной. Когда Петр упек Евдокию в монастырь, на свояке это никак не отразилось. Куракин – государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник и полковник Семеновского полка. В двадцать один год прошел обучение в Венеции, участвовал в Нарвском сражении, взятии крепости Нотебург, Полтавской битве, выполнял множество ответственейших дипломатических поручений. В 1707 г. прибыл в Рим – официально для того, чтобы добиться непризнания Ватиканом в качестве польского короля неугодного России Станислава Лещинского. Но, в полном соответствии с рассказом Сен-Симона, задержался в Вечном Городе очень уж надолго. Что было предельно странно: Петр никому из своих сподвижников (и вообще всему дворянству) не позволял бездельничать, долгими месяцами болтаться по заграницам ради собственного удовольствия. Служить должны были все, от безусого прапорщика до престарелого фельдмаршала. Чтобы освободиться от государевой службы, нужно было либо прийти в совершеннейшую дряхлость, либо получить особенно жуткие увечья (одноногих и одноруких в покое обычно не оставляли, пристраивая на всевозможные «нестроевые» должности, где и с недочетом в конечностях можно справиться).
И тем не менее Куракин долго, очень долго торчал в Риме. Не имея никаких официальных служебных надобностей...
Не стоит сомневаться и в том, что Петр хотел породниться с крупнейшими монархами Европы. В 1723 г. тот же Куракин вел в Париже переговоры касательно возможной женитьбы французского принца на царевне Елизавете Петровне – но французы довольно резко отказали. Причина лежит на поверхности: дело тут вовсе не в том, что царевна была из «дикой Московии». Просто-напросто Романовы, занявшие престол без году неделя, в Европе, как это ни прискорбно для нашего национального самолюбия, совершенно не котировались (особенно если учесть, что маменька Елизаветы, хотя и коронованная по всем правилам императрица, происхождения была самого «подлого», и ее бурная биография была в Париже прекрасно известна...
Одним словом, в глазах французских и австрийских монархов «герр Питер» был этаким выскочкой, женатым к тому же на крайне сомнительной особе. Это с Иваном Грозным, родовитейшим Рюриковичем, родственником многих европейских монархов, Европа разговаривала со всем почтением. А вот выскочек в старинных королевских домах не особенно жаловали. Сохранилась обширная переписка того же Грозного со шведским королем (королем, так сказать, в первом поколении, поскольку его папенька был не королем, а простым правителем) – Иоанн Васильевич вдоволь, не выбирая выражений, поиздевался над «мужицкого рода королем» и даже нормальных отношений на уровне послов с ним не поддерживал, а сносился через новгородского наместника, считая, что с «мужика» и этого достаточно. Шведский король, что характерно, вынужден был это терпеть, поскольку «монаршество» его и в самом деле было чересчур уж новехоньким, еще упаковка, можно сказать, в углу валялась, и свежей краской несло от позолоты...
Словом, на Елизавету не позарились, а двух других дочерей Петр вынужден был выдать замуж за князьков Голштинии и Курляндии, которые на карте можно было закрыть медной копейкой. У этих господ, хотя и родовитых так, что далее некуда, в казне гуляли сквозняки, а потому было не до спеси...
Был еще один весомейший мотив, кстати, по которому Петр крайне нуждался в сближении с Австрией. Петр всю жизнь искал сильных союзников против Турции – а Австрия, граничившая тогда с турецкими владениями, со Стамбулом воевала долго и упорно...
Вряд ли можно было ожидать от Петра каких бы то ни было колебаний идейно-морального плана. Его отношение к религии вообще и православию в частности прекрасно известно. Петра даже нельзя назвать «неверующим» – этот человек настолько демонстративно и вызывающе поставил себя вне религии, что иные упрямо считали, что это и не человек вовсе. Честно сказать, у них были к тому все основания: достаточно вспомнить гнуснейший «Всешутейший собор» Петра, откровенно пародировавший (публично!) православные обряды, и ту откровенную чертовщину, что творилась в доме «главного чертушки» Франца Лефорта, когда там прыгала мебель и посвистывали в темных углах какие-то мохнатые создания...
Кстати, еще во времена знаменитого Великого Посольства (1698 г.) Петр в Венеции свел самое тесное и сердечное знакомство с тамошними иезуитами: был на мессе, обедал в иезуитском коллегиуме. Особенно тесно сблизился с отцом Вольфом, которого даже взял в переводчики на сверхсекретную беседу с австрийским императором и потом щедро наградил «двумя сороками» соболей и дорогой тканью.
Будь это ему выгодно, Петр, полное впечатление, мог бы «переоформить» свою державу не то что в католичество, а и в магометанство. Такой уж был человек... или все же не человек? Кто теперь скажет...
Мотив, по которому Петр отказался от идеи внедрить в России католичество, приведенный Сен-Симоном, опять-таки полностью сочетается с нравом Петра: он попросту не мог допустить, чтобы над ним стоял кто-то еще – в данном случае папа римский. Православную церковь, напомню, Петр лишил возможности выбрать себе патриарха – и превратил, собственно, в один из департаментов государственной бюрократической машины...
Так что, как видим, какое-то время всерьез стоял вопрос о решительной перемене веры в России. Не ставшей тогда католической исключительно из-за тяги Петра к полной и единоличной власти, не стесненной никем и ничем, ни в малейшей степени...
Еще о случайностях. В свое время события сложились так, что Россия могла по дурацкой случайности лишиться великого своего ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Окажись на окне в казарме прочная решетка, будь кавалеристы попроворнее...
А впрочем, начнем с самого начала – со времен Анны Иоанновны, когда эта история и случилась.
Императрица Анна Иоанновна, настоящая, реальная, в общем-то, не имела ничего общего с тем карикатурным образом и тупой и злобной бабищи, что с чьей-то легкой руки утвердилась в отечественной истории так прочно, что лишь в самые последние годы эту дурную легенду начали понемногу развеивать. Слишком долго пылилась в забвении книга крупного русского историка и писателя князя Щербатова (1733–1790). Хотя Щербатов еще во времена Екатерины II, пусть и отмечая грубость Анны и ее выносившиеся без всякого колебания смертные приговоры, отмечал и другие стороны характера «царицы престрашного зраку»:
«Императрица Анна не имела блистательного разума, но имела сей здоровый рассудок, который тщетной блистательности в разуме предпочтителен... Не имела жадности к славе, и потому новых узаконений и учреждений мало вымышляла, но старалась старое, учрежденное, в порядке содержать. Довольно для женщины прилежна к делам и любительница была порядку и благоустройства; ничего спешно и без совету искуснейших людей государства не начинала, отчего все ее узаконения суть ясны и основательны...»
Одним словом, перед нами тот самый просвещенный консерватизм, который лично я предпочитаю водовороту дурацких реформ наподобие петровских. Одно немаловажное уточнение: коли уж Анна окружала себя умными людьми (факт, отмеченный многими историками), значит, она как-то умела выявлять и приближать как раз умных – что ее деловые качества характеризует опять-таки с хорошей стороны. Умение подобрать толковую команду – уже само по себе достоинство для правителя.
Тот же Щербатов пишет о работе министров Анны так: «Был управлен кабинет, где без подчинения и без робости един другому каждый мысли свои изъяснял; и осмеливался самой Государыне при докладе противуречить; ибо она не имела почти никогда пристрастия то или другое сделать, но искала правды; и так по крайней мере месть в таковых случаях отогнана была; да, можно сказать, и не имела она льстецов из вельможей, ибо просто наследуя законам дела надлежащим порядком шли».
Похожа такая императрица на тупую тираншу?
Ни в малейшей степени!
Кстати, именно при Анне русским офицерам стали платить такое же жалованье, как иноземцам (ранее иностранцы получали вдвое больше). Именно при Анне в России появились опера, балет, первые научные журналы – и первые русские ученые. При ней были организованы первые экспедиции к берегам Америки. Нельзя сказать, что Анна очень уж усердно интересовалась науками – но все же Академию посещала не так уж редко, смотрела физические и химические опыты и даже наблюдала в телескоп кольца Сатурна.
И настал момент, когда на самом верху было решено, что в России необходимы свои ученые люди, сведущие в химии (которая тогда изучалась в тесной связке с горным делом и металлургией). Еще Петр I, учреждая Академию Наук, предусмотрел в ней кафедру химии – но как раз этой научной дисциплине в Санкт-Петербурге роковым образом не везло. В 1726 г. на все еще вакантную кафедру химии пригласили курляндского медика Бюргера – но он вскоре принял совершенно русскую смерть: возвращаясь из гостей вдребезину пьяным, кувырнулся из экипажа и убился насмерть. Казалось бы, басурманин, иноземец, слова по-русски не знал, а вот поди ж ты... Есть некая духовная связь меж русскими и немцами, особенно в том, что касается неумеренного поглощения спиртного!
На освободившееся место пригласили опять-таки немца – Иоганна Гмелина-старшего. Этот водочку потреблял гораздо умереннее, ученым был серьезным, да вот беда – химией он (натуралист, ботаник, зоолог, этнограф) интересовался менее всего. И, как только подвернулась оказия отправиться с естественнонаучной экспедицией в Сибирь, Гмелин ею немедленно воспользовался – и остался в Сибири на десять лет без малого.
В общем, нужно было готовить своих специалистов, не полагаясь на капризы германского ума. Академия выбрала трех кандидатов:
«1. Густав Ульрих Рейзер, советник берг-коллегии сын, рожден в Москве и имеет от роду семнадцать лет.
2. Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, шестнадцати лет».
3. Михайло Ломоносов, крестьянский сын, из Архангельской губернии, Двинского уезда, Куростровской волости, двадцати двух лет».
На самом деле Михайле тогда было добрых двадцать пять годочков, но он убавил себе возраст, чтобы не казаться чересчур уж «матерым» – а то, чего доброго, за границу не пошлют, ведь Академии вьюноши надобны...
Михайло свет Васильевич, надобно вам знать, всегда считал, что для пользы дела не грех и приврать. В свое время, стараясь попасть в Славяно-греко-латинскую академию, он скрыл свое настоящее происхождение (крестьянских детей в сие учебное заведение принимать было запрещено официальным указом) и назвался сыном холмогорского дворянина. Проехало.
Чуть позже, когда готовилась экспедиция в закаспийские степи, Михайло, чтобы принять участие в столь интересном деле, написал в прошении, что отец у него не крестьянин и не дворянин, а священник. Правда, на сей раз кто-то въедливый учинил строгую проверку, и враки выплыли на свет божий. В совершеннейшей растерянности чиновник вскричал:
– Да кто ж ты есть-то, аспид? То дворянским сыном пишешься, то поповичем... Батогов захотел?
Дело пахло жареным, но Ломоносов уверял, что все «учинил с простоты своей» – и дело как-то замяли...
Пусть никто не думает, будто я хочу каким-то образом бросить тень на великого российского ученого. Просто-напросто, как говорится, из песни слов не выкинешь, что было, то было. И, если рассудить, если бы не это нахальное вранье, очень может статься, не было бы в славной истории науки российской столь титанической личности, как Ломоносов. Цель, уж простите, иногда все же оправдывает средства...
Тем более что учился Ломоносов в Марбургском университете всерьез и усердно: физике, математике, горному делу и многому, многому другому. Однако была у Михайлы страстишка, сохранившаяся на всю жизнь: долго и вдумчиво гулять в кабаке (и, будем откровенны до конца, всласть подебоширить). Впрочем, в этом плане он всего лишь следовал старым добрым традициям немецкого студенчества: бушевать, пьянствовать и безобразничать у «буршей» считалось прямо-таки обязанностью. Вот и шатались по тихим немецким городкам пьяные ватаги господ студиозусов, колотили ночами в сковородки под окнами благонамеренных обывателей, в церкви вваливались во время свадеб и похорон, старательно все опошляя, стекла били, прохожих задирали, купеческие лавки громили, по погребам лазили.
Перемежая научные занятия с проказами, Ломоносов прожил в Германии более трех лет, успел даже жениться на Елизавете Цильх, дочери пивовара. (Пристрастие к исторической точности вынуждает меня упомянуть, что на сей раз своего батюшку Михайло объявил уже «купцом и торговцем».)
И вот однажды, по дороге в город Дюссельдорф, Михайло (богатырского роста и телосложения, если кто запамятовал) завернул в кабачок. А в кабачке – пир горой, дым коромыслом. Пировал со своими солдатами и новобранцами прусский офицер, занимавшийся вербовкой рекрутов, – и вскоре, присмотревшись к русскому великану, предложил выпить на халяву.
Какой русский человек от такого предложения откажется? И понеслось...
Между прочим, кому-кому, а прожившему чуть ли не четыре года в Германии Ломоносову следовало бы знать, что слава у прусских вербовщиков самая худая. Прусский король Фридрих Вильгельм I, питавший прямо-таки патологическое пристрастие к рослым солдатам (без тени сексуальности, я не о том!) рассылал своих агентов по всей Германии, наказывая не церемониться. Ну, они и не церемонились: хватали даже монахов, оказавшихся, на свою беду, немаленького роста, а заодно и неосторожных великанов-иностранцев, сдуру сунувшихся в пределы Пруссии. За границей они вели себя чуточку скромнее, но все равно в ход шли любые методы. Дошло до того, что в княжестве Гессен-Кассель нескольких изловленных прусских вербовщиков без особых церемоний повесили на площади...
Но ведь халява, господа мои! Кто откажется?
Похмелье выдалось – хуже не бывает. И дело тут было отнюдь не в головной боли. Открывши утречком глаза, Михайло обнаружил на шее форменный прусский галстук, а в кармане – прусские талеры. А стоявшие вокруг прусские солдаты его похлопывали по плечу и вполне дружески называли камрадом. Офицер ободрял:
– Такому молодцу, Михель, на королевской службе точно посчастливится! В капралы выслужишься, верно тебе говорю!
– Какие такие капралы? – охнул Михайло, содрогаясь от головной боли. – Какой я вам камрад? Я вовсе даже русский подданный!
Вахмистр ему вежливенько объяснил: мол, камрад Михель, ты вчера при нас, при свидетелях, записался на службу к прусскому королю, по рукам ударил с господином поручиком, задаток взял и половину уже пропил... Одним словом, добро пожаловать. Такого молодца и в кавалерию определить не грех, в гусары!
Что называется, приплыли... Солдаты разобрали ружья, предусмотрительно окружили новобранцев и повезли в Пруссию, в крепость Везель...
Качать права не было никакого смысла. За это по головке не гладили. Известна история с неким французским дворянином, которого самым беззастенчивым образом захватили прусские вербовщики. Когда он решил бежать и был пойман, бедолаге отрубили нос и уши, тридцать шесть раз прогнали сквозь строй и, приковав к тачке, загнали на каторгу, где он провел много лет...
Михайло Ломоносов, человек умный и обладавший к тому времени немалым жизненным опытом, быстренько смекнул, что выступать – себе дороже. И, наоборот, прикинулся, что чертовски рад военной службе. С самыми честными глазами и искренним лицом говорил новому начальству:
– Доннерветтер, а ведь мне у вас нравится! У гусар форма красивая, глядишь, и в самом деле в вахмистры выйду...
– А почему бы нет? – благосклонно глядя на ретивого новобранца, поддакивало начальство. – Это офицерами у нас могут быть только дворяне, а до вахмистра и купеческий сын может дослужиться. Зер гут, Михель! Исправным солдатом смотришься!
Правда, пруссаки доверяли камраду Михелю все же не настолько, чтобы отпустить его на квартиру (солдаты тогда, главным образом, располагались постоем в домах обывателей, что для последних было досадной повинностью). Ломоносов вместе с другими новобранцами обитал в крепости, в караульне – но решеток на окнах не было, и одно окно выходило как раз на крепостной вал...
В одну прекрасную ночь Михайла, дождавшись полуночи, выбрался из окошка, прополз мимо часовых, тихонько спустился с вала, тихонько преодолел вплавь заполненный водой крепостной ров, перелез через бревенчатый палисад, выбрался в чисто поле – и уж там припустил во всю прыть! Представляю себе...
Довольно скоро беглеца хватились, и вдогонку помчались кавалеристы. Но граница была недалеко, Михайла, коего всадники уже догоняли, успел-таки скрыться в лесу – а там уже начиналась соседняя суверенная Вестфалия. Правда, для пущей надежности беглец и на вестфальской территории долго еще пробирался лесом и кустарниками, целый день, и лишь на следующую ночь рискнул выйти на большую дорогу. Так и ускользнул от прусской солдатчины. А сложись несчастливее, и не было бы у нас Ломоносова...
Точно так же дурацкая случайность едва не привела к гибели великого писателя Вальтера Скотта еще во младенчестве.
У младенца была молодая нянька, а у няньки в стольном городе Эдинбурге имелся любовник, с коим она оказалась разлучена (поскольку адвокат Скотт с супругой обитали в отдаленной деревне). На почве большой и чистой любви у девицы определенно поехала крыша, и она рассудила просто: ежели некого будет нянчить, то ее, соответственно, отпустят из деревни.
Ну, и отнесла как-то младенца Вальтера утречком подальше от дома, прихватив ножницы, чтобы перерезать ему глотку – я ж говорю, крыша поехала...
К счастью для мировой литературы, у этой паршивки не хватило духу – отнесла дите домой и чистосердечно во всем повинилась: мол, хотела малютку зарезать ножницами, но он так безмятежно гугукал и так ясно улыбался, что рука не поднялась. Дуру моментально вышибли – и даже не поколотили напоследок, что лично я нахожу совершенно неуместным гуманизмом... А малютка вырос и стал великолепным писателем.
И еще об одной случайности. В конце восемнадцатого века на российскую службу пытался поступить один молодой французский офицер, у которого на родине карьера что-то не клеилась. По какой-то позабытой причине его не взяли и в русскую армию. Звали этого офицера Наполеон Бонапарт. Тот самый, он там был один такой. Как сложилась бы европейская история, не окажись в свое время во Франции молодого и популярного генерала Бонапарта, можно только гадать... Масса интереснейших вариантов.
Итак, восемнадцатый век... А как в нем вообще жилось?
Судя по фильмам, неплохо. Интересно, романтично, увлекательно. Благородные герои в белоснежных манжетах и шитых золотом камзолах то несутся куда-то на лихих скакунах, то просаживают горы золота за карточными столами, то крутят романы с очаровательными дамами в пышных платьях с пикантными вырезами...
Да, еще дерутся на дуэлях – опять-таки изящно и романтично.
Никто не спорит. Так действительно тогда жили.
Кое-кто. Точнее, процентов десять населения – благородные дамы и господа, обладатели если не титулов, то хотя бы дворянских грамот. Дворяне. Они и в самом деле романтично скакали на красивых лошадях, звенели шпагами, крутили романы на маскарадах с фейерверками, непринужденно швыряли золото на карточные столы, словом, всячески наслаждались жизнью.
А вот остальные процентов девяносто, простые горожане и крестьяне, вели вовсе не романтичную жизнь, которую скорее следует назвать борьбой за выживание. Горожане вкалывали ради хлеба насущного, на лошадках не носились, золото видели крайне редко (не говоря уж о том, чтобы пригоршнями его просаживать за карточными столами). Крестьянам приходилось и того хуже.
Честно говоря, врагу своему не пожелаю быть крестьянином в Европе восемнадцатого века.
В России, как мы знаем хотя бы из школьного курса, крестьян продавали точно так же, как попугаев в клетках, борзых щенков и галантерейный товар. Живое имущество. Ну, а как обстояло дело в те времена за пределами российских рубежей?
Знаете ли, немногим лучше...
В Польше (Речи Посполитой) панове шляхта точно так же могли распоряжаться своим одушевленным имуществом, то бишь «хлопами», как помещики в России – продавали, дарили, меняли на всякую дребедень. Этим, кстати, и объясняется та легкость, с которой три соседних государства – Россия, Австрия и Пруссия – в конце восемнадцатого века делили Польшу, словно именинный торт резали: весело и непринужденно, с циничными ухмылками и хамскими прибауточками, не встречая особого сопротивления. Крепостным землепашцам смена главного хозяина представлялась какой-то абстракцией, лично их не затрагивающей вовсе.
Вообще-то передовые умы Польши в конце концов начали робко заикаться, что крепостное право – пережиток средневековья, что не мешало бы и реформы провести... Но кончилось все пустой говорильней в польском сейме, то бишь парламенте, вялотекущей, аккурат в последние годы перед окончательным крахом польской государственности. И потому чуть позже, когда на отошедших к Австрии и Пруссии территориях благородные шляхтичи устроили священную войну за независимость, сотрясая воздух красивыми словесами, простой пахотный народ решил, что участвовать в очередной барской забаве ему как-то не с руки – а потому крестьяне мятежников ловили, вязали и предъявляли новому начальству. Чтоб не баловали, отвлекая со своей освободительной борьбой от сенокоса и обмолота...
В германских государствах крестьянин, в отличие от России и Польши, вещью уже не считался. Его нельзя было продать (по крайней мере, официально, а неофициально и в Германии бывало всякое, распрекрасным образом продавали втихомолку под предлогом «отдачи в услужение»). Однако крестьянин все же оставался прикрепленным к земле. Сбежишь с места постоянного жительства – розги в немалом количестве, а то и смертная казнь. Хочешь вступить в брак – иди за разрешением к своему помещику, а там уж, как он решит. Хочешь отдать детей обучаться ремеслу – опять-таки изволь сначала получить бумажку от герра помещика. На которого, кстати, приходилось работать несколько дней в неделю совершенно бесплатно – ага, та самая барщина, которая отчего-то считается чисто российской деталью быта. В Германии барщина составляла где два дня в неделю, где три, а где и все шесть. Чтобы обрабатывать собственный клочок земли, и ночь есть... И оброк германские крестьяне, кстати, платили точно так же, как российские – и натуральным продуктом, и деньгами. А неисправных плательщиков и вообще ослушников либо драли, как сидорову козу, либо часов на несколько выставляли на позор, усаживая на деревянного осла посреди городской площади.
Австрийская империя. В тех ее провинциях, что были населены немцами, жилось самую чуточку вольготнее. Там крестьяне были скорее арендаторами, платившими денежный оброк. Зато действовала масса сохранившихся со средневековья повинностей: ну, например, всякий австрийский помещик имел право заявиться к любому крестьянину на своей земле и забрать сына в батраки на свои поля, а дочку – в прислуги. И попробуй откажись...
В провинциях, населенных чехами, жилось еще тяжелее. Тамошним крестьянам запрещалось без разрешения сеньора: покидать поместье, вступать в брак, отдавать детей учиться ремеслу, носить и вообще иметь любое оружие, даже ловить рыбу и собирать хворост (поскольку все леса и рыбные ловли – собственность помещика). Молоть зерно следует исключительно на господской мельнице, печь хлеб – не у себя дома, а в господской пекарне, пиво покупать – только у барина. Ну, и налоги. И барщина. И прочие сомнительные удовольствия.
В Венгрии, пребывавшей тогда под властью Вены, – все то же самое, только в десять раз хуже...
В Италии, где синее небо и апельсины, крестьянину опять-таки жилось как на каторге. Земля в основном принадлежала дворянам, сдававшим ее в аренду – и в качестве платы тамошний «синьор мужик» порой отдавал три четверти урожая. Поборов – масса. Хочешь держать кур и свиней – плати. Хочешь зарезать свою собственную корову – плати. Хочешь выбросить накопившийся мусор – плати. Берешь воду из реки – плати, река не «общая», а непременно дворянская... В общем, все то же самое – землепашец, конечно, не вещь, продать его нельзя, и в картишки уже не продуешь, но этот «свободный» человек в феодальных повинностях по уши, как в болоте. А на Сицилии вдобавок уже в те времена действовала мафия: у каждого крупного землевладельца – своя банда головорезов, и, ежели свободный пахарь вздумает качать права... в общем, вспомните итальянские боевики, только автоматы замените на шпаги, от чего разница, в принципе, невелика.
В Испании – та же картина. Лично свободные крестьяне только в виде арендной платы за землю отдают половину урожая – а ведь есть еще масса других поборов...
Во Франции господа вовсю забавляются охотой на все, что бегает и летает. Блестящие кавалькады тех самых кавалеров в кружевных манжетах и прекрасных дам в декольтированных платьях весело травят зайцев борзыми и охотятся на куропаток на крестьянских полях. Такая уж у них старинная привилегия, еще со времен крестоносцев. Крестьянин, кроме того, не имеет права убивать зайцев и куропаток, которые пасутся на его полях – и не имеет права строить изгороди (мешать охоте!). В некоторых местах запрещалось даже урожай убирать, пока куропаточьи птенцы не окрепнут и не станут летать: барская охота превыше всего...
Ну, и масса других повинностей и поборов. Так стоит ли удивляться, что на протяжении всего восемнадцатого века Европу прямо-таки трясло от крестьянских восстаний? Размах был лишь самую малость поменее пугачевского...
Ах да, была еще Англия, островок свободы и заповедник вольности...
В некоторых отношениях там и в самом деле жилось чуточку вольготнее. Существовал, например, закон «Хабеас корпус», по которому человека нельзя ни за что ни про что держать в тюрьме – уже максимум через сутки его непременно следует предъявить судье, чтобы тот рассмотрел, по какой такой причине мирного гражданина ввергли в узилище.
Вот только на протяжении восемнадцатого века этот закон официальным образом приостанавливался не менее десяти раз, и всякий раз – не менее чем на год, а то и подольше...
Крепостного права не было, верно. И самых кондовых феодальных повинностей – тоже. Но большая часть крестьян была не собственниками, а опять-таки арендаторами, и в любой момент их могли буквально вытряхнуть под открытое небо. Иди куда хочешь с домочадцами и скарбом, ты ж человек свободный, никто тебя удерживать не имеет права... Почитайте английских классиков. Например, Томаса Гарди, там подобные случаи наглядно описаны...
Крепостничества, в общем, нет. Зато есть лендлорд – местный землевладелец-олигарх, который для всей округи царь и бог. Поскольку сплошь и рядом он еще не только местный помещик, но и местный судья, местный шериф (у которого в те времена прав было даже поболее, чем у американского шерифа), и местный священник, и местный депутат парламента. Попробуй пободайся, ежели охота...
И, между прочим, любой местный судья обладает широчайшими полномочиями. Предположим, в каком-нибудь провинциальном местечке собралась толпа местных жителей, легонько нарушающих общественный порядок – то ли крестьянское возмущение из-за налогов, то ли просто сэры перепили в базарный день и решили малость побуянить...
Так вот, достаточно судье объявиться перед обывателями, протараторить скороговоркой несколько параграфов «Закона о мятеже» – и местная полиция на законнейшем основании может палить в толпу из всех видов огнестрельного оружия, нимало не озабочиваясь наличием там женщин и детей. И полицейским за это ничего не будет, хоть всех до единого перестреляй – «Закон о мятеже» прочитан, так что формальности соблюдены. А то, что в задних рядах, очень может оказаться, и не расслышали, что там судья бормочет, – дело десятое...
В том же восемнадцатом столетии, при наличии отсутствия крепостного права, шахтеры, случалось, работали в железных ошейниках. Не все, но случалось. О чем немало писали английские историки и писатели, отнюдь не левые: если попадется роман под названием «Камероны», прочитайте, не пожалеете. Лишитесь кое-каких иллюзий касаемо «старейшей в Европе» демократии.
Но самое скверное все же, что только имелось в восемнадцатом веке, – это сохранившаяся с феодальных времен неприглядная штука под названием «сословные различия». Что это означало на практике?
Да то, что существовала этакая пирамида, где на ступеньках один над другим стояли сословия – выше всех благородное дворянство, а ниже него – все остальные. И люди исключительно в силу своего происхождения были обречены занимать отведенную им ступеньку. Хорошо, если она оказывалась верхней. А если – нижней?
Тогда – ничего хорошего. Как бы умен, благороден душой и какими бы талантами ни был одарен низший, он обречен был оставаться человеком второго сорта. В любой момент какая-нибудь тупая, надутая скотина (к счастью своему, обремененная длинной родословной) могла процедить через губу:
– Пшел, быдло...
И приходилось смирнехонько отступать, кланяясь – таково уж устройство жизни...
Тогдашняя жизнь больше всего напоминала шахматную доску – где пешки предельно ограничены в передвижении и возможностях, в отличие от более благородных фигур. Если кому-то случится перечитывать «мушкетерскую» трилогию Дюма, советую обратить внимание, как благородные дворяне, Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян, относятся к тем из окружающих, кто благородным происхождением похвастаться не может. Арамис «ударом кулака отбрасывает» горожанина, имевшего неосторожность чуточку забрызгать его грязью. Д’Артаньян, верхом на лошади мчавшийся куда-то по неотложным делам, сшиб горожанина «и не подумал останавливаться ради такого пустяка» (между прочим, горожанин этот был не простой булочник или фонарщик, а член Парижского парламента, в переводе на наши современные реалии – член Верховного суда Российской Федерации) – но какая разница? Главное, не дворянин.
Самое грустное, что мушкетеры так поступают не специально, не по черствости души – они просто-напросто на автомате делают то, что благородному господину положено...
Жили они, правда, в семнадцатом столетии – но и в восемнадцатом во Франции обстояло точно так же, а лондонская «золотая молодежь» калечила попавшихся на пути простолюдинов исключительно из спортивного интереса...
В Пруссии, как уже говорилось, офицером мог стать только дворянин. Во Франции полки (если не считать пары-тройки особо привилегированных, находившихся на содержании казны) были частной собственностью своих полковников. Полковник на свои деньги кормил, одевал, содержал солдат. И всегда мог свой полк продать за приличную сумму, а располагающий этой суммой (при условии, что он был благородного происхождения) мог этот полк законным образом купить, и в одночасье из «простого» графа стать графом Таким-то, полковником. Поскольку – престижно. Военный опыт при этом абсолютно не требовался.
В Англии патенты на офицерские чины совершенно официальным образом продавали вплоть до конца девятнадцатого столетия. Единственное условие, кроме, конечно, обладания соответствующей суммой, – благородное происхождение (отсутствие военного опыта опять-таки не имеет никакого значения).
«Ну и что? – пожмет плечами какой-нибудь пацифист. – Что в таком порядке вещей плохого? В армии можно не служить...»
А если вы, сударь мой, из простых? Тогда вас все равно загребут вербовщики, или просто-напросто мелкий германский князек, отчаянно нуждаясь в деньгах, велит мобилизовать тысчонку-другую подданных и продать их какой-нибудь великой державе. Именно так обстояло в свое время с уроженцами германского Гессена, которых тамошний владетель продал Англии, а та послала их в Америку воевать с восставшими колонистами...
Между прочим, в некоторых итальянских государствах законнейшим образом существовали два вида судов: один для дворян (не в пример более гуманный), другой – для всех прочих. А там, где суд был один для всех, в законах черным по белому было написано, что судья обязан «учитывать сословное происхождение обвиняемого». Благородных, как легко догадаться, особо не притеснять, а вот прочим отмеривать на всю катушку...
Масса профессий, масса должностей и государственных постов была просто-напросто недоступна для тех, кто дворянскими грамотами не обладал. Редчайшие исключения лишь подчеркивали правило.
А потому такой размах получило самозванство – то бишь самовольное присвоение дворянства. Сплошь и рядом те, кто без законных на то прав выдавал себя за дворян, поступали так не из каких-то шкурных или криминальных соображений, а попросту хотели считаться полноправными, полноценными людьми...
К слову сказать, в восемнадцатом столетии такое самозванство сплошь и рядом прокатывало. Главное было – перебраться подальше от родных мест, чтобы не столкнуться с земляками. А еще лучше – переехать в другую страну и уже там назваться дворянином, да не простым, а бароном или графом.
Тот самый капитан королевских мушкетеров де Тревиль, которого Дюма вывел в «Трех мушкетерах», на самом деле вовсе не Тревиль, да и прав на дворянскую приставку «де» не имел ни малейших. Поскольку до тех пор, как отправиться в Париж искать удачу, звался «Труавиль» и был сыном простого торговца – почтенного человека, честного, уважаемого в родном городке, но к дворянству нисколько не прикосновенного.
Из Гаскони (захолустная окраина французского королевства, тамошнего Урюпинска) уехал молодой человек Труавиль – а через пару-тройку недель в Париж прибыл тот же самый вьюнош, но звавшийся уже «шевалье де Тревиль», якобы потомок старинного рода, происходившего чуть ли не от крестоносцев. Что характерно, у него при себе был ворох подтверждавших это бумаг, достаточно ветхих на вид...
И – ничего. Проехало. Когда де Тревиль сделал неплохую карьеру при дворе, никто уже не рвался вдумчиво исследовать его родословную – тем более что это грозило встречей в темном переулке с буйными подчиненными де Тревиля, которым проткнуть шпагой человека было все равно что другому стакан вина выпить...
Кстати, реальный д’Артаньян (дворянин хотя и настоящий, но не титулованный), однажды стал графом буквально в одночасье – не в результате королевской милости, а по собственному хотению. В одно прекрасное утро мило и непринужденно заявил, что он, знаете ли, граф, а потому и обращаться к нему нужно соответственно. Поскольку гасконец был в те времена в большой милости и у короля, и у всемогущего первого министра кардинала Мазарини, вслух протестовать против подобных геральдических сюрпризов ни у кого язык не повернулся. Покрутили головами, махнули рукой и в конце концов как-то свыклись: одним графом меньше, одним больше – какая, в принципе, разница...
Коли уж мы мимоходом упомянули о суде, нелишним будет рассказать и о тюрьмах с казнями...
Пытки и в восемнадцатом веке считались обычными следственными мероприятиями, прямо-таки рабочими буднями – и вот в этом отношении дворяне и простолюдины пользовались одинаковыми правами. Точнее говоря, при необходимости на дыбу вздергивали и лошадьми рвали на части при большом скоплении народа что мельника, что графа...
В Пруссии пытки отменил в 1754 г. Фридрих Великий – но и после этого еще долго пороли розгами и прогоняли сквозь строй.
В Великобритании только в 1802 г. с Лондонского моста убрали железные колья – а до этого на них для всеобщего обозрения выставляли головы казненных.
Вообще английская Фемида заслуживает отдельного разговора – о том, какие зверства происходили на континенте, мы, в общем, наслышаны, а вот добрую старую Англию отчего-то многие безосновательно полагают райским уголком, где с правами человека, гуманностью и прочими умилительными вольностями все обстояло прекрасно и триста лет назад...
Ага, держите карман шире...
Начнем с того, что в восемнадцатом веке в Англии примерно 350 видов преступлений карались смертной казнью. И виселица, в частности, ждала любого, кто украдет добра более чем на пять шиллингов.
Много это или мало? В одном из английских романов восемнадцатого столетия героиня, служанка из зажиточной, но не особенно богатой семьи (хозяин – не лорд и не герцог, простой сельский помещик) купила у другой служанки воротник из дешевых кружев для выходного платья. И заплатила за него семь шиллингов.
Вот вам и мерка. Укради воришка с веревки этот вывешенный для сушки служанкин воротник – и виселица ему обеспечена... Между прочим, документально зафиксированы в то время казни четырнадцатилетних детей. По суду, по закону. Как бы ни костерили Российскую империю, но подобного в ней все же не случалось – да и в других европейских странах тоже.
В знаменитой лондонской тюрьме Нъюгейт существовала так называемая «давильня». Тех, кто отказывался признать себя виновным, несмотря на улики и свидетельские показания, приковывали к полу, на грудь клали деревянный щит, а уж на него наваливали железные болванки – пока бедолага не умирал. Эта жуткая процедура, официально именовавшаяся «казнью через давление», была отменена только в 1734 г.
Восемнадцатый век, повторяю снова и снова, – самое причудливое сочетание несовместимых, казалось бы, вещей. Когда в Лондоне все же перестали выставлять на кольях головы казненных, громче всех против этого протестовали вовсе не безграмотные завсегдатаи дешевых кабачков, а интеллектуалы высшей марки вроде Сэмюэля Джонсона и Босуэла – они, знаете ли, полагали, что подобная «наглядная агитация» оказывает нравоучительное действие и служит, говоря современным языком, профилактике преступлений. Хотя уже в те времена было прекрасно известно, что наибольшее число карманных краж случается как раз в толпе, собравшейся поглазеть, как вешают карманного вора...
Тогдашняя Англия была единственной страной в Европе, где законным образом вешали детей – и одной из немногих европейских стран, где действовал выбранный парламент. У этого учреждения была масса недостатков. Избирательные права в ту пору имело процентов двадцать населения, не более того. Система избирательных округов была нелепой и несовершенной. Например, во множестве имелись так называемые «гнилые местечки» – давным-давно пришедшие в запустение городки и деревни, где насчитывалось от силы полтора полноценных избирателя – но этакий «округ» мог посылать депутата в парламент. А какой-нибудь город с населением тысяч в десять человек – не мог. Такова уж сила старинных традиций: беда данного города в том, что он был слишком молод, а значит, старыми привилегиями не охвачен.
Парламентом заправляли прожженные политиканы, далекие от ангельской честности. Взятки в те патриархальные времена брали чуть ли не в открытую. И тем не менее даже такой парламент был шагом вперед, поскольку уже не позволял королю распоряжаться казной по своему усмотрению, да и кое-какие гражданские права помогал отстаивать.
Точно так же обстояло и в Швеции. Тамошние парламентарии открыто делились на «прусскую партию», «английскую», «русскую», «австрийскую» – то есть публика прекрасно знала, какая страна которого депутата содержит за то, что он «пробивает» нужные ей решения. Но и этот купленный оптом парламент все же ограничивал королевскую власть ощутимым образом.
Другие европейские державы и таким парламентом не могли похвастать. Что касаемо Франции, слово «парламент» не должно нас обманывать: парижский парламент был не собранием выборных депутатов, а, как я уже говорил, неким подобием верховного суда, который в числе прочего регистрировал королевские указы, после чего они приобретали силу писаного закона. Еще во времена д’Артаньяна и кардинала Ришелье у парламента было право эти самые указы обсуждать и даже, вот разврат, отклонять – но к восемнадцатому веку французские короли покончили с этаким разгулом демократии. Места в парламенте, кстати, опять-таки покупались и продавались законно и открыто.
Так что короли творили все что хотели. А заодно и их первые министры. Когда мне попадаются в современной печати особенно гневные выпады против погрязших в коррупции нынешних министров, порой вместо возмущения появляется этакая философская грусть и приходят на память слова библейского пророка о том, что все уже было под этим солнцем...
Вот вам не уникум какой-то, а, можно сказать, типичный представитель вороватых премьер-министров восемнадцатого столетия – французский кардинал Дюбуа, первый министр короля Людовика XV, того самого «Короля-Солнца», что говаривал: «После нас хоть потоп». Полный список его годового дохода в свое время привел тот же герцог Сен-Симон.
Начнем с бенифиций. За этим красивым словом скрывается всего-навсего доход, получаемый с какого-нибудь города, аббатства, имения, провинции. Была такая королевская милость – раздача любимчикам помянутых бенифиций. Что, между прочим, наглядно свидетельствует о некотором прогрессе в области государственного управления: даже в самые коррупционные недавние годы немыслимо было представить, чтобы Ельцин в виде милости дал Чубайсу право получать все годовые доходы с Ленинградской области, а Немцову – с Красноярского края. Все же прогресс налицо, дамы и господа, нынче вам не восемнадцатый век...
Но вернемся к нашему кардиналу. В год он получал:
В виде бенифиций – 324 000 ливров.
Жалованья как первый министр – 150 000 ливров.
Жалованья как «министр связи», т. е. суперинтендант почт – 100 000 ливров.
А кроме того, ежегодная пенсия от Англии – 960 000 ливров.
Итого – полтора миллиона в год. Тогдашний ливр – увесистая серебряная монета. И вновь – много это или мало?
Давайте посмотрим. Пехотный капитан получал в месяц 75 ливров жалованья (это в мирное время, в военное – около сотни). Квалифицированный ремесленник – от 300 до 600 ливров в год. Мужские башмаки стоили 3 ливра, курица – ливр, три кило говядины примерно ливр. Десять литров вина – ливр.
Одним словом, господин кардинал, как легко догадаться из приведенных цифр, катался словно сыр в масле...
В перечне его доходов особенно примечательно выглядит графа «пенсия». Был в восемнадцатом столетии такой пикантный обычай: какое-нибудь иностранное государство самым что ни на есть официальнейшим образом платило высокопоставленному сановнику эту самую пенсию, «пенсион», как тогда говорили. Это было в порядке вещей, криминалом не считалось и обществом воспринималось не с осуждением, а скорее с завистью. Ну, а то, что при этом означенный сановник принимал решения, более всего полезные для того государства, что платило ему пенсион, было, конечно же, не более чем случайным совпадением...
Практика была общеевропейская. Англичане платили пенсион французскому первому министру, французы (вместе с англичанами) – русскому канцлеру Бестужеву. Пол-Европы – шведским парламентариям, польской шляхте... Время было незатейливое, все делалось открыто...
В том же восемнадцатом столетии турецкий султан Осман III придумал довольно эффективный метод борьбы с коррупционными устремлениями своих премьер-министров. Первый министр (или, согласно турецкому слову, визирь) у Османа задерживался на своем высоком посту в среднем не более полугода. После этого Осман без всяких расследований и возни с бухгалтерскими книгами отправлял визиря в отставку (причем, отметим, голову не рубил и в темницу не упрятывал), а все его немаленькое состояние забирал в казну. Что любопытно, никакими такими «незаконными репрессиями» и не пахло – поскольку за эти полгода визирь успевал нахапать немеряно. Что еще более любопытно, новый визирь прекрасно знал о судьбе предшественника – но все равно соглашался занять высокий пост. А заняв, тут же запускал лапу в государственные финансы и брал взятки всеми четырьмя конечностями. Логика такого поведения лично мне решительно непонятна – ну на что тут можно было надеяться?!
К сожалению, европейские державы эти прогрессивные антикоррупционные меры не спешили перенимать – за исключением России, где подобное порой применялось (в отношении того же Меншикова)...
Вообще, Осман III остался в истории как открыватель многих оригинальных приемов контроля – которые в последующие столетия беззастенчиво заимствовали многие искавшие популярности деятели. Любил, например, Осман, переодевшись самым что ни на есть стамбульским простолюдином, побродить по рынку и, оставаясь совершенно неузнанным, посмотреть, как, говоря канцелярским языком, производится торговое обслуживание населения (за двести пятьдесят лет до Ельцина!).
Представляю себе эту картину. Какой-нибудь торговец хурмой, беззаботно насвистывая, орудует гирями. Тут из толпы к нему протискивается потертый неприметный турок и говорит укоризненно:
– Почтенный, а отчего это у вас гири какие-то легковатые? И почему вы хорошую хурму только наверх кладете, а снизу давленую подсовываете?
Ну, и что такому въедливому критику ответит пузатый базарный абориген? Разумеется, пошлет по матушке, благо турецкий язык в этом отношении крайне богат и выразителен...
Тут потертый выпрямляется во весь рост и, грозно сверкая очами, рычит:
– Как со своим султаном разговариваешь, мошенник?
А из-за угла уже спешат янычары с ятаганами наголо. Кранты труженику прилавка...
Любил султан Осман подобную популистскую деятельность. Особенно развернуться он не успел, поскольку просидел на троне всего три года, но, заметьте, умер своей смертью, что с турецкими султанами случалось, в общем, редко...
Турцию я затронул умышленно – в те времена она с полным на то правом относилась к Европе, поскольку владела значительными европейскими территориями, да и Стамбул, бывший Константинополь, большей частью не в Азии расположен. И вообще, за столетия в Турцию попало в качестве невольников и прижилось там столько русских, что и к этой державе, как к Израилю, по-моему, применима строчка Высоцкого: «Там на четверть бывший наш народ...»
Но покинем пока что Турцию и обратим свой пытливый взор на территории, расположенные к северу от нее. Поговорим о еще одном причудливом сочетании несовместимых явлений, на которые был так богат восемнадцатый век, превосходивший в этом плане все прочие столетия...
С одной стороны, восемнадцатый век по праву именуют Веком Просвещения. До всеобщей грамотности было еще далеко, но все же наука, образование, книгочейство перестали быть уделом немногочисленной кучки «книжников», распространяясь по сравнению с прошлыми временами не в пример шире. Книги резко подешевели и уже не были более предметом роскоши – а вдобавок появились газеты и масса «малоформатной» печатной продукции: политические памфлеты, разнообразнейшие брошюры (мало напоминавшие неподъемные фолианты прежних лет, которыми без труда можно было и человека убить, ошарашив по темечку).
С другой... Именно восемнадцатый век стал той питательной средой, на которой пышным цветом красовались многочисленные авантюристы совершенно новой формации. В семнадцатом веке таких еще не было, в девятнадцатом – уже не было. Колоритнейшие личности странствовали тогда по Европе...
Ранешние мошенники предпочитали скромненько держаться на теневой стороне улицы. Алхимики, надвинув шапку на глаза, тихонечко стучались в ворота к какому-нибудь князю или графу и смиренно вопрошали:
– Ваша светлость, вам золота из мусора не наделать? Чистейшего, не сумлевайтесь...
Точно так же вели себя и многочисленные пройдохи всех прочих специальностей: «великие лекари», обладатели совершенно достоверных карт, где крестиками отмечены зарытые в незапамятные времена несметные сокровища. Обрабатывали намеченную жертву, больше всего боясь привлечь к себе общее внимание, – и старались, набив карман (если удавалось), побыстрее раствориться в полной безвестности, пока полиция не набежала.
В восемнадцатом веке все изменилось. Авантюристы высшей марки, наоборот, старались привлечь к себе внимание, заставить о себе говорить «весь Париж», демонстративно выпендривались, рекламируя себя с превеликим шумом.
Быть может, в этом сочетании – век просвещения и самые беззастенчивые авантюристы – и нет никакого противоречия. Быть может, опять-таки прав Фридрих Великий (см. эпиграф), и все дело в двойственности человеческой природы, от которой никуда не деться...
Точное число всевозможных шарлатанов, болтавшихся по Европе, разумеется, неизвестно. Но над всеми над ними этакими исполинскими горными вершинами поднимаются три фигуры: Казанова, Калиостро и Сен-Жермен. Это и в самом деле звезды первой величины, суперстар. Более-менее подробный рассказ о восемнадцатом столетии немыслим без повествования об этих незаурядных личностях, чьи судьбы – готовый материал для приключенческих романов...
Джованни Казанова, он же благородный дворянин де Сенгальта, родился в веселом городе Венеции, где процветала едва ли не самая жуткая тайная полиция в Европе, но в то же время город был сущим раем для прожигателей жизни и всевозможных авантюристов обоего пола: игорные дома, театры, гремевшие на всю Европу маскарады и карнавалы, очаровательные златовласые шлюхи (опять-таки, если верить современникам, самые лучшие и самые дорогие в Европе)...
«Де Сенгальта» – это, конечно, совершеннейшая туфта. Казанова в дворяне произвел себя сам по обычаю того времени. Касательно его отца и матери до сих пор нет полной ясности (по причине длинного списка кандидатур), но одно установлено неопровержимо: благородным происхождением они похвастать не могли...
Вообще-то Казанова получил отличное гуманитарное образование в Падуанском университете, где в шестнадцать (!) лет стал доктором права, а вскоре после этого был посвящен в духовный сан – получил звание аббата с правом читать публичные проповеди. В Италии и Франции того времени аббат не был «прикреплен» к какому-то приходу, не числился официально на церковной, если можно так выразиться, службе и даже не носил рясу. Вспомните аббата Арамиса у Дюма, который ходит в обычной одежде, носит шпагу и ввязывается в дуэли – Дюма в данном случае нисколько не погрешил против исторической правды, аббат имел полное право именно так жить...
Казалось бы, неплохой старт для нешуточной карьеры? Но беспокойная натура венецианца быстро дала о себе знать. Почтенные мамаши нисколько не боялись оставлять юных дочек наедине с «господином аббатом» – и Казанова этим быстренько воспользовался на всю катушку, старательно обучая девиц искусствам, ничего общего не имевшим с молитвой.
С проповедями тоже как-то не заладилось с самого начала: первую наш герой еще кое-как прочитал, но на вторую заявился вдрызг пьяным и понес откровенную чушь с кафедры. Дело кое-как замяли, но вскоре не кто иной, как покровитель Казановы, епископ, застал в его постели очередную красотку (по другим версиям – не красотку, а соученика по семинарии).
Это было уже чересчур, и прыткого аббата лишили сана. Тогда Казанова распустил слух, что он якобы служил в испанской армии офицером (тут-то и появился на свет «де Сенгальта»), и со службы был вынужден уйти из-за дуэли. Благодаря чему и получил чин лейтенанта венецианской армии.
Но и там не заладилось: в полковники производить начальство что-то не торопилось, воинская дисциплина осточертела, карточные долги достигли немыслимых размеров...
Пришлось выйти в отставку. Но тут Казанове неожиданно повезло: по Венеции распространился слух, что он с помощью некоего чуть ли не сверхъестественного врачебного мастерства форменным образом поднял из мертвых одного богатого и влиятельного патриция.
На самом деле все обстояло куда как прозаичнее: у старика случился сердечный приступ, позвали лучшего в Венеции врача, и этот эскулап зачем-то поставил хворому ртутный компресс, который больному сердцу необходим не более, чем корове седло. Казанова, подчиняясь некоей интуиции, компресс этот выкинул к чертовой матери и обмыл грудь больного. Старик, которому «лучший эскулап Венеции» отвел пару часов жизни, неожиданно поправился – как частенько случается с теми, кто пренебрегает услугами «лучших эскулапов»...
И решил, что молодой Казанова – чуть ли не колдун. Иначе почему лучший врач не помог, а бывший лейтенант исцелил в два счета?
Казанова, скромненько опустив глаза, только поддакивал: ну да, он и врач, и, между прочим, чародей, и сверхъестественными способностями наделен, и прорицает иногда, благодаря магическому «ключу Соломона», полученному от некоего испанского святого отшельника...
У патриция Брагадина были двое друзей – такие же старые, такие же богатые и такие же легковерные (хотя тот же Брагадин в свое время долго служил в венецианской инквизиции, каковой пост лишней доверчивости не способствует). Распустивши перед ними хвост, «великий маг» дурил эту троицу ровным счетом три года. Дошло до того, что Брагадин его официальным образом усыновил и содержал – а Казанова в благодарность все эти годы снабжал «папашу» прорицаниями и плел с три короба о разных оккультистских заморочках. В те времена рехнувшихся на всевозможной эзотерике субъектов, готовых платить немалые деньги любому мошеннику с хорошо подвешенным языком, было ничуть не меньше, чем сейчас...
Так бы жил-поживал и горя не знал наш герой, но случилась неприятность: угораздило его соблазнить подружку некоего грека. Грек в отместку подпилил мостик, перекинутый через сточную канаву (прекрасно знал, что Казанова там проходит каждый вечер) – и Казанова, свалившись в ров, долго бултыхался по уши в дерьме.
Ну, и решил отомстить качественно. Пошел на кладбище, выкопал свеженького покойника, отрезал у него руку и темной ночью забрался к греку в спальню, стал стаскивать с него одеяло. Спящий проснулся, стал в потемках шарить руками вокруг – тут-то Казанова и подсунул ему рученьку мертвеца...
Грека хватил удар. Полиция Казанову быстренько вычислила и предъявила обвинение в осквернении могил, а заодно и в попытке изнасилования несовершеннолетней. Что до последнего, то дело темное: сам Казанова уверял, что эту двенадцатилетнюю паршивку мамаша ему сама продала за пару монет, а когда он решил попользоваться законно купленным товаром, девчонка начала брыкаться, ну, и пришлось ей врезать пару раз – деньги-то плачены...
В общем, из Венеции пришлось скоренько улепетывать. В Милан. Там Казанова занялся опять-таки чародейством: взялся изгонять злых духов, якобы посещавших огород одного богатого крестьянина. А поскольку у того оказалась четырнадцатилетняя смазливая дочка, то «чародей» ухитрился как-то убедить папашу, что для успеха задуманного предприятия он должен лишить красотку невинности. Самое смешное, что папаша «чернокнижнику» поверил и с глубоким вздохом согласился:
– Ну ладно уж, синьор, коли того требует черная магия... Вы уж только поаккуратнее как-нибудь...
Пусть читатель не думает, что я все это выдумал. Так и было. Правда, девица осталась нетронутой – так уж сложились обстоятельства. Поскольку денежки надо было отрабатывать, Казанова в сопровождении всех заинтересованных лиц поперся ночью на огород, прихватив свой «магический реквизит» – но тут случилась жуткая гроза с молниями и громом.
На дворе как-никак стоял восемнадцатый век – и суеверный Казанова решил, что и впрямь столкнулся с высшими силами, которые ему таким образом выражают свое неудовлетворение. Придумал какую-то сказочку, выбросил «реквизит» и быстрехонько убрался из этих мест. История умалчивает, была ли девица обрадована тем, что осталась нетронутой, или, наоборот, разочарована...
А Казанова принялся колесить по Европе, повсюду представляясь, уже привычно, великим прорицателем, властелином духов и заклинателем нечистой силы. Где бы он ни объявлялся, везде зашибал этим способом приличные денежки. В Париже все сложилось настолько удачно, что венецианец даже отобедал с королевой и содрал кругленькую сумму за предсказания с королевской племянницы.
Да вдобавок развел на приличные деньги пожилую маркизу д’Юрфе. Старушке пришла в голову совершенно шизофреническая идея: в следующей, извините за выражение, реинкарнации родиться уже не женщиной, а мужчиной.
Положа руку на сердце: ну как не воспользоваться таким случаем? Казанова развернулся на славу. Для начала помог маркизе отправить письмо на Луну, тамошнему духу-гению, чтобы подмогнул с перерождением.
Судя по сохранившимся описаниям, это был великолепно срежиссированный и поставленный спектакль: в огромном чане с водой плавали тлеющие, распространяющие одуряющий запах можжевеловые ветки, Казанова торжественно и звучно читал заклинания (голый, как Адам, в компании столь же голой маркизы), лунный свет загадочно лился в комнату...
Собственноручно написанное маркизой послание сгорело в чане – и тут же неведомо откуда в воду упал ответ (Казанова его, как легко догадаться, украдкой подбросил). Маркиза впала в совершеннейший экстаз...
Выяснилось, что перерождение, в общем, штука нехитрая: Казанова, как он сам подробно объяснил, найдет подходящую девственницу, проделает с ней определенные магические процедуры, а когда через девять месяцев на свет появится младенец, госпожа маркиза его поцелует и тут же помрет, и душа ее в означенного младенца немедленно переселится...
Девственницу Казанова быстренько отыскал – и в присутствии маркизы совершил с ней магическую процедуру (с точки зрения не верящего в магию, как две капли воды напоминавшую обычный бурный секс).
Но потом начались нескладушки. «Девственница» (та еще штучка), начала ныть, что Казанова ей что-то очень уж мало отстегнул из полученных от маркизы денежек. А родственники маркизы, люди здравомыслящие, начали всерьез интересоваться, за какие такие процедуры этот сомнительный итальянец взял с тетушки кучу денег (которые, между прочим, именно им по завещанию должны достаться)?
В общем, «чародею» пришлось срочно смываться. Однако к тому времени маркиза заплатила кучу карточных долгов Казановы и оплатила выписанные им подложные векселя – да вдобавок отдала «магу» фамильных драгоценностей на шестьдесят тысяч ливров. Улов неплохой...
Казанова подался в Женеву, где неведомо с какого перепугу хотел было поступить в монахи, но познакомился в гостинице с очаровательной незнакомкой и направил усилия в совершенно другом направлении.
Его носило по Европе, как ветер гоняет старую газету: Австрия, Германия, Франция, Италия, Испания. Из Флоренции выслали за какую-то темную историю с подложным векселем. В Мадриде сажали в тюрьму за незаконное хранение оружия. За что полиция его выслала из Вены и Парижа, толком не интересовался, но вряд ли мы в данном случае имеем дело с «жертвой незаконных репрессий»...
На бегу из одной столицы в другую Казанова завернул в Берлин, где попытался очаровать короля Фридриха Великого. Поговорив с ним о философии, начал себя рекомендовать с наилучшей стороны: он-де и специалист по разбивке парков, и инженер-гидравлик, и великий финансист, и большой знаток военного дела...
Вот «знатока военного дела» как раз и не следовало изображать перед одним из лучших полководцев Европы, в особенности когда сам в этом ни черта не смыслишь! Умнейший Фридрих насторожился, от услуг «финансиста» и «гидравлика» отказался мягко, но решительно. Единственное, что он гостю предложил, – место воспитателя в кадетском корпусе...
До глубины души оскорбленный тем, что ему, великому магу и чернокнижнику, предложили столь ничтожный пост, Казанова распрощался с Фридрихом и подался в Россию. Поскольку прохиндей он все же был фантастический, то трижды встречался с Екатериной II. Предложил ей кучу проектов – от разведения шелковичных червей до реформы российского календаря, а также планы колонизации Поволжья и Сибири, импорт овец из Шотландии...
Кстати, волею случая он оказался нечаянным пророком: в одном из прожектов писал, что хорошо было бы России ввозить сельхозпродукцию из Америки. Согласитесь, что именно так сейчас и обстоит...
Но, в общем и целом, в России ему повезло еще меньше, чем в Пруссии: Екатерина, женщина большого ума, ласково улыбалась заезжей знаменитости и охотно беседовала о высоких материях, но никакого теплого местечка (даже воспитателя в кадетском корпусе) так и не предложила. Пришлось собирать чемоданы и убираться восвояси...
Наш герой еще долго болтался по Европе, обирая доверчивых простаков, но, постарев и утратив прежнюю ловкость, вернулся на родину, в Венецию, где от лютого безденежья подрабатывал штатным осведомителем инквизиции. Потом его вновь из Венеции выперли за какой-то сатирический памфлет – и закончил он свои дни в Чехии, библиотекарем у графа Вальдштейна...
Никчемный был человек, если разобраться. Но все же ухитрился занять местечко в Истории – благодаря, в первую очередь, не сомнительной деятельности в качестве «прорицателя» и «чернокнижника», а из-за своих неисчислимых побед на любовном фронте. Даже само слово «Казанова» стало нарицательным – а это, согласитесь, кое-что да значит...
Вдумчиво исследовавший эту сторону биографии Казановы испанец Круус насчитал 132 возлюбленных пылкого венецианца: 15 представительниц королевских домов Европы, 18 благородных дворянок, семь актрис, три монахини, три певицы, четыре куртизанки, шесть танцовщиц, 24 служанки, 6 крестьянок, 11 проституток – да вдобавок некую русскую крепостную девицу и вроде бы жену какого-то турка из Константинополя (Казанову и туда заносило).
Ну, что тут скажешь? Как выразился в подобной, связанной с интимом, ситуации И. В. Сталин: «Что делать будем? Завидовать будем!»
Казанова написал еще знаменитые «Мемуары», которые и сего дня читаются с превеликим интересом как документ эпохи...
Другой знаменитый алхимик и авантюрист, блиставший главным образом в Париже, мемуаров не оставил. Вообще, он был гораздо загадочнее простого парня Казановы – и не в пример более респектабелен, аристократичен, как сто чертей...
Это – граф Сен-Жермен – оне же маркиз де Монферра, кавалер Шенинг, граф Белламаре, граф Салтыков, он же испанский иезуит Аймар, он же эльзасский еврей Вольф, он же португальский маркиз Ветмар, он же – Ротондо, сын итальянского сборщика податей, он же – внебрачный сын испанской королевы Марии, он же – отпрыск венгерского князя Ференца Ракоци...
Одним словом, непонятно кто. Разумеется, никакой не граф и уж наверняка не Сен-Жермен. В отличие от Казановы, о котором хотя бы известно, где он родился, прошлое Сен-Жермена окутано совершеннейшим мраком. Просто-напросто с некоторых пор по Европе стал разъезжать (а точнее, гастролировать) крайне представительный, образованный и обаятельный господин, любивший в приятной компании рассказывать, что ему две тысячи лет, что он водил знакомство с Иисусом Христом и еще целой кучей исторических личностей прошедших эпох, от императора Нерона до Генриха IV. И такая в нем была бездна обаяния, что, вместо того, чтобы засадить «графа» в психушку или согнать со двора взашей, его слушали, развесив уши. И верили, что он и в самом деле отыскал эликсир вечной молодости, философский камень и кучу других не менее удивительных вещей...
Сен-Жермен, кроме прочего, уверял, будто умеет «лечить» драгоценные камни, убирая пятна, трещины и удаляя пузырьки воздуха. Тесно сблизившись с французским королем Людовиком, которому частенько демонстрировал алхимические опыты (но золота из дерьма делать не предлагал, что правда, то правда), Сен-Жермен и в самом деле вроде бы «вылечил» ему большой алмаз с пузырьками воздуха внутри – взял «больной», а потом принес в точности такой же, но уже без пузырька.
(Правда, злые языки уже тогда твердили, что «граф» алмаз попросту подменил купленным на собственные денежки еще более лучшим и красивым – чтобы оказаться в милости у монарха, пойдешь и не на такие траты...)
Как бы там ни было, но Сен-Жермен долго вращался в самом что ни на есть высшем обществе Франции. Как я уже говорил, он был не в пример респектабельнее Казановы – девиц направо и налево не совращал, «перерождениями» престарелых маркиз в младенцев мужского пола не занимался, могилы не разрывал. Но мозги окружающим пудрил так, что и десять Казанов его бы не перещеголяли...
Самое интересное, что с Казановой они однажды встречались. Сен-Жермен со своей всегдашней очаровательной улыбкой взял у Казановы медный грошик, подул на него, что-то нашептал – и вернул уже натуральнейшую золотую монетку. Правда, на Казанову этот фокус не произвел особенного впечатления, и он в своих мемуарах упрямо именовал Сен-Жермена обманщиком и дешевым трюкачом. Конкуренция – вещь жестокая, и два «великих мага» в одной берлоге уживаются плохо...
Одним словом, на болтовне о дружеском общении с Христом, всевозможных предсказаниях и прорицаниях Сен-Жермен милостями короля Людовика сколотил недурное состояние...
Говорят еще, что Сен-Жермен был в России, приятельствовал с Алексеем Орловым и даже якобы играл какую-то роль в возведении на престол Екатерины II. Одна беда: пишут об этом авторы художественных книг и «специалисты по эзотерике» (первых я уважаю, но ко вторым доверия нет ни на грош). В реальных воспоминаниях современников Екатерины II мне что-то ни разу не попадались упоминания о приятеле Алексея Орлова Сен-Жермене. Быть может, я читал не все, написанное в восемнадцатом столетии, но тем не менее...
Вообще-то Сен-Жермен в 1784 г. помер своей смертью, как человеку испокон веков и полагается, и был должным образом похоронен в Италии. Однако впоследствии почему-то именно о нем, единственном из великих авантюристов XVIII столетия, стала кружить масса увлекательных слухов: говорили, что он и не умер вовсе, а продолжает под другими именами странствовать по Европе, что якобы во времена Великой французской революции его опознали среди сидевших в тюрьме аристократов, что и в середине девятнадцатого века не кто иной, как граф Сен-Жермен (ну, вылитый!) прогуливался по Лондону и Риму... Эликсир вечной молодости, понятное дело!
Одна беда: никаких реальных доказательств авторы этаких сенсаций предусмотрительно не приводят. А от самого Сен-Жермена не сохранилось ни единого документа, ни одного листочка бумаги. Сразу после его смерти его тогдашний покровитель, принц гессенский, уничтожил весь архив Сен-Жермена. Через девяносто лет французский император Наполеон III, заинтересовавшись таинственным графом, назначил специальную комиссию, поручив ей собирать все материалы, имеющие касательство к «другу Христа». Комиссия что-то и в самом деле накопала, но тут случилась франко-прусская война, во время обстрела Парижа в числе прочих сгорело и здание комиссии со всеми бумагами...
Ну, такие мелочи никогда не останавливали публику определенного пошиба – и на Западе давным-давно существует секта баллардистов, которые графа Сен-Жермена почитают едва ли не выше Христа. И завлекательных книжек о нем написана масса – но с доказательствами, как я уже говорил, слабовато. Точнее, нету никаких доказательств...
Перейдем к последнему из славной троицы. Джузеппе Бальзамо, он же граф Калиостро. Самое пикантное, что в отличие от двух «магов», о которых я только что рассказал, графский титул Калиостро был самым что ни на есть настоящим – его молодой Джузи унаследовал от своей тетушки совершенно законно.
Как и Казанова, Калиостро учился в семинарии – но до духовного сана не дотянул, сбежал из богоугодного заведения. Его отловили и согласно тамошним нравам (дело было в Сицилии) ради исправления заточили в монастырь. Правда, не в подземелье на хлеб и воду, а в ученики к монаху-аптекарю. У монаха была оборудована неплохая лаборатория (век Просвещения, не забывайте!), и там-то юный Джузеппе получил кое-какие знания в области химии, ботаники и медицины.
После чего решил, что образование можно считать законченным – и дал деру из монастыря. На сей раз его уже не поймали – а может, попросту не стали ловить, поскольку в монастыре юнец вел себя так, что всех достал своими проделками...
Обосновавшись в столице Сицилии Палермо, юный «выпускник монастырской школы» стал промышлять самыми что ни на есть высоконаучными занятиями. Конкретно: изготавливал желающим за приличное вознаграждение приворотное зелье, сочинял и с выгодой продавал руководства по поиску кладов, подделывал деньги, театральные билеты, всевозможные квитанции, вообще любые бумаги, которые имело смысл подделывать.
На свою беду, о многообещающем юном специалисте прослышал богатый ювелир и ростовщик по имени Мурано – и сдуру отправился знакомиться. Джузеппе в два счета убедил клиента, что знает возле города уединенную пещеру, где спрятан богатый клад, охраняемый злыми духами. Сам Джузеппе туда не может заходить – иначе враз потеряет волшебную силу – но знает средство, как самому ювелиру этих злокозненных духов побороть и забрать клад до копеечки.
Средство и в самом деле было простое. В пещере следовало оставить увесистый мешочек с золотыми монетами, после чего уходить, не оглядываясь, и ждать дальнейших инструкций.
Вы будете смеяться, но Мурано и в самом деле отнес в пещеру мешочек золота и ушел, не оглядываясь. Золото очень быстро исчезло из пещеры – а вместе с ним из Палермо испарился и Калиостро, которому там уже становилось неуютно...
«Заклинатель демонов» пустился путешествовать по Италии, где свел знакомство с неким Альтосасом, субъектом неизвестной национальности и непонятного происхождения, но могучим магом – о чем сам Альтосас убедительно рассказывал всем, кто соглашался его слушать.
Оба принялись путешествовать уже вместе. Поскольку жить на что-то нужно было, подозреваю, что они уже на пару очищали карманы простаков вроде сицилийского ювелира. Вряд ли Калиостро и его колоритный приятель добывали средства к существованию трудами праведными...
Потом парочка посетила Египет. Вроде бы и в самом деле посетила – но лично я категорически не верю, что некие «египетские жрецы» посвятили их там в «тайные знания». Как впоследствии уверяли всех Джузеппе с Альтосасом. Во-первых, наверняка к тому времени в Египте уже давным-давно не было никаких таких «наследников древней египетской мудрости». Во-вторых, даже если бы где-то в захолустье и сохранилась парочка, с какого перепугу им посвящать в сверхтайные и сверхценные знания первого встречного заезжего мошенника?
Но некую чисто туристическую поездку наши «маги» все же, кажется, совершили. Я согласен поверить, что они переняли кое-какие трюки у уличных фокусников, что впоследствии пригодилось – но в жизни не поверю, что им удалось просочиться в Мекку, как они хвастались. За всю историю этого священного для мусульман города ни один немусульманин туда не пробрался. Ни один!
Из Египта наши герои отправились на Мальту, где в два счета задурили «египетскими мотивами» голову гроссмейстеру тамошнего знаменитого рыцарского ордена, который, назовем вещи своими именами, и так давно подвинулся на «тайных знаниях» и «скрытых науках». На рыцарские денежки оборудовали лабораторию, где долго и безуспешно пытались отыскать эликсир вечной молодости и философский камень – не знали, наивные, что их опередил граф Сен-Жермен.
Ни эликсира, ни философского камня они, как ни тратили гроссмейстерские денежки, так и не изобрели. Альтосас там же на Мальте и помер – то ли от разочарования, то ли просто оттого, что срок подошел. В одиночку продолжать увлекательные поиски Калиостро отчего-то не стал, – и, запасшись рекомендательными письмами от простодушного гроссмейстера, отправился в Рим, где, обояв тамошних аристократов, долго рассказывал им о своих египетских приключениях.
Именно там Джузеппе женился на Лоренце Феличиани, впоследствии его верной сообщнице в многочисленных аферах. Девушка была из самых что ни на есть простых – обыкновенная служанка – но красавица писаная.
Молодожены подались в Испанию, где Калиостро выдал себя за родовитейшего аристократа-римлянина, который без разрешения родителей женился на простой служанке (единственная правдивая деталь) и вынужден теперь влачить жалкое существование. Чувствительные испанцы вздыхали над трагической судьбой двух милых молодых созданий и охотно ссужали Джузеппе деньгами. Но тут какие-то въедливые бюрократы стали интересоваться, есть ли у господина аристократа хоть какие-то документы, подтверждающие его личность и его историю. А где их взять, документы-то? Тут вам не Палермо, с ходу не подделаешь...
Пришлось перебраться в Португалию, а оттуда в Англию, где Калиостро свел знакомство с некоей небедной миссис Фрей, быстренько убедил ее, что знает верный способ «увеличения драгоценностей» – и под это дело выманил у доверчивой миссис золотой ларец и дорогое ожерелье, которых она более так и не увидела. Кинулась в суд, но не было свидетелей, и Калиостро выкрутился.
А попутно в Лондоне применил (быть может, одним из первых) тот метод, на который и сегодня в нашем Отечестве порой ловят доверчивых лохов. Лоренца, быстрехонько вскружив голову какому-то лондонскому богачу, пригласила его к себе, но, едва они стали устраиваться в постели, нагрянул оскорбленный в лучших чувствах муж, для которого увиденное, конечно же, стало громом с ясного неба. Чтобы унести ноги, незадачливый любовник выложил все денежки, что нашлись в карманах...
После Англии парочка гастролировала по Франции, Голландии, Германии и Испании, облегчая карманы любителей «тайных наук», а также «клубнички». Потом вернулись в Англию, где Калиостро начал торговать «астрономическими изъяснениями», помогающими якобы угадывать выигрышные лотерейные номера. Снова Калиостро оказался под судом, снова не нашлось улик, снова его оправдали (что при зверообразности тогдашней британской Фемиды было удачей нешуточной).
А вскоре Калиостро свел знакомство с пресловутыми масонами, о которых выдумано столько небылиц – они-де и всемогущие и всеведущие, вообще едва ли не сверхчеловеки...
Оказалось, что масонов можно дурить так же легко и просто, как обычных смертных. Калиостро быстренько приобрел у них немалый авторитет, в два счета превратив в золото пару фунтов железа и увеличив бриллианты.
А потом, немного осмотревшись, пришел к выводу, что настоящего финансового процветания можно добиться только в том случае, если создашь свое собственное учение – а не станешь ходить в подручных у тех, кто давным-давно основал свою масонскую ложу и расхватал там все тепленькие места.
Калиостро быстренько объявил, что намерен учредить нечто совершенно новое – Египетское Масонство. Поскольку в Египте, что та губка, впитал столько тайных знаний, что все прочие масоны, неучи доморощенные, ему и в подметки не годятся. И вообще, он теперь даже не граф, а Великий Копт. Графьев много, а Великий Копт, единственный наследник тайных наук прямиком из пирамид, – один.
Ошарашенные масоны прониклись – и потянулись в «египетскую ложу» рядами и колоннами, тем более что каждому новому члену Великий Копт обещал не только достижение духовного и физического совершенства, но и ровнехонько 5557 лет жизни на грешной земле (почему была выбрана именно эта, не такая уж круглая цифра, для меня остается загадкой).
Собирал ли Великий Копт приличные денежки с каждого нового члена? Вы что, дети малые? А иначе зачем огород городить...
Одним словом, полная тайна вкладов, то есть организации.
Завербовав приличное количество «египетских масонов» в Англии и Франции, Калиостро поехал в неокученную еще Германию, где по старой памяти варил приворотные зелья и прочие волшебные эликсиры и на «магических сеансах» демонстрировал сущие чудеса – зрители никогда не бывали в Египте и с трюками тамошних факиров были незнакомы совершенно...
Из германии великий маг отправился в Санкт-Петербург, где привычно торговал всевозможными волшебными эликсирами, дававшими вечную молодость и излечивавшими от любой хвори. Наши предки эту бурду, увы, расхватывали с превеликим энтузиазмом, ничем не отличаясь в этом плане от жителей самых что ни на есть «передовых» и «прогрессивных» европейских держав.
Однако в России Калиостро развлекался недолго. Екатерина II подобных «магов» на дух не переносила, прекрасно зная им истинную цену – и даже написала комедию для театра, где качественно высмеяла искателей философского камня.
Да вдобавок Калиостро влип в серьезную аферу: взялся за огромные деньги вылечить смертельно больного младенца, но тот все же умер – и «алхимик», чтобы не потерять денежки, тайком прикупил у каких-то бедняков-крестьян подходящего по возрасту мальчика, которого и предъявил в качестве «исцеленного».
Обман раскрылся едва ли не моментально. На горизонте обозначилась не любившая подобных мошенств контора под названием Тайная Экспедиция, где таких вот целителей пряниками не потчевали и на «вы» не разговаривали. Калиостро едва ноги унес из России.
В Польше его опять-таки не оценили по достоинству, быстренько объявив шарлатаном. Пришлось срочно уехать в гораздо более цивилизованные края, где к кудесникам и прорицателям относятся гораздо уважительнее.
Жители французского Страсбурга надежд Калиостро не обманули и показали себя людьми просвещенными, не чета грубым славянским варварам, упорно не верившим в египетскую магию. В этом древнем городе магу устроили триумфальную встречу с таким размахом, как если бы он был заезжей коронованной особой. На главной площади собрали всех городских больных, и Калиостро их до вечера усердно «лечил»: кого наложением рук, кого наговорами-заговорами, кого волшебными эликсирами. Как ни удивительно, но после этакого лечения все остались живы, и Калиостро еще три года «врачевал» тамошних идиотов, а для высшего света за отдельную плату устраивал магические сеансы – бриллианты увеличивал, холстину в шелк превращал, задуманные карты угадывал, мысли читал.
Потом перебрался в Париж, где возможностей имелось не в пример больше (да и деньги вертелись изрядные). Там он приобрел особняк и устроил в нем настоящее обиталище чародея: на стенах золотом начертаны никому не понятные «универсальные молитвы», мебеля и прочая обстановка – на высшем уровне. Естественно, в столь перспективных декорациях уж неудобно было брать с клиентов серебром, и «маг» греб золотишко пригоршнями.
Супружница не отставала – она взялась читать для дам курс лекций по магии и чародейству – тогдашний вариант ниичаво. Клюнуло ровным счетом тридцать знатных дам, с каждой «волшебница Лоренца» содрала по тридцать луидоров (луидор – полновесная золотая монета, примерно соответствующая нашему царскому червонцу). Легко подсчитать, сколько огребла эта парочка, успешно внедрявшая семейный подряд...
Но потом «магу» поплохело и в славном городе Париже – дернул его черт ввязаться в нашумевшую когда-то аферу с ожерельем королевы Марии-Антуанетты.
Эту историю непременно следует рассказать подробно, без нее повествование о восемнадцатом столетии будет неполным...
Жил-был в Париже кардинал Роган, он же герцог (настоящий, без дураков, из древнего и почтенного рода). По отзывам современников, его высокопреосвященство был человеком, в общем, глупым и никчемным – но амбиций имелось выше головы. Хотелось взобраться на самые верхи, в первые министры. Логика тут была простая: Ришелье был кардинал? Кардинал. Кардинал Ришелье был герцог? Герцог. Ну, коли я тоже герцог и кардинал, у меня не хуже получится!
А вдобавок кардинал был страстным образом влюблен в королеву Марию-Антуанетту. Дело, в общем, житейское: хотя она и королева, но женщина исключительно красивая.
Беда в том, что Мария-Антуанетта, в противоположность многим своим предшественницам на французском троне, была в эротическом плане женщиной строгих правил (это уже потом, во времена революции на нее вылили потоки грязи, выдумав даже, будто она развращала и собственного малолетнего сына). И, с другой стороны, все при дворе прекрасно знали, что кардинал туп, как пробка, а потому и не собирались ему предоставлять серьезные государственные должности.
Но наш герой мнил себя, во-первых, выдающимся государственным деятелем, а во-вторых, неотразимым любовником. И, в конце концов, стал подбрасывать королеве любовные признания – в прозе, поскольку поэтическими талантами не обладал.
Ну, всякое бывает. В предыдущее царствование, при Людовике XIV, законченная лесбиянка герцогиня Дюра практически в открытую предлагала все свое состояние за одну-единственную ночь любви не кому-нибудь, а дочери короля, пятнадцатилетней принцессе де Конти. Принцесса отказалась – не из высоких моральных соображений, а попросту оттого, что ночи предпочитала коротать с королевскими гвардейцами, и старая лесбиянка ее совершенно не привлекала...
Короче говоря, кардинал подбрасывал королеве пылкие любовные письма, сгорая от страсти, как солома на ветру...
Тут ему и подвернулся Калиостро, увидевший прекрасный случай подзаработать. Для начала «великий маг» пригласил кардинала на свой знаменитый банкет – куда собирал аристократов, писателей, ученых, причем за столом стояли и пустые стулья, на которых, по уверениям Калиостро, незримо восседали покойные философы прошлого – Монтескье, Вольтер – и, мало того, средь белого дня давали обстоятельные ответы на вопросы гостей (при посредстве Калиостро, понятно).
Кардинал клюнул. Калиостро ему устроил «опыт магнетизма» – пылали факелы, пляшущее пламя отражалось в бутылях с эликсирами, Калиостро в два счета ввел в транс какую-то красивенькую соплюшку, и та моментально «увидела», как в самом скором будущем королева отвечает на поползновения кардинала самым приятным образом. Одним словом – и любовь тебе будет, касатик, и карьера, только ручку не забывай золотить...
Кардинал воспрянул. Тут-то и появляется ожерелье...
У Марии-Антуанетты была в жизни одна, но пламенная страсть – драгоценные камни (пристрастие, впрочем, простительное для очаровательной женщины, к чьим услугам к тому же государственная казна). А тут два парижских ювелира смастерили особенно красивое ожерелье с огромными бриллиантами – ценой ни много ни мало 1 600 000 ливров. В те времена на такие деньжищи можно было построить военный корабль – трехмачтовый, многопушечный – и еще осталось бы на хороший банкет и наем экипажа.
Естественно, никому в стране, кроме коронованных особ, эта игрушка была бы не по карману. Показали королеве. Королева пришла в восторг и пошла к мужу просить денег. Людовик XVI был вообще-то человеком мягким (глуповат, но добряк, славный малый, вполне уместный в роли мэра маленького городка или чиновника, но решительно не годившийся в короли) и женушкиным прихотям всегда шел навстречу, но на сей раз сумма была неподъемная даже для него: казна пуста, государственный долг достиг устрашающих размеров, какие, к черту, брильянты, да еще за такую цену...
Королева впала в меланхолию. Тут на сцене появилась очаровательная молодая авантюристка Жанна Ла Мотт, по тогдашним непринужденным обычаям именовавшая себя графиней и незаконной дочерью короля Генриха IV (первое было совершеннейшей выдумкой, а вот второе, в принципе, могло оказаться и правдой: покойный Генрих наплодил столько незаконных отпрысков, что обо всех даже и не знал).
Жанна свела знакомство с кардиналом, скоренько его убедила, что она – самая близкая и доверенная подруга королевы, и начала носить влюбленному болвану ответы королевы на его пылкие излияния (которые сама же и подделывала с помощью законного мужа, того еще мошенника).
Чуть позже устроила даже кардиналу свидание с королевой – под покровом романтичной ночной тьмы, в парке, на расстоянии. Роль королевы блистательно исполнила юная модистка Николь Лаже (опять-таки именовавшая себя «баронесса д’Олива), которая промышляла главным образом тем, что не шляпки шила, а за хорошие деньги позволяла аристократам с ней баловать, как душе угодно.
Кардинала можно было теперь брать голыми руками. И Жанна ему преподнесла с невинным видом убедительно состряпанную историю: мол, королева хочет потихоньку купить то самое ожерелье, но нужен респектабельный поручитель, который от ее имени все и проделает...
Наш дурень в кардинальской мантии поручение старательно выполнил: забрал у ювелиров ожерелье, заявив им, что действует по поручению королевы (те поверили – ну как же, кардинал и герцог, фамилия старинная!), после чего отдал его Жанне Ла Мотт. И стал ждать, когда королева его отблагодарит в спаленке и назначит первым министром...
Не дождался, конечно. Зато во дворце появились встревоженные ювелиры и дипломатичнейшим образом поинтересовались, когда ж им все-таки заплатят деньги...
Какие деньги? Да за ожерелье! Какое ожерелье? Да то самое, что мы кардиналу отдали для ее величества! Парижской Богоматерью клянемся!
Грянул скандал. Королевская чета оказалась в самом неприглядном положении – а потому, не заботясь о сохранении тайны, полиция моментально загребла всех: и Жанну Ла Мотт, и кардинала, и Калиостро, которого перепуганный кардинал тут же заложил подробнейшим образом...
Ожерелья, правда, уже не было – его в Лондоне, разрезав на кусочки, продавал муженек Жанны... Удалось отыскать во Франции лишь малую часть камешков.
Шумный был скандал... Как ни старалась французская разведка, мужа Жанны из Лондона так и не выцарапали, и большая часть бриллиантов пропала бесследно.
А оказавшиеся под следствием, как оно обычно и бывает, во весь голос вылили вину друг на друга. Жанна Ла Мотт уверяла следователей, что все придумал Калиостро. Калиостро столь же яростно отпирался: да, мол, за скромную сумму, а главным образом ради того, чтобы отвязаться от влюбленного дурака, показал ему парочку фокусов, но – никакой уголовщины не замышлял! Кардинал кричал, что влюблен по самые уши, и его, младенца несмышленого, злые люди обдурили на четыре кулака...
Кончилось все тем, что срок влепили одной Жанне. Отстегали кнутом, поставили на плечо клеймо (ту самую знаменитую королевскую лилию, которой у Дюма отметили коварную миледи) и отправили за решетку. После революции она себя провозглашала «безвинной жертвой деспотии», долго еще болталась по свету и умерла не где-нибудь, а в России, где скромненько обитала под чужим именем. Долго потом ходили слухи, что бриллианты она все же привезла в Россию и закопала где-то, но это наверняка сказочка.
Туманная история, в некоторых деталях не проясненная до сих пор. Обличители «всепроникающих масонов», конечно же, твердили, что вся эта история была масонской провокацией, задуманной ради дискредитации монархии. Увы, как это всегда и бывает, доказательствами никто похвалиться не может (а французская монархия сама дискредитировала себя так, что не понадобились бы никакие масоны).
Гораздо более похожа на правду другая версия, выдвинутая серьезными французскими учеными еще лет пятьдесят назад: что королева все же знала о том, что в ночном парке кардиналу показали ее двойника, более того, сама этот розыгрыш устроила, чтобы посмеяться над влюбленным идиотом – вот только не предусмотрела, что исполнители, Жанна с компанией, поведут свою игру и под шумок приберут к рукам ожерелье. Поскольку эта версия основана не на домыслах, а на сохранившихся в венских архивах письмах Марии-Антуанетты, доверия к ней гораздо больше, нежели к сказкам о масонах...
Но вернемся к Калиостро. И он, и кардинал Роган от суда в конце концов отвертелись – у обоих было гораздо больше связей и полезных знакомств, чем у Жанны. Но на «великого мага» юстиция начала откровенно коситься, и он от греха подальше убрался из Франции, обосновавшись в родной Италии.
Тут бы и успокоиться, благо и года уже были почтенные, и денег имелось изрядно. Тут бы и жить в полном соответствии с принципом Абдуллы: хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?
Однако, надо полагать, пресловутое шило в заднице о себе напомнило – и Калиостро по старой памяти принялся учреждать «египетское масонство», причем не где-нибудь, а в Риме, где давным-давно действовал папский указ о том, что масонство карается смертной казнью, будь оно хоть египетское, хоть эскимосское. Папа (не в пример более поздним деятелям) прекрасно понимал, что кучка интеллигентов, увлеченно балующихся эзотерикой и самыми шальными политическими теориями, может очень даже запросто и натворить дел... Что потом, кстати, не в одной стране блестяще подтвердилось.
Короче, полное впечатление, что Калиостро слегка повредился умом – учреждать в Риме масонскую ложу было столь же благоразумно, как если бы войти в мечеть со свиным окороком и предлагать мусульманам подкрепиться...
«Великого мага» моментально повязали. Иные «прогрессивные» писатели уверяли потом, что его якобы безжалостно пытали, гноили в сыром подземелье, пока не подписал насквозь вымышленные обвинения.
На самом деле все обстояло иначе. Судейские проделали титаническую работу, восстановив в мельчайших деталях путаную биографию синьора Джузи: как за приличные деньги вызывал духов, за которых сам же и чревовещал, как торговал «эликсиром бессмертия» из всякой дряни, как подкладывал супругу богатеньким Буратинам... И все это обнародовали. Тогда только у «просвещенной общественности» открылись глаза, и она поняла, как ее дурили – а раньше что-то не догадывалась.
Финал был скучным: Калиостро прозаически помер в заключении. Дуракам обещал 5557 лет жизни, а то и бессмертие, но себе самому отчего-то бытие не продлил...
Где авантюрист, там и шпионаж. Надобно вам знать, что в восемнадцатом столетии службой в тайной полиции не гнушались и светочи литературы. Знаменитейший драматург Бомарше, автор «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро», много лет трудился, не покладая рук, в качестве заграничного агента французской разведки – о чем можно было бы написать отдельную (и толстенную!) книгу.
Точно так же к тайным делам был прямо причастен и классик английской литературы Даниэль Дефо – в те времена, когда он еще не считался классиком. Правда, Бомарше все же выглядел чуточку приличнее в сравнении с коллегой по перу: он как-никак служил именно в заграничной разведке. А мистер Дефо, признаемся ради ясности, служил скорее агентом-провокатором в родной Англии – выслеживал всевозможных инакомыслящих, диссидентов и прочих вольнодумцев. И даже представил властям серьезнейший трактат об организации в Англии «секретной службы, благодаря которой королевские министры со всех концов страны могли бы получать надежную информацию о том, как в данный момент различные города и графства относятся к правительству».
Без насмешки, это была серьезная работа – в те времена, когда мало кто задумывался о «научной организации труда». Согласно Дефо, у властей должны быть списки всех дворянских и просто богатых семей того или иного графства, власти «должны иметь сведения относительно образа мыслей и нравственности служителей церкви и мировых судей в каждом приходе», кроме того, «список наиболее видных граждан каждого города и его окрестностей с тем, чтобы знать, за какую из партий готовы эти люди подать свой голос на выборах». И наконец, нужно в масштабах всей страны составить «таблицу, показывающую силу влияния каждой из партий в различных районах». Все вышеперечисленное требует развернуть обширную сеть тайных осведомителей по всей стране.
В мою задачу не входит в чем бы то ни было упрекать автора бессмертного «Робинзона Крузо». Я просто-напросто в толк не возьму, отчего в таком случае сплошь и рядом именно Российскую империю иностранцы полощут за ее Третье отделение? Которое даже к середине девятнадцатого столетия насчитывало три с лишним десятка человек...
Агентами французской разведки, кстати, побывали и Казанова с Сен-Жерменом. Правда, если первый вел себя грамотно и о данных ему поручениях помалкивал, то Сен-Жермен, чтобы повысить свой престиж в глазах окружающих, направо и налево выбалтывал детали порученных ему секретных миссий, пока от его услуг не отказались...
Шпионаж в те времена переживал сущий расцвет, поскольку был абсолютно лишен какой бы то ни было идейной подоплеки (которая, цинично заметим, способна только повредить серьезному делу). Времена были простодушные и непосредственные, ничуть не зазорно было откровенно продаваться иностранному государству, что считалось делом житейским, невинной подработкой на стороне (вспомним те самые «пенсионы»!).
А потому даже на разоблаченных агентов порой смотрели сквозь пальцы. Например, папенька Фридриха Великого, король прусский Рейхенбах давным-давно работал на австрийцев, а первый министр – на французов (правда, и его потом перекупили более щедрые австрийцы). Но реагировали спокойно: во-первых, это было дополнительное средство держать проказников в ежовых рукавицах, а во-вторых, им можно было платить вовсе уж мизерное жалованье, цинично объясняя:
– Вы ж, камрады, все равно на продаже моих секретов чертову уйму денег зашибаете...
Камрады скромненько опускали глазки и о повышении жалованья больше не заикались...
Одним из центров европейского шпионажа в те времена был как раз турецкий Стамбул. Никакого парадокса здесь нет: сановники Оттоманской державы продавались вовсе уж беззастенчиво и откровенно, а потому именно там было проще добывать иные секреты. Например, копию секретнейшего австрийско-турецкого соглашения против России английская разведка раздобыла не в Вене, а как раз в Стамбуле. Между прочим, взяточничество было такое, что турецкие власти даже не пытались с ним бороться: они просто-напросто создали особую канцелярию, которая аккуратно собирала с турецких чиновников подоходный налог... с каждой взятки! Так и было... Наказывали по полной не за то, что хапнул взятку от иностранного посла или загнал государственные тайны сопредельной державе, а за то, что налог с этих денежек не выложил...
Именно там, в Стамбуле, русский посол Дашков без особого труда купил с потрохами голландского посла при султане графа Кольерса, который на своем посту сидел сорок лет и был кладезем бесценной информации. А чуть позже русские разведчики в Стамбуле заявились к датскому посланнику барону Гибшу и без церемоний поинтересовались:
– Господин барон, у нас, знаете ли, золота полны карманы, а секретов как раз не хватает... Завербоваться не хотите?
Барон, лучезарно улыбаясь, ответствовал:
– С полным нашим удовольствием, молодые люди!
Уникальный был тип! Работал на все разведки, какие только действовали в Стамбуле – и особенно прославился в узких кругах тем, что во время войн России с Наполеоном снабжал информацией (достоверной!) и ту, и другую сторону.
Коли уж речь зашла о нашей разведке, то обязательно нужно упомянуть тогдашнего Штирлица номер один графа Юрия Юрьевича Броуна. Немец по происхождению, он впоследствии поступил на русскую службу и, в 1740 г., находясь в плену (!) у турок, тем не менее ухитрился раздобыть секретные бумаги султанского правительства, касавшиеся подготовки новой войны с Россией – да вдобавок и переслать их в Санкт-Петербург! За что, вернувшись домой, был произведен в генералы. Умели люди работать.
Ну, а чтобы отвлечься от авантюристов и шпионов, давайте поговорим о чем-нибудь возвышенном. Например, о высоком искусстве, в частности опере.
В итальянской опере тогда пели кастраты. Во множестве. Напомню тем, кто запамятовал, в чем тут фокус. Когда обладатель великолепного голоса переходит из подросткового возраста в юноши, голос у него ломается. Может остаться таким же красивым (хотя и чуточку другого тембра), а может и пропасть напрочь. Но он сохранится во всем великолепии, если вовремя подступить к мальчику с ножницами и... ну, вы поняли.
В общем, в Италии этот промысел получил самое широкое распространение. Певцы были из самых что ни на есть бедняцких семей, а потому и их самих, и родителей можно было легко уговорить, позвякивая золотишком...
Кое-кто из заезжих иностранцев клялся и божился, что своими глазами видел на дверях итальянских лавок откровенное объявление: «Имеются мальчики-кастраты». Вообще-то дело было не просто осуждаемое обществом, но и уголовно наказуемое: любого, уличенного в причастности к проведенной над дитем кастрации, отлучали от церкви, а потом и сажали. Но все равно, бизнес процветал более-менее подпольным образом – надо полагать, те, кто им заправлял, оправдывались тем, что служат высокому искусству. Сами итальянцы на публике об этом пикантном промысле говорить стыдились, и каждая провинция сваливала грех друг на друга: в Милане категорически отрицали, что забавляются с ножницами – мол, это исключительно в Венеции... Означенная Венеция кивала на Болонью, Болонья все отрицала и грешила на Флоренцию, из Флоренции переправляли любопытных в Рим, а Рим сваливал на Неаполь... Ну, а неаполитанцы, ясен пень, с честными глазами уверяли, что они тут вовсе ни при чем, и богомерзкий промысел процветает как раз в Пулье (на кого сваливала Пулья, я пока что не выяснил).
В общем, все отпирались категорически – а кастратов повсюду пело немыслимое количество.
Но не это самое интересное. И даже не то, что один из таких певцов, Балатри, несколько лет гастролировал в России, куда его привез Петр I...
Самое интересное, что кое-кто из этих певцов-кастратов оказывался... героем бурных и получавших широкую известность любовных романов, ничуть не педерастических, а с очаровательными дамами! Серьезные источники свидетельствуют, знаете ли...
Ну, мы с вами вообще-то взрослые люди и знаем, что даже кастрат при некоторой фантазии может доставить даме нешуточное удовольствие. А во-вторых... Как сообщают те же серьезные источники, они, стервецы, так красиво ухаживали... И голос божественный, и обхождение самое галантерейное... Надо полагать, это в какой-то степени компенсировало недочеты. Давно ведь подмечено, что женщины любят ушами...
Кастрат Сифаче, знаменитый певец, был известен всей Италии как дамский угодник, из-за чего в конце концов и сложил буйну голову. Был у него пылкий роман с графиней Еленой Форни, вдовой знатного дворянина из города Модена. Когда слухи об этом романе дошли до родственников вдовы, они ее засадили в монастырь (скорее всего, не из-за того, что Сифаче был кастрат, а оттого, что происхождения он был самого подлого).
Сифаче не угомонился – он ухитрился проникнуть и в монастырь к предмету своей страсти. Прослышав об этом, разъяренные родственники наняли специалистов по деликатным делам. Специалисты деликатно перехватили певца на большой дороге и квалифицированно прикончили, а заодно и безвинного кучера, чтобы не растрепал этакие новости из мира оперного пения...
Героем не менее нашумевшей любовной истории был и кастрат Каффарелли. В Риме он ухаживал за некоей дамой из высшего общества, и ее супруг однажды застукал парочку при самых недвусмысленных обстоятельствах. Каффарелли спасся только потому, что всю ночь просидел в пустой бочке, пока его искали по всей округе. Муженек (должно быть, не большой любитель оперы) нанял четырех молодцов, чтобы прикончить звезду шоу-бизнеса – но его жена, в свою очередь, наняла для любовника четырех телохранителей...
Но всех переплюнул кастрат Тендуччи. Сначала он, будучи на гастролях в Англии, умыкнул из-под родительского крова некую благонравную девицу. А потом и обвенчался с ней по всем правилам. Более того: кое-кто из современников уверяет в своих мемуарах, что у этой пары было двое детей!
Казанова писал, будто все дело в том, что (простите за этакие подробности) у Тендуччи было не два, а три яичка – и, когда ему парочку отчекрыжили, третье осталось. Об этом ему якобы поведал сам Тендуччи.
История крайне запутанная. Известно, что дети у Тендуччи были – но, в конце концов, под давлением родственников жены брак был признан «недействительным и несостоявшимся» и расторгнут по суду. Как там обстояло на самом деле, сегодня уже не выяснить, да и смысла нет – я все это рассказываю исключительно для того, чтобы вы прониклись колоритом эпохи (в девятнадцатом веке кастратов уже не фабриковали).
Ах, этот волшебный мир театра! В архивах сохранилась совершенно очаровательная официальная бумага, вышедшая из Московской полицмейстерской канцелярии в декабре 1748 г. Был тогда в Белокаменной театр, а точнее, как он именовался, «камедиальный дом, построенный в Старой Басманной улице, близ Красных ворот, в котором, при собрании знатных особ и протчих чинов людей и производится камедия».
Так вот, знатные особы, как им по тогдашним правилам хорошего тона надлежало, приезжали смотреть представление в сопровождении многочисленных слуг, которых оставляли на улице. Означенные лакеи сплошь и рядом ломились в театр – без билетов и не платя за вход, выламывали двери, дрались с актерами и сторожами. Дело было не в тяге к высокому искусству: все происходило в декабре, стояли сильные морозы, и на улице было неуютно. Одни лезли внутрь, чтобы малость погреться, другие поступали и того радикальнее. Как гласит тот же документ, «тако ж отламывают у камедиального дому крыльца и лестницы и раскладывают огни, отчего, Боже сохрани, не воспоследовало б пожарного буйства».
Чтобы навести порядок в храме искусств, решено было принять самые разные меры: в дни представления высылать к театру усиленные полицейские наряды, офицерам регулярно контролировать несение службы дозорами. И, наконец, с каждого, собравшегося в театре, стали брать подписку в том, что он предупрежден о недопустимости нарушения его слугами общественного порядка – и, буде что, заплатит немаленький штраф...
А поскольку некоторые слова имели в то время абсолютно не то значение, что ныне, театральные труппы именовались... «бандами». Даже в самых что ни на есть официальных документах можно встретить: «бьет челом немецкой банды камедиант Панталон Петер Гилферинг»...
Это, конечно, произошло от немецкого слова «bande», имеющего значение не только «шайка», но еще и «компания», «ватага», «орава». «Камедиант» Гилферинг, кстати, бил челом о выдаче ему разрешения на работу в России. Разрешение выдали. О чем в «Журнале Протоколов Правительствующего Сената» сохранилась следующая запись от 12 октября 1749 г.: «По имянному изустному указу, объявленному генерал прокурором и кавалером о даче немецкой банды содержателю Панталону Петру Гильфердингу для произвождения комедий...»
Положительно, я не могу удержаться, чтобы не привести полностью решения князя Трубецкого, того самого «генерал прокурора и кавалера»: «Всепресветлейшая державнейшая Великая государыня императрица Елизавета Петровна, самодержица Всероссийская указать соизволила: что понеже (поскольку – À. Á.) Ея Императорского Величества немецкой банды камедианской содержатель Панталон Петр Гильфердинг всеподданнейше просил, а Правительствующий Сенат подал челобитную: якобы бывшей той банды директор Сигмунд умрет, ныне та банда осталась без директора, а содержит оную он, Панталон Гильфердинг, платя вышеозначенного умершего Сигмунда жене, которая ныне вышла замуж за офицера, некоторую часть от собираемых с того доходов. Того ради, ему, Гильфердингу, дать из Сената, на основании прежде данной означенному умершему Сигманду, привилегию, а жену ево Сигмандову от того отрешить и платы ей ему, Гильфердингу, отныне более никакой не производить».
Каков старинный слог? Песня...
В общем, Панталону выдали, «сочиняя оную» в Правительствующем Сенате, привилегию, то есть, говоря современным языком, эксклюзивное право играть «камеди» в Москве, Санкт-Петербурге, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге. После чего во всех документах Панталон уже именовался «Привилегированной немецкой банды директор». Чем, надо полагать, весьма гордился.
Обратите внимание: театральными делами занимаются и лично императрица, и Правительствующий Сенат. Причем не только театральными – точно такие же бумаги, показывающие, что дело рассматривалось и сенаторами, и государыней, повествуют о том, как выдавали схожую привилегию «прибывшему из немецких краев показателю куриэзных вещей Францу Сарге с компаниею и ученою лошадью для предоставления экзерциций».
Причиной тому – вовсе не доведенная до заоблачных высот бюрократия. Просто-напросто в те времена «учреждений культуры» было настолько мало, что и труппой комедиантов, и немцем с ученой лошадью занимались на самом высшем уровне. И в Европе тоже. Незатейливые были времена...
И не надо думать, что вышеописанные беспорядки в театре – типично русские заморочки. В других державах театры тоже, знаете ли, мало напоминали храм возвышенной культуры...
И в английских, и в итальянских театрах в партере собиралась не самая пристойная публика: лакеи (в Венеции еще и гондольеры, то бишь тогдашние таксисты), молодые бездельники, вообще всякий сброд. Меж рядами расхаживали девицы, предлагавшие не только прохладительные напитки, но и свои услуги. В нижнем ряду лож невозбранно располагались дамочки сомнительной репутации, которых охотно пускали ради привлечения публики, а следовательно, и повышения выручки. Вся эта толпа и во время спектакля болтала, шумела, ссорилась, а то и дралась.
«Чистая публика», господа аристократы, в театр сплошь и рядом приезжала не оперу слушать или комедию смотреть, а приятно провести время на публике. Большие ложи, принадлежавшие театралам побогаче, были скорее похожи на гостиные: дорогие ковры, зеркала, диваны, канделябры. Там, опять-таки во время спектакля, преспокойно играли в карты, распивали вино, ходили друг к другу в гости из ложи в ложу. Не храм, чего уж...
Сохранились документы венецианской тайной полиции, свидетельствовавшие о том, какую головную боль доставляла означенному жутковатому учреждению очаровательная и легкомысленная княгиня Эрколани, супруга австрийского посла. Эта ветреная особа назначала свидания любовнику прямо в ложе. Ну, место достаточно удобное: ковры-диваны, канделябры, занавески легко задернуть, отгородившись от всего мира, да вдобавок рядом музыка играет и, как писал классик, кастраты усладительно поют... Романтично, черт побери – и ведь уютно!
Разумеется, беспокойство венецианской тайной полиции касаемо любовных приключений жены дипломата проистекало вовсе не из соображений высокой морали. Чины попросту боялись, что муж легкомысленной княгини когда-нибудь узнает, как проводит время в храме культуры его женушка, заявится туда с парой пистолетов или шпагой (прецеденты бывали) и получится сплошная уголовщина, переходящая в международный скандал: речь как-никак шла о дипломате. А кому отдуваться в случае чего? Конечно, тайной полиции, которая не доглядела и не обеспечила...
Чтобы хоть как-то привести театральную публику в благопристойный вид, создали особые отделы полиции – их сотруднички в штатском кишмя кишели среди зрителей. В Риме, например, тех, кто вел себя в театре особенно буйно, без церемоний хватали, волокли на близлежащую площадь, привязывали к специальному столбу и отвешивали дюжину-другую розог по мягкому месту. После чего отводили назад и усаживали на прежнее место, чтобы и дальше наслаждался культурной программой, «насколько ему позволяло его состояние». Ясно, что сиделось наказанному опероману совсем неуютно...
Но так, конечно же, поступали исключительно с буянами простого звания. Кто бы рискнул не то что намекать насчет розог, но хотя бы замечание сделать его величеству Фердинанду, королю Неаполитанскому? Была у него устоявшаяся проказа: в последний день ежегодного карнавала король отправлялся в театр Сан Карло, занимал место на самой верхотуре, приказывал принести блюдо макарон с подливкой (и непременно чтобы с пылу с жару!) после чего пригоршнями вываливал спагетти на головы зрителей внизу...
Перейдем от дел театральных к извечной теме взаимоотношений мужчины с женщиной. Восемнадцатое столетие частенько именуется «галантным веком». Это, знаете ли, полуправда. Словом «галантность» в данном случае, что греха таить, маскируется повсеместный и утонченный разврат, принимавший порой поразительные даже на наш сегодняшний взгляд формы...
Моду, как водится, задавали с самого верха. Французский король Людовик XV был, несомненно, личностью творчески мыслящей. Он сообразил однажды, что полагаться на случай в поиске фавориток и просто временных симпатий – дело архаическое, и его следует упорядочить. А потому создал в Париже знаменитый «Олений парк». Это был уединенный особняк в глубине красивого парка, окруженного надежной оградой – и официально там располагался закрытый пансионат для воспитания юных девиц из хороших семей.
Девицы (по современной классификации, «нимфетки») там действительно обитали, и происходили в самом деле из лучших семей – но воспитывал их сам король (порой приглашавший с собой в виде милости кого-нибудь из приближенных), и воспитание это, как вы уже догадались, было, как бы это поделикатнее выразиться, несколько специфическим...
Все про это прекрасно знали – в том числе и родители означенных девиц – но локтями друг друга распихивали, чтобы пристроить туда доченьку: как-никак по окончании «учебного заведения» выпускница получала вознаграждение в сто тысяч ливров... В виде приданого. И женились на них охотно – знали, что все университеты превзошла, проказница...
А впрочем, Людовик в данном вопросе был не оригинален. Еще до того, как он открыл это своеобразное учебное заведение, владетели германских государств завели у себя самые настоящие гаремы. Некий путешественник писал о герцоге Баден-Дурлахском, что он «развлекался в гареме, состоящем из ста шестидесяти садовниц». В других государствах не особенно и отставали, все зависело от финансовых возможностей – кто-то мог себе позволить полторы сотни одалисок, а кому-то едва на два десятка хватало казны...
Германия в то время на пуританскую страну не походила нисколечко. Те самые знаменитые мейсенские фарфоровые фабрики в больших их количествах выпускали не только сервизы, но и то, что мы сегодня назвали бы «эротической скульптурой» – фигурки одиночные и групповые. Музеи их сегодня стыдливо держат в запасниках...
Там же, в Германии, в некоторых областях еще в начале восемнадцатого века сохраняли силу законы полувековой давности, совершенно официально разрешавшие мужчинам двоеженство. Правда, на сей раз причина была не в разврате. Просто-напросто после Тридцатилетней войны Германия страшно обезлюдела, в иных провинциях погибло три четверти населения, так что рождаемость, кровь из носу, нужно было поднять, даже отступая от христианских канонов...
Один из историков нравов еще сто лет назад сделал любопытное заключение: восемнадцатый век не знал подростков – ни мужского, ни женского пола. Люди сначала считались детьми, а с некоего момента – уже взрослыми. И наступал этот момент довольно рано. Герцог де Лозен женился в девятнадцать – а его жене не было и пятнадцати. Принц Монбаре (двадцати одного года) женился на тринадцатилетней, а через год она уже мама. Герцогиню Бурбон-Конде, незаконную дочь Людовика XIV, выдали замуж одиннадцати лет.
А потому двенадцатилетние любовницы в те времена – не исключение, а как раз правило. В мемуарах Казановы это все подробно описано. Понятие «совращение несовершеннолетних» попросту отсутствовало и в уголовном кодексе, и в общественном сознании. Есть масса народных песен, и немецких, и французских, где сюжет вертится вокруг одной темы – томящаяся девица вздыхает: мне уже пятнадцать, а мужа все нет, мне уже двенадцать, а любовники не появляются. Самой, что ли, кого-нибудь в сети Амура завлечь?
И во Франции, и в Германии во многих городах уже был в большой моде временный обмен женами. Свидетельствует серьезный писатель того времени, посетивший Берлин: «Здесь очень в ходу обмениваться женами на несколько недель. Так однажды вечером я случайно услышал, как один офицер говорил военному советнику: „Да, кстати, дорогой друг, когда я сегодня вечером приду к твоей милой жене, то предупреди ее, чтобы она не брала к себе на диван Верного Пастушка (вероятно, собачку). А то как-то неудобно спать, да и мешает постоянно“.
Идиллия, право...
Да, кстати, а как обстояли дела в доброй старой Англии?
А вот вам цитата из одного тогдашнего крупного писателя: «Какой-нибудь знатный приятель ловеласа похищает молодую невинную девушку, спаивает ее, проводит с ней ночь в доме терпимости, оставляет ее там в качестве залога и спокойно потирает руки, когда две недели спустя узнает, что ее бросили в тюрьму, где она сошла с ума и умерла. Во Франции развратники были не более как легкомысленными пройдохами, здесь они были низкими негодяями».
Речь, таким образом, идет о всеобщем состоянии нравов, а не об исключительных случаях... Именно в Англии вошли в большую моду «балы Адама». Слово опять-таки современнику: «На этот бал явились много прекрасных и знатных дам в масках, а в остальном совершенно голые. Мужчины за вход платили пять гиней. Оркестр наигрывал танцы, была устроена холодная закуска. После окончания танцев зала погрузилась в темноту и многочисленные диваны служили для последовавшей затем оргии».
Когда одну такую вечеринку однажды накрыли полицейские и принялись устанавливать личности гостей, даже принимавшие живое участие в забавах лондонские проститутки изумились не на шутку: оказалось, что самые изобретательные и раскрепощенные на этой групповушке дамы были не платными шлюхами, а как раз представительницами высшего общества. Среди них даже оказалось несколько герцогинь...
Но и это еще не самое пикантное. На всем протяжении восемнадцатого века (и даже в девятнадцатом!) английские мужья законнейшим образом, с аукциона, на ярмарках продавали своих жен! Правда, этот обычай существовал исключительно среди «низших классов»...
Но он существовал. Сохранились газеты того времени, где после цен на свиней, овец и прочий скот помещены цены на женщин. Вот примечательный отрывочек из газеты «Таймс» от 12 июля 1797 г.: «Из-за случайного недосмотра или сознательного упущения в отделе смитфильдской ярмарки мы лишены возможности сообщить цену на женщин. Многие выдающиеся писатели усматривают в возрастании цен на прекрасный пол верный признак развития цивилизации. В таком случае Смитфильд имеет полное право считаться очагом прогресса, так как на рынке недавно эта цена поднялась с полгинеи до трех с половиной».
Между прочим, Смитфильд – это не какая-нибудь глухомань, населенная безграмотной деревенщиной, а пригород Лондона...
Вот детальное описание свидетеля: «Обыкновенно муж приводил жену, на шею которой была накинута веревка, в день ярмарки на площадь, где продавали скот, привязывал ее к бревну и продавал в присутствии необходимого числа свидетелей тому, кто давал больше других. Судебный рассыльный или какой-нибудь другой невысокий судейский чин, а часто сам муж, устанавливал цену, редко превышавшую несколько шиллингов, муж отвязывал жену и водил за веревку по площади. Народ называл такого рода торг „the hornmarket“ (ярмарка рогатого скота). Покупателями обычно бывали вдовцы или холостяки. После такой продажи женщина становилась законной женой покупателя, а ее дети от этого нового брака также считались законными. Тем не менее, мужья иногда после покупки настаивали на венчании в церкви».
Как вам добрая старая Англия? Вообще-то это, строго говоря, не разврат, мужик не шлюху снимает, а законную жену себе в дом прикупает, но все равно, как-то не вяжется с нашим представлением об Англии как оазисе благостных вольностей народных...
А знаете, кстати, в каком году в Англии зафиксирован последний достоверный факт этакой законной продажи жены? В 1884. Тысяча восемьсот восемьдесят четвертом. Чтоб я так жил...
Но вернемся в восемнадцатый век. Как и во многом другом, и в интимной области уже наблюдался нешуточный прогресс. Уже к началу столетия был изобретен презерватив, или кондом, названный так по фамилии изобретателя, английского доктора Кондома. Кстати, уже в те времена прекрасно наловчились «посредством сшивания» восстанавливать девственность.
Что еще? Ах да, курфюрст саксонский, он же король польский Август Сильный сделал очередной любовницей родную дочку (правда, незаконнорожденную) – и в том же был замечен Казанова, писавший в своих воспоминаниях, что именно-де в таком теснейшем общении и достигается подлинная отцовская любовь.
В общем, в результате повсеместного распространения этакой «галантности» именно в восемнадцатом столетии по всей Европе распространились в немыслимом количестве воспитательные дома, куда всякая мать, желавшая отделаться от нежеланного или незаконного ребенка, могла его принести и сдать, оставшись неизвестной. К слову, тогда повсеместно действовали писаные законы, по которым матерям незаконных детей запрещалось отыскивать отцов и требовать денег на содержание ребенка. Законы эти, ежу понятно, писаны исключительно мужиками...
И напоследок – об ароматах.
Наше счастье, что техника пока что не достигла описанных фантастами высот, и телевизоры с киноэкранами не способны передавать запахи. Иначе костюмированные фильмы из жизни кавалеров и дам восемнадцатого столетия пришлось бы смотреть, наглухо забивая ноздри затычками...
Восемнадцатое столетие смердело, как сотня дохлых кошек. Уж простите за неприглядные подробности, но именно так все и обстояло. Кавалеры в кружевных манжетах и дамы в красивых платьях, которых мы видим на экране, в реальности не мылись по несколько месяцев, да и бельишко менять не особенно спешили. Ради ликвидации последствий такого образа жизни были изобретены изящные штучки с откровенным названием «блохоловки». Как легко догадаться из названия, ими ловили на себе блох те самые блистательные дамы и господа прямо на пышных приемах.
Для французских королей построили великолепнейшее место под название Версаль. Красивейшие парки с фонтанами и тенистыми аллеями, роскошные дворцы...
Вот только во всем этом Версале (в отличие от «варварской» России) не было ни одной комнатушки, которую у нас обычно именовали «нужником», а впоследствии «сортиром». Ни единой. Суровый исторический факт.
Как же они там обходились? А попросту. Королю и кучке высшего дворянства еще подносили предмет под деликатным названием «ночная ваза» – а многочисленные придворные (и масса вносившей свой вклад прислуги) перебивались и без этого. Я ж говорю, нравы были самые непринужденные. Какой-нибудь благородный граф (порой на приеме) подходил к камину, непринужденно поворачивался спиной к обществу и преспокойно пускал струю в камин. Более воспитанные люди на минутку выходили на лестницу, каковую и орошали столь же непринужденно. Ну, а большую, как принято именовать, нужду можно было справить под любым красиво подстриженным садовниками кустиком.
Представляете, как благоухал великолепный Версаль, которому завидовали все остальные европейские монархи?
А теперь представьте, что вы – придворный кавалер. И уманили наконец в парк ночной предмет своих воздыханий. Ну, лобзания, клятвы, прелюдии... Нежно берете за талию ваш предмет, с колотящимся сердцем опускаете ее в густую травушку-муравушку... И аккурат в...
Черт их знает, как они там в Версале в таких вот случаях реагировали. Может быть, и внимания не обращали особенно – притерпелись, должно быть, к «ароматам»...
Самое смешное, что эти вот субъекты искренне считали «варварами» наших предков – которые, в отличие от французов, каждую неделю ходили в баню, а нужники имелись повсеместно...
Конец первой главы. Признаю, она, очень может быть, несколько затянулась, но читатель, смею думать, имеет теперь некоторое представление о столетии, в котором родилась императрица Екатерина, в котором она прожила чуть ли не семьдесят лет...
А теперь – о ней. Родилась однажды девочка...
Глава вторая Маленькая заграничная принцесса
Будущая императрица и самодержица Всероссийская Екатерина II родилась 21 апреля 1729 г. Ее родители – наследный принц Ангальт-Цербстского герцогства (именуемого еще княжеством, но, в принципе, это одно и то же) Христиан-Август и Иоганна Елизавета, его законная супруга, в девичестве – принцесса Голштейн-Готторпская.
Даже в этом утверждении, очень может оказаться, ровно половина правды. Что уж тут говорить о таких немаловажных деталях, как место рождения столь заметной в нашей истории персоны и имя, данное ей при крещении... Обстоятельства появления Екатерины на свет – загадка на загадке.
Но давайте по порядку. Что собой представляло Ангальт-Цербстское герцогство, сколь велика была эта почтенная держава, подарившая нам императрицу?
Увы, увы... Это была одна из тех самых многочисленных германских стран, которые легкий на ногу путешественник мог исходить вдоль и поперек буквально за пару-тройку часов. А на горячем коне скакать по этой державе было и вовсе невозможно – едва пришпоришь скакуна, едва он сорвется в галоп, как впереди, в какую сторону ни скачи, обнаружится пограничный шлагбаум, по ту сторону которого уже начинается территория столь же крохотной, но абсолютно независимой и суверенной страны...
Главное (и практически единственное) достоинство герцогов Ангальтских – это нешуточная древность рода. Ангальт – один из древнейших владетельных домов не только Германии, но и всей Европы. Его основатели сначала носили титул графов Балленштеттских (в каковом качестве впервые в исторических хрониках упоминаются в 940 г.), потом – графов Асканских. Из этого семейства происходили знаменитый Альбрехт Медведь, первый правитель Бранденбурга. В 1212 г. саксонский герцог Генрих как раз и принял впервые титул герцога Ангальтского. Подобное генеалогическое дерево внушает уважение.
Вот только тогда же, в средневековье, сыновья Генриха по тогдашнему милому обычаю после смерти папеньки разделили владения на три суверенных части. И началось... Ангальт на протяжении долгих столетий пребывал в виде уже не трех, а даже четырех частей. Когда в 1853 г. наконец-то объединились в одно целое разрозненные прежде части, Ангальт насчитывал всего-то сто семьдесят тысяч жителей, и площадь его была две с лишним тысячи квадратных километров. То есть речь идет о территории длиной примерно в пятьдесят километров и шириной в сорок. Это, повторяю, весь Ангальт. Теперь разделите на четыре – и сами поймете, что в XVIII столетии Ангальт-Цербст в число великих держав никак не мог входить. У иных мелких российских помещиков именьица были даже побольше...
А потому нет ничего удивительного, что Екатерина появилась на свет не в родном Цербсте, а в прусском городе Штеттине, в Померании, где ее батюшка служил всего-навсего командиром полка прусской пехоты (полк, правда, звался Ангальт-Цербстским). Ну да, вот именно. Наследный принц вынужден был прозаически служить чужому королю за скромное жалованье полковника – крохотное герцогство, которым правил его старший брат, просто-напросто не прокормило бы, надо полагать, кроме законного герцога, еще и наследника престола. И бедолага Христиан-Август с юных лет мыкался на иностранной военной службе, где перед ним не особенно и ломали шапку – таких владетелей в Германии, если помните, насчитывалось три сотни с лишним, всех и не упомнишь, если вы не специалист по геральдике...
Некоторые источники именуют Христиана то «генерал-фельдмаршалом прусской службы», то «губернатором Штеттина». Однако эти посты он получил от Фридриха Великого уже гораздо позже, когда его дочь стала наследницей российского императорского трона – Фридрих был искусным дипломатом... А к рождению Екатерины Христиан, повторяю, был всего-навсего одним из многочисленных прусских полковников, командовавшим размещенным в жутком захолустье пехотным полком (даже, по-моему, не гвардейским).
Но я, помнится, обещал о загадках... Так вот, начинаются они с того, что имя, данное девочке при крещении, нам известно в разных вариантах. Наиболее известным считается «Софья Фредерика Августа» – якобы ее так назвали в честь трех тетушек сразу.
Однако шевалье де Рюльер, секретарь французского посланника в России, очевидец свержения Екатериной мужа и автор интереснейших воспоминаний, отчего-то именует Екатерину... Софьей Фредерикой Доротеей.
Это весьма странно. Об ошибке и речь не идет – шевалье, несмотря на молодость, был толковым и хватким профессиональным разведчиком, два года жил в Петербурге, прекрасно знал немецкие реалии и столь глупой ошибки не допустил бы. Так что нам неизвестно настоящее имя, полученное Екатериной при крещении.
И место ее рождения тоже неизвестно. Сама она – не всегда! – называла в качестве такового Штеттин. Но еще при ее жизни дотошные немецкие историки стали перерывать метрические записи в архивах города Штеттина – и не нашли ни строчки, где говорилось бы о «регистрации» столь знатной особы!
И нигде таких записей на нашли. Еще при жизни Екатерины все материалы о появлении ребенка на свет самым загадочным образом исчезли.
А вот это в сто раз страннее, чем разночтения в имени. Потому что, во-первых, в Германии того времени метрические книги велись аккуратнейшим образом, а во-вторых, речь шла не о крестьяночке из глухих мест, а о наследной принцессе одного из старейших в Европе владетельных родов. Записи о ее появлении на свет просто обязаны были существовать! Хотя бы для того, чтобы удостоверить законность ее рождения, а следовательно, и притязаний на титул и трон! Из-за того, что подобные записи оказывались утраченными или умышленно изничтоженными, в благородных семействах происходило немалое число трагедий. Вспомните роман Коллинза «Женщина в белом». Там оказалось, что один из главных злодеев оказался самозванцем – долгие годы именовал себя «сэром», а потом копнули метрические книги и выяснилось, что о нем там нет никаких записей, потому что он незаконнорожденный, никакой не баронет, а шпана подзаборная... Да мало ли примеров?
В общем, записи о рождении Екатерины просто обязаны были существовать. Но загадочным образом куда-то делись еще при ее жизни. Хотя штеттинские архивы сохранились в полной неприкосновенности, не узнавши ни войн, ни стихийных бедствий...
Причина? Она лежит на поверхности. Поскольку есть серьезнейшие основания если не утверждать со всей уверенностью, то крепко подозревать, что Екатерину следует именовать не Софьей Христиановной, а Софьей Ивановной...
Потому что на сцене появляется третий – молодой (двадцати восьми лет от роду) человек, русский аристократ Иван Иванович Бецкой. Незаконный сын князя Трубецкого и шведской баронессы Вреде. Во время войн Петра I со шведами храбрый вояка Трубецкой, так уж не повезло, угодил в плен – и жилось ему в плену, в Стокгольме, весьма неплохо. В те времена еще сохранялась некоторая рыцарственность, и военнопленных не принято было материть в концлагерях. Даже рядовые солдаты, угодив в плен, жили, в общем, нормально, а офицеры и, особенно, знатные персоны и вовсе разгуливали свободно по чужой столице, пользуясь всеми благами жизни, преспокойно гуляли в кабаках с офицерами противника и вместе с ними шлялись по доступным красавицам (таковы уж были нравы эпохи). Вот и Трубецкой в плену крутил роман с баронессой Вреде практически в открытую – плодом чего был Иван Иванович Бецкой.
Вы уже отметили созвучие фамилий: Трубецкой – Бецкой? Тут нет никакого совпадения. В XVIII столетия у российских вельмож так было принято: фактически признавать своих незаконных детей, давать им собственную, но усеченную фамилию, выправлять дворянские грамоты. Румянцев – Мянцев, Бутурлин – Турлин, Репнин – Пнин, Головин – Ловин, Воронцов – Ранцов, Голицын – Лицын (я перечисляю реальные случаи).
Замечу в скобках: хорошо, что на русской службе в то время не состоял ни один немец из славной германской фамилии Блюхер. Представляете, каково бы пришлось сыночку, вздумай папаша по всем тогдашним правилам облагодетельствовать незаконного отпрыска? До конца жизни от насмешек не отмоешься...
Уточню еще: когда родители Екатерины сочетались браком, полковнику Христиану было сорок, а Иоганне – едва семнадцать. Особа, по воспоминаниям современников, очаровательная, легкомысленная, темпераментная, охотно следовавшая всем веяниям тогдашней моды. А мода, как мы уже выяснили, была такова, что повсеместно в Европе супружеская верность считалась не добродетелью, а прямо-таки извращением. Я говорю абсолютно серьезно. Светская дама без любовника или кавалер без любовницы вызывали лишь удивление и подозрения, что у них что-то не в порядке...
А между тем историческим фактом является то, что Иван Иванович Бецкой, светский человек и большой повеса, служивший секретарем российского посла в Париже, был прекрасно знаком с молодой герцогиней Иоганной и находился с ней в большой дружбе. Один из российских энциклопедических словарей XIX века. пишет об этом с трогательным простодушием: «Герцогиня сильно им заинтересовалась и относилась к нему очень хорошо».
Будь это какое-нибудь другое столетие, не восемнадцатое, я готов признать, что речь шла о чисто платонической дружбе. Но когда мы имеем дело с восемнадцатым, «галантным» веком, то лично я впадаю в здоровый цинизм, представляя себе этот треугольник: сорокалетний скучный полковник, простой, как табуретка, служивый, не блиставший какими бы то ни было достоинствами, оставшимися бы в памяти окружающих, бесцветный, воплощенная серость. Едва достигшая восемнадцатилетия ветреная красотка. И молодой дворянин, любитель жизни во всех ее проявлениях, дамский угодник, краснобай и острослов, человек, как мы позже убедимся, незауряднейший...
Кто-нибудь верит, что последние двое ограничивались светской болтовней и игрой в шашки, пока полковник торчал в казармах?
Лично я – ни капельки. Ну разумеется, у нас нет стопроцентных прямых доказательств. Но вот косвенных превеликое множество. Легкомыслие Иоганны в истории прилежно зафиксировано, как и мастерство Бецкого в покорении дамских сердец.
А позже все современники единодушно отмечали совершенно исключительное положение Бецкого при дворе Екатерины. Помянутый энциклопедический словарь констатирует: «Екатерина II по вступлении на престол, поставила Бецкого в исключительное положение: он имел непосредственное отношение только к ней (то есть в качестве государственного служащего подчинялся непосредственно императрице – А. Б.) и, по словам Греча, Екатерина чтила и любила его, как отца (выделено мною – А. Б.)».
А вот что пишет сам Греч, писатель осведомленный и точный:
«Эта немецкая принцесса (Екатерина II – А. Б.) происходила от русской крови. Отец ее, принц Ангальт-Цербстский, был комендантом в Штеттине и жил с женою в разладе. Она проводила большую часть времени за границею, в забавах и развлечениях всякого рода. Во время пребывания в Париже, в 1728 г., сделался ей известным молодой человек, бывший при русском посольстве, Иван Иванович Бецкой, сын пленника в Швеции князя Трубецкого, прекрасный собою, умный, образованный. Вскоре, по принятии его в число гостей княгини Ангальт-Цербстской, она отправилась к своему мужу в Штеттин и там 21 апреля 1729 г. разрешилась от бремени принцессою Софиею Августою, в святом крещении Екатерина Алексеевна. Связь Бецкого с княгинею Ангальт-Цербстскою была всем известна».
Добавлю, что Греч не сам все это сочинил, а опирался на мнение современников Екатерины Ангальт, а среди них было много тех, кто в качестве ее отца называл не законного мужа, а как раз Бецкого.
Быть может, это и объясняет отсутствие записей в приходских книгах. Вообще-то историкам известно собственноручное письмо принца Христиана от 2 мая 1729 г., в котором говорится, что у него в этом городе родилась дочь. Но, собственно говоря, это доказывает одно, что Екатерина родилась все же в Штеттине. Очень уж многие говорили о связи Иоганны с Бецким, очень уж вольными были тогдашние нравы... А что, собственно, принц должен был написать? Что у его супруги родился ребенок, к появлению коего на свет он никакого отношения не имеет? Подобные откровения рогатым мужьям как-то не особенно свойственны.
Между прочим, давным-давно существовала еще и другая версия, правда, аргументированная гораздо слабее: что Екатерина родилась в Дорнбурге, родовой резиденции Ангальтов, и ее отцом был молодой прусский принц, впоследствии – Фридрих Великий. Это еще раз доказывает, что ветреность Иоганны была всем прекрасно известна – о добродетельных дамах такие сплетки обычно не гуляют...
А если учесть, что принц Христиан относился к дочери без особой симпатии...
Явную путаницу внесла в историю о своем рождении и сама Екатерина. Она писала: «Я родилась в доме Грейфенгейма, на Мариекирхенхоф». Однако в Штеттине, достоверно установлено, никогда не было никакого «дома Грейфенгейма». И квартировал Христиан с семьей не на улице Мариекирхенхоф, а на Домштрассе.
Разумеется, всем этим фактам давали и другое объяснение. Бецкого-де Екатерина привечала исключительно как старого знакомого ее матери – но у Иоганны была масса подобных знакомых, однако Бецкой оказался единственным из них, к которому императрица относилась с таким расположением. Христиан мог потому не любить дочь, что хотел сына...
В общем, истину знает один господь бог. И давным-давно умершие люди. Каждый вправе иметь свое мнение. Но лично мне, то ли цинику, то ли романтику, все же представляется крайне убедительной версия о том, что отцом Екатерины был все же Бецкой. Прежде всего оттого, что версия эта крайне убедительная и опирается отнюдь не на пустые вымыслы и сплетни...
Еще одно, хотя и чисто умозрительное предположение. Если все же верна пословица о том, что яблочко от яблони недалеко падает, то крайне просто объясняются таланты Екатерины: она как-никак была дочерью человека незауряднейшего. Почти забытый ныне Иван Иванович Бецкой – один из тех людей, кого следует именовать «словарь России». Думаю, позже, когда я расскажу о нем подробнее, читатель с этим согласится...
Но вернемся в померанскую глушь, в скучный город Штеттин, где на Домштрассе, в доме 791, квартировал с семьей принц Христиан (именно что квартировал – дом был не его собственностью, а принадлежал председателю коммерческого суда в Штеттине фон Ашерлебену, каковым и сдавался внаем).
О детстве Фикхен (ласково-уменьшительное от «Софья», по-русски – Сонечка, Софьюшка) сохранилась масса достоверных свидетельств. Детство, собственно говоря, было самым обычным – девчонка днями напролет играла на улице со сверстниками и сверстницами из семей самых обычных бюргеров, не то что не титулованных, но и не дворян вовсе. Сверстники потом вспоминали много и охотно, что Фикхен была сущим сорванцом, принимавшим самое живое участие во всех детских проказах, причем чаще водилась с мальчишками, чем с девчонками – этакая Пеппи Длинный Чулок. Естественно, никому и в голову не приходило именовать ее «принцессой» или «вашей светлостью». «Фикхен, Фикхен! Гулять пойдешь?» «Сейчас, Ганс!» Именно так это и должно было выглядеть, дети во все времена одинаковы.
Ну кто тогда мог предвидеть, какое будущее ей суждено? Таких принцесс по всей Германии – что собак нерезаных, простите на вульгарном слове. В лучшем случае станет женой очередного полковника из родовитейших, но живущих исключительно на жалованье...
Вообще-то есть старая история о том, как однажды Фикхен с матерью гостили в Брауншвейге у тамошней вдовствующей герцогини (воспитывавшей в свое время Иоганну). И там якобы среди гостей присутствовал католический каноник Менгден, пользовавшийся славой хироманта, делавшего безошибочные предсказания по линиям руки. Мать находящейся там принцессы Марианны Беверской попросила сказать: не ждет ли ее дочь корона? Марианне каноник якобы ничего не сказал, но, обернувшись к Иоганне, воскликнул: «На челе вашей дочери вижу короны, по крайней мере, три».
К сожалению, как обычно с такими «предсказателями» и случается, эта история стала распространяться по Европе уже после того, как Екатерина стала русской императрицей. Не говоря уж о том, что носила она одну-единственную корону, российскую. С превеликой натяжкой можно еще сказать, что, присоединив часть Польши, Екатерина получила права и на польскую корону, но это будет именно натяжка: Екатерина (в противоположность своему внуку Александру I), никогда не короновалась польской короной, поскольку те земли, что ей достались, такого права не давали. Так что истории о прорицателе-канонике веры нет ни малейшей.
Зато исторически достоверен другой случай. В 1739 г. в замке Адольфа-Фридриха, герцога голштинского, князя-епископа Любекского, епископа Эйтенского встретились и познакомились его двоюродная племянница София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская и двенадцатилетний принц Петр Фридрих Голштинский.
Это была не просто встреча будущих супругов Екатерины и Петра. Это оказалась встреча трех будущих монархов! Потому что через двенадцать лет Адольф Фридрих занял шведский трон и царствовал двадцать лет.
(Между прочим, его избрание было, простите за вульгарность, проплачено Россией, о чем вся Европа прекрасно знала. Дипломаты Елизаветы купили с потрохами весь шведский парламент, проголосовавший за прорусского кандидата.)
Вполне возможно, что именно во время этой встречи и зародилась неприязнь Екатерины к Петру. Было бы просто удивительно, если бы девчонка во время общения с будущим супругом этой неприязни не почувствовала...
Во-первых, никто тогда (и она сами) представления не имели, что им суждено стать в будущем супругами. Во-вторых, все вокруг прекрасно знали, что Петр – законный наследник русской и шведской корон. А кем была Екатерина, нет нужды напоминать. Уличная девчонка с оцарапанными коленками, простушка Фикхен с улицы Домштрассе. Все, что нам известно о человеческой психологии, заставляет предполагать с уверенностью, что она должна была чувствовать жгучую зависть: скучный, некрасивый, ни чем не примечательный мальчишка всего-то двумя годами ее старше – но имеет все права на два великолепных трона. Меж тем как она...
Да девчонка локти должна была кусать от зависти!
Что интересно, учившие Фикхен в детстве учителя были весьма невысокого мнения о ее способностях. Учителей у нее было немало: гувернантка француженка Кардель, еще трое французов (проповедник, учитель чистописания и учитель танцев) и четверо немцев: законоучитель, преподаватель немецкого и учитель музыки, еще кто-то. В общем, ничего из ряда вон выходящего: почти такое же количество наставников имелось в зажиточном немецком доме, вовсе не обязательно дворянском.
Гувернантка считала, что у Фикхен «неповоротливый ум». А впрочем, и сами учителя талантами не блистали. Екатерина впоследствии хорошо отзывалась как раз о мадемуазель Кардель, о других сохранила «дурную память», а один из них, Вагнер, по ее убеждению, был совершеннейшим дураком.
В общем, воспитание она получила самое рядовое. Как все. Обычный, говоря современным языком, «курс молодого бойца», который проходили девицы из хороших семей. Абсолютно ничего, выходившего бы за рамки. А собственно, почему эта девица должна была получать нечто особенное? Екатерина писала потом: «Меня воспитывали с тем, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседского принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось». Уметь танцевать, чуточку разбираться в музыке и тогдашней классической литературе, писать красивым почерком, поддерживать беседу, изящно кланяться... Что там еще? Французский язык. Вот и все, пожалуй.
Правда, мадемуазель Кардель уже тогда подметила, что девочка «себе на уме»...
Екатерина именовала это чуточку иначе: «Я по-своему понимала все».
Ого, еще как! По природной живости ума Фикхен частенько и горячо спорила со своим законоучителем, высказывая порой такое, что он именовал «склонностью к ереси». «Я спорила жарко и настойчиво, и поддерживала свое мнение против священника: он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость».
(Кстати, гораздо позже, уже на русском троне, Екатерина выскажет мысль, идущую, конечно же, от тех детских споров: «Кроме закона, должна быть еще и справедливость».)
Во второй раз пастор и ученица поссорились из-за того, что девочка настойчиво допытывалась: хорошо, я согласна, что прежде сотворения мира был хаос, но что такое этот самый хаос?» Пастор, не великого ума деятель, ответить не мог. И победил в дискуссии с помощью розг...
Согласитесь, глупышки таких споров не ведут...
Итак, ее готовили к тому, чтобы выдать замуж за мелкого соседского принца, которых в Германии несчитано...
Не исключено, что в девочке как раз и не усматривали никаких таких особенных задатков оттого, что полагали, будто заранее знают уготованную ей судьбу мелкой германской герцогинюшки. Вообще-то, когда человек достигает больших высот, обычно находится масса народу, который с пеной у рта уверяет, будто еще чертову уйму лет назад рассмотрел в плюгавеньком мальчишке или девчонке-дурнушке будущую историческую персону. Но случается и наоборот. Классическими можно считать воспоминания баронессы фон Принцен, состоявшей «статс-дамой» в той крохотной пародии на «герцогский двор», что все же имелась в Штеттине. На ее глазах Екатерина родилась, училась, воспитывалась, именно баронесса помогала ей, кстати, укладывать вещи при отъезде в Россию. Одним словом, эта дама больше, чем кто бы то ни было, пользовалась доверием Екатерины. Но...
«В пору ее юности я только заметила в ней ум, серьезный, расчетливый и холодный, столь же далекий от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием. Одним словом, я составила себе понятие о ней, как о женщине обыкновенной, а потому вы можете судить об удивлении моем, когда пришлось узнать про необычные ее приключения».
Гораздо более проницательным оказался шведский граф Гилленборг, человек, немало поживший на свете, образованный и умный. Однажды он, видя, что, кроме стандартного минимума, Иоганна не собирается давать дочери никакого образования, говорил, что напрасно мать так поступает: на его, графа, взгляд, девочка «выше лет своих», и у нее определенно «философское расположение ума»...
И никто еще не знал, что в далеком Санкт-Петербурге императрица Елизавета всерьез озаботилась поисками невесты наследнику русского престола, великому князю, которого звали уже не Антон Ульрих, а Петр Федорович...
Глава третья В дорогу!
Знаменитый русский писатель А. К. Толстой подошел к делу чересчур легкомысленно, когда в своей шутливой «Истории государства Российского» посвятил Елизавете Петровне такие строки:
– Веселая царица была Елисавет. Поет и веселится, порядку только нет...Этот отзыв – глубоко несправедливый. Действительно, двадцатилетнее царствование Елизаветы переполнено балами, маскарадами, пирами. Фейерверками и прочими увеселениями. Но никак нельзя сказать, что в это время в России царил беспорядок. Ничего подобного. Хотя историки и поругивают Елизавету за гардероб из пятнадцати тысяч платьев, все отмечают, что время Елизаветы – это значительные успехи и в экономике, и в просвещении, и во внешней политике.
Начнем с того, что Елизавета государством управляла главным образом сама, ликвидировав существовавший при Анне Иоанновне Кабинет министров. Она отменила смертную казнь, запретила пытать малолетних, клеймить женщин и вырывать у них ноздри. Именно при Елизавете, кстати, в России были изготовлены эталоны веса и длины для торговли – фунт и аршин работы мастеров Петербургского монетного двора. Елизавета отменила существовавшие в России внутренние таможни, что пошло торговле только на пользу (к слову: во Франции это было сделано лишь после революции).
При Елизавете немало было сделано для просвещения и науки.
Так уж счастливо сложилось, что ее фаворит, «ночной император» Иван Иванович Шувалов сам особыми талантами и умом не блистал, но прекрасно понимал важность развития науки. Именно он был первым помощником и опорой М. В. Ломоносова в открытии в 1755 г. первого в стране университета – подбирал профессоров и студентов, составлял учебные программы, решал вопросы с финансированием и даже подарил немало книг из своей библиотеки. Как раз по инициативе Шувалова двумя годами позже была создана и Академия художеств. (Кстати, одновременно с университетом были открыты гимназии в Москве и Казани, а чуть позже по стране учредили немало общеобразовательных школ и, говоря современным языком, профессионально-технических училищ.)
И, наконец, при Елизавете чувствительно получила по сусалам давняя недоброжелательница Швеция, у которой Россия по условиям мира забрала часть Финляндии.
Но наряду с успехами имелся один-единственный, зато крайне существенный недостаток: у императрицы не было наследника...
Вообще-то надобно вам знать, что муж у нее имелся – самый что ни на есть законный. Еще в 1742 г. Елизавета без всякой огласки обвенчалась в небольшой церквушке подмосковного села Перово со своим давним амантом – Алексеем Григорьевичем Разумовским. Разумовский – фигура колоритнейшая. По происхождению он был простым казаком Алешей Розумом из хутора Лемеши в Черниговской губернии. Красавец парень! И, кроме того, обладал прекрасным голосом, пел в местном церковном хоре. Там его и увидел проезжий полковник Вишневский, забрал с собой в Петербург, где опять-таки определил в хор, на сей раз уже придворный. Там его и увидела в 1737 г. молодая цесаревна Елизавета (скажем откровенно, монашеского образа жизни никогда не придерживавшаяся). И началось...
Алеша Розум стал благородным господином Алексеем Розумовским (это гораздо позже его фамилию стали писать через «а»). Во время коронации Елизаветы именно Разумовский нес шлейф императорской мантии – уже будучи придворным в чине обер-егермейстера (соответствовал армейскому полковнику). Кавалером ордена Андрея Первозванного и крупным помещиком. А после венчания с Елизаветой получил титул графа, чин фельдмаршала, земель с крестьянами без счета, бриллиантов – пригоршнями.
Что любопытно, все современники единодушно отмечают привлекательную, в общем, черту новоиспеченного графа: несмотря на свое исключительное положение, он всегда старательно избегал дворцовых интриг, никогда не вмешивался в дела управления государством и никому не вредил. Вот насчет материальных благ он был как раз слабоват, любил и чины, и поместья, и алмазы.
(К слову, сменивший его фаворит Иван Шувалов был в этом отношении полной противоположностью Разумовскому: государственные дела любил и умел решать, но бескорыстным был фантастически, ни рубля от коронованной подруги не взял, ни паршивой медальки.)
Заодно с Алексеем Разумовским блестящую карьеру сделал и его младший брат Кирилл. В детстве он вместе с Алешей пас отцовских волов, а потом учился в Геттингенском и Берлинском, в Страсбургском университетах, в двадцать три года стал фельдмаршалом и гетманом Малороссии, действительным камергером, президентом Академии наук.
Интересная деталь: о своем «лапотном» прошлом гетман как раз страшно любил вспоминать. В своем дворце он специально поставил застекленный шкаф, где хранились его пастушеский рожок и простая крестьянская свитка – и любил этот шкаф демонстрировать гостям: вот, мол, из какого ничтожества поднялся!
Визитеры из Европы от такого зрелища форменным образом обалдевали, вслух изумлялись загадочности русской души: у них-то поднявшийся из «подлого сословия» вельможа как раз старался поглубже похоронить всякую память о своем неприглядном прошлом, а для надежности – вместе с живыми свидетелями...
Как легко догадаться, хотя у Елизаветы имелся совершенно законный муж, дети от этого брака никоим образом не могли бы наследовать престол империи – это уже были не вульгарные времена Петра I, когда солдатскую шлюху неведомого рода-племени произвели в императрицы...
Детей, кстати, и не было. До сих пор иногда всплывают публикации о загадочной «инокине Досифее», якобы дочери Елизаветы и Разумовского, но версия эта никогда не была подкреплена какими бы то ни было реальными доказательствами – одни домыслы и слухи. А выписанное по всем правилам свидетельство о венчании, кстати, Разумовский после смерти Елизаветы швырнул в огонь – чтобы не компрометировать покойную.
В общем, требовался наследник престола. И потому уже в 1742 г., сразу после коронации, Елизавета вызвала в Россию Петра Ульриха, родного внука Петра I (сына Анны Петровны и герцога Голштинского), своего родного племянника – и официально назначила его наследником.
Естественно, уже вскоре наследника было решено женить – ему исполнилось шестнадцать, а по меркам восемнадцатого столетия это считалось уже самым подходящим возрастом для брака. Стали подыскивать подходящую девицу: разумеется, из владетельного дома. Заграничного, конечно. Со времен Петра как-то уже привыкли, что наследники престола женятся на иностранках, а не на русских барышнях, как встарь.
Кандидатур поначалу перебрали множество.
Воодушевленный английский посол Уич тут же предложил свою кандидатуру – понятное дело, английскую принцессу. Точно не известно, но вроде бы юный Петр видел ее портрет, и англичанка ему понравилась. Однако Елизавета эту кандидатуру отклонила по причинам, оставшимся неизвестными. То ли «скороспелость» британских монархов тому причиной (тогдашняя королевская династия сидела на престоле неполных сорок лет и происходила из германского Ганновера, очередного крохотного княжества), то ли нашлись какие-то соображения внешней политики.
Французы предложили свою принцессу – но тут уж Елизавета практически моментально велела им передать, чтобы катились к парижской богоматери. Нет сомнений, что это было типичной женской местью. Как-никак в свое время именно Елизавету русские дипломаты пытались просватать за французского принца, но в Париже отказались, намекая что-то о не вполне благородном происхождении невесты...
Зато сама Елизавета первое время склонялась к тому, чтобы женить Петра на принцессе Ульрике, сестре Фридриха Великого.
Это была бы великолепная перспектива для России. Долговременные последствия могли оказаться таковы, что дух захватывает... Без малейших натяжек!
Россия и Пруссия в тесном союзе, связанные династическим браком, – это была бы такая сила, что в Европе попросту не нашлось бы великой державы или коалиции, способной противостоять на равных. Фридрих Великий умер бездетным, и трон перешел к его племяннику – но, родись у Петра и Ульрики сын, он имел бы точно такие же права на прусский престол. Если вспомнить, что российские монархи относились к связанным с Россией брачными узами Голштинии и Курляндии, как к вассалам, живо интересовались их делами, принимали в них самое активное участие...
Никаких сомнений: после смерти Фридриха Россия приняла бы самое живое участие в судьбе опустевшего трона. И наверняка нашла бы способы добиться своего. И если допустить, что в этой виртуальной Европе Германия тоже объединилась бы вокруг Пруссии – но Пруссии, теснейшим образом «пристегнутой» к Российской империи... Трудно сказать, как в этом варианте выглядела бы карта Европы. Но ясно одно: она мало походила бы на ту, что известна нам сегодня. Головокружительные открывались перспективы: мир без дурацкого, совершенно ненужного для обеих стран и гибельного для них противостояния, мир без обеих мировых войн, быть может.
Елизавету от идеи выбрать прусскую принцессу отговорил человек, которого без натяжек можно именовать злым гением России – канцлер Бестужев. Поганейший был субъект. Создатели фильма «Гардемарины, вперед!» не то чтобы исказили историческую правду – они просто-напросто кое о чем существенном умолчали. Прохвост и продажная шкура Бестужев предстал на голубом экране патриотом и великим государственным деятелем...
На деле это был выжига, бравший «пенсион» и от Франции, и от Англии, и от Австрии с Саксонией. И, соответственно, подчинявший интересы России помянутым державам. Как многие продажные политиканы, свое поведение Бестужев оправдывал высокими материями: у него, изволите ли видеть, была «система», согласно которой союзные Россия, Австрия и Саксония должны были яростно противостоять Франции и Пруссии.
Что касается Франции – все справедливо. Означенная держава еще со времен Петра I проводила откровенно враждебную России политику, от диверсий на российских военно-морских верфях (исторический факт, французские агенты были тогда же сцапаны русской контрразведкой) до интриг с Турцией и прямых военных действий (еще при Анне Иоанновне русские войска колошматили в Польше французский «ограниченный контингент»).
Серьезные разногласия имелись у России и с Саксонией, и с Австрией (ну, а Англия практически официально считалась вплоть до 1908 г. «вероятным противником» номер один).
В то время как с Пруссией Петербургу совершенно нечего было делить. Лучшее тому подтверждение – реальная история. Если не считать Семилетней войны, совершенно ненужной России, практически до конца девятнадцатого века отношения с Пруссией, а потом и с Германской империей враждебные не напоминали нисколько... Мелкие интриги не в счет.
В полном соответствии со своей «системой» Бестужев наметил в жены наследнику саксонскую принцессу Марианну. Сколько он за это содрал с саксонцев, сегодня уже не установить, но в бескорыстие Бестужева следует верить примерно так же, как в целомудрие Казановы...
Однако в тот раз Елизавета его не послушала. Сама она в конце концов остановилась как раз на Софье Ангальт-Цербстской. Поскольку была с ее семейством в довольно близких отношениях. Еще при Екатерине I брат герцогини Иоганны приехал в Россию в качестве жениха Елизаветы. Он вскоре умер, но Елизавета не прерывала переписки с Иоганной.
Иногда можно прочитать, что Екатерину «продвигал» главным образом Фридрих Великий. Это мало соответствует истине. Фридрих, конечно, участвовал в каких-то переговорах, но главную роль в выборе невесты для племянника сыграла сама Елизавета, долго и вдумчиво обсуждавшая именно этот вариант со своим лейб-медиком Лестоком и воспитателем великого князя Брюмером. Именно Брюмер (тайком, без ведома канцлера Бестужева) и начал переговоры с Иоганной.
Потом, действительно, подключились и Фридрих, и его министр Подевильс, и прусский посланник в Петербурге Мардефельд. Подчеркну особо: хотя именно Петр III считается в российской историографии чуть ли не «подсадной уткой» Фридриха, его протеже в первую очередь была Екатерина.
Самое интересное (в чем сходятся практически все историки) – это то, что Фикхен чуть ли не до последнего момента вовсе не подозревала, что ее ждет! Еще ничего не было решено. И никто не спешил распускать язык. Даже герцогиня Иоганна не могла быть уверена точно...
Сначала раздались звоночки. Внезапно, ни с того, ни с сего принц Христиан был произведен Фридрихом в генерал-фельдмаршалы. Потом секретарь русского посольства в Берлине привез Фикхен усыпанный бриллиантами портрет Елизаветы. Чуть позже из Петербурга дали знать, что желают получить портрет девушки.
Можно себе представить, что пережила за долгие месяцы девица Фикхен! С одной стороны, Елизавета объясняла свое желание тем, что она-де хочет составить портретную галерею немецких принцесс. С другой – вот уже пару-тройку столетий, с тех пор как научились рисовать схожие с оригиналом портреты, вся Европа прекрасно знала, что «парсуну» требуют в девяноста девяти случаях из ста для того, чтобы посмотреть невесту...
Да, вот это переживания... Девушка должна была питать надежды – и боялась верить. Несколько месяцев самой тягостной неизвестности, неопределенности, никто ничего не знает толком, полной уверенности нет... Рехнуться можно! Мне искренне жаль девушку, которой пришлось через все это пройти.
И вот – не финал, но нечто!
Прискакал очередной курьер из России и привез Иоганне письмо от Брюмера: голштинец приглашал герцогиню с дочерью немедленно пуститься в дорогу, чтобы посетить российский императорский двор.
Именно таковы были уклончивые формулировки! Еще ничего не решено! А значит – вновь неизвестность, яростные надежды и боязнь верить...
Герцогиня должна выезжать немедленно. Свиту сократить до минимума: статс-дама, две горничные, офицер, повар, двое, самое большее – трое лакеев. Принцу Христиану супругу и дочь сопровождать запрещено. Цель путешествия следует хранить в глубокой тайне, весь мир должен считать, что Иоганна едет, дабы поблагодарить Елизавету за все прошлые милости и дружеское расположение.
А через несколько часов примчался курьер от Фридриха Великого. Король сообщал Иоганне (но не Софье!) подлинные причины, по которым ее с дочерью вызывают в Петербург. Кстати, в его письме есть примечательные строчки и о продажности Бестужева: «Русские министры, настолько алчные, что они, кажется, способны были бы торговать самой императрицей...» Фридрих вдоволь иронизировал над саксонцами, которые заплатили немалые деньги, но своего тем не менее не добились...
В общем, Фикхен надеялась, но быть уверенной не могла... Папенька, принц Христиан, на прощанье вручил ей толстенное наставление собственного сочинения: как себя вести в случае, если она все же станет супругой наследника русского престола.
Этот «трактат» нагляднейшим образом доказывает, что означенный Христиан большим умом похвастать не мог. Во первых строках он категорически требовал от дочери никогда, ни за что не менять единственно верное лютеранское вероучение на жуткое, еретическое православие. Пикантность в том, что, последуй Фикхен отцовским наставлениям, она не увидела бы русского престола, как своих ушей: согласно писаным установлениям Российской империи, наследником (либо наследницей) трона могла быть исключительно «персона, в православие крещенная»...
Ну, и касаемо остального Христиан понаписал немало ерунды: дочери не следует сближаться ни с кем при русском дворе, не заводить там знакомств, не вмешиваться в дела государственного управления, вообще ими не интересоваться...
Одно слово – полковник из захолустья! Фикхен, конечно, поблагодарила папеньку за мудрые советы – но во всем потом поступила с точностью до наоборот. Как всякий здравомыслящий человек, прочитавший эту бредятину...
И небольшая группа путешественников тронулась в путь: четыре дрянненькие кареты тащатся по прусскому захолустью, где невозможно найти лошадей, кроме крестьянских кляч, где останавливаться на отдых приходилось чуть ли не в чистом поле. Снега в тех местах еще не было, но в России он уже, доходили слухи, выпал, а потому к каретам были предусмотрительно привязаны еще и сани: хорошенькую картинку наблюдали местные землепашцы и почтмейстеры...
Но вот они достигают Риги – и все меняется самым волшебным образом! Начинается сказка, феерия! По крайней мере, с точки зрения девочки из захолустья...
У городских ворот мать и дочь встречают в полном составе все гражданские и военные власти во главе с вице-губернатором князем Долгоруким. Обеих пересаживают в парадную карету и торжественно везут во дворец для приемов под гром пушечного салюта. Роскошно обставленные залы, часовые в ярких мундирах у каждой двери, барабанная дробь (опять-таки в честь приезжих), расшитые золотом мундиры, великолепные платья, сияние бриллиантов... Даже когда Иоганна с дочерью на другой день идут обедать, снова бьют барабаны, им вторят трубы, флейты, гобои... Сказка!
Немецкие простушки еще представления не имеют, что все это – присказка, такое же захолустье, но не померанское, а российское. Сказка будет впереди...
В Петербург они едут уже в другой карете – в личной карете Елизаветы, запряженной двенадцатью лошадьми. Восхищенная Иоганна оставила их подробнейшее описание: ярко-красные, украшенные серебром, внутри обиты куньим мехом, застелены шелковыми матрасами, атласными одеялами, такие длинные, что можно лежать... Да, это вам не Цербст и не Штеттин! А вокруг скачет отряд лейб-кирасир, и еще камергер князь Нарышкин, и шталмейстер, и офицер лейб-гвардии Измайловского полка, и метрдотель, а следом тянется длинная вереница экипажей попроще, набитых поварами, кондитерами, лакеями, фурьерами, ключниками, да еще специальный человек, который тем и занят, что варит кофе, да еще конюхи в немеряном количестве, и лейб-гренадеры... Феерия!
Несколько дней их держали в Петербурге, прежде чем отправить в Москву, где пребывала Елизавета. Причина обезоруживающе проста: немок нужно было приодеть! Каждая из них везла с собой всего-то навсего три платья – шитых в Штеттине, безнадежно далеком от новинок высокой моды...
Там, в Петербурге, Иоганне пришлось пережить немало тревожных минут. Доброжелатели ей моментально нашептали, что дело может еще и сорваться: канцлер Бестужев все еще надеется добиться своего, продавить саксонскую Марианну. Вроде бы он намерен сыграть на том, что между Петром и Софьей очень уж близкое родство, делающее по русским правилам невозможным их брак. И вроде бы намерен это озвучить с помощью новгородского епископа Амвросия, которому, вот совпадение, некие щедрые саксонские господа уже подарили от чистой души аж тысячу рублев...
Короче, снова неизвестность! Все писано вилами по воде, построено на песке...
Знатных гостий приодели как следует – и повезли в Москву. Уже неподалеку от Белокаменной произошел несчастный случай. Открытые дворцовые сани, запряженные шестнадцатью резвыми лошадьми, во весь дух проносились по какой-то деревеньке – и, раскатившись на повороте, ударились об угол дома. С крыши сорвались два тяжелых железных бруса и рухнули – и обрушились прямо в сани!
Двоих гвардейцев Преображенского полка, сидевших на козлах, форменным образом снесло, разбило головы. Иоганну задел конец одного из брусьев – но богатая шуба смягчила удар, и герцогиня нисколечко не пострадала. Что до Фикхен, ее не зацепило вообще, она даже не проснулась!
В подобных случаях люди прошлых столетий с умным и многозначительным видом изрекали:
– Провидение сохранило этого человека ради будущих великих свершений!
Может, они были совершенно правы?
В тот же вечер Елизавета встречает гостей в Головинском дворце (на деле – этакой деревянной «времянке», на которые был так богат тогдашний придворный быт). Петр Федорович, нарушая этикет, бежит в комнаты гостий и, даже не дав им снять шубы, приветствует «самым нежным образом».
Откуда юноше знать, что это его смерть к нему примчалась на великолепных императрицыных лошадях – молоденькая, очаровательная, раскрасневшаяся с мороза, в невесомых соболях, во всей своей нешуточной прелести...
Но это именно его смерть, а вовсе не долгожданная Фикхен. И никто этого еще не знает...
Иоганне и ее дочери вручают ордена св. Екатерины. Вот теперь не остается никаких сомнений, оправдались все надежды. Софья будет невестой наследника...
И она делает первые шаги при веселом, шалом, во все дни пьяном императорском дворе, где потаенно плетутся самые изощренные интриги, а для всеобщего обозрения звонко лопаются великолепные фейерверки. Бестужев силен, но управа и на него найдется – эту продажную шкуру даже родной брат ненавидит...
Главное свершилось!
Глава четвертая Явное и потаенное
Ах, каким блестящим, пышным и веселым был елизаветинский двор! Быть может, второго такого и не было за всю историю Российской империи...
Давайте не будем заниматься скучными пересказами. Откроем лучше записки французского дипломата графа де ла Мессельера. Очевидец, как-никак...
«Знатные лица обоего пола наполняли апартаменты дворца и блистали уборами и драгоценными камнями. Красота апартаментов и богатство их изумительны; но их затмевало приятное зрелище четырехсот дам, вообще очень красивых и очень богато одетых. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно произведенная падением всех стор (штор – А. Б.) темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свечей, отражавшихся со всех сторон в зеркалах. Заиграл оркестр из 80 музыкантов, и бал открылся. Во время первых менуэтов послышался глухой шум, имевший, однако, нечто величественное; дверь быстро отворилась настежь, и мы увидели императрицу, сидевшую на блестящем троне. Сойдя с него, она вошла в большую залу. Окруженная своими ближайшими царедворцами. Зала была очень велика, танцевали зараз по двадцати менуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище... бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить ее величеству, что ужин готов. Все перешли в очень обширную и изящно убранную залу, освещенную 900 свечей; в которой красовался фигурный стол на несколько сот кувертов (столовых приборов – À. Á.) На хорах залы начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета. Кушанья были всевозможных наций, и служители были русские, французы, немцы, итальянцы, которые спрашивали у единоплеменных им гостей, что они желают».
Между прочим, француз описывает самый обычный, рядовой бал – торжества были не в пример пышнее...
Каждый вторник устраивались «машкерады» – такие же балы, но мужчины обязаны были являться на них в дамских платьях, а женщины в мужском наряде. Сама Елизавета была стройной, и ей мужской наряд был как нельзя более к лицу – но не все дамы в нем смотрелись надлежащим образом. Ну, а как себя чувствовали мужчины в платьях, догадаться нетрудно... Скверно.
Екатерина вспоминала об одном из таких маскарадов: «...мужчины вообще были злы, как собаки, потому что не могли справиться со своими гигантскими фижмами, женщины в мужских костюмах были и того безобразней, вполне хороша была только императрица, к которой мужское платье отлично шло».
О том, какие сцены происходили на таких маскарадах, лучше всего расскажет опять-таки сама Екатерина: «Сиверс, тогда камер-юнкер, был довольно большого роста, а надел фижмы, которые дала ему императрица; он танцевал со мной полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова: она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку; падая, он так меня толкнул, что я упала прямо под его фижмы, поднявшиеся в мою сторону; он запутался в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой; меня душил смех, и я пыталась встать, но пришлось нас поднимать, до того трудно было нам справиться, мы так запутались в платье Сиверса, что ни один из нас не мог встать, не роняя двух других».
Совсем молоденькой Екатерине, нет сомнения, было по-настоящему весело – а вот другим вряд ли. Народ в основном был уже в солидных годах...
Придворные, кстати, не имели права вступать в брак без специального разрешения Елизаветы, которая даже назначала день свадьбы – но могла и забыть, а напоминать государыне никто не осмеливался. И женихи с невестами порой ждали годами...
Но вернемся к Екатерине. Она все-таки еще не жена наследника престола... собственно, она еще не Екатерина, а по-прежнему Софья. Не было еще ни крещения, ни даже обручения.
Екатерина с ее острым умом быстро находит нужную линию поведения – она должна как можно быстрее стать русской!
Ей всего пятнадцать, но она, как честно признавалась впоследствии в своих «Записках», прекрасно понимала, каковы ставки в игре. Не обратно же возвращаться в убогий Штеттин после того, как увидела настоящую роскошь?
Она начинает изучать православие у духовника Симеона Тодорского и русский язык у учителя Ададурова. Занимается всерьез, зубрит русский и днем, и ночью – а чтобы не заснуть, расхаживает по комнате босиком, в одной сорочке. И жестоко простужается.
Это не какой-то насморк, а нешуточное воспаление легких. Принцесса София – пока еще София – не пороге смерти. Лечат ее главным образом кровопусканием, которое тогда считалось панацеей от всех болезней. За двадцать семь дней больной пускают кровь шестнадцать раз.
Несмотря на этакое лечение, девушка начинает поправляться. Даже в лихорадке она сохраняет ум и волю: вдруг становится известно, что мать, видя, что дочь совсем плоха, предложила позвать протестантского пастора. Однако София категорически отказывается и просит, чтобы позвали как раз православного отца Симеона – она, мол, уже чувствует себя православной.
Этот случай произвел на русский двор и в первую очередь императрицу самое лучшее впечатление.
Правда, все едва не рухнуло в одночасье...
Принцесса Иоганна, оказавшись при дворе, с головой ушла в политические интриги, завела по тогдашней моде «салон», где стали собираться враги канцлера Бестужева: Трубецкие и Бецкой, пруссаки Брюмер и Мардефельд, французский посол Шетарди. Правда, Шетарди еще как бы не совсем полноправный посол: он обосновался в Петербурге, но верительные грамоты императрице вручать не спешит, охотно объясняя всем и каждому, что на этот ответственный шаг пойдет лишь после того, как Бестужева снимут с должности, а еще лучше – закатают в Сибирь. Вот тогда Шетарди «настоящему» канцлеру и представится...
Одна беда: мастерица плести интриги из Иоганны никакая. В захолустном Штеттине научиться этому высокому искусству было затруднительно. Да и остальные – интриганы не первого сорта. А Бестужев, даром что продажная шкура, интриганом был первоклассным.
Его агенты втихомолку вскрывали зашифрованную переписку французского посла – и, мало того, подобрали к шифру ключик. Бестужев скопировал кое-какие места из писем и пошел с ними к императрице. Удар он рассчитал безошибочно, прекрасно зная, что характер у Елизаветы отнюдь не ангельский...
Политики эти отрывки из перехваченных писем не касались вовсе. Шетарди жаловался в Париж на «лень и легкомыслие» Елизаветы, на страсть к увеселениям, заставляющую ее менять платья по пять раз в день...
Вот это Елизавету взбесило пуще всяких политических интриг! Она так рявкнула на своих министров, что бедолагу Шетарди выслали из Петербурга в двадцать четыре часа – и даже, скрупулезно выполняя инструкции императрицы, выломали и забрали портрет Елизаветы, прикрепленный к крышке золотой с алмазами табакерки, которую она сама незадолго до того подарила французу (саму табакерку, не мелочась, послу оставили).
Следом выперли обратно в Штеттин неумелую интриганку Иоганну – а за компанию с ней едва не присовокупили и саму Софью: мол, яблочко от яблони... Однако Софья на суровой беседе с Елизаветой сумела оправдаться и уверить разгневанную дщерь Петрову, что не имела никакого отношения к этому самому «салону» (пожалуй, и в самом деле не имела, вряд ли пятнадцатилетнюю девушку приняли на равных в круг прожженых заговорщиков).
Гроза миновала. А вскоре, 28 июня 1744 г., Софья в самой торжественной обстановке, в церкви Головинского дворца, приняла православие...
Все! София Фредерика Августа (или все же Доротея) исчезла навсегда – как и некая Фикхен. Отныне и до смерти существовала лишь Екатерина Алексеевна. Почему «Алексеевна», кстати? Да просто оттого, что в русских святцах нет имени «Христиан». Вспомнили, что у Екатерининого батюшки есть еще и второе имя «Август» – а его нельзя было перевести на русский иначе как «Алексей». Вот и получилась Екатерина Алексеевна.
Между прочим, Христиан-Август, человек, надо полагать, упрямый. Чуть ли не до самого последнего момента сопротивлялся переходу дочери в православие, твердил, что на свете есть лишь одна истинная вера – лютеранская. Видимо, он все же был человеком верующим, вразрез с вольнодумством восемнадцатого столетия...
Но его доломали с помощью Фридриха Великого. Фридрих разыскал в берлине некоего красноречивого лютеранского пастора, и тот довольно быстро как-то все же убедил Христиана, что лютеранская вера настолько похожа на православную, что это, собственно, одно и то же. Сколько он получил от Фридриха (пастор, я имею в виду), истории осталось неизвестным.
В общем, последнее препятствие оказалось преодоленным. Екатерину на следующий день еще более торжественно обручили с Петром – а через два месяца и обвенчали. Жених был еще болен после перенесенной оспы, но Елизавета торопила события безжалостно: ей позарез нужно было обзавестись официальными и законными наследниками престола. Как-никак под надежной охраной все еще томилась незадачливая Брауншвейгская фамилия – свергнутая Елизаветой правительница Анна Леопольдовна, ее пятилетний сын, законный российский император Иоанн VI, и их многочисленная родня.
Между прочим, преследовавшие всю жизнь Елизавету страхи, что ее, в свою очередь, свергнет кто-то удачливый, а то и вовсе зарежут, были отнюдь не беспочвенны. Через год после свадьбы Екатерины и Петра возле спальни Елизаветы охрана сцапала незнакомца с кинжалом в руке. Кто его послал, навсегда останется неизвестным – как его ни пытали, ни словечка не добились, так и помер...
Конец всем треволнениям и нервотрепкам? Не спешите...
Всего через девять месяцев после свадьбы неугомонный Бестужев представил Елизавете обширный документ (сохранившийся до настоящего времени). По форме это было вроде бы безобидное «руководство к воспитанию» юной пары, а на деле – самая что ни на есть настоящая телега. Обвинение на обвинении. Петру ставилось в вину, что он, например, «говорит грубые и неприличные шутки своим приближенным», а также «публично гримасничает и коверкается всем телом».
Обвинения против Екатерины были гораздо серьезнее: отсутствие усердия в православной вере, запрещенное ей вмешательство в государственные дела, наконец, «чрезмерная фамильярность» с молодыми вельможами.
Последний пункт особенно интересен. Касается он трех конкретных персон: молодых братьев Чернышевых, пользовавшихся особой благосклонностью великого князя и княгини. С Андреем Чернышовым Екатерина поддерживала очень уж приятельские отношения, дававшие почву для сплетен.
Ей тогда было семнадцать – по меркам восемнадцатого века к этому возрасту молодой даме полагалось бы уже иметь пару-тройку любовников...
Оговорюсь сразу: так и осталось неизвестным, насколько далеко зашли отношения Андрея Чернышева и Екатерины, происходило что-нибудь на «ложе любви» или нет. Но отношения, в самом деле, были крайне фамильярными. Дошло до того, что однажды Чернышов вечерней порой с самым непринужденным видом хотел было проникнуть в спальню Екатерины. Екатерина его, правда, не впустила – но и не прогнала, стояла, приотворив дверь, и они долго и мило беседовали. Зная семнадцатилетних кокеток, можно представить, что беседа не лишена была игривости. Вот только подкрался откуда камергер двора Девьер и эту милую беседу безжалостно оборвал – в рамках соблюдения приличий и этикета. Девьер был человеком Бестужева.
На другой день всех трех братьев Чернышовых потихонечку изъяли, два года продержали под арестом, а потом велением Тайной канцелярии разослали по дальним гарнизонам... К молодой чете приставили высокопоставленных соглядатаев – под видом приближенных.
Правда, через шесть лет Чернышова из ссылки все же вернут – и он вновь окажется при дворе, вновь встретится с Екатериной, меж ними завяжется оживленная тайная переписка – и, когда она впоследствии будет издана, специалисты по «галантному веку» в один голос будут уверять: если учесть тогдашние каноны, речь может идти исключительно об обмене посланиями меж любовниками...
А вскоре появляется еще одни придворный красавец – Сергей Салтыков. Вот относительно него никогда не было никаких сомнений: давным-давно доказано, что он был не только любовником Екатерины, но и настоящим отцом цесаревича Павла Петровича. Самое пикантное, что происходило все не то что при попустительстве, а по прямому приказу Елизаветы. Дело в том, что у молодой четы слишком долго не было ребенка, и Елизавета, по свидетельствам современников, не особенно и деликатно напомнила Екатерине, в чем, собственно, состоят ее обязанности как великой княгини. Грубо говоря, дите необходимо, как штык!
Екатерина вняла: во-первых, в ее положении не особенно и поспоришь, а во-вторых, к тому времени она уже, как бы это поделикатнее выразиться. Увлеченно следовала традициям галантного века.
В общем, родился наследник цесаревич Павел Петрович. Салтыкова сразу же после этого радостного события услали за границу с явно надуманными поручениями – и велели сидеть там подольше. Он и сидел, тихо, как мышь под метлой.
Сохранилась легенда – а может, и доподлинная быль – что император Александр III однажды настойчиво потребовал у одного из историков, знатоков екатерининского времени сказать ему наконец: кто же все-таки был отцом Павла? Тот, помявшись, все же сказал честно: уж не посетуйте, ваше императорское величество, но, по всем данным, Салтыков... Император, ничуть не огорчившись, якобы воскликнул:
– Слава Богу! Есть во мне все же русская кровь!
Ну, а в дальнейшем Екатерина свои «маленькие радости» искала уже самостоятельно.
Семейная жизнь Петра и Екатерины не сложилась с самого начала. Все, что нам известно – а известно немало, – позволяет с уверенностью утверждать, что не то что о любви, но и о малейшей симпатии речи не шло.
А, собственно, чего другого ожидать, когда совершенно чужих друг другу молодых людей ведут под венец, нисколько не интересуясь их мнением, исключительно из высших государственных интересов?! Коронованные особы – люди в этом смысле глубоко несчастные, поскольку не имеют права на брак по любви.
Остается искренне посочувствовать...
Хотя, в некотором смысле, семейная жизнь являла собою не череду скандалов, как кто-то мог подумать, а чуть ли не идиллию. Вот именно, я это пишу без малейшей иронии. Петр – в общем, человек добрый и славный парень – простодушно выкладывал Екатерине все о своих многочисленных увлечениях, ничуть не скрывая имен. Екатерина, правда, с мужем не откровенничала – но поддерживала отнюдь не платонические отношения с молодым красавчиком, родовитым польским шляхтичем Станиславом Понятовским, служившим тогда у английского посла Вильямса...
Гораздо позже она воистину по-царски вознаградит бывшего любовника – сделает его королем Польши.
К превеликому сожалению, еще с восемнадцатого века повелось, едва зайдет речь о семейной жизни Петра и Екатерины, сваливать вину за все трения и нескладности исключительно на Петра: он-де и придурок, и деспот, и физически неспособен был к сексу, и первым завел симпатию на стороне (особенно меня умиляют «исследователи», которые, не давая себе труда приложить минимальные умственные усилия, объединяют два последних обвинения. Именно так: «Петр был импотентом, а вдобавок завел кучу любовниц»...).
На деле вину в равной степени разделяют обе стороны – точнее, главная вина лежит на инициаторах брака. И, к тому же, за прошедшие два столетия отчего-то на события принято было смотреть исключительно глазами Екатерины – хотя она сторона весьма пристрастная...
Сохранилось немало свидетельств совершеннейшего пренебрежения Петра к молодой женушке – но сохранились и его собственные письма Екатерине, из которых следует, что и она откровенно пренебрегала супружескими обязанностями...
Одним словом, во всей этой истории нет ни правых, ни виноватых. Тем более что и век на дворе стоял... галантный. Вот и искали радостей на стороне совершенно чужие друг другу люди, ставшие мужем и женой по чужой воле. Ситуация далеко не новая в мировой истории, чего уж там, вот только победившей стороной оказалась Екатерина, и обстоятельства, при которых она избавилась от супруга, были таковы, что Петра следовало превратить в форменное исчадие ада. С тех пор и пошло...
Мне приходилось даже встречать современное утверждение, неведомо на чем основанное, что якобы «все любовницы Петра были некрасивы». Тот, кто это написал, явно никогда не видел портрета княгини Елены Куракиной, одной из самых ярких придворных красавиц (и самой беспутной, к слову).
В 1752 г. Петр, покончив с прежними мимолетными привязанностями, «слюбился», как простодушно выражались современники, с женщиной, которая, нет никакого сомнения, следующие десять лет, до его смерти, была его первой и единственной любовью – Елизаветой Романовной Воронцовой (сохранившийся портрет позволяет судить, что и она была отнюдь не безобразна, разве что полновата чуточку, но это уже дело вкуса). Связь эта нисколечко не скрывалась, наоборот, демонстративно подчеркивалась. Именно в этом году меж Петром и Екатериной фактически произошел разрыв – они, разумеется, продолжали пребывать в законном браке и старательно выполнять все положенные формальности, но фактически, повторяю, брак окончательно распался. На отношения наследника с Воронцовой уже и сама Елизавета смотрела сквозь пальцы: быть может, еще и оттого, что сама подавала не особенно и положительный пример, оставив законного мужа Разумовского ради молодого красавца Ивана Шувалова.
В свое время в книге «Гвардейское столетие» я старательно пытался развеять устоявшийся миф о Петре III как дурачке и бездельнике. К ней и отсылаю читателя – а эта книга о Екатерине.
Стоит упомянуть, что ее амурные приключения на стороне уже тогда не были ни для кого тайной. А потому ползали самые причудливые слухи – о наследнике Павле, в частности. Болтали, что Екатерина родила мертвого ребенка, но это сохранили в тайне (позарез требовался наследник!), младенчика схоронили потихоньку и заменили «чухонским», то есть финским новорожденным. Фантазия у распространителей подобных слухов работала на всю катушку: дескать, чтобы сохранить строжайшую тайну, и отца мальчика, местного пастора, и всех его односельчан под конвоем погнали в вечную ссылку на Камчатку, мало того, ради пущего совершенства саму деревню раскатали по бревнышку и запахали место, где она стояла...
Документальных подтверждений, разумеется, нет ни одного. Лично я, зная нравы того жестокого века, полагаю: будь эта история правдой, обитателей деревни (благо их, по той же легенде, было всего-то человек двадцать) наверняка попросту утопили бы в болоте – так гораздо проще и надежнее с точки зрения секретности...
Самое интересное, что эта легенда имела продолжение! Якобы у пастора на Камчатке родился еще один сын, как две капли воды похожий на императора Павла – и под старость осел не где-нибудь, а в Красноярске, и его квартирный хозяин отписал в столицу Александру I: мол, ваше величество, у меня тут прижился родной ваш дядюшка, в пошлой бедности пребывающий. И Александр будто бы распорядился найти дядюшку (родная кровь как-никак!), и отыскал его пристав Алексеев, и отправил в Питер, где царского дядю на всякий случай посадили в Петропавловскую крепость, чтобы не сболтнул чего...
Во как! Впечатляет?
По другим источникам, «брат Павла» и в самом деле существовал – но тогда же был очень быстро уличен в том, что никакой он не красноярец и не камчадал, а крепостной крестьянин князя Голицына из подмосковной деревушки, по старой российской (а также общеевропейской) традиции подавшийся в самозванцы...
Вот это как-то больше похоже на правду. И очень похож на нее же следующий эпизод: однажды, на коронации Николая I, внучка Сергея Салтыкова появилась на публике, украсив себя драгоценностями, в которых знающие люди моментально опознали екатерининские, считавшиеся ею потерянными еще при жизни Елизаветы...
Вернемся к Екатерине. Я никоим образом не хочу в рассказе о ней зацикливаться на супружеских изменах и внебрачных детях. Будь Екатерина очередной недалекой и развратной дамочкой, не стоило бы и огород городить – писать о такой скучно и неинтересно. Но в том-то лично для меня и заключается грустный парадокс, что, при всем моем уважении и сочувствии к оклеветанному, оболганному Петру Федоровичу, в жизни совсем не похожему на злобную карикатуру, при всех моих попытках показать истинный облик этого неглупого, незаурядного человека я не могу не испытывать столь же искреннее уважение к Екатерине. По логике событий, следовало бы ее возненавидеть – а вот поди ж ты, не получается...
Очень уж яркая была личность... Поневоле заставляющая себя уважать и чуть ли не восхищаться.
Так вот, за все эти восемнадцать лет жизни в России в качестве великой княгини, она не только плясала на балах и крутила пылкие романы (с людьми, как на подбор, мелкими, не блиставшими особенными способностями, что Чернышов, что Салтыков, что Понятовский).
Все эти годы она усердно и вдумчиво читала.
И отнюдь не бульварные романы (которых тогда в процентном отношении ко всей книжной продукции было ничуть не меньше, чем в наше время).
Еще до перехода в православие и брака с Петром Фикхен – пока что Фикхен! – вновь встретилась с ученым книжником графом Гилленборгом, приехавшим с дипломатической миссией. Екатерина написала для него некий «автопортрет», только не красками на холсте – а некий трактат под названием «Портрет философа в пятнадцать лет» (ей тогда было именно пятнадцать. До нас это произведение, к превеликому сожалению, не дошло. Екатерина его сожгла с прочими бумагами в минуту опасности, о которой будет рассказано ниже). Самое интересное, что граф к этому сочинению отнесся крайне серьезно. И сказал девочке примечательные слова, дошедшие до нашего времени:
– Вы можете разбиться о встречные камни, если только душа ваша не закалится настолько, чтобы противостоять опасностям.
Судя по событиям последующих лет, Екатерина этот совет запомнила на всю жизнь...
Гилленборг и посоветовал ей заняться самообразованием. И она читала, читала, читала: историков, философов, как древних, так и современных ей. Платон, Бейль, Монтескье, Цицерон... Не самое легкое чтение, сужу по собственному опыту: Монтескье я осилил лишь полтора тома из трех, а на Платона и вовсе не хватило духу. А потому могу сказать с уверенностью: следует относиться с неподдельным уважением к юной красивой девушке, которая пропускает балы и свидания с любовниками ради того же Монтескье.
Между прочим, в ее написанном в двадцать лет спустя письме Гилленборгу были примечательные строчки: «Я считаю себя очень и очень обязанной вам, и, если имею некоторые успехи, то в них вы участвуете, так как вы развили во мне желание достигнуть до совершения великих дел».
Так что перед нами – не только неверная женушка, увлеченно коллекционирующая любовников, но и вдумчивый, серьезнейший читатель, осиливший превеликое множество умных книг. Тацит, «Записки» Брантома, Вольтер, «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера, «История Генриха VI» Перефикса, «Церковная история» Барония, «История Германии» отца Бара... Вы что-нибудь из этого читали? Я – тоже нет...
Записки Екатерины, сделанные ею до 1762 г., интересны еще и тем, что написаны не для публики, а исключительно для себя. Стоит привести кое-какие отрывки...
«Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты; вот начало, от которого я отправляюсь».
«Желаю и хочу только блага стране, в которую привел меня Господь. Слава ее делает меня славною».
«Свобода – душа всего на свете, без тебя все мертво. Хочу повиновения законам; не хочу рабов; хочу общей цели – сделать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества, не жестокости, которые несовместимы с нею».
«Когда на своей стороне имеешь истину и разум, тогда это следует высказывать перед народом, объявляя ему, что такая-то причина привела меня к тому-то; разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он победит в глазах большинства».
«Власть без доверия народа ничего не значит. Легко достигнуть любви и славы тому, кто этого желает: примите в основу ваших действий, ваших постановлений благо народа и справедливость, никогда не разлучные. У вас нет и не должно быть других видов. Если душа ваша благородна, вот ее цель».
«Хотите ли вы уважения общества? Приобретите доверенность общества, основывая весь образ ваших действий на правде и общественном благе».
Проще всего сказать (как это и было принято в советские времена), что Екатерина «лицемерила» и «завоевывала дешевую популярность». Но в том-то и дело, что, став самодержицей Всероссийской, она всерьез пыталась осуществлять многое из того, что обдумывала и формулировала в молодости. Правда, слишком многое у нее не получилось, но тут уж вина не самой Екатерины, а времени и века, с которыми приходится считаться даже самовластным монархам... Позже мы поговорим об этом гораздо подробнее.
А пока мы на некоторое время расстанемся с Екатериной – с молодой красавицей, матерью наследника престола, живущей, если взглянуть правде в глаза, в совершеннейшем отчуждении с законным мужем. С великой княгиней, давно и обстоятельно строящей на бумаге планы управления государством. С пылкой женщиной, в полном соответствии с повсеместными традициями галантного века частенько меняющей любовников – изящно и решительно, совершенно в духе столетия.
Отвернемся от блистательного Петербурга и посмотрим на Запад, куда уходит солнце.
По европейским дорогам пылит кавалерия, тяжело катят пушки, шагают колонны пехоты в разноцветных, ярких мундирах – никто еще не заботится о маскировочной одежде, слыхом не слыхивал про цвет хаки. Красные мундиры, синие, зеленые, белые... Золотое шитье, пышные плюмажи, шпаги в самоцветах...
Август 1756 года. Первые выстрелы. Прусская пехота переходит саксонскую границы.
Началась Семилетняя война!
Глава пятая Кровь, лавры, интриги
Противники Пруссии в той войне немало постарались – и в конце концов ухитрились внедрить в массовое сознание свою версию: война якобы началась оттого, что прусский король Фридрих, агрессор, негодяй, совершенно исключительный злодей, еще в 1740 г. оттяпал у миролюбивой, беззащитной, мирной Австрии провинцию Силезия. А шестнадцать лет спустя обиженные спохватились, вознегодовали и при поддержке мирового... тьфу ты, европейского сообщества кинулись восстанавливать справедливость и карать совершенно уникального агрессора...
На самом деле в этих утверждениях верно только одно: захват Пруссией Силезии. Именно у Австрии, именно в 1740 г. Все остальное истине, мягко выражаясь, не вполне соответствует, потому что дело было гораздо сложнее, и клубок противоречий меж полудюжиной ведущих европейских держав изобразился весьма даже запутанный...
Начнем с того, что «миролюбивая» Австрия (как я уже мимоходом упоминал), к тому времени много лет воевала со столь же «миролюбивой» Францией на территории Италии. Тот, кому это удавалось, самым беззастенчивым манером захватывал целые итальянские государства и присоединял к своим землям.
И ничего в этом не было удивительного. Так уж в Европе повелось спокон веков: тот, у кого хватало сил и возможностей собрать сильную армию, без всяких церемоний и поводов нападал на соседа и оттяпывал столько землицы, сколько удавалось. Иногда сосед ее отвоевывал назад, иногда, смирившись с «правом сильного», отправлялся грабить кого-нибудь третьего, вовсе уж слабого. Тянулось это столетиями. Так что двадцативосьмилетний король Фридрих, вступив на престол, собственно, не совершил абсолютно ничего из ряда вон выходящего – попросту следовал старым европейским традициям. Спросил себя: «А чем мы, собственно, хуже?» Поскольку его армия на тот момент австрийскую превосходила, Силезия получалась какая-то бесхозная, вот Фридрих ее и прибрал к рукам, объясняя потом со свойственным ему веселым, мнимо-простодушным цинизмом свои мотивы: во-первых, у него была готовая к бою армия, а во-вторых, ему всегда была присуща «живость характера».
Собственно говоря, «великие державы» возмутились не оттого, что кто-то отхватил у кого-то кусок территории, а по другой причине: и Австрия, и Франция (а также Швеция и Саксония) искренне полагали, что только им дозволительно нападать на соседей и отхряпывать у них провинции, и целые государства захватывать. Потому что они – великие державы, и точка! Имеют право. А Пруссия, от горшка два вершка, вовсе не смеет, выскочка этакая, вести себя, подобно «большим». Такая вот была логика – классический двойной стандарт. Что позволено Юпитеру...
Но сразу вернуть Силезию у Австрии как-то не сложилось. И Фридрих занялся государственным строительством. Он был талантлив во многом – в том числе и в сложном искусстве управления. И приглашал к себе в Пруссию любого, несмотря на национальность и вероисповедание – лишь бы тот знал какое-нибудь дело. Создав Государственный банк, Фридрих посадил туда евреев – и они, вопреки устоявшимся сказкам о коварных жидомасонах, не только не развалили Пруссию, а создали отлаженную финансовую систему с твердой, конвертируемой валютой – прусским серебряным рейхсталером. А поскольку лучшими в Европе специалистами по сдиранию... пардон, по сбору налогов считались французы, Фридрих пригласил из Франции сразу пятерых чиновников и поставил их во главе налогового ведомства.
Плотины, мосты и водохранилища Фридриху строили чехи, покинувшие Австрию на религиозной почве. Вы не поверите, но историческим фактом является и то, что Фридрих еще тогда каким-то чудом уговорил сесть на землю цыган, и они у него распрекрасно крестьянствовали.
Страна, без натяжек, процветала. Тут наступил 1756 год, и забряцало железо...
Франция, собираясь напасть на Пруссию, на деле преследовала гораздо более далеко идущие цели: собиралась захватить немецкое княжество Ганновер, откуда происходила тогдашняя (и нынешняя) английская правящая династия, приглашенная в Лондон в 1714 г. Король Георг II (в душе так и оставшийся мелким германским князьком) ставил свой титул курфюрста Ганноверского гораздо выше английского королевского. А поскольку в то время англичане и французы жесточайшим образом хлестались меж собой в Америке из-за тамошних колоний, Франция рассчитывала захватом Ганновера решить множество своих проблем.
Англия, со своей стороны, за Ганновер обеспокоилась ужасно. Сначала она выступала против Фридриха как раз оттого, что боялась: а вдруг он по живости характера и Ганновер захватит? Но потом как-то договорились. Фридрих дал понять, что Ганновера трогать не будет, наоборот, станет оберегать, как свое собственное королевство, от всяких захватчиков – а Лондон за это выделил ему немалые субсидии на армию.
(Двести лет английская королевская семья официально именовалась Ганноверским домом. Это название они поменяли на Виндзор в 1914 г. по вполне понятным причинам.)
Швеция откровенно зарилась на прусские земли, лежащие на побережье Балтики, – в Стокгольме прекрасно помнили, как в XVII столетии их армия долго и вольготно гуляла по Европе. И помнили, сколько земли на балтийском побережье им тогда принадлежало. Хотелось эти славные времена повторить...
Австрия и Саксония в глубочайшей тайне решили не ограничиваться полумерами, а попросту захватить всю Пруссию, да и поделить, оставив Фридриху пару гектаров земли с одним-единственным дворцом – чтобы знал свое место и больше не нахальничал, пытаясь встать в один ряд с «великими державами».
В Вене начали лихорадочно подыскивать повод к войне – какой угодно, любой пустячок. И случай вскоре представился: Фридрих, набирая рекрутов для своей армии по всей Европе, послал вербовщиков в герцогство Макленбург-Шверинское. Австрия возликовала и громогласно объявила всем, что подобные действия есть ни много ни мало нарушение Вестфальского мира – заключенного аж сто восемь лет назад, в 1648 г.! Каким образом действия Фридриха этот изъеденный мышами за сто восемь лет договор нарушают, Вена особо не объясняла – но шум производила изрядный.
Вот только разведка у Фридриха работала прекрасно – и завербованный ею саксонский чиновник доставил пруссакам оригиналы секретнейшей переписки касаемо завоевания и раздела Пруссии, которую разведчики Фридриха скопировали и отослали в Берлин.
Фридрих решил нанести удар первым. Его армия вторглась в Саксонию и практически без боя заняла ее столицу Дрезден. Саксонский курфюрст (и по совместительству король польский) Август удирал в такой спешке, что успел лишь распихать по карманам самые крупные бриллианты – а жену с детьми и весь свой огромный секретный архив бросил.
Жену с детьми, конечно, никто не тронул – еще действовали, напоминаю, рыцарские правила ведения войны – но вот архив прусские специалисты распотрошили моментально. Откуда и выгребли кучу пикантных документов, подробнейшим образом описывавших план захвата и раздела Пруссии. И тут же опубликовали отдельной брошюрой. Австрийцы с саксонцами, правда, притворились, будто этой брошюры в глаза не видели и слыхом о ней не слыхивали.
(Между прочим, в том же архиве, к позору Санкт-Петербурга, отыскался подлинник письма Бестужева своему коллеге, австрийскому канцлеру Брюлю – в котором Бестужев на полном серьезе просил австрийца отравить русского посланника в Саксонии, поскольку тот, негодяй, решительно не согласен с бестужевской «системой»...)
Тогда австрийцы попытались Фридриха тоже отравить, подкупив его камер-лакея, доверенного слугу. Но у того в последний момент сдали нервы, он кинулся к Фридриху в ноги и во всем покаялся – после чего подозрительно быстро помер в тюрьме. Ходили упорные слухи, что одним камер-лакеем история не ограничивалась, и в заговор были замешаны персоны повыше. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что историю эту в Пруссии, вместо того, чтобы громогласно уличить австрийцев, старательно засекретили, и на свет она всплыла только в XIX столетии...
И война раскрутилась на полную. В Пруссию вступили русские войска – исключительно оттого, что канцлер Бестужев хапнул с Англии немалую взятку (в тот год Англия еще выступала против Пруссии из-за Ганновера).
Вслед за тем вторглись шведы – кстати, под предводительством барона Унгерна фон Штернберга, предка того самого Унгерна, что в гражданскую устроил в Монголии кровавую шизофрению и провозгласил самого себя живым богом.
Но шведы были уже не те, что в прошлом столетии, когда их боялась почти вся Европа. Насчитывалось их всего 22 тысячи, без артиллерии и тыловых складов. Вдобавок барон не смел и шагу сделать без дозволения шведского парламента – а парламент слал, по отзывам современников, «предписания самые несообразные с делом и притом противоречащие одно другому». Пару месяцев шведы вульгарно грабили окрестности, но, едва на горизонте замаячили прусские войска, с превеликим облегчением убрались обратно в Швецию: мол, не больно-то и хотелось...
Тогда в Пруссию двинулся французский маршал Субиз со стотысячной армией. Черт возьми, как это было красиво! Командиры полков (в большинстве своем тех самых, продававшихся-перепродававшихся, как пучок редиски) – поголовно титулованные господа. Офицеры, вплоть до последнего прапорщика – благороднейшие дворяне. За войском тянулся гигантский обоз с массой необходимых французскому дворянину в походе вещей: парчовые халаты и зонтики от солнца, фарфоровые сервизы для обеда и кофепития, духи, пудра и благовонное мыло, обезьянки с попугаями, лакеи, повара, веселые девки... Красотища!
С другой стороны двигались австрийцы – с гораздо менее роскошным обозом, правда.
А чтобы придать видимость общеевропейского возмущения против невиданного доселе агрессора Фридриха, с третьей стороны с франко-австрийскими союзничками сближалась еще и «армии» кукольной Священной Римской империи германской нации. Дело в том, что «имперский сейм» этой несуществующей в реальности державы под нажимом Парижа и Вены на заседании вынес такую вот резолюцию: «Немедленно собрать со всей Германии имперское исполнительное войско для наказания преступника по приговору верховного судилища».
Фридрих, узнав об этой страшной резолюции, хохотал от души, как любой на его месте. И было от чего. Современники составили подробнейшие описания, как формировалось «имперское войско» и что оно собой представляло. Бавария, Вюртемберг и еще парочка более-менее крупных княжеств наскребли у себя по батальону-другому, а кто-то, поднапрягшись, выставил аж целый полк. Зато области вроде Швабии и Франконии выставили... по одному-единственному солдату, честно признавшись, что больше у них нету, хоть ты их режь. Кто-то послал одного-единственного уже не солдата, а лейтенанта, при проверке оказавшегося крестьянином от сохи, кто-то – барабанщика с дедовским барабаном. Свинарей назначали военными флейтистами (как-никак здорово умеют играть на дудке!) а «драгунам» отдавали старых ломовых лошадей. Некоторые аббаты, имевшие согласно старым традициям права светских князей, были ужасно обрадованы, что их, как равноправных союзников, приглашают участвовать в столь престижном деле – но, за неимением солдат, собрали монастырских служек, кое-как вооружили и присовокупили к общей куче...
Словом, это была уморительная орда, вооруженная чем попало и кое-как разбитая на «полки» и «корпуса». Зато «Главнокомандующий имперским исполнительным войском» звался так пышно, что дыхание спирает от почтения: принц Иосиф Мария Фридрих Вильгельм Голландиус Сасен-Хильдбургзаузенский, генерал-фельдмаршал Священной римской империи германской нации. Прониклись? Кстати, его суверенные владения верхом на коне можно было объехать часа за три, а войско этого Сасен-Хиль... состояло из целой роты гренадер...
Даже маршал Субиз, увидев это воинство, едва не лопнул от смеха. Но выбирать было не из чего, и эту ораву он к своей армии присоединил. Часть французской армии и «исполнительное войско» встретили Фридриха у ничем не примечательной деревушки, звавшейся Росбах...
Сегодня для прусской воинской славы это название столь же звонко, как для нас Бородино.
В свое время Наполеон Бонапарт в одной из своих работ по военной истории оставил любопытную статистику: в продолжение Семилетней войны Фридрих дал десять сражений, в которых командовал лично. Из них проиграл только три. Из шести сражений, в которых военачальники Фридриха участвовали без него, они проиграли пять. Это – к вопросу о роли личности в истории.
И грянул Росбах!
У Субиза было 60 000 человек. У Фридриха – двадцать две тысячи. Искусным маневром Фридрих увел Субиза с крайне выгодной для того позиции. И велел армии обедать.
Надвигавшиеся французы, увидев в прусском лагере дым от многочисленных костров и рассмотрев в подзорные трубы обедающих, решили, что пруссакам уже все равно, и они настолько оцепенели от страха при виде великого полководца Субиза, а также принца с непроизносимым именем, что сидят в совершеннейшем трансе и ждут, когда их повяжут. И Субиз велел наступать – парадным шагом, под военный оркестр, блистая золотыми галунами... Как-никак у него было втрое больше солдат.
Вот тогда-то Фридрих взмыл на коня и велел бить тревогу. Под дробь барабанов войска в несколько минут построились, выдвинулась артиллерия, и «Старый Фриц» заорал:
– Не робей! С Богом!
Две тысячи «черных гусар» прусского генерала Зейдлица галопом кинулись вперед. И лишь в последнюю минуту сообразили, кого атакуют – жандармов!
Жандармами тогда звались тяжелые кавалеристы – собственно, кирасиры, кавалергарды. Огромные лошади-битюги, тяжелые кирасы, длиннющие палаши, железные каски. Все воинские уставы категорически запрещали легкой кавалерии вроде гусар какое бы то ни было боевое соприкосновение с кавалерией тяжелой – по причине вопиющего неравенства сил и шансов.
А что такое тогдашний гусар? Подбитый ветром расшитый доломан, медвежья шапка вроде нашей казачьей – и никакого защитного железа, кроме пуговиц. Зато – усищи вразлет. И знает, что помирать только раз. Гусар – всегда гусар.
Короче говоря, Зейдлиц совершил небывалое в военной истории того времени – не остановил атаку. И его усачи с медным черепом и скрещенными костями на меховых шапках смяли французских кирасир. Те, гремя железом, припустили врассыпную на своих битюгах так ретиво, что опрокинули и рассеяли два полка собственной легкой кавалерии, спешившей им на подмогу. Французская пехота осталась без кавалерийского прикрытия, и гусары в нее врубились от всей удали.
Как свидетельствуют очевидцы, при этом возникло трагикомическое недоразумение. Сообразив, что дело пахнет керосином, французы начали во всю глотку просить пощады, что на их языке звучало следующим образом:
– Quartier!
А гусары, надобно вам знать, были большей частью из Бранденбурга, где французы как раз и собирались встать на постой – причем известно уже было, что они, где ни пройдут, грабят и насильничают так, что любой лесной разбойник обзавидуется. А по-немецки этот крик как раз и звучал: «Квартира!»
– Квартиру вам, мать вашу? – разозлились гусары. – А по башке саблей?
И рубали от всей души, пока французы не заорали уже другое:
– Pardon!
Тут только гусары сообразили что к чему, и остыли. А с другого фланга шли в штыковую прусские гренадеры.
Французы бежали батальонами и полками. «Имперская армия» вообще растворилась в воздухе так молниеносно, что никто, собственно, и не понял, куда она делась: только что стояла со своим принцем во главе – и вдруг словно испарилась...
Остатки разбитой армии сумели отступить только потому, что их прикрыли несколько швейцарских батальонов. Итоги были таковы: у французов более трех тысяч убитых и раненых, семь тысяч попало в плен, в том числе девять генералов и 326 офицеров. Пруссаки захватили 67 пушек, 25 знамен и штандартов, и весь богатейший обоз вместе с попугаями и веселыми девками. Потери Фридриха – 165 убитыми и 376 ранеными.
Как вам такая победа?
Польская королева (супруга саксонского курфюрста), узнав о таком поражении, умерла на другой день от огорчения. А вот французский король реагировал совершенно иначе... Вы в жизни не угадаете, как он поступил с бездарно проигравшим сражение при подавляющем численном превосходстве Субизом.
Вручил ему фельдмаршальский жезл! Так и было. Иногда понять французов решительно невозможно...
А через месяц Фридрих столь же молниеносно и качественно расколошматил австрийцев под Лейтеном. У австрийцев – 66 000 (по другим данным – 90 000) человек и 300 орудий. У Фридриха – 40 000 и 167 пушек. При этом Фридрих, начиная сражение, представления не имел о боевых порядках австрийцев. Выезжая к войскам перед битвой, он подозвал к себе гусарского офицера с полусотней всадников и распорядился:
– Вот что, камрад... Если меня убьют, быстренько прикроешь тело плащом, а о моей смерти ни слова – пусть баталия продолжается!
Но он остался жив (и гусар тоже!), искусно маневрируя войсками, разбил противника начисто. Наполеон, в военном деле кое-что понимавший, писал, что за один Лейтен Фридрих заслуживается звания великого полководца.
Итоги: австрийцы потеряли 6500 ранеными и убитыми, 6000 человек из их армии прямо на поле боя дезертировали к прусакам, а в плен попало 21 500 (из них 300 офицеров). Пруссаки захватили 134 оружия и 59 знамен.
Но на этом дело не кончилось! Фридрих боялся, что неприятель, отступивший за реку, остановится и соберет силы. Поэтому он взял одного генерала, один эскадрон гусар и пустился в погоню – уже глубокой ночью. Маленький отряд, ввязавшись в пару перестрелок, въехал в городок Лиса – знавший его Фридрих галопом подскакал к тамошнему замку, где разместился штаб австрийцев...
Целая толпа австрийских генералов и офицеров торчала в вестибюле. Фридрих как ни в чем не бывало вошел и сказал:
– Бонжур, месье! Войти позволите?
С ним было только три адъютанта, но перепуганные австрияки и пальцем не шевельнули, чтобы захватить страшного Фрица в плен – схватили канделябры и почтительно принялись ему светить, пока он поднимался по лестнице...
Русский военный историк Керсновский писал, что Фридрих испепелил австрийцев под Лейтеном.
Необходимо ради исторической точности упомянуть, что еще до этих двух славных сражений австрийцы ухитрились побывать в столице Пруссии Берлине. Именно так. Говорить, что они его взяли, было бы преувеличением...
Возле Берлина вдруг нарисовался австрийский генерал с символической фамилией Гаддик. У него было четыре тысячи кавалеристов регулярной армии, а в Берлине – только 300 солдат, две сотни новобранцев да две тысячи городских стражников – вояки те еще. А потому Гаддик без труда после минутной перестрелки ворвался в город – благо вокруг Берлина стены имелись лишь примерно на трети периметра, и в качестве укреплений был лишь частокол перед главными воротами...
Так что ни о каком «взятии» города, повторяю, и речи не шло. Разогнав новобранцев и стражников, Гаддик со своими орлами ворвался в магистрат и стал в темпе вымогать контрибуцию – именно что в жуткой спешке, поскольку знал, что где-то неподалеку движутся гусары Зейдлица, которые его моментально раскатают, как бог черепаху. Орал: «Семьсот тысяч на бочку!»
Члены магистрата – прекрасно знавшие то же самое о гусарах – заявили, что столько у них нету. Начался классический рэкетирский торг: магистратские плакались на скудность финансов, а нервничавший Гаддик орал, что спалит город и всех перевешает.
– Шестьсот тысяч! – бесновался он.
– Нету столько, – вздыхали берлинцы.
– Мать вашу! Пятьсот!
– Так ведь нету... Хоть зарежьте!
– И зарежу! Четыреста!
– Нету...
В общем, кончилось тем, что вместо шестисот тысяч Гаддик еле-еле выторговал двести (из них двенадцать тысяч сразу ссыпал себе в карман, а три тысячи великодушно подарил адъютанту). Стали отсчитывать остальные. Гаддик бесился и торопил. Потом вдруг вспомнил:
– И еще перчатки! Женские! Двадцать дюжин!
В Берлине тогда делали лучшие в Европе женские перчатки, и Гаддик в видах карьеры собирался их преподнести своей императрице. Вздыхая, члены магистрата все же притащили и перчатки – уже упакованными. Разглядывать их было некогда, и Гаддик, прихватив денежки, подался восвояси. Буквально через два часа примчался Зейдлиц с гусарами и разослал погоню по всем направлениям, но Гаддика и след простыл. Такое вот у австрияков получилось «взятие Берлина».
Но это еще не конец, знаете ли! Прибыв в Вену, Гаддик красочно расписал, как он брал Берлин – а под занавес эффектным жестом преподнес Марии-Терезии знаменитые берлинские перчатки, ровным счетом двадцать дюжин. И скромно потупился, надо полагать, ожидая почестей и повышений...
Императрица присмотрелась к ценному подарку... и по физиономии Гаддика этими перчатками, наотмашь!
Потому что они все до единой оказались на левую руку! Это берлинцы тонко пошутили, сообразив, что у австрийского рэкетира не будет времени развязывать тючок...
Гаддик прожил после этого еще тридцать три года – и ему до самой смерти об этом конфузе добрые люди напоминали...
Именно тогда, воодушевившись, должно быть, кратковременным «взятием Бенрлина», германский имперский сейм объявил Фридриха лишенным всех владений и королевского звания. Но из этого получалась чистая комедия. Посланец сейма (история сохранила его имя – государственный нотариус Априль) с подобающей свитой отправился объявить эту новость прусскому посланнику графу Плото.
Граф встретил их в шлафроке (то есть, говоря проще, в домашнем халате), обозрел без всякого почтения и задал вопрос, который на русский можно перевести примерно следующим образом:
– Какого рожна приперлись?
Делегация приосанилась, нотариус выступил вперед и стал было выразительно, с чувством читать приговор сейма. Но граф Плото, не дослушав, сцапал герра нотариуса за шкирку, вытолкал из комнаты и заорал слугам:
– Эй, бездельники, где вы там? А ну-ка, живенько всех этих с лестницы спустить!
По воспоминаниям очевидца, депутация, не дожидаясь спуска с лестницы, сама что есть духу пустилась наутек, «утратив величественные свои парики и шляпы». Тем дело и кончилось – ну кто в здравом уме и трезвой памяти обращал внимание на сейм Священной Римской империи?!
«Позвольте! – воскликнет иной знакомый с историей того времени читатель. – А что же вы, сударь мой, ни словечком не поминаете славные победы русских над пруссаками?»
Спешу восполнить пробел. В самом деле, в трех известнейших сражениях в местах, чьи названия напоминают рычание разъяренного бульдога – Гросс-Эгерсдорф! Цорндорф! Кунерсдорф! – русское оружие покрыло себя неувядающей славой. Говорю это вполне серьезно. Наша армия сражалась героически. Честь ей за это и хвала. Сам Фридрих, к сентиментальности не склонный ни на грош, вынужден был произнести свою знаменитую историческую фразу:
– Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить...
Но у этой медали есть и другая сторона. Никуда не деться от проклятого вопроса: «Зачем?» В самом деле, все участники Семилетней войны преследовали свои пусть шкурные, меркантильные, но реальные интересы, вполне житейские. Одна Россия ввязалась в эту европейскую свалку исключительно потому, что шкуре продажной, канцлеру Бестужеву, за это заплатили чистым золотом сразу несколько государств.
И это – жестокая правда, от которой никуда не деться. И никуда нам от нее не уйти. Русские генералы, офицеры, солдаты показали чудеса героизма и пролили свою кровь, и легли костьми, не зная, что каждая капля крови обернется лишним золотым в сундуках канцлера...
Чуть позже эта шкура все-таки получит свое – пусть и не полной мерой.
Но вернемся на поля сражений. По-настоящему взяли Берлин как раз русские. Генералы Тотлебен и Чернышов несколько дней вели кровопролитные бои, где убитых и раненых считали на тысячи. Потом город капитулировал.
И вот тут-то себя во всей сомнительной красе проявили чертовы союзнички России, австрийцы и саксонцы...
Немецкие историки – пруссаки! – отмечают, что «строжайший порядок господствовал в русском войске, за все его потребности платили щедро, солдаты вели себя не только скромно, но даже дружелюбно в отношении к пруссакам».
А вот союзнички, мать их за ногу, решили оттянуться по полной программе... Саксонцы начисто разграбили два великолепных дворца, Шенхаузен и Шарлоттенбург – и еще больше разломали, уничтожив начисто коллекцию бесценных античных статуй, в придворной церкви осквернили алтарь и растащили золотую утварь.
Австрийцы, добравшись до винных погребов, пошли по Берлину повеселиться, за несколько часов разграбив начисто более трехсот домов. Грабили, насиловали, убивали любого, кто осмелился пикнуть поперек. Офицеры не только не препятствовали, а подавали пример.
И тогда генерал Тотлебен выслал на улицы русские патрули с жестким и недвусмысленным приказом: не угомонятся после словесных увещеваний – к чертовой матери бить залпами на поражение. Началась стрельба всерьез. Только после этого австрияки разбежались...
Зато они вволю пограбили городские окрестности, где русских не было – забавы ради выбрасывали даже трупы из склепов дворянских семейств, громили королевские дворцы. Только Потсдам и Сан-Суси остались в неприкосновенности – исключительно оттого, что их лично охранял австрийский генерал Эстергази, по национальности вовсе не немец, а венгр...
Любопытный случай, кстати. Комендантом Берлина был русский бригадир (чин, промежуточный между полковником и генералом) Бахман. Когда русская армия собралась уходить, магистрат Берлина предложил Бахману в вознаграждение 10 000 талеров – за то, что он поддерживал в городе идеальный порядок. Русский офицер Бахман (между прочим, немец по происхождению), окинул их презрительным взглядом и сказал:
– Я, господа, уже достаточно вознагражден тем, что имел честь несколько дней быть комендантом Берлина!
Это было!
А вот теперь – самое время вернуться к Екатерине, к ее «молодому двору». Потому что в то самое время уже завязалась потаенная интрига с участием множества высокопоставленных лиц, как штатских, так и военных, и активнейшую роль играла сама великая княгиня...
Это был заговор. План переворота, согласно которому собирались, отстранив Петра, передать престол Екатерине. Заговор этот втихомолку раздувался англичанами, причем наш старый знакомый Бестужев, чтоб ему на том свету провалиться на мосту, уже переметнулся на сторону Фридриха.
Вот именно. Потому что к тому времени Англия, как я уже говорил, давным-давно помирилась с Фридрихом и всеми силами пыталась вывести Россию из войны.
Многие привыкли считать, что это-де Петр III и заключил «позорный» мир с Фридрихом, а все остальные были решительно против, и до Петра никто до этого не додумался...
Простите, но исторической правде это не соответствует нисколечко. Первой, еще в 1756 г., «переиграть» ситуацию пыталась как раз Екатерина...
Уже в августе этого года Бестужев с простодушным бесстыдством запродался англичанам. Пришел к английскому послу Уильямсу и стал плакаться, что Елизавета платит ему только семь тысяч рублев в год жалованья – а потому, нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы английский король платил ему, канцлеру, хорошую пенсию?
Уильямс прекрасно знал, что еще за три года до того англичане давали канцлеру денег – Бестужев в то время как раз чувствительно разграбил казенные деньги сразу в двух министерствах. Но это, так сказать, были разовые выплаты.
«Пенсион» англичане, разумеется, канцлеру предоставили – двенадцать тысяч рублей в год. И намекнули, что денежки надо отрабатывать: еще совсем недавно Лондон выступал против Пруссии, но теперь высокая политика переменилась в одночасье...
Бестужев посла понял мгновенно. У Бестужева имелось, надобно вам сказать, одно-единственное, хотя и сомнительное достоинство: коли уж он хапал взятку, то изо всех сил старался ее старательно отработать.
И возник заговор...
Еще в 1910 г. секретную переписку Екатерины, в бытность ее великой княгиней, с английским послом Уильямсом издали в России. И сделала это не какая-нибудь бульварная газетка, а человек серьезнейший, с репутацией: управляющий Государственным архивом и архивом Министерства иностранных дел С. М. Горяинов. До этого ее могли читать лишь царствующие особы, а с момента поступления в архив она хранилась под особыми печатями и была истребована лишь дважды: Александром II и Александром III. Но после 1905 года наступила своеобразная оттепель – тогда, в частности, только и было позволено напечатать наконец, что Петр III и Павел I умерли не своей смертью. До этого во всех энциклопедиях и научных трудах уклончиво говорилось, что означенные монархи «внезапно скончались»...
Из этой переписки самым недвусмысленным образом следует, что уже в 1756–1757 гг. Екатерина всерьез думала о захвате престола и поддерживала тайные связи (вовсе не амурного характера!) кое с кем из гвардейских офицеров. А впрочем, тут, как водится (и особенно в восемнадцатом столетии) тесно переплелись политика и амуры: посол Уильямс как раз был покровителем любовника Екатерины Станислава Понятовского, которого к тому времени кое-что прослышавшая Елизавета выслала из Петербурга.
Елизавета уже тогда начала серьезно хворать... Но дадим слово самой Екатерине (письмо Уильямсу от 18 августа 1756 г.): «Когда я получу предупреждение настолько верное, что нельзя будет допустить ошибки, о начале предсмертных припадков, я прямо пойду в комнату моего сына. Если я встречу или смогу очень скоро заполучить обер-егермейстера (А. Г. Разумовского – А. Б.), я оставлю его при сыне с людьми, находящимися под его начальством... Равным образом пошлю верного человека предупредить пять гвардейский офицеров, на которых я могу положиться: каждый из них мне приведет пятьдесят солдат (в чем уже условлено по первому сигналу), которых, может быть, я не пущу в дело, но которые будут сопровождать меня в виде запаса во избежание всяких помех. Заметьте, что они получат приказание только от великого князя и от меня. Я пошлю предупредить канцлера, Апраксина, Ливена, чтобы они пришли ко мне, а в ожидании их я войду в покои умирающей, куда велю позвать капитана, командующего караулом, и я лично приму ему присягу и удержу его при себе. Мне кажется, что будет лучше и безопаснее оставить обоих великих князей вместе, чем если бы один из них меня сопровождал, равным образом я думаю, что местом сбора моих людей будет моя передняя. При каком-либо движении, даже самом малейшем, которое я бы заметила, я велю как своим людям, так и солдатам караула взять под стражу Шуваловых и дежурного генерал-лейтенанта. Прибавьте к этому, что младшие офицеры лейб-кампанцы – люди надежные, и хотя я не имею сообщений со всеми, но я могу в достаточной мере рассчитывать на двух или трех из них и настолько пользуюсь уважением, что заставлю повиноваться мне всякого, кто не будет подкуплен».
Перед нами – не прожекты и мечты, а реальнейший план конкретного переворота, расписанный до мельчайших деталей. Следует обратить особенное внимание на то, что Екатерина намерена произвести переворот в союзе с мужем Петром (упоминание о двух великих князьях – это как раз упоминание о Петре и Павле). Шансы были велики – в конце-то концов, шестнадцать лет назад Елизавета свергла правительницу Анну Леопольдовну, имея под рукой неполную роту солдат и кучку офицеров с придворными. Тем более задачу крайне облегчало то, что переворот должен был состояться не при здоровой, энергичной и полной сил Елизавете, а при умирающей, уже не способной ничем и никем руководить, давать отпор. Не зря в числе заговорщиков появляются столь близкие к Елизавете люди, как Разумовский и офицеры привилегированнейшей лейб-кампании. Наверняка никто из них не стал бы участвовать в заговоре против здоровой Елизаветы, но, прекрасно видя, что императрица умирает, они из простого житейского расчета постарались бы наилучшим образом устроиться при новых монархах...
Елизавета была окружена множеством агентов «молодого двора», старательно докладывавших Екатерине о состоянии императрицы. О чем Екатерина опять-таки сама писала англичанину: «Вчера среди дня случилось у императрицы три головокружения или обморока. Она боится, очень пугается, плачет, огорчается, и когда спрашивают у нее, отчего, она отвечает, что боится потерять зрение. Бывают моменты, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее. Говорят, однако, что она хорошо провела ночь... Мой хирург, человек очень опытный и разумный, высказывается за апоплексический удар, который сразит ее безошибочно. У меня имеются три лица, которые не выходят из ее комнаты и которые не знают, каждый в отдельности, что они меня предупреждают, и не преминут в решительный момент сделать это».
В связи с этими планами – имевшими все шансы на успех – возникает любопытнейший вопрос: что Екатерина намеревалась делать потом, при успехе? Собиралась ли она уже тогда отстранить мужа и править единолично?
Увы, точной информации о таких подробностях нет и никогда уже не будет. Меж супругами к тому времени, как я уже писал, произошел окончательный разрыв, так что подобные планы Екатерина вполне могла строить.
Правда, это еще не значит, что ей удалось бы претворить их в жизнь. «Пять гвардейских офицеров», о которых она упоминает – это, безусловно, не братья Орловы, которых тогда рядом с Екатериной еще не было. Кто они – и кто такие эти лейб-кампанцы – сегодня уже вряд ли можно установить точно. Но, в любом случае, вряд ли Екатерина чувствовала себя настолько сильной, чтобы сразу после взятия власти попытаться избавиться и от мужа...
Тем более что сторонники у него имелись крайне серьезные. Иван Шувалов, фаворит Елизаветы, участвовал, достоверно известно, в организации какого-то оставшегося непроясненным заговора против Петра – параллельно с тем заговором, что замышляла Екатерина. Однако его двоюродный брат, Петр Шувалов, генерал-фельдцехмейстер (начальник всей артиллерии), наоборот, был всецело на стороне Петра и, кроме своего служебного положения, располагал еще и конным корпусом в 30 000 человек, который создал за свой счет. Корпус этот так и именовался «Шуваловский», и не стал бы слушать ничьих приказов, кроме своего командира.
Кроме того, сторону Петра решительно держал и двоюродный дядя обоих Шуваловых, граф Александр Иванович, к тому времени десять лет руководивший конторой, чье полное наименование (да и сокращенное тоже) в российской империи наводило ужас практически на любого – Тайная розыскных дел канцелярия...
Как бы там дело ни обстояло, какие бы потаенные намерения ни питали участники заговора, какие бы свои игры ни вели втихомолку в стороне от игры главной, все это решительное предприятие сорвалось по независящим от его инициаторов причинам: Елизавета взяла да и выздоровела. Здоровье у нее, как выражался Дюма касаемо Атоса, было гвоздями прибито к телу. Никакими «излишествами нехорошими разными» подточить его не удавалось – как ни старалась сама Елизавета, безусловно укоротившая жизнь морем разливанным вина и неисчислимыми балами...
Тогда этот заговор (или, как в восемнадцатом столетии принято было выражаться, комплот), тихонечко скончался естественной смертью. Но всего через год возник новый – опять-таки из-за новых апоплексических ударов у Елизаветы...
В письмах к английскому послу Екатерина в числе своих верных сообщников упоминала Апраксина. Именно он и сыграл в последующих событиях одну из главных ролей – и оказался одним из двух козлов отпущения (правда, обоих нисколечко не жалко).
Итак, Россия все же послала войска против Пруссии, как ни старался второпях переломить ситуацию служивший уже другим господам и другим «системам» канцлер Бестужев. Он просто-напросто угодил в собственную ловушку: так долго и старательно разжигал в Елизавете ненависть к Фридриху и приручал ее видеть в прусском короле исчадие ада и главного противника, что Елизавета по-настоящему этими идеями прониклась. И теперь тому же Бестужеву никак невозможно было прийти к императрице и как ни в чем не бывало, с честнейшими глазами заявить:
– Ошибочка вышла, матушка, уж прости старого дурня. Фридрихус, король Прусский, надобно тебе знать, вовсе не твой первейший супостат, а человек очень даже приличный, нам с ним интересы высокой политики велят не то что замиряться поскорее, а самую сердечную дружбу завесть...
Поздно было! Он сам столько лет заводил Елизавету, и она теперь не могла идти на попятный...
Итак, Степан Федорович Апраксин, обладатель высшего воинского звания «генерал-фельдмаршал» и кавалер высшего ордена Российской империи Андрея Первозванного. Именно он был назначен главнокомандующим русскими войсками, действовавшими против Фридриха. Присмотримся поближе...
Хотя Апраксин достиг высшего воинского звания, военачальник из него был никакой. Весь его военный опыт укладывался в два года военных действий против Турции, в 1737–1739 гг., когда он был в чине всего-навсего секунд-майора (тогдашнее майорское звание делилось на две ступени: секунд-майор и премьер-майор). Он, правда, отличился при штурме Очакова, за что был сделан «полным» майором и получил поместья, но все равно, этого маловато, чтобы не то что считаться полководцем, но и попасть в фельдмаршалы...
Секрет в том, что Апраксин долго служил в Семеновском полку, одном из двух престижнейших – но своим возвышением обязан был опять-таки не этому, а тесной дружбе с влиятельнейшими при дворе персонами: канцлером Бестужевым, Алексеем Разумовским и Иваном Шуваловым. И высший орден империи отхватил благодаря этим связям. Меж тем, современники, что примечательно, относились к выскочке скверно, его чуть ли не в глаза именовали «неженкой», «рохлей» и даже «трусом»...
Однако, когда встал вопрос о главнокомандующем, назначили именно Степана свет Федоровича. Не удивительно – с такими-то покровителями...
Отзывы участников Семилетней войны с российской стороны единодушны: это был не главнокомандующий, а наказание Божье. Хорошо еще, что под его началом служило немало толковых генералов, они и ковали победу, сплошь и рядом игнорируя идиотские распоряжения обладателя Андреевской ленты...
В августе 1757 г. состоялось победное для русского оружия сражение при гросс-Эгерсдорфе. Путь на Кенигсберг, древнюю столицу Пруссии, был открыт – сам Фридрих в то время воевал далеко оттуда, на юге и западе, и Кенигсбергу ничем помочь не мог. Армия приготовилась к марш-броску...
И тут к Апраксину примчался курьер от Бестужева с Екатериной – у Елизаветы снова удар, и доверенные врачи ручаются, что на сей раз она точно не выживет!
О войне с пруссаками Апраксин забыл моментально: теперь подчиненные ему полки были гораздо нужнее в России. Этот заговор уже состоялся без всякого участия и ведома Петра – поскольку императором намеревались провозгласить малолетнего Павла Петровича, за которого, разумеется, должна была управлять государством его матушка.
Апраксин, несомненно, хорошо представлял, какие награды и пожалования можно огрести, оказавшись на нужной стороне в такой момент...
И началось никому не понятное отступление, больше всего похожее на паническое бегство, словно не пруссаки, а именно Апраксин был разбит наголову. Пятнадцать тысяч раненых и больных Апраксин попросту бросил. Велел бросить, заклепав предварительно, восемьдесят пушек. Бросали все – запасы оружия, боеприпасы, амуницию, топили в реке баржи с продовольствием, оставляли обозы. По пятам Апраксина шел с небольшим отрядом прусский генерал Левальд и подбирал богатейшие трофеи, заодно ломал голову, что у русских произошло и откуда этакое массовое помешательство – потому что, на взгляд любого непосвященного в петербургские дворцовые интриги наблюдателя, так драпать после несомненной победы могли только рехнувшиеся умом...
В русском лагере думали кое-что похуже. Молодой генерал Петр Панин украдкой покинул штаб Апраксина и верхом помчался в столицу, опережая отступающие войска.
Пока он скакал, пока Апраксин отступал чуть ли не бегом, превратив отлично оснащенную, вооруженную и снабженную всем необходимым армию чуть ли не в стадо... Елизавета, вдруг, вопреки эскулапам, выздоровела!
Тут к ней и ворвался Панин, с порога рявкнул сохранившиеся в истории слова:
– Матушка, измена! Руби головы!
В самом деле, при подобных обстоятельствах общественное мнение (и вовсе не обязательно простонародное) склоняется прежде всего к тому, что такое поведение нельзя объяснить иначе как изменой. Моментально родились сплетни (дошедшие до нашего времени и попавшие в исторические романы), будто Апраксин попросту хапнул немалую взятку от Фридриха. Молва даже разносила захватывающую историю со всеми подробностями: будто бы Апраксин засунул полученное от прусского короля золото в бочонок, для маскировки напихал туда селедок (по другой версии, налил постного масла) и отправил супруге с верным человеком. А тот будто бы оказался не таким уж верным – золото вытащил и присвоил, благо в сопроводительном письме говорилось только о селедке (постном масле). Апраксин, якобы, прибыв домой, первым делом, не успев сапоги от пыли отряхнуть, поинтересовался у супруги:
– Как селедочка?
– Объеденье! – ответила супружница. – Почитай, всю уже доели. Что ж так мало прислал, Степушка?
Тут Апраксин, согласно легенде, побледнел, затрясся и возопил:
– А золото где же?
И, узнав от супруги, что никакого золота ей не передавали – ни монеточки! – упал и умер от огорчения...
На самом деле все было совершенно иначе. Апраксин, как легко догадаться, не только до дома не добрался, но и в столицу не успел доехать – посланные навстречу хмурые господа из Тайной канцелярии повязали его перед Петербургом... Не пряниками же угощать?
Апраксин оказался в самом что ни на есть идиотском положении – он твердо рассчитывал, что императрица умрет, власть сменится, и никому ничего объяснять не придется, наоборот, будут сплошные похвалы и награждения.
А объяснять-то и пришлось... Апраксин, одурев от страха, нес всякую чепуху: что у него, дескать, не было ни сил, ни средств, порох кончился, лошади померли от бескормицы, пушек не хватало, из Петербурга присылали дурацкие указания, не имевшие ничего общего с реальной военной обстановкой...
Его пока что не пытали – не было высочайшего распоряжения – но те самые хмурые господа из Тайной канцелярии грамотно и аргументированно доказывали, что брешет генерал-фельдмаршал, как сивый мерин...
В Петербурге наконец-то арестовали канцлера Бестужева и его сообщников. Екатерину пока что не тронули, она какое-то время пребывала в невероятном расстройстве чувств, видя перед собой если не плаху, то, по крайней мере, палаческий кнут и необозримые сибирские просторы (Елизавета в гневе бывала не самой доброй императрицей в мире...) Но старая лиса Бестужев перед арестом успел сжечь все до единой уличающие бумаги – о чем через верных людей и сообщил Екатерине. Екатерина воспрянула...
Следствие велось активнейшим образом – под руководством самой Елизаветы, из-за позорного бегства Апраксина выставленной перед всей Европой неведомо даже и кем...
Но не было улик, ни единой. Апраксин талдычил про неблагоприятные обстоятельства, Бестужев молчал как рыба. Молчали и остальные арестованные по делу: бывший учитель русского языка Екатерины Ададуров, бывший ювелир Екатерины Бернарди, бывший адъютант Разумовского Елагин. Отчего-то никого из перечисленных не пытали, что довольно странно – во времена Елизаветы пытка была еще в большом ходу. Не исключено, что круг заговорщиков был гораздо шире, и те влиятельные лица, что оставались в стороне, втихомолку обеспечили самое гуманное ведение следствия (подобное в истории известно).
Ну не было у Елизаветы ни единой улики против этой компании, хоть ты тресни! Разве что пара-тройка совершенно пустяковых писем Екатерины к Апраксину, которые при самой извращенной фантазии за улики все же сойти никак не могли...
И императрица заколебалась. Она вызвала Екатерину, самолично учинила ей допрос – но Екатерина от всего отпиралась, не моргнув глазом, разыгрывала оскорбленную невинность и даже попробовала показать характер: ну, коли так, то отпустите вы меня, Елизавета Петровна, назад в Германию!
Присутствующему здесь же Петру эта идея пришлась весьма по вкусу. Но Елизавета все еще колебалась. Понять ход ее мыслей легко: прямых улик нет, надежных показаний нет, ни с того ни с сего высылать на родину великую княгиню, мать наследника престола... Положительно, Европа не поймет!
И она Екатерину оставила в прежнем высоком положении, посчитав, что та полностью оправдалась.
Нужно было что-то делать и с Апраксиным, так и сидевшим под следствием. До сих пор можно встретить утверждение, что под замком его держали три года. На самом деле – всего девять месяцев. В конце концов Елизавета вызвала Шувалова и спросила:
– Ну, как там фельдмаршал? Молчит?
– Молчит, – уныло кивнул «великий инквизитор».
– Ну что ж, – задумчиво промолвила Елизавета. – Может, и нету за ним ничего? Коли молчит, остается последнее средство – освободить...
Шувалов поехал туда, где сидел под арестом Апраксин, вызвал подследственного к себе и с превеликим сожалением – такой клиент из рук выскальзывает! – молвил:
– Ну что ж, Степан Федорыч, последнее средство осталось...
Он, конечно, имел в виду освобождение. Но Апраксин решил, что сейчас его уж непременно подвесят на дыбу и начнут гладить по спине горящими вениками (был в те времена такой метод активного следствия). Побелел, грянулся со стула на пол, и, когда его подняли, он был уже неживой...
Лично мне его нисколько не жалко.
Бестужева держали под следствием гораздо дольше, в конце концов, ничего не добившись, приговорили к смертной казни «за оскорбление ее императорского величества». В императрицыном указе по этому поводу говорилось о «гордости и жадности» Бестужева, о том, что он не исполнял монаршие указы, «неправо докладывал великому князю и наследнику и его супруге», да вдобавок «старался злостнейшими клеветами отвращать их от любви и почтения к ее императорскому величеству». Все это были общие слова – конкретики, как ни бились, накопать не удалось.
Елизавета, свято придерживавшаяся своего принципа никого не казнить смертью, приговор заменила на лишение всех чинов, званий и орденов и ссылку в Можайскую деревню. Легко отделавшийся Бестужев так обнаглел, сидя в своей деревне, что даже сочинил книжку под название «Стихи, избранные из священного писания, служащие к утешению всякого христианина, невинно претерпевающего злоключения». Невинной жертвой он явно считал себя...
На его место назначили Михайлу Воронцова, человека незаурядного: во взятках никогда не был уличен, дипломат опытный (между прочим, дядя Елизаветы Воронцовой). Отказался после переворота присягать Екатерине до тех пор, пока не узнал о смерти Петра. Был другом и покровителем Ломоносова, после смерти которого поставил на его могиле мраморный памятник. Честен и непродажен!
И еще много, много лет российские и зарубежные историки будут объяснять отступление Апраксина самыми разнообразными причинами, кроме участия в заговоре Екатерины и Бестужева. Только в 1910 г., когда опубликуют переписку Екатерины с Уильямсом, истина будет окончательно установлена.
Война продолжается, Екатерина, очищенная от всех подозрений, остается супругой великого князя, Апраксина давным-давно схоронили, Бестужев в ссылке сочиняет книжку...
Но Екатерина от своих замыслов вовсе не отказалась! Благо у нее появилась надежная опора...
На сцену Большой Истории пока еще робко, осторожными шагами, малость содрогаясь с похмелья, выходят братья Орловы!
Глава шестая Питерские пролетарии
В свое время рассказывали, что родоначальником семейства Орловых был простой стрелец Иван Орел, прозванный так за храбрость. Вместе с другими он участвовал в знаменитом стрелецком бунте, приговорен к смерти – и, шагая к плахе, преспокойно откатил ногой только что снесенную голову своего предшественника, чтобы не валялась на дороге. Находившийся тут же Петр I был не на шутку удивлен таким хладнокровием и Орла помиловали. Иван – уже Орлов – выслужился в офицеры, стал дворянином и дедушкой сподвижников Екатерины.
Братьев было пятеро. Первое место следует отвести, разумеется, Григорию. Личность была примечательная – вполне соответствовавшая разгульному и не боявшемуся лишней крови восемнадцатому столетию...
Воевал храбро. Умом, правда, не блистал, даже наоборот. Французский посланник Дюран, знавший его лично, оставил такую характеристику: «Природа сделала его не более как русским мужиком, каким он и остался до конца. Он развлекался всяким вздором, душа у него такова же, каковы у него вкусы. Любви он отдается так же, как еде, и одинаково удовлетворяется как калмычкой или финкой, так и хорошенькой придворной дамой. Это прямо бурлак».
Действительно, малый был незатейливый – но ярок, колоритен, любимец гвардии: буян, дуэлянт, гуляка, картежник, верный товарищ, храбрец!
Екатерине он стал известен благодаря нашумевшей амурной истории. Будучи адъютантом помянутого Петра Шувалова, всей российской артиллерии командира, Орлов носил от него любовные записочки шуваловской пассии, княгине Елене Куракиной. Особа была исключительно красивая – и нрава самого легкомысленного. Орлов же никогда перед дамами не робел. Так что очень быстро всему Петербургу стало известно, что шуваловский адъютант, плюнув на субординацию, самым наглым образом замещает начальника в спальне прекрасной Елены. В конце концов узнал и Шувалов. Выгнал адъютанта к чертовой матери и всерьез собирался законопатить в Сибирь – но не успел, потому что умер. Быть может, от огорчения – хотя кому-кому, а уж ему-то следовало бы заранее знать, что собой представляет Леночка Куракина.
Одним словом, Орлов в Петербурге этой историей прославился чрезвычайно. И где-то пересекся с Екатериной – которую, по свидетельствам современников, тут же стал преследовать самым бесцеремонным и недвусмысленным образом, не испытывая особенного почтения перед титулом великой княгини. Справедливо рассудил, что и великой княгине хочется от этой жизни маленьких радостей – многие уже были наслышаны и про Салтыкова, и про Понятовского. В общем, Екатерина сопротивлялась недолго. Ну, и завязалось, продолжилось, понеслось...
В конец концов Екатерина от него забеременела и рожать собиралась уже в то время, когда на престол взошел Петр III, а она была императрицей. Беременность удалось скрыть до самого последнего момента – тогда дамы носили те самые фижмы – огромные колоколообразные юбки на каркасе. Но вот роды были связаны с нешуточным риском – законный супруг мог войти в любую минуту...
Выручил преданный камердинер Екатерины Василий Шкурин – зная, что Петр обожает смотреть пожары и ни одного не пропускает, он, когда подошло время, поскакал по Петербургу, чтобы, не ожидая милостей от природы, самому что-нибудь поджечь. Но, как назло, подходящего объекта не было, а время поджимало... тогда верный Шкурин, не колеблясь, запалил с четырех концов свое собственное жилище. Петр уехал смотреть на пожар, а Екатерина благополучно разрешилась от бремени.
Младенца быстренько унесли доверенные люди, и судьба ему выпала, в общем, не самая проигрышная. Жил безбедно, под деликатным наблюдением Екатерины, после ее смерти Павел I пожаловал Алексею Бобринскому (так его называли) графский титул и официально провозгласил в сенате своим братом. (Шкурин потом получил за верную службу более тысячи крепостных, или, как тогда говорили, «душ»).
Этот – достоверный отпрыск Екатерины и Григория Орлова. Говорили, что у них был еще один сын (которого молва именует Галактионом). Будто бы его произвели в офицеры и послали учиться в Англию, но он там умер от сифилиса. Третий сын якобы умер еще в юности (впрочем, его отцовство приписывают и Потемкину). Болтали и о двух дочерях, воспитывавшихся при дворе и выданных потом за генералов. Но сведения обо всех четырех крайне сомнительны – как и слухи о том, что Екатерина тайно обвенчалась с Орловым...
Сразу за ним справедливо будет поставить Алексея – тоже гвардеец, тоже буян, дебошир, завзятый карточный игрок, тоже храбрый солдат и любимец гвардии. Великанского роста (все пятеро Орловых были сущими богатырями). В гвардии у него были два прозвища: Алехан и Балафре. Второе по-французски означает «Меченый», «Рубленый» и произошло из-за жуткого шрама на щеке.
История этого шрама сама по себе примечательна. Жил-поживал, буянил-дебоширил в Петербурге бравый гвардеец Шванвич, единственный, кто мог продержаться на кулаках против брательников Орловых, поодиночке взятых. Уступать не хотела ни одна из сторон, и после многочисленных стычек было выработано этакое джентльменское соглашение: ежели где-нибудь в кабаке, бильярдной или ином заведении Шванвич встретит кого-то из Орловых одного, тот, не задираясь, послушно убирается восвояси, оставив Шванвичу все купленное за свой счет: и вино, и веселых девок. Если же двое Орловых где-нибудь застанут Шванвича, убирается на все четыре стороны уже Шванвич. Какое-то время все шло распрекрасно, но однажды произошел сбой. Шванвич застал Алексея Орлова в одиночку – и в соответствии с «пактом» велел ему сматывать удочки. Алексей послушно направился к двери, но тут в заведении объявился один из его братьев, и теперь уже Шванвичу приказали исчезнуть и не отсвечиваться. Он сопротивлялся, заявляя, в общем резонно, что сначала-то Орлов был один, это потом второй пришел, так что ситуация соглашению не вполне соответствует... Однако братья без лишних церемоний вдвоем его быстренько победили и выкинули на улицу. Обозленный Шванвич дождался, когда Алексей выйдет – и рубанул его саблей от души, определенно хотел убить, но оставил лишь шрам. Не вполне джентльменский поступок, конечно, но в те времена вытворяли и не такое...
Алексей был гораздо тоньше братца, гораздо более умен.
Остальные трое – Владимир, Иван и Федор – честно признаться, не заслуживают детального рассмотрения. Все они тоже участвовали потом в перевороте, исправно служили на самых разных постах, военных и гражданских, Федор и Владимир дослужились до генеральских чинов, Иван, самый из пяти простой, сразу после переворота вышел в отставку и мирно жил в своих имениях. Но ничего мало мальски интересного о них, честное слово, и рассказать нечего: самые обыкновенные послужные списки и биографии. Люди непримечательные.
Но, если вернуться в 1762 г., пятеро братьев Орловых были силой нешуточной! Как раз из-за своей популярности в гвардии. И, что особенно важно, к ним как нельзя лучше подходила, уж простят меня коммунисты за цинизм, классическая формула о пролетарии, которому нечего терять, кроме своих цепей, а приобрести он при удаче может весь мир...
С этой точки зрения Орловы были классическими пролетариями – им, оказалось, совершенно нечего терять! Батюшка их, ветеран многих сражений, состояния и поместий себе не составил, дни закончил всего-то нижегородским губернатором, полковником армейской пехоты, в генерал-майоры произведенным уже при выходе в отставку. То немногое, что после него осталось, пятеро братьев-гуляк уже давным-давно пустили по ветру, не имели никаких других источников доходов, кроме жалованья – а на него особенно не разгуляешься, ежели в округе столько кабаков, веселых девиц и карточных столов. Ни одна собака братьям уже не хотела давать в долг... чем не пролетарии?
А люди, повторяю, были отчаянными, как на подбор, и готовыми на все, лишь бы взмыть над своим нынешним убогим существованием. И тут оказывается, что Гришка состоит в полюбовниках не кого-нибудь, а самой великой княгини, которая, о чем уже давно шепчутся, не прочь спихнуть с трона опостылевшего муженька и пребывать на оном в одиночестве...
Вот это шанс, ребята! Аж зубы сводит! Риск, конечно, жуткий, но, с другой стороны, кто не играет, тот не рискует, а помирать, братцы, только раз!
Ядром любого заговора являются либо мечтающие о карьере азартные люди, либо обиженные. А обиженных имелось предостаточно – собственно, вся гвардия. Петр III уязвил ее до глубины души тем, что собирался отправить на войну, словно обычную, сиволапую армейскую пехоту. После Петра I, за редчайшими исключениями, касавшимися не всех гвардейских полков, а крохотной их части, гвардия не воевала вообще. Ей и так было хорошо: почетная и неопасная служба в столице, превосходство в чинах над простыми армейцами, парады, торжественные марши. И что же, месить грязь за тридевять земель от дома, подставляя лоб пулям и ядрам?!
Так что гвардия затаила на императора угрюмую, мрачную злобу. И сторонников у братьев Орловых накапливалось все больше и больше, это уже была не праздная болтовня под водочку, а конкретные планы с ясной целью...
К заговору помаленьку подключаются и персоны гораздо более весомые, нежели гвардейские поручики: Разумовские, митрополит новгородский Дмитрий Сеченов, известный дипломат Никита Панин и его брат, Петр, генерал, популярный в армии герой войны с Пруссией. И князь Репнин здесь, и состоящий при академии наук статский советник Теплов, человек не особенно великих чинов, но ученый, образованный, имеющий большое влияние на гетмана. Тут же – восемнадцатилетняя княгиня Дашкова (между прочим, родная сестра Елизаветы Воронцовой).
Правда, эта соплюшка никакой такой особенной роли в заговоре не играет – это ей только так кажется, что она тут самая главная персона. Так, суетится вокруг и около, простодушно полагая себя главной пружиной дела – но главное подготавливают совсем другие люди, о чем юной княгине не сообщает даже законный супруг (в отличие от нее, заговорщик серьезный и матерый, даже раньше Орловых предлагавший Екатерине поднять свой полк в ее поддержку – но тогда было еще не время, и Екатерина отказалась...)
Любой серьезный переворот требует денег. Екатерина поначалу обращается к французскому послу барону Бретейлю – но этот редкостный болван ее прозрачных намеков откровенно не понимает и не дает ни копейки (потом будет локти на себе кусать, когда его за редкостный идиотизм будут чуть ли не матом крыть в Париже: такой шанс упустил, дубина!).
На сцене появляется английский (снова Англия!) негоциант по фамилии Фельтон – у него Екатерина и занимает через своего агента итальянца Одара сто тысяч рублей. Именно эти деньги от имени «матушки» Орловы начинают понемногу раздавать гвардейцам в виде безвозвратных ссуд – с соответствующим агитационным обеспечением. Этот метод пропаганды у гвардии имеет большой успех...
Центром заговора становится не какой-нибудь кабак и даже не великосветская гостиная, а дом датского банкира Кнутсена, у которого квартирует Григорий Орлов. Банкир, в общем, в курсе. Злые языки потом будут втихомолку уверять, что Кнутсен впутался в это пахнущее плахой предприятие исключительно оттого, что Григорий ему задолжал чертову уйму денег – и вернуть их датчанин мог лишь в случае успеха предприятия. Сплетни эти чрезвычайно похожи на правду, поскольку лишены всякой романтики и основаны лишь на житейском расчете...
Петр III ничего не замечает, но обстановка накаляется, накаляется... Два нетерпеливых гвардейца, Пассек и Баскаков, даже приходят к Екатерине с предложением не мудрствовать, а попросту прирезать Петра. Петр с Елизаветой Воронцовой каждый вечер прогуливается в парке, на правом берегу Невы, по Петровской набережной – как обычно, без всякой охраны, даже без свиты. Ткнуть его кинжалом – проще простого, они, Пассек с Баскаковым, готовы лично...
Екатерина их отговорила – ей, надо полагать, вовсе не улыбалось оказаться замешанной в такую откровенную уголовщину. Если дело сорвется, получится очень уж неприглядно...
Кое-что все же просачивается, в заговор уже вовлечена масса народа, начинают болтать... К Григорию Орлову кто-то приставляет соглядатаем некоего Перфильева, но Орлов его, отнюдь не светоча сыска, моментально вовлекает в свои кутежи и успешно нейтрализует...
Глава седьмая Корона без императора
С некоторых пор, полное впечатление, о перевороте уже прекрасно знала каждая собака, поскольку языки по русскому обычаю то и дело развязывались, особенно за бутылкой. Предприятие велось не особенно искусно. Не зря Фридрих Великий говорил потом: «Их заговор был безумен и плохо задуман». Французский дипломат Беранже, знавший о том, что императрица просила денег у Бретейля, увидел «столько тумана в голове господина Одара, столько лиц, замешанных в этой тайне, такую бессмыслицу в их поступках и такое бессилие», что не сомневался в полном провале заговора.
Правда, это была точка зрения иностранцев, в общем, знавших историю российских переворотов, но меривших, пожалуй что, на свой европейский аршин. Не исключено, что, по их убеждению, «настоящий» переворот должен был выглядеть как-то респектабельнее, что ли – без пьяной болтовни в кабаках, этак аккуратненько, размеренно...
Но в том-то и суть, что в России успешнейшим образом прокатывали именно такие вот мятежи: шумные, грубые, нескладные, лишенные всякой тонкости. Чтобы возвести на престол Екатерину I, хватило двух выстроенных во дворе гвардейских полков – и оравы пьяных офицеров, ввалившихся в зал, где судьбу трона взялись было решать господа сенаторы. Елизавета обошлась неполной ротой. Фельдмаршал Миних после смерти Анны Иоанновны свергал вроде бы всесильного Бирона и вовсе уж ничтожными силами: хватило парочки взводов...
А у Екатерины, по тогдашним же подсчетам, к моменту переворота было вовлечено сорок офицеров и десять тысяч солдат...
Но бардак, разумеется, царил нешуточный. Екатерина впоследствии сама признавалась в этом французскому писателю Дидро, прилежно запечатлевшему ее слова: «Она низводила свои личные заслуги и заслуги других почти на нет; она говорила, что все они были опутаны какими-то невидимыми нитями, которые вели их вперед, они сами не знали – куда».
Так в жизни тоже бывает: масса людей хочет одного и того же, и оттого в итоге все получается как бы само собой...
Насколько можно теперь судить, сам Петр III до последнего момента ни о чем не подозревал. Дело тут не в его глупости и нераспорядительности (ни того, ни другого в его характере как раз не имелось). Вероятнее всего, главная причина в том, что он так и остался иностранцем. Уверенным, что все в жизни руководится законом и порядком. Поскольку он – законный хозяин страны, то с ним ничего случиться не может. Зато Екатерина, наоборот, вполне прониклась русскими нравами...
К тому же императора начинали откровенно предавать даже люди, в заговор никаким боком не вовлеченные. Столичный полицмейстер генерал Корф, в чьи обязанности как раз и входило бороться со всевозможными заговорами, уже думал в первую очередь о том, как устроить собственную судьбу. О чем откровенно и подробно рассказывает в своих «Записках» Андрей Болотов, в то время занимавший при Корфе немаленький пост: «Генерал наш, будучи хитрым придворным человеком и предусматривая, может быть, чем все это кончится, и начиная опасаться, чтобы в случае бунта и возмущения или важного во всем переворота не претерпеть и ему самому чего-либо, яко любимцу государеву, при таковом случае уже некоторым образом и не рад был тому, что государь его отменно жаловал, и потому, соображаясь с обстоятельствами, начал уже стараться себя понемногу от государя сколько-нибудь уже и удалить, а напротив того, тайным и неприметным образом прилепляться к государыне императрице и от времени до времени бывать на ее половине и ей всем, чем мог только, прислуживаться и подольщаться, что после действительно и спасло его от бедствия и несчастья и при последовавшей потом революции...»
Не остается никаких сомнений, что генерал-полицмейстер Корф был человеком трусливым и слабовольным: смелый и решительный деятель (вроде Орлова), наоборот, увидел бы для себя великолепный карьерный шанс как раз в разгроме заговора – за подобные заслуги коронованные особы награждают самым щедрым образом...
Офицеры Корфа были ему под стать. Болотов описывает долгие, унылые беседы, которые они меж собой вели: все прекрасно знали, что надвигается (как-никак сидели на агентурных донесениях!), и страшно опасались, что, когда грянет переворот, заодно с Корфом и их, несчастненьких, распихают по темницам. О том, чтобы должным образом выполнять служебные обязанности, и речи не шло...
Меж тем сам Болотов попал в нешуточный переплет. К нему вдруг начал откровенно липнуть Григорий Орлов, старый друг и сослуживец по Кенигсбергу – в гости зазывал, в закадычные приятели набивался, звал сесть и поговорить «по душам».
Болотов прекрасно понимал, что к чему: Орлов просто хотел ради надежности обзавестись своим человеком в канцелярии генерал-полицмейстера. И прямо-таки заходился в тоскливой безнадежности: и отказать Орлову было страшно, и примкнуть к заговору – еще страшнее. Кто может знать, чья возьмет?
Капитан Болотов разрубил узел по-своему. Поскольку «обстоятельства в Петербурге в то время становились час от часу сумнительнейшими», он начал форменным образом рваться в отставку. Благо согласно указу Петра «О вольности дворянской», офицер в мирное время отставки мог добиться легко.
Болотов не вылезал из Военной коллегии – и, получив желанную бумагу об отставке, бегом, по его собственному признанию, пустился с Васильевского острова, раздавал денежки всем встречным нищим, забежал мимоходом в церковь, заказал отслужить молебен, потом, не мешкая, велел заложить возок, прыгнул в него, велел кучеру нахлестывать – и вихрем умчался из Петербурга. Всего за шесть дней до переворота.
Не будем к нему слишком строги – у нас нет никакого морального права упрекать человека, два с половиной столетия назад оказавшегося перед непростым жизненным выбором. Как-никак именно этот отставной капитан стал одним из родоначальников русской агрономической науки, а его «Записки» в трех томах – ценнейший источник сведений о России того времени...
К слову, глупая случайность могла привести и к тому, что не сложилась бы карьера у будущего знаменитого поэта Гаврилы Романовича Державина. Его, рядового-преображенца, что-то слишком уж долго обходили капральским чином – и молодой Гаврила решил уйти из полка. Его старый знакомый по Казани пастор Гельтергоф был вхож к Петру, знал многих придворных и всерьез обещал Державину устроить его в императорскую голштинскую гвардию, причем прямо в офицеры («голштинской» эта гвардия была только по названию, в ней служило и много русских). Но буквально через пару дней после этого разговора грянул путч, и рядовой преображенец Державин как раз и оказался среди триумфаторов. А устройся он голштинским офицером, его карьера, никаких сомнений, сломалась бы, как сухое печенье. Вот от таких случайностей порой (вспомните Вальтера Скотта!) и зависит Большая Литература...
Отношения меж Петром и Екатериной разладились окончательно. Петр ни капельки не верил, что наследник Павел – его сын (с какого такого перепугу, если они с женой давным-давно не занимались тем, отчего и берутся дети?!) и супругу откровенно ненавидел – вплоть до того, что на званом обеде во всеуслышание обложил ее «дурой». А потом отдал приказ об аресте Екатерины – и его с превеликим трудом отговорили придворные. Принято считать, что оба эти поступка – результат злоупотребления спиртным, но, скорее всего, взаимная ненависть уже достигла такого градуса, что прорывалась и на трезвую голову...
В один прекрасный день Петербург был буквально ошарашен известием о том, что Елизавета Воронцова получила от государя орден св. Екатерины – которым по статусу награждались только особы российского императорского дома и иностранные принцессы. «Просто» дворянки, даже титулованные, на него не имели права. И коли уж Петр, сторонник порядка и законности, так себя ведет, это событие, как говорят в наши дни, знаковое...
Петр уже пробалтывался пару раз, что намерен упрятать Екатерину в какой-нибудь надежный монастырь, а «сына» лишить прав на престол. На что имел законное право: по установленному еще Петром I порядку, всякий российский самодержец (или самодержица) мог по собственному хотению назначать наследником престола кого угодно (лишь бы православный был) – а также «разжаловать» из наследников родных детей.
Что касаемо развода... Развод в те времена считался делом не вполне богоугодным, но при некоторой твердости характера его можно было добиться. В конце-концов, еще был свеж в памяти нагляднейший прецедент, когда Петр I запрятал жену в монастырь, а сына «разжаловал» и велел убить. Еще были живы люди, которые тому оказались свидетелями...
Екатерина висела на волоске!
Петр преспокойно уехал в Ораниенбаум давать бал...
И тут-то грянуло...
Самое любопытное, что переворот произошел отнюдь не оттого, что заговорщики наконец стали приводить в действие свои планы согласно расписанию. Совсем наоборот. Им просто-напросто неожиданно для себя самих пришлось выступить. Произошла очередная глупая случайность – из тех, что либо проваливают дело, либо ведут к успеху...
Общее настроение умов было таково, что один из гвардейских солдат подошел к своему офицеру и с детской непринужденностью поинтересовался: мол, ваше благородие, когда будем Петрушку свергать? Столько разговоров, а дела не видно, терпеть нету мочи. Пора бы...
Очевидно, он и не подозревал, что кто-то в полку может находиться вне заговора – любопытный штришок к пониманию тогдашней ситуации.
Но офицер-то как раз был преданным сторонником Петра! Он не возмутился, не подал виду, а стал с безразличным видом допытываться: это кто ж с тобой, голубь, поделился жуткими тайнами касаемо нашего заговора? Гвардеец и бухнул сдуру: капитан Пассек, ясное дело, не сумлевайтесь, мы ж не темные, нам кое-что известно...
Офицер его кое-как уболтал, а сам помчался куда следует. Пассека моментально сграбастали под арест – и сделать это незаметно для окружающих не удалось.
К Екатерине тут же примчался Алексей Орлов и выпалил с порога:
– Пассека арестовали!
У Екатерины, надо полагать, потемнело в глазах. Пассек как-никак был одной из главных пружин заговора, знал все и всех, и, если его начнут допрашивать круто...
Есть сильные подозрения, что заговорщики крайне невысоко оценивали стойкость и несгибаемость Пассека, определенно считали, что он после первой же оплеухи моментально расколется и всех сдаст. Косвенным подтверждением этому как раз и служит тот факт, что после известия об аресте Пассека все моментально пришло в движение...
Екатерина, не мешкая ни минуты, села в карету и помчалась из Петергофа в Петербург. Гнала так, что верст за пять до города лошади совершенно выбились из сил. Тут навстречу показался Григорий Орлов, ехавший в одноколке с Федором Барятинским.
В гвардейских полках уже шуровали заговорщики. Первым на улицу вышел Измайловский. В Преображенском все поначалу шло не так гладко – там несколько офицеров пытались удержать солдат (среди них были брат фаворитки Семен Воронцов и дедушка А. С. Пушкина). Только когда их арестовали, удалось вывести преображенцев и семеновцев.
Вся эта орава направилась в Казанский собор, где Екатерина в офицерском мундире торжественно приняла от гвардейцев присягу на верность. После чего уже никому не было дороги назад...
По городу моментально стали распространяться самые дурацкие слухи: что Петр якобы вызвал из Голштинии орду «лютеранских попов», которые выгонят из всех церквей православных священников и займут их места; что крымский хан идет на Россию войной, пользуясь тем, что Петр собрался увести армию на войну с Данией; что еще во времена Гросс-Эгерсдорфа Апраксин по приказу Петра «к пороху песок подмешивал», отчего русские ружья и не стреляли. Наконец, старательно распускали слух, что Петра уже нет в живых – спьяну упал с лошади и расшибся насмерть.
А через пару часов по Петербургу прошла роскошная траурная процессия! Петра еще не взяли в плен, а «общественное мнение» уже готовили к его смерти! Когда впоследствии юную княгиню Дашкову спрашивали об этой похоронной процессии, она с «загадочной улыбкой» отвечала:
– Мы хорошо приняли свои меры...
Последующие события давно и подробно описаны, так что нет нужды повторяться. Скажу лишь, что, в противоположность устоявшемуся мнению, у Петра все же были серьезнейшие шансы одержать верх. Заговор был задумкой исключительно гвардейских полков, вся остальная армия в этом не участвовала. Более того, в самом начале, когда войска Екатерины двинулись на Ораниенбаум (где находился Петр), меж преображенцами и измайловцами начался разлад, кое-кто стал говорить о «примирении» с императором. Происходящее все же было вспышкой, и когда прошел первый азарт, многие начали думать. Кто-то вспомнил, что Петр, как ни крути – родной внук Петра I, а его супруга – чистокровная немка. Кто-то попросту боялся последствий, а в Нарве стояла обстрелянная армия Румянцева, нисколечко не охваченная заговором, и Петр мог довольно быстро до нее добраться почтовым трактом...
Однако сопротивляться он не стал – скорее всего, и эта ситуация не укладывалась в его представления об обязанностях императора. Такой уж был человек, абсолютно не умевший действовать в экстремальных обстоятельствах...
Его захватили и увезли в Ропшу. В Петербурге началось пьяное веселье без малейшей идеологической подоплеки. Не кто иной, как Гаврила Державин, вспоминал: «Войскам были открыты все питейные заведения, солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало водку, пиво, мед и шампанское». Его дополнял датский дипломат Шумахер: «Они взяли штурмом не только все кабаки, но также винные погреба иностранцев, да и своих; те бутылки, что не смогли опустошить – разбили, забрали себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с трудом смогли их разогнать».
Созданная потом комиссия старательно подсчитала, что в течение одного дня, 28-го июня, «солдатами и всякого звания людьми безнадежно роспито питий и растащено денег и посуды» на головокружительную по тем временам сумму: 22 697 рублей. Причем были учтены только убытки кабатчиков – частные винные погреба русских и иностранцев в реестр не вошли.
Гульба продолжалась до вечера – а вечером оставшийся неизвестным для Истории пьяный гусар проскакал по слободам Измайловского полка, вопя, что в Петербург нагрянули «тридцать тыщ пруссаков», которые хотят похитить «матушку».
Те из измайловцев, кто еще способен был передвигаться, хлынули в императорские покои – хотя на дворе стояла полночь. Екатерине пришлось одеваться, выходить к «народу» и долго утихомиривать гвардейцев, объясняя, что пруссаки гусару почудились с перепою...
Ситуация создалась уникальнейшая, редко встречавшаяся не только в России, но и во всем мире: в империи одновременно находились три совершенно законных самодержца. Два из них – злосчастный Иоанн Антонович и Петр – пребывали под замком, третья вроде бы при власти, но в самом что ни на есть неустойчивом, зыбком, шатком положении. Причем все трое, повторяю, были законными самодержцами – но ни один из них не коронован!
А главное, те двое, что сидели под надежным караулом, представляли для Екатерины смертельную опасность самим фактом своего пребывания в добром здравии. Как-никак один был родным внуком Петра Великого, а другой – его внучатым племянником. Все-таки Романовым. Меж тем Екатерина... Ну, понятно.
Нет ничего удивительного, что в первую очередь Екатерина принялась раздавать награды всем заинтересованным лицам. Офицерам задействованных в перевороте полков выплатили 226 000 рублей – в виде полугодового жалованья. Солдатам досталось гораздо меньше: сорок одна тысяча наличными и вином. Двадцать пять тысяч получила княгиня Дашкова, три тысячи – Григорий Орлов. Многие получили ордена, в том числе Иван Иванович Бецкой, к тому времени генерал, принимавший в перевороте самое деятельное участие. Ордена, чины, «души»... Среди прочих четырехсот рублей и некоторого количества крестьян удостоился и гвардейский унтер-офицер Григорий Потемкин, еще совершенно незнаменитый и вроде бы незнакомый вовсе императрице...
Как водится в подобных случаях, среди главных заговорщиков (впрочем, как известно, закончившийся удачей заговор именуется уже совершенно иначе) вспыхнула перепалка: каждый настаивал, что это он один, исключительно он и обеспечил успех, а остальные были так, на подхвате. Никита Панин открытым текстом говорил, что лишь благодаря ему... Дашкова оскорблялась: нет, все знают, что лишь благодаря ей... Другие помалкивали, но поглядывали так, что сразу было ясно, о чем они думают...
Бецкой, якобы, принародно бухнувшись перед Екатериной на колени, умолял ее объявить всем и каждому, что именно он был главным виновником ее воцарения. Говорю «якобы», потому что эта история известна исключительно со слов княгини Дашковой, далеко не всегда следовавшей истине. Есть косвенные данные, позволяющие считать этот рассказ «уткой»: Бецкой был человеком умнейшим, и от него столь глупой выходки вряд ли стоило ожидать.
Гораздо больше похож на правду другой рассказ Дашковой – о том, как она, войдя вскоре после переворота в покои Екатерины, обнаружила там вольготно разлегшегося на диване Григория Орлова, который со скучающим видом вскрывал пакеты. В них Дашкова моментально опознала особо важные бумаги из государственной канцелярии, которые имела право читать только императрица и специально ею назначенные люди. В доме своего дяди, канцлера Воронцова, она таких пакетов навидалась. И воззвала оторопело:
– Поручик, что вы делаете? Это государственные бумаги!
– Совершенно верно, – с нарочитой скукой ответил Орлов, с треском распечатывая вкривь и вкось очередной пакет. – Меня государыня просила просмотреть, а мне и лень – такая скука...
Вот это крайне похоже на Григория. Совершенно в его стиле. Поскольку вскоре после того он прямо за обеденным столом Екатерины, в присутствии немалого количества придворных начал шутить, прямо скажем, дубовато:
– А ведь я, матушка, такое влияние на гвардию имею, что если бы захотел, совместно с братишками тебя с престола скинуть, то через месяц справился бы...
Можно представить, что чувствовала Екатерина. Обстановку разрядил гетман Разумовский, сказавший, в общем, резонную вещь:
– Месяц, говоришь, Гриша? Так мы б, месяца не дожидаясь, тебя бы уже через неделю за шею повесили...
Такая была обстановочка. Такой был Гришка Орлов, человек бесхитростный и ума не великого...
А всего черед две недели в Ропше, под арестом, скоропостижно скончался Петр III...
Произошло это в присутствии немалого количества народа, компания подобралась прелюбопытнейшая. В трогательном единении гвардию представляли недавние враги, Алексей Орлов и тот самый Александр Шванвич, что нарисовал ему шрам (полное впечатление, что этот пустячок их не особо расстроил). Академию наук олицетворял собою Теплов. Был за столом и известный актер Федор Волков, а также князь Федор Барятинский и еще несколько человек, в том числе Потемкин.
Вся эта история до сих пор являет собою клубок загадок, которые вряд ли когда-нибудь удастся распутать, если не будет изобретена машина времени...
В официальном манифесте смерть императора объясняется «апоплексическим ударом». Правда, в письме к Понятовскому Екатерина добавляет еще одну причину: «Его унесло воспаление кишок и апоплексический удар». Так уж несчастливо сложилось: в один день воспаление кишок случилось и удар присовокупился...
Те, кто ходил посмотреть на покойного (а всех явившихся переписывали, причем дипломатический корпус поклониться праху не допустили вовсе, что шло вразрез с традицией), шептались потом, что лицо у него было совершенно черное, такое, какое бывает у удавленников. В том, что свергнутый император умер насильственной смертью, уже в первые дни после его кончины мало кто сомневался. Различия были только в деталях: большинство полагало, что Петра задушил Алехан, но ходили и другие версии: что это ружейным ремнем сделал Шванвич по приказу Теплова; что государю подлили в бургундское что-то этакое...
Кстати, оба иностранных дипломата, оставивших подробные воспоминания о перевороте, которому были очевидцами, и Шумахер, и Рюльер, пишут, что еще раньше была предпринята попытка отравить Петра неким «питьем». А дошлый Шумахер вдобавок клялся, будто вызнал, что придворный хирург Паульсен, отправленный в Ропшу еще до убийства, надзирать за здоровьем узника, уехал туда вовсе не с лекарствами, а с инструментами, употребляемыми исключительно при вскрытии и бальзамировании...
Встретив как-то князя Федора Барятинского, граф Воронцов спросил напрямую:
– Как ты мог совершить такое дело?
Барятинский, пожав плечами, с самым непринужденным видом ответил:
– Что тут поделаешь, мой милый, у меня накопилось так много долгов...
Сторонники «случайной» гибели императора (точнее, случайного убийства) в доказательство приводят письмо Екатерине Алексея Орлова из Ропши. Вот оно целиком:
«Матушка, милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось? Не веришь верному рабу своему, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руку на Государя. Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй мня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневали тебя и погубили души навек».
Каждый волен думать, что ему угодно, но лично я не в силах отделаться от впечатления, что перепуганный, хнычущий автор письма мало напоминает Алехана Орлова, категорически чуждого всякой сентиментальности, душевным колебаниям и прочим глупостям. Все, что мы о нем знаем (кое о чем будет рассказано позже), позволяет заключить, что такого письма Аленах попросту не мог написать... Ну не те люди были брательники, совершенно не те!
А главное – этого самого письма, опубликованного в девятнадцатом веке... не существует в природе!
Публикация была сделана с копии, которую якобы снял уже при Павле I граф Ростопчин. Принято считать, что после смерти Екатерины ее особо секретную шкатулку вскрыл Павел, нашел там помянутое письмо, прочитал сыновьям и приближенному графу Ростопчину, а потом уничтожил – но Ростопчин успел снять копию. О чем подробно повествует опять-таки княгиня Дашкова.
Дело даже не в том, что Дашковой не всегда можно верить. Сам Ростопчин, на которого всегда ссылаются как на достоверный источник, при жизни ничего подобного не рассказывал. Только после его смерти в 1828 г. среди его бумаг якобы нашли записку, где граф излагал сведения, полностью подтверждающие воспоминания Дашковой. Но и этой записки никто не видел, и где она сейчас – неизвестно...
В общем, «письмо Алексея Орлова», если добраться до самой сути – не более чем легенда...
И вовсе уж наивным романтиками выглядят те, кто упирает на отсутствие писаных указаний Екатерины вроде: «С получением сего лишите живота мужа моего, об исполнении донести тайно». Когда это в мировой истории такие указания давали в письменном виде?!
Мне доводилось даже читать утверждения, будто смерть Петра Екатерине была «невыгодна и опасна»! Мол, живой он ей абсолютно не страшен, а после его смерти самозванцы могли завестись...
Они и завелись, кстати – в поразительном количестве. И что, это вызвало у Екатерины апоплексический удар? Да ничего подобного, самозванцев ловили, били кнутьем и ссылали в каторгу, а самого опасного из них, Пугачева, раздавили военной силой, в общем, не приходя в особенный ужас...
Смерть Петра Екатерине была необходима.
Не то что первые недели, в первую пару лет она на престоле чувствовала себя крайне неуверенно.
Всеобщее ликование народное» по поводу свержения Петра, на которое иные исследователи так любят порой ссылаться, существовало только в чьем-то воображении. Действительность была несколько прозаичнее...
В Петербурге, стараясь экстренными мерами завоевать популярность, императрица быстренько сбавила налоги на соль. Но вопреки ее расчетам, собравшееся у дворца простонародье вместо того, чтобы разразиться ликующими криками, постояло, молча перекрестилось да и разошлось. Императрица, стоявшая у окна и ожидавшая более восторженного приема, не выдержала и сказала во всеуслышание: «Какое тупоумие!»
Ну, вряд ли такую реакцию следует именовать тупоумием. Положительно, тут что-то другое.
В Москве тамошний губернатор собрал народ, выстроил местный гарнизон, огласил манифест Екатерины о восшествии на престол, выкрикнул здравицу новой единовластной государыне – и получил в ответ всеобщее молчание, угрюмое, многозначительное, жуткое. Крикнул вторично – молчание, только в третий раз «Ура Екатерине!» с грехом пополам подхватили. И то – кучка стоявших рядом с губернатором офицеров. А по солдатским рядам, как вспоминали очевидцы, прошел глухой ропот: «Гвардия располагает престолом по своей воле...»
Это уже не тупоумие, а мнение! Своя оценка событий, напрочь расходящаяся с официальной...
Де Рюльер подробно описывал свои наблюдения сразу после переворота: «Солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли была увлечена движением других, и когда всякий вошел в себя и удовольствие располагать короной миновало, то почувствовали угрызения. Матросы, которым не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабаках гвардейцев, что те за пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого...»
С полным текстом воспоминаний де Рюльера читатель сам ознакомится, заглянув в Приложение. Скажу лишь, что Екатерину его книга форменным образом взбесила...
А ведь, пока велись такие разговоры, Петр был еще жив! Рюльер подметил точно: «Пока жизнь императора подавала повод к мятежу, тут думали, что нельзя ожидать спокойствия». Его дополнял граф де Дюма, хотя и не очевидец событий, но долго при Потемкине служивший в России: «Следует помнить, что она (Екатерина – А. Б.) неизбежно должна была погибнуть и подвергнуться той же участи, если бы это убийство не совершилось».
В гвардии и армии слишком много было обделенных – и попросту недовольных происшедшим. А ведь здесь же, в Петербурге, имелись и недовольные вельможи! Тот же Никита Панин, человек крупный и влиятельный, практически не скрывал, что лично он видит на престоле не Екатерину, а малолетнего Павла Петровича (и себя в качестве главного министра)...
Буквально через пару месяцев после переворота в том самом Измайловском полку произошла какая-то загадочная история, подробности которой нам уже никогда не узнать точно. Осталось лишь донесение английского посла Кейта в Лондон: «Со времени переворота меж гвардейцами поселился скрытый дух вражды и недовольства. Настроение это, усиленное постепенным брожением, достигло таких размеров, что ночью на прошлой неделе оно разразилось почти открытым мятежом. Солдаты Измайловского полка в полночь взялись за оружие и с большим трудом сдались на увещевания офицеров. Волнения обнаруживались, хотя и в меньшем размере, две ночи подряд, что сильно озаботило правительство; однако с помощью отчасти явных, отчасти тайных арестов многих офицеров и солдат выслали из столицы, через что порядок восстановлен, в настоящую минуту опасность не предвидится».
Это описание ничуть не похоже на искаженный молвой и дошедший до англичанина через третьи руки рассказ о достопамятном ночном визите измайловцев в гости к императрице, когда они зигзагом ползли «спасать матушку от похитителей-пруссаков». По срокам не совпадает совершенно. Тут определенно что-то другое, серьезнее...
Уже после смерти Петра, в том же 1762 г. было раскрыто два самых настоящих заговора, направленных против Екатерины. Первый, «дело Гурьева и Хрущова», выглядел крайне серьезно. Под предводительством этой парочки составилась партия, собиравшаяся возвести на престол то ли Павла, то ли узника Иоанна Антоновича. Ходили слухи, что настоящие предводители – князь Голицын и Никита Панин.
Иные биографы Екатерины это именуют «нелепой болтовней среди немногих офицеров». Однако реакция властей на эту болтовню была скорая и жестокая: Гурьеву и Хрущову быстренько отрубили головы, еще несколько офицеров отправили на каторгу. Причем следствие велось в величайшей спешке, и главарей на допросах не пытали – то ли из гуманизма, то ли не хотели копаться слишком глубоко: мало ли какие имена могли всплыть, а на престоле Екатерина себя чувствовала еще крайне неуверенно и с вельможами ссориться никак не могла. Гурьев с Хрущовым-то мелочь, поручики...
Второй заговор 1762 г. как раз похож был на ту самую «нелепую болтовню немногих офицеров». В нем участвовали всего трое – Ласунский, Раславлев и Хитрово. Обделенные участники переворота, считавшие, что за участие в столь великом свершении получили слишком мало. Детали толком неизвестны, но с троицей обошлись гораздо мягче, чем с Гурьевым и Хрущовым – всего-то навсегда устроили словесную взбучку. Екатерина письменно поручила передать означенным нытикам, что стыдно им требовать денег, поскольку они помогали ей взойти на престол «для поправления беспорядков в отечестве своем». Мол, коли цель была самая благородная, то денег требовать стыдно...
(Кстати, разоренным кабатчикам тоже заплатили лишь какую-то мелочишку. Екатерина наложила на их прошения резолюцию: поскольку казна кабаки грабить не велела, то и оплачивать убытки не обязана...)
Еще весной 1763 г. французский посол доносил в Париж: «Никогда еще Двор не был так терзаем партиями, они растут с каждым днем, а императрица показывает только слабость и неуверенность, недостатки, ранее не показывавшиеся в ее характере».
Месяц спустя он же писал: «Боязнь потерять то, что Императрица имела смелость взять, так ясно заметна в ее ежедневном поведении, что всякий, хотя и не много имеющий власти, чувствовал бы себя сильнее ее. Удивительно, как эта принцесса, которая всегда слыла за храбрую, слаба и нерешительна, когда нужно решить какой-нибудь малейший вопрос, который может потерпеть поражение внутри страны. Ее тон высокомерный, гордый, чувствуется только в вещах, находящихся извне, потому что как только опасность не ее личная, она надеется нравиться ее подданным».
Да, Екатерина и через неполный год после переворота чувствовала себя неуверенно. Взойдя на престол, она раздала в качестве платы почти миллион рублей, не считая чинов, орденских лент и крепостных душ – но ведь на всех не напасешься. Да и не в деньгах дело: мотивы Панина, например, никак не упираются в деньги, у Панина идеи, а это еще опаснее. И, наконец, некоторыми движет просто-напросто примитивная зависть к Орловым: три брата из пяти получили графские титулы, Григорий и вовсе обнаглел, на каждом углу треплет, что вот-вот обвенчается с «Катериной» и тогда вообще всех за пояс заткнет, всем покажет кузькину мать...
Ага, вот именно. В 1763 г. на заседании Государственного Совета был озвучен проект о возможном бракосочетании императрицы с Орловым. Нет сомнения, что самому Григорию эта затея нравилась чрезвычайно. Никита Панин был против и свою точку зрения высказал тут же:
– Императрица может делать, что ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет русской императрицей...
Наш старый знакомый, бывший канцлер Бестужев (возвращенный Екатериной из ссылки и осыпанный милостями) идею с замужеством поддерживал активно (уж не хапнул ли от Григория приличную деньгу? Опыт у него в таких делах богатейший). Именно с его подачи отправился к отошедшему от всех дел и мирно живущему в Москве Алексею Разумовскому, законному супругу Елизаветы, Воронцов. Как-никак прецедент, господа! Коли уж одна императрица заключила в свое время законный брак с простолюдином Разумовским, то и Екатерина преспокойно может поступить тем же образом.
Разумовскому за содействие предлагалось возвести его в сан «его императорского высочества» со всеми привилегиями и почестями. Но бывший свинопас, послушав гостя, взял да и шарахнул пожелтевшую церковную бумагу в огонь... То ли не хотел попусту трепать память покойной супруги, то ли не любил Орлова...
А может, Екатерина постаралась. У меня есть сильнейшие подозрения, что против идеи с замужеством была в первую очередь она сама. Не для того она все это затевала, чтобы становиться «мадам Орловой», чтобы над ней получил некую законную власть как муж субъект не самого великого ума и не самого благонравного поведения...
Тут, кстати, вынырнули наши старые знакомые Рославлев, Ласунский и Хитрово: снова они что-то плетут! Пошли разговоры, что в гвардии ведется этой троицей агитация – уже не в пользу Иоанна Антоновича, а двух его братьев – что в заговор замешаны опять-таки Панин и вездесущая княгиня Дашкова, крайне обиженная тем, что она так и не стала правой рукой императрицы...
И на сей раз с троицей поступили достаточно мягко. Камер-юнкера Хитрово выслали в его имение, а капитанов Измайловского полка (снова этот строптивый полк!) Ласунского и Рославлева вышибли в отставку. Тем и ограничилось. Но прожект касаемо «мадам Орловой» похоронили раз и навсегда...
К чему я все это веду? Да к тому, что живой Петр вопреки уверениям иных романтиков-идеалистов представлял для Екатерины нешуточную угрозу. А его смерть от «апоплексии» снимала множество проблем и приносила известное облегчение. Как в похожей ситуации выразился Троцкий: «Не годится оставлять им живого знамени».
Вот Екатерина возможным мятежникам живого знамени и постаралась не оставить... Разумеется, не было не только письменного приказания, но даже устного. Однако в таких делах преспокойно обходятся и вовсе без прямых указаний – нетрудно сообразить, чего хочет матушка... и в чем ее государственный интерес.
Классический пример (один из превеликого множества). В XII столетии в Англии смертельным образом конфликтовали меж собой король Генрих II и архиепископ Томас Беккет. Сами по себе перипетии этой вражды достаточно интересны, история нашумевшая, но они лежат в стороне от нашей главной темы, поэтому рассматривать их я не буду (упомяну лишь, что оба участника драчки – те еще субъекты, и в той истории не было ни правого, ни виноватого).
В общем, ситуация сложилась такая, что двум им в Англии стало тесно. Упаси Боже, король Генрих вовсе не приказывал убить архиепископа и даже не намекал на желательность такого предприятия! Он просто-напросто сидел на троне и, держась за голову, днями напролет причитал:
– Бедный я, несчастный король! Нет у меня ни верных слуг, ни настоящих друзей! Некому меня избавить от этого чертова попа! Охти мне, горемышному!
В конце концов трое придворных рыцарей, то ли пожалев своего короля, то ли попросту не в силах более переносить королевские громогласные причитания, сели на коней, поскакали к означенному Беккету и преспокойно прикончили. Потом они, правда, говорили, что хотели поначалу предложить архиепископу мирно убраться из Англии, но как-то так вышло, что он стал буянить, дебоширить, наткнулся на мечи, и снова наткнулся, и так вот – шестнадцать раз...
Но король, повторяю, прямых приказов не отдавал! Упаси Господи! Он же не душегубец какой...
Вот примерно так, надо полагать, обстояло и с Екатериной.
Кстати, уже в 1764 г. погиб насильственной смертью и второй опаснейший конкурент – узник Иоанн Антонович. Некий поручик Мирович, личность совершенно незначительная, пытался его освободить, но заключенного согласно секретной инструкции успели проткнуть шпагами офицеры охраны. Ясности в этой истории нет до сих пор, иные обстоятельства «заговора Мировича» предельно странны и загадочны, а потому давным-давно родилась версия, что все это задумано Екатериной и осуществлено ее агентами, сыгравшими с Мировичем «втемную». Кстати, его перед казнью и на следствии опять-таки не пытали, хотя пытка тогда существовала официально.
Как бы там ни было на самом деле, после этого у Екатерины не осталось законных соперников. Кроме родного сына, которого некоторые упрямо продолжали считать гораздо более приемлемым кандидатом на престол, нежели его матушку. Но он был еще малолетним, так что особой опасности не представлял...
И началось долгое – тридцать четыре года – царствование Екатерины. «Век золотой Екатерины», как его называют некоторые. Я не собираюсь ни опровергать это мнение, ни присоединяться к нему. Более того, я даже не осуждаю Екатерину за убийство Петра. Мне самому это порой кажется странным – при моем-то к Петру нешуточном уважении! – но я, честное слово, в данной истории сам не всегда и способен понять свое отношение к участникам драмы.
Так, увы, случается. Быть может, все дело в том, что осточертели ухватки пресловутой «перестройки», когда непременно требовалось либо «реабилитировать», либо «осуждать».
А нужно ли это вообще? Коли давным-давно истлели в земле косточки тех, кто смотрит на нас со старинных портретов? Не лучше ли попытаться просто-напросто понять это время, этот переполненный самыми причудливыми противоречиями век? Когда в одних и тех же людях преспокойным образом сочеталось такое... И мы не в состоянии уразуметь, как же могло этак вот сочетаться...
Итак, век Екатерины...
Глава восьмая Люди, дела, события
1. Меня повесят прежде...
Быть может, главнейшее противоречие екатерининской эпохи – это то, что Екатерина, воспитанная на книгах, сплошь и рядом осуждавших «рабское состояние», сохранила крепостное право и, мало того, преспокойно раздаривала своим фаворитам и просто тем, кто имел заслуги перед государством, многие тысячи крестьян. Крестьяне при этом, переходя из разряда «государственных» (которым жилось не в пример легче), становились форменной частной собственностью.
В ту эпоху встречались ярчайшие (и дичайшие) примеры того самого сочетания несочетаемого...
Например Николай Еремеевич Струйский, богатый пензенский помещик. Он был буквально одержим поэзией, устроил себе кабинет под самой крышей своего огромного дворца в имении Рузаевка, назвал его «Парнас» и проводил там большую часть времени за сочинением стихов. В доме была прекрасная, богатейшая библиотека отечественных и заграничных авторов – все, мало-мальски примечательное. К ним прибавились и книги собственного производства. Струйский устроил в имении типографию, роскошнейшим образом издавал книги, по самому высшему классу, какой только могла обеспечить тогдашняя полиграфия (главным образом собственные обильные поэтические опыты).
С чьей-то легкой руки принято изображать его творчество жутчайшей графоманией, вызывающей у читателя лишь истерический хохот. Не знаю... Мне попадалась парочка отрывков. Вот что писал Струйский в стихотворении о первой жене, через год после свадьбы умершей от родов:
Не знающу любви я научил любить! Твоей мне нежности нельзя по смерть забыть! Ты цену ведала, что в жизни стоил я, И чтит тебя за то по днесь душа моя.Это, разумеется, не шедевр – но и не убогость. Вполне приличные для восемнадцатого века стихи. Другие и того лучше:
Смерть, возьми ты мое тело, Без боязни уступаю! Я богатства не имею, Я богатство, кое было, Все вложил душе в богатство. Хоть душа через богатство И не станется умнее, Но души моей коснуться, Смерть, не можешь ты вовеки!Разве плохо? Правда, как поэт Струйский не прославился ни в малейшей степени – да, впрочем, и не стремился к общественному признанию. В истории он остался ненароком – исключительно благодаря второй жене, Александре Петровне Озеровой. Вскоре после свадьбы молодожены приехали в Москву, где Струйский заказал своему старому доброму приятелю, художнику Рокотову (которого ценил и высоко ставил) портрет жены.
Его и сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее. По моему сугубому мнению, это одна из красивейших женщин восемнадцатого столетия. Именно о ней Николай Заболоцкий писал:
Ты помнишь, как из тьмы былого, Едва закутана в атлас, С портрета Рокотова снова Смотрела Струйская на нас? Ее глаза – как два тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза – как два обмана, Покрытых мглою неудач...Поэты ради красного словца житейскими истинами пренебрегают. Совершенно непонятно, при чем тут «обманы» – Струйская никогда не слыла покорительницей сердец. И не было никаких особенных неудач, брак был, в общем, счастливым (вот только из восемнадцати детей десять умерли в младенчестве, но это – обычная для того века пропорция, а не какая-то особенная трагедия).
Так вот... В одной из современных книг по искусствоведению Струйский (которого всегда и везде поминают скороговоркой, исключительно как мужа «той самой Струйской»), поэт, тонкий ценитель искусств имел еще одну маленькую слабость – которой занимался уже не на «Парнасе», а в подвале дворца. Там у него был богатейший набор самых настоящих, действующих исправно пыточных приспособлений, большей частью скопированных со средневековых европейских образцов. И порой служитель музы, спустившись в подвал с доверенными людьми, устраивал этакую пародию на суд. Роль подсудимого исполнял один из крепостных, и, независимо от течения «процесса», приговор был всегда один: «запытать до смерти». На этом игра кончалась и начиналась жуткая реальность: соответственно обученные люди с помощью тех самых приспособлений в точности выполняли «приговор суда»...
Это было... Как то и другое сочеталось в одном человеке, понять трудно – потому что трудно понять сам век, уж такой он был заковыристый... Лично у меня нет ответов. Сходите в Третьяковскую галерею. Там висит и портрет самого Струйского работы того же Рокотова. Попробуйте что-нибудь для себя понять...
Многие ли знали о подвальных увлечениях поэта и издателя, я пока что не доискался. Но есть у меня подозрения, что, даже если и знали, не особенно удивлялись, такое уж столетие стояло на дворе...
Екатерина, правда, решительнейшим образом расправилась с помещицей Дарьей Салтыковой, знаменитой Салтычихой. Эта особа, овдовев в двадцать пять лет, начала убивать своих крепостных. Просто так. За плохо вымытый пол, за скверно выстиранное белье, без всякого повода. Несомненно, это был психически больной человек, нечто вроде Чикатило. Подробности позвольте опустить – не к ночи... Достаточно сказать, что за шесть лет Салтычиха замучила до смерти сто тридцать восемь человек, в основном «женок и девок». Причем убийства совершались не в глухих Муромских лесах – либо в подмосковном селе Троицком, либо в московском доме Салтычихи, стоявшем на углу Кузнецкого моста и Лубянки.
В 1762 г. жалоба крепостных все же попала к Екатерине. Еще шесть лет тянулось следствие – оставшаяся на свободе подозреваемая подкупала чиновников Юстиц-коллегии (тогдашнего министерства юстиции) оптом и в розницу. Только когда дело, говоря современным языком, взяла на особый контроль Екатерина, его удалось довести до суда. Доказать, правда, удалось только семьдесят пять «эпизодов» из ста тридцати восьми. Юстиц-коллегия приговорила Салтыкову у отсечению головы. До плахи, правда, не дошло: вмешалась родня. По покойному мужу Салтычиха состояла в родстве со знатнейшими фамилиями: Строгановы, Головины, Толстые, Голицыны, Нарышкины...
Екатерине пришлось чуть смягчить приговор, чтобы не ссориться со столь вельможными родами. Но все равно, мало Салтычихе не показалось: ее продержали час, прикованную к столбу на эшафоте, с табличкой на груди: «Мучительница и душегубица», потом посадили в подземную камеру одного из московских монастырей, где содержали в полной темноте, только на время еды приносили свечку. Так она провела тридцать три года (по свидетельствам современников, ухитрившись забеременеть от караульного солдата).
И в то же время Струйский никогда не удостоился даже укоризненного покачивания монаршего пальчика...
Однако возникает закономерный вопрос: а могла ли Екатерина сломать сложившуюся систему?
Ответ на него есть, недвусмысленный и лишенный дискуссионности: не могла. Не имела к тому ни малейшей возможности.
Ее трон, она сама держалась исключительно на владельцах живой собственности. Если уж Петр III погиб главным образом оттого, что обленившаяся гвардия ни за что не желала отправляться на настоящую войну, где стреляют и убивают, то как поступили бы с Екатериной люди, имевшие возможность безбедно существовать исключительно за счет своего «живого имущества»?
Тут и гадать нечего... История зафиксировала чрезвычайно похожий на правду случай, когда в беседе с одним из своих придворных Екатерина, когда речь зашла об освобождении крестьян, в ответ на слова собеседника о том, что освобожденное крестьянство благословляло бы ее ежедневно и еженощно, сказала с печальным вздохом:
– Боюсь, друг мой, что помещики повесили бы меня прежде, чем освобожденные мужички успели бы прибежать на выручку...
Наверняка так и произошло бы. Речь вряд ли шла бы о виселице – мало ли других способов вроде шпаги, офицерского шарфа или питья?
И Александр I, и Николай I всерьез и упорно намеревались освободить крестьян из крепостного состояния, отдавали распоряжения, создавали комиссии, составляли проекты, недвусмысленно выражали свою монаршую волю – но тут и монаршей воли оказалось недостаточно. Сплоченная каста, для которой крестьяне были единственным источником к существованию, не выказывала явного неповиновения, но неуклонно, не мытьем, так катаньем всякий раз проваливала императорские проекты...
По тому, что нам известно, можно сделать вывод, что одно время Екатерина пыталась покончить с крепостным правом и пыталась искренне. Но сопротивление было слишком сильным. Причем оно исходило не только от дворян, как можно подумать: своих крепостных страстно хотели заиметь и купцы, и духовенство, и казаки (подробно об этом – чуть позже).
Граф Блудов уверял, будто видел в 1784 г. в руках императрицы документ, проект указа, по которому дети крепостных, родившиеся после 1785 г., становились бы свободными. Этого проекта так никогда и не обнаружили – но после смерти Екатерины нашли сохранившийся до нашего времени другой проект, по которому предполагалось перевести на положение свободных те девятьсот тысяч крестьян, что перешли под государственное управление после секуляризации (проще говоря, конфискации) церковных земельных владений. Но и он остался бед движения – по тем же самым причинам...
Главная беда даже не в стремлении дворянства и далее владеть живой собственностью, а в общем состоянии умов. В психологии. В менталитете. В укладе жизни, в котором не видели ничего плохого даже лучшие умы...
Вот что однажды писал поэт Сумароков, не самый бездарный и глупый творческий человек екатерининского времени: «Потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка? И потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи; однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно ради крестьянина, а другое ради дворянина... Что же дворянин будет тогда делать, когда мужики и земля будут не его, а дворянину что останется? Впрочем, свобода крестьян не только обществу вредна, но даже пагубна».
Никак не упрекнешь Сумарокова, что он «присваивает» себе право говорить от имени общества: оно (самое передовое, образованное, знавшее толк в науках и искусствах!) полностью своего идеолога поддерживало...
Между прочим, тот же Сумароков в сатире «Хор ко превратному свету» писал нечто совершенно иное, ставя в пример заграничные порядки:
Со крестьян там кожи не сдирают, Деревень на карты там не ставят, За морем людьми не торгуют.Но это была высокая поэзия, отвлеченные материи – а тут речь шла о конкретной дискуссии на животрепещущую тему, и следовало забыть о поэтических вольностях...
Так что Екатерине противостояла в первую очередь сила под названием Общее Состояние Умов. И переломить эту силу удалось лишь долгие десятилетия спустя – именно оттого, что общие умонастроения стали иными. Никакие, самые благодетельные, реформы невозможно ввести сверху именным указом, если сознание общества к ним не только не готово, но и активнейшим образов сопротивляется. Если лучшие (без дураков!) умы – и то против...
Между прочим, гений наш, светило отечественной поэзии Александр Сергеевич Пушкин, как ни прискорбно об этом вспоминать натурам утонченным, обрюхатил, простите за вульгарность, не одну свою крепостную девку – и к появившимся в результате этого младенцам оставался совершенно равнодушен. Пушкин ни в коей степени не был плох – он просто-напросто делал то, что «общее состояние умов» считало вполне естественным и абсолютно позволительным.
У всякой эпохи – свое сознание. Как я уже говорил, в те же практически годы лучшие умы Англии, светочи интеллекта не видели ничего плохого в том, что на мосту в центре Лондона дюжинами торчат на кольях гниющие головы казненных (к слову, в России эту практику запретили еще в 1729 г.). Наоборот, считали, что этот обычай следует сохранять, так как он имеет большое воспитательное значение, непреходящую, так сказать, культурную ценность...
А Н. И. Новиков, тот самый, что считается чуть ли не символом просветительства и вольнодумства в «мрачные годы екатерининской реакции», однажды, когда нужда в деньгах подперла, преспокойнейшим образом продал своего особо приближенного крепостного человека – который до того любил своего барина, что добровольно отправился следом за ним в тюрьму, когда Новикова приговорили к высидке, и весь срок они провели в одной камере. Одно дело – писать в журналы возвышенные словеса о свободе и просвещении, и совсем другое – насущная нужда в деньгах. Время такое было...
А потому, не осуждая людей, а также и времени, в котором им выпало жить, посмотрим лучше, что Екатерине удалось сделать. Это небезынтересно, я думаю.
2. Господа депутаты.
Те начинания Екатерины, которые ей все же удалось провести в жизнь, никак нельзя назвать «косметическими мерами». Что-то и здесь проваливалось, какие-то реформы оказались незавершенными, половинчатыми, но, в общем и целом, это были вполне реальные реформы. И достаточно прогрессивные.
Рассмотрим для начала работу законодательной комиссии, или, как ее в те времена именовали, комиссии по составлению уложения. «Уложение» – это и был свод законов.
Нужно сразу подчеркнуть, что, создавая такую комиссию, Екатерина не придумала почти ничего нового. Вопреки мнению нашей вымирающей «образованщины», никак нельзя сказать, что в России вовсе не было традиций парламентаризма, выборных учреждений. Не было постоянного парламента и аналогичных ему учреждений. А вот временные преспокойно существовали полторы сотни лет, пока не пришел Петр I...
Назывались они Земские Соборы – собрания представителей сословий, собиравшиеся в России для решения особо важных государственных дел и улучшения законодательства. Первый земский собор в 1549 г. созвал царь, чье имя вроде бы должно служить символом самого разнузданного произвола и беззакония: Иван Васильевич Грозный.
Впоследствии его называли Стоглав, или Стоглавый Собор, – не оттого, что там заседала сотня голов, а потому, что сборник постановлений этого собора состоял как раз из ста глав.
Что интересно: при «тиране» Грозном Стоглавый собор ввел во многих областях жизни выборную систему вместо той, которую можно на современный лад назвать командно-административной. После Стоглава в том или ином округе («губе»), уже не назначали сверху, из столицы, чиновников, ведавших судом и полицией, а выбирали – с участием всех сословий. Финансы – сбор податей и общинное управление – тоже передавались выборными. Это – исторический факт, не вполне согласующийся с представлениями тех, кто привык видеть в правлении Грозного исключительно торжество «исконно российского варварства». До выборов американских шерифов и суда присяжных оставалось еще более двухсот лет – а в России они уже существовали, пусть и под другими названиями: губные старосты и земские судьи. Так-то...
Впоследствии земские соборы стали созывать уже привычно. Состояли они из представителей не только бояр и дворян, но и разнообразных категорий «служивых людей» и городской верхушки. Для справки: во многих западноевропейских странах, которые нам сегодня представляют старейшим оплотом демократии, подобное появилось худо-бедно к девятнадцатому веку...
Кстати, именно на земских соборах были избраны на царство и Борис Годунов, и Михаил Романов. Учреждение, конечно, было далеко от идеала, но оно серьезно работало и решало важные дела. Идеальных парламентов вообще-то в мире не существует, достаточно вспомнить кое-какие веселые приемчики касательно коррупции или мордобоя на заседаниях (я не о России!).
Последний земский собор произошел в 1648 г. А потом пришел Петр I... У которого было две сквернейших привычки: во-первых, перенимать с Запада любую дурь только потому, что это «европейское» новшество, во-вторых – не моргнув глазом искоренять многие толковые установления только оттого, что они в его глазах служили символом «расейской отсталости». А заодно Петр безжалостно душил все, что хотя бы отдаленно походило на легчайшее ограничение самодержавия. В эту категорию попали и земские соборы.
Однако даже до Петра в конце концов дошло, что в законодательстве нужно наводить порядок. Состояние, в котором оно находилось в начале восемнадцатого столетия – штука не для слабонервных. Хаос был потрясающий, господа мои! Одновременно действовало и Уложение Алексея Михайловича от 1649 г., и «новоуказные статьи», и петровские «регламенты», и петровские указы, которые, если их прочитать от первой до последней страницы, изменяли эти регламенты до полной неузнаваемости. А параллельно указы Сената, Верховного Тайного Совета и других высших органов власти... Огромная доля этих законоустановлений фактически отменяла друг друга, противоречила друг другу, не была собрана под одной обложкой. Иные из них – исторический факт! – попросту не были известны правительственным органам. В системе управления имелось некоторое количество – по пальцам пересчитать! – старых, прожженных, поседевших на государственной службе и сто собак съевших знатоков, которые, вот чудо, знали все эти законы.
Хотя никакого чуда тут нет, а есть простая житейская выгода. Пользуясь своим монопольным положением, эти знатоки давали любую консультацию – но за приличную плату мимо казны...
В 1700 г. Петр учредил «Палату для исправления Уложения», куда назначил 71 человека – из знатных либо занимавших высокие посты. Палата эта должна была написать «Новоуложенную книгу» – то есть взять Уложение 1649 г., все новые законы и создать новое законодательство, в котором одна статья не противоречила бы другой.
Ага, ждите... Палата поступила, не мудрствуя: они попросту переписали все подряд, чисто механически объединив все имеющиеся законы и указы. Ознакомившись с этим уродством, Петр пришел в гнев, Палату распустил – и поручил ту же работу Сенату.
Сенату этим заниматься вовсе не хотелось – не стахановцы, чай! – и он создал специальную комиссию. Что бывает в таких случаях, мы уже знаем: имитация бурной деятельности, и не более того. На дворе стоял уже 1720 г., а нового Уложения все не было...
Тогда в буйную головушку Петра стукнула очередная гениальная идея: а чего мучиться? Взять законы какого-нибудь особо передового государства, да и переписать один к одному! Еже ли они по тем законам живут припеваючи, значит, и у нас будет рай на земле, молочные реки в кисельных берегах!
Рай получился какой-то кромешный... В качестве образца вы брали отчего-то не Англию, а Швецию, с которой едва перестали воевать. Собрали комиссию из трех шведов и пяти русских. Как легко догадаться, никакого толку не вышло: русские члены комиссии не знали шведского уклада жизни – да и языка шведского не знали, а потому не могли «образцы» даже прочитать. Кто уж их назначал, таких, осталось тайной на века. Не исключаю, сам Петр, поскольку действует железное правило: если в Российском государстве что-то делалось через задницу, ищите в инициаторах Петра...
Потом Петр помер, и русско-шведская комиссия, воспользовавшись столь убедительным поводом, с превеликой радостью самораспустилась, устроив напоследок великолепный банкет за дружбу Петербурга и Стокгольма...
Но ведь надо было что-то делать! Все это уже понимали.
А потому в 1728 г. Верховный Тайный Совет решил создать новую комиссию, собрав для этого в Москве по пять офицеров и дворян от каждой губернии. Делегатов губернскому дворянству было высочайше приказано выбирать...
Легко догадаться, что на местах увидели в этой затее не торжество демократии (тогда и слов-то таких не знали!) а еще одну повинность, очередную прихоть правительства вроде бритья бород или налога на гробы. И начали отлынивать. Тогда местное начальство стало вводить демократию железной рукой: чтобы дворяне побыстрее устраивали выборы, а выборные, не мешкая, ехали в Москву, губернаторы стали арестовывать дворянских жен и захватывать дворянских крепостных.
Вот тогда дворянство в кратчайшие сроки выбрало делегатов – понятное дело, в жертву назначили тех, кто не смог отбиться, открутиться, увернуться, вовремя спрятаться... Когда в Москве высокие господа сенаторы в первый же день посмотрели на это сборище, то, не задавая вопросов и даже не пытаясь наладить работу, порешили немедленно отправить дворянских избранников по домам и провести новые выборы...
Но тут скончалась с перепою и Екатерина I. Чуть позже Анна Иоанновна (крепенько, надо полагать, приперло власть!) велела вновь провести выборы. Провели. Свезли делегатов в Москву. Однако уже через пару месяцев из них осталось только пять человек – остальные несколько десятков просто-напросто разбежались, прекрасно понимая, что нет такой статьи, по которой их можно привлечь...
Да, вот что немаловажно! Хоть Анну Иоанновну опять-таки принято полоскать и нести по кочкам как олицетворение разнузданной тирании, при ней эти выборы производились уже не только среди дворян, но среди духовенства и купцов.
Новых выборов Анна, женщина неглупая, уже не проводила, поручив создать свод законов чиновникам. Как вы думаете, сколько чиновники за десять лет правления Анны наработали? Правильно, с гулькин нос...
Правительница Анна Леопольдовна уже никаких выборов законодателей не производила, вообще, поскольку не то чтобы была чужда демократии, но очень уж много времени уходило на лесбийские забавы со своей фавориткой Юлианой Менгден (с которой ее и повязали в одной постельке явившиеся свергать правительницу елизаветинские гвардейцы).
Но выбирать делегатов от всех губерний для исправления законов уже как-то незаметно вошло в традицию и привычку. А потому Елизавета велела традицию продолжать...
Опять началась форменная комедия – увиливали, прятались, разбегались, выдумывали себе болезни или привычно назначали в козлы отпущения «глухих старцев». Достоверно известно, что при Елизавете законодательная комиссия проработала девять лет – и по инерции продолжала еще собираться и чесать языки в первые годы царствования Екатерины. Но в то же время один из известнейших историков старой России прямо-таки с детским простодушием пишет: «К сожалению, у нас имеется мало сведений об их работе». А сие определенно означает, что никакой работы и не было...
Вот такое наследство досталось Екатерине.
И она принялась за дело крайне серьезно. Два года, работая не на шутку (она вообще славилась адской работоспособностью) составляла свой знаменитый «Наказ», или, как он именовался полностью, «Наказ комиссии для составления проекта нового Уложения».
Советские историки в свое время привычно протарахтели, что Екатерина, мол, искала дешевой популярности и хотела «выставить себя» просвещенной государыней.
Это, конечно, бред собачий. Прежде всего оттого, что подобные лицемерные упражнения вовсе не требуют пары лет упорного труда и обычно (все равно, о королях идет речь, или о генсеках), ограничиваются парой хлестких фраз. «Каждый французский крестьянин при мне будет иметь курицу в супе!», «Девственница с мешком золота пройдет мое царство вдоль и поперек, не понеся ни малейшего ущерба!», «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!», «Если повысят цены – лягу на рельсы!»
Екатерина, ни малейших сомнений, работала всерьез. В основу своего «Наказа» она положила три серьезнейших труда: «Дух законов» Монтескье, трактат итальянского юриста Бекариа «О преступлении и наказании» и сочинение Гельвеция «О разуме, о человеке»...
«Наказ» – работа серьезнейшая, без дураков. Он составлен человеком, искренне верившим в идеи так называемых просветителей.
Объясню суть, чуточку упрощая. В восемнадцатом веке мыслители и писатели, стремившиеся перестроить жизнь на новый лад, делились на две четко выраженных категории: энциклопедистов и просветителей. Энциклопедисты вроде Вольтера были публикой жутковатой, как две капли воды похожих на нашу перестроечную интеллигенцию, не к ночи будь помянута. Поскольку считали, что для торжества новых отношений меж людьми, новых идей, нового уклада жизни все старое – абсолютно все! – нужно сломать, не жалеючи. В том числе такие понятия, как дол и честь, верность родине и супружеству. Все это объяснялось «отжившими пережитками», а национальные герои подлежали развенчанию. Тот же Вольтер в своей гнусной пьеске обвинил Жанну д’Арко в скололожестве, а потом цинично пояснил: он, конечно, знает, что с французской национальной героиней ничего подобного в жизни не происходило, но ради торжества новых идей позарез необходимо осмеять «идолов», которым поклоняется «темный народ».
Вам это ничего не напоминает из нашего недавнего прошлого? Так-таки и ничего?
Просветители все же были публикой гораздо более вменяемой, приличной и заслуживающей уважения. Они считали, что прогресс, свобода и процветание легко достижимы: нужно только просветить людей, объяснить им, что жить нужно честно и благонравно: уважать друг друга, не нарушать законов, которые должны стать справедливыми – и все наладится... Это, конечно, утопия, романтика, чистейшей воды идеализм – но просветители, что важно, ничего не призывали сломать, осквернить, разрушить, а это совсем другое дело...
В «Наказе» совершенно серьезно говорится о массе самых правильных вещей. О «любви к отечеству как средстве успокоительном и могущем воздержать множество преступлений», о «хорошем установлении, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжение имеющих» (т. е. о равенстве всех перед законом и укрощении тогдашних «олигархов» – À. Á.) Смертная казнь решительно осуждается, пытки клеймятся. Подчеркнута опасность разрыва меж богатыми и бедными (!). Встречается много хороших слов о свободе. «Наказ», без натяжек, проникнут гуманными и либеральными идеями.
Самодержавие признается необходимостью для России – но исключительно «ввиду обширного пространства империи и разнообразия ее частей». Целью самодержавного правления провозглашается не притеснение, а «чтобы действия их (Законов – À. Á.) направить к получению самого большого от них добра». Власть всех правительственных учреждений должна быть основана на законах, и нужно сделать так, «чтобы люди боялись законов и никого бы кроме них не боялись». Законы же должны запрещать только то, «что может быть вредно или каждому особенному (т. е. отдельно взятому человеку – À. Á.) или всему обществу».
«Гораздо лучше предупреждать преступление, нежели наказывать». «Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми».
«Наказ» прямо говорит о веротерпимости, против религиозных преследований: «ибо гонение человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца».
Арест должен происходить исключительно по решению суда, а содержание арестованного под стражей «должно длиться сколь возможно меньше и быть более снисходительно, коли можно». «Решать дело надлежит так скоро, как возможно». «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам».
Екатерина решительно выступала против «Закона об оскорблении величества» – весьма жуткого, по которому могли приговорить к смерти (и приговаривали!) за простую ошибку писца, переносившего на бумагу длиннейший, сложный официальный титул самодержца всероссийского. Или голову могли отрубить за то, что человек нечаянно уронил, запачкал или просто повернул лицом к стене портрет того же Петра I. Примеры того, что этот закон был не простой страшилкой, а исправно работал, к сожалению, истории известны во множестве.
Одним словом, это было, конечно, не руководство к действию – но именно проект улучшения жизни, отношений меж людьми, углубления гуманности, равенства и свободы. Так и следует к «Наказу» относиться – как к проекту, рабочему чертежу, по которому нужно строить.
Знаете, что самое любопытное? Когда «Наказ» через два года подготовили к печати, цензура сократила его примерно на четверть. По собственному почину, помимо воли Екатерины. И ничего удивительно в этом нет. Лишний раз убеждаешься в справедливости той грустной истины, что бюрократический аппарат сильнее любого восседающего на престоле. Екатерина располагала достаточной властью, чтобы без особого суда и следствия отрубить голову всякому цензору в отдельности или сослать их всех скопом куда-нибудь на Камчатку – но, когда цензура выступала в роли государственного учреждения, механизма, ни один самодержавный монарх не мог этому противостоять. В это трудно поверить, но так именно и бывало – и не раз, и не только с российскими монархами. Аппарат – это страшная сила!
Ну, а во Франции, не мудрствуя, «Наказ» запретили целиком, внеся его в реестр книг, которые запрещено печатать во французском королевстве, а равным образом и ввозить из-за заграницы. Боюсь ошибиться, но, по-моему, это единственный случай, когда в монархической стране запретили сочинение опять-таки монаршей особы...
И вот 14 декабря (вообще-то скверная для России дата!) был издан манифест, оповещавший страну, что императрица намерена созвать избранных по всему государству депутатов, дабы они, руководствуясь «Наказом», создали из хаотической массы старых и новых законов и указов новое Уложение. А заодно провели, выражаясь современным языком, широкую дискуссию, «дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа». То есть речь шла не только о составлении нового свода законов, но и о том, чтобы всесторонне изучить насущные проблемы страны – и найти пути их решения.
Между прочим, с этой целью каждый депутат должен был привезти наказ от своих избирателей. Комиссия все более напоминала зачаток парламента...
Состав Комиссии прекрасно известен: 565 депутатов. Только 28 человек (5%) были «назначенцами» – от Сената, Синода и коллегий (тогдашних министров). Остальные избирались – дворянами, горожанами, государственными и свободными крестьянами, «служивыми людьми» (т. е. мелким военным и чиновным людом), казаками и «некочующими инородцами» (т. е. нерусскими народами, живущими непременно оседло, а под эту категорию попадали почти все «инородцы», за исключением разве что эвенков с чукчами). Для любителей цифр привожу точную статистику: 30% депутатов – от дворянства, 39% – от городов, 14% – от государственных крестьян, 5% – «назначенцы», 12% – все прочие.
Самое интересное – и поразительное! – это «выгоды депутатские», то есть привилегии, которые депутаты получали. Они превосходят даже те, за каковые порой ругают депутатов нынешних.
Например, пожизненный иммунитет от всех видов судебного преследования. «Во всю жизнь свою всякий депутат свободен, в какое ни впал бы прегрешение, от смертные казни, от пыток, от телесного наказания».
Поскольку дело происходило все же не в Утопии, а в реальной стране, оговаривалось: судить за преступления, караемые смертью, все же можно – но исключительно после личного разрешения императрицы, которая рассматривает каждый случай.
Забегая вперед, скажу, что впоследствии был известен как минимум один случай, когда Екатерина все же повелела судить неприкосновенного на всю жизнь депутата – и отрубить ему голову. Речь идет о Тимофее Падурове, казачьем офицере, который стал одним из ближайших соратников Пугачева – и головы лишился в тот же день и на том же эшафоте. Ну, что тут скажешь? А ты не бунтуй...
К каждому депутату (и к простому мужику тоже!) окружающие (будь они трижды графья) должны были обращаться не иначе как «господин депутат». По меркам того времени это значило очень и очень много...
«Дабы потомки узнать могли, какому великому делу они участниками были», каждому депутату вручался особый нагрудный знак из ювелирного золота. Дворянам разрешалось включить его изображение в свой герб.
Екатерина крайне предусмотрительно в приложенном к «Наказу» «Обряде» указала, что «заседания комиссии должны проходить в тишине и спокойствии. А депутаты должны быть учтивы друг с другом». Предусмотрительность не лишняя: в то время в аглицком парламенте и на кулачки схватывались самым распрекрасным образом...
Торжественное открытие Комиссии состоялось 30 июля 1767 г. в Кремлевском дворце. Был разработан, говоря современным языком, и протокол: как всякому депутату целовать ручку государыне: отвесить поясной поклон, «учтиво, не борзясь», держа руки по швам, прикоснуться губами к ручке, снова отвесить поясной поклон и «степенно» отойти в сторону.
Неизвестно, кто этот протокол составлял, но человек явно оказался по-бюрократически толковый и предусмотрел любые досадные случайности...
«Те депутаты, кои наелись луку, а наипаче чесноку, или приняли малую толику водки, от церемониала целования должны воздержаться, а ежели и у таких будет усердие приблизиться к священной императорской особе, то в таком разе подходящий должен накрепко запереть в себе дыхание».
Можно посмеяться над этим курьезным штрихом эпохи – но безусловно не стоит игнорировать другой, серьезнейший аспект: самым строгим образом было предписано равенство депутатов друг перед другом. Самый спесивый князь с длиннющим рядом благородных предков обязан было обращаться к простому мужику или неграмотному калмыку «господин депутат», и никак иначе, малейшее проявление неуважения наказывалось.
Для сравнения: когда в последние перед революцией годы во Франции все же созвали выборных от всех трех сословий, то крестьяне в их число не вошли вообще. Благородных – дворян и духовенство – в зал заседаний впускали через широко распахнутые парадные двери, а «третье сословие» пробиралось через узенький черный ход...
Скажу сразу: того, чего ожидала Екатерина от своего «парламента», она так и не добилась.
Едва рассевшись, депутаты начали с того, что предложили немедленно присвоить Екатерине почетный титул «Великой, Премудрой и Матери Отечества». И первые шесть заседаний мусолили исключительно эту тему – внесенную, кстати, с подачи Григория Орлова. Положительно, ума мужик был небольшого – если уж живешь с женщиной и два года наблюдаешь, как она работает над «Наказом» серьезно и упрямо, коли уж она делится с тобой планами и ожиданиями, нужно быть чуточку умнее...
Екатерина была в ярости. От титула наотрез отказалась, заявив, что «Великим и Премудрым» следует называть, пожалуй, только Господа Бога, и написала председателю собрания: «Я им велела делать рассмотрение законов, а они делают анатомию моим качествам».
Но и после такой реакции депутаты «рассмотрением законов» не занялись, а начали обстоятельно и многословно высказывать свои пожелания: как им обустроить Россию. И началось...
Один из самых образованных людей того времени, писатель-историограф, автор труда «О повреждении нравов в России», резко осуждавшего неумеренную роскошь дворянства, князь Щербатов выступил с предложением касаемо благородного звания: требовал, чтобы впредь прекратили производить простых людей в дворянство. Его идеи охотно поддержали и развили братья по классу: требовали не только отменить Петровскую «Табель о рангах», но и лишить дворянства тех, кто его получил уже в нынешнем столетии. А потом слаженным хором домогались, чтобы держать заводы и фабрики, а также торговать чем бы то ни было отныне имели право только дворяне.
Представляете, как взвились купцы?! Едва заслышав, что их, собственно говоря, предлагают ликвидировать как класс? Депутат из захолустного Серпейска (знает кто-нибудь, где такой?) Глинков говорил толковые вещи: «Когда купец строит фабрику, то все окрестные крестьяне от нее довольствуются. Они продают лес, лубья и т. п., нанимаются к постройкам, получая за то большую плату, и тут же продают произведения своей земли. Через это они делаются исправными в платеже государственных податей и господских оброков. Когда же фабрики выстроены, то крестьянам приносится еще большая выгода: они нанимаются для привоза на нее из дальних мест всякого рода материала, также и произведения фабрики развозят для продажи по разным местам. Другие фабрики строятся помещиками, которые для этого употребляют своих крестьян. Они начинают с того, что назначают с каждого двора привезти потребное количество леса, лубья, дров и теса; и всякий крестьянин, оставя хлебопашество, должен с плачем ехать и поставлять то, что с него назначено. После того их принуждают строить безденежно и на своем хлебе. По постройке такой фабрики их же заставляют работать на ней тоже безденежно. Это особенно случается тогда, когда владелец фабрики войдет в долг, между тем как вести фабрику секретов не знает».
Прогрессивная поступь свободного рынка и классического капитализма? Не спешите...
Чуть позже тот же князь Щербатов (в котором, как и положено человеку восемнадцатого века, самым причудливым образом смешались противоположности) крайне резко выступил против продажи крепостных поодиночке, с разлучением семей: только с землей, только полными семьями.
На него навалились снова... но глубоко ошибается тот, кто решил, будто – одни дворяне. Ничего подобного. Практически все! Кроме крестьян, конечно. Дело в том, что «прогрессивные заводчики и фабриканты неблагородного происхождения сами желали владеть крепостными. Тот же серпейский депутат Глинков объяснял с простодушным цинизмом: работники на фабриках должны непременно быть крепостными. Потому что иначе получится как-то неправильно: учишь-учишь вольного заводскому ремеслу, а он, став квалифицированным кадром, преспокойно уйдет, стервец, к другому хозяину или повысить зарплату потребует...
И просто купцы, торговые люди, и духовенство, и казаки – все рвались владеть крепостными душами – и об этом в первую очередь говорили...
Одним словом, с каждым днем становилось ясно, что задумка Екатерины провалилась: вместо чинного законотворения депутаты пытались перехватывать друг у друга права и привилегии (не каждый лично, а, выражаясь марксистскими терминами, как класс), кипели споры. Дошло до того, что последовало особое распоряжение: господ депутатов рассаживать на таком расстоянии, чтобы они один не мог до другого доплюнуть. Плевались, надо полагать, как аравийские верблюды...
Екатерина, все более разочаровываясь в этой куче крикунов (добрая половина из которых к тому же успела вульгарно продать свои золотые депутатские знаки), уже через год Комиссию прикрыла, благо подвернулась в качестве повода война с Персией. «Дочерние» комиссии, правда, еще работали и после этого пару лет.
На том и прекратил свое существование «первый русский парламент». Однако неправильно было бы сводить все к курьезу. Это был тот самый первый блин, который выходит комом. Другому подобию парламента в то время взяться было неоткуда: поскольку любой парламент состоит из людей, а у них головы забиты предрассудками своего времени...
Главное – открыто прозвучали на самом высоком уровне рассуждения о насущных вопросах жизни, экономики, государственного управления. И чуть позже Екатерина провела реформу уголовного права и издала «Жалованную грамоту городам» – вот это и в самом деле было полезнейшее установление, формировавшее самое настоящее «третье сословие», или, как оно именовалось в этом документе, «средний род».
Входившие в него получили права: на охрану законом их жизни, безопасности и имущества, на неприкосновенность до суда. Каждый теперь мог требовать, чтобы судили его присяжные из его же сословия. Купцов избавили от телесных наказаний. С сегодняшней точки зрения это выглядит как бы само собой разумеющимся, но в том столетии... Прежде можно было быть богатейшим, уважаемым предпринимателем – но любой воевода, отставной гвардейской козы барабанщик, может на законнейшем основании приказать тебя выдрать на конюшне...
Наконец, отныне в городах выбирали себе управление – ту самую городскую думу, что просуществовала до 1917 г.
Потом Екатерина отменила пытки – чуточку позже Пруссии, но гораздо раньше Франции, где до самой революции преспокойно продолжали разрывать людей лошадьми, заливать в раны горячее масло и колесовать.
Правда, указ от 8 ноября 1774 г. был, нужно уточнить ради исторической объективности, секретным. Генерал-прокурор Вяземский предупреждал следователей: «Но как по беспримерному ея императорского величества великодушию и милосердию никакие истязания терпимы быть не могут, то вам рекомендую, чтобы по сему делу отнюдь побоями никто истязаем не был, а только б без всякаго наказания, показать в сем деле только словами строгость... и через то б одно... людей подвигнуть к чистосердечному признанию».
Пыткой, следует уточнить, обвиняемых порой по-прежнему пугали – но все же и это был шаг вперед. Особенно если учесть, что еще при Елизавете государственные власти (Сенат) предлагали пытать достигших семнадцатилетия, а власть духовная (Синод), наоборот, предлагала установить «нижнюю планку» всего-то на двенадцати годочках, упирая на то, что, коли уж в России двенадцатилетних женят, выдают замуж и позволяют с этого возраста приносить официальную присягу, то и пытать можно...
Опять-таки – общее состояние умов...
Не кто иной, как Андрей Болотов, человек просвещенный и ученый, одну из глав своих записок так и назвал: «Истязание воров и успех от того». И подробно описывал, как он, обнаружив воровство в своем имении, пытался сначала уговаривать и увещевать, но «скоро увидел, что добром и ласковыми словцами и не только увещаниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями ничего не сделаешь, а надобно было неотменно употреблять все роды жестокости, буде хотеть достичь тут до своей цели». И пространно описывает, как он бросал связанных людей в жарко натопленную баню, кормил селедкой и не давал воды...
А ведь это, повторяю снова и снова, не какой-нибудь «дикий барин» из глухомани, а один из образованнейших людей своего времени...
В общем, в России при Екатерине пытать запретили, пусть и секретным указом. Разумеется, втихомолку указ там и сям нарушали... но разве сегодня подследственных не лупят? Как сидорову козу... И не только в нашем Отечестве, но и в благостных Соединенных Штатах, и в прекрасной Франции, и в демократической Англии.
Вот, кстати, об Англии. Посмотрим, что творилось там уже после того, как пытку отменили в России. Вообще-то ее и в Англии отменили...
Именно что в Англии. А кроме Англии, существовала еще и Ирландия, колония Лондона – и уж там-то не церемонились. Еще в середине XVIII столетия английские власти в Ирландии официальнейшим образом, по установленной правительством расценке платили за головы учителей, обучающих детей ирландскому языку, или участников антиправительственных движений. Принесешь голову, докажешь, что это именно запрещенный учитель или повстанец, – получай денежки...
Поскольку порядки, которые англичане в Ирландии установили, следует именовать колониальными без всяких кавычек, восстания там вспыхивали регулярно. В самом конце XVIII века снова рвануло. Появились так называемые «белые парни» – натуральнейшие партизанские отряды. «Белыми парнями» их звали оттого, что они носили белые рубахи и белые значки на шляпах. Действовали они, как партизанам и полагается, – то офицера, распорядившегося засечь насмерть крестьян, потом находили с проломленной головой, то горели амбары и исчезал скот у тех, кто, говоря современным языком, сотрудничал с оккупационной администрацией.
Как англичане боролись с ними – и вообще со всяким, кому следовало «преподать урок» – лучше всего узнать из первых уст. Итак, выступление 22 ноября 1797 г. в Палате лордов одного из ее членов...
«Милорды! Я видел в Ирландии самую нелепую и самую отвратительную тиранию, под какой когда-либо стонала нация. Нет в Ирландии, милорды, ни одного человека, которого нельзя было бы выхватить из его дома в любой час дня и ночи, подвергнуть строжайшему заточению, лишить всякого сообщения с людьми, ведущими его дела; с которым нельзя было бы обращаться самым жестоким и оскорбительным образом, причем он вовсе не знал бы даже, в каком преступлении он обвиняется и из какого источника вышло донесение на него. Ваши сиятельства до сих пор чувствовали отвращение к инквизиции. Но в чем же это страшное установление отличается от системы, проводимой в Ирландии? Правда, люди не растягивались на пытальной раме в Ирландии, потому что под руками не оказалось этого страшного снаряда. (Надо ли понимать это так, что в самой Англии означенная рама имелась и применялась? Похоже на то – А. Б.) Но я знаю примеры, когда люди в Ирландии ставились на острые столбики, пока не лишались чувств; когда они приходили в сознание, их снова ставили, пока они вторично не лишались чувств; когда они вторично приходили в сознание, их в третий раз ставили на столбики... Но я могу пойти еще дальше: людей подвергали полуповешению (полузадушению) и потом возвращали к жизни, чтобы страхом повторения этого наказания заставить их признаваться в преступлениях, в которых их обвиняли».
Добрая старая Англия...
А впрочем, с пыткой далеко не все однозначно. Вот что писал в прошлом году один из светил Гарвардского университета, престижнейшего в США, Алан Дершовитц: «Сразу хочу уточнить, что мое предложение вытекает из внутреннего отвращения к пыткам: это тайное и нелегальное явление, которое, к сожалению, существует и которое, не будучи в состоянии искоренить, я бы хотел поставить на службу закону и демократии... Перед бомбой, оснащенной часовым механизмом и готовой взорваться – то есть террористом, располагающим информацией, которая может спасти жизнь тысячам невинных людей, – любая настоящая демократия может и должна сделать что-нибудь, чтобы предотвратить взрыв.. Моя цель – узаконить пытку, чтобы иметь возможность контролировать и останавливать ее. Сегодня пытка тайно и нелегально практикуется на всей планете, включая демократические страны, подписавшие международный договор о ее упразднении. ЦРУ по всему миру пустило леденящий душу учебник с самыми жестокими методами „вымогания информации“, а комиссары полиции, от Калифорнии до Флориды, ежедневно применяют пытки за закрытыми дверями. Я считаю, что намного лучше было бы ввести ее в рамки закона, сделав видимой и прозрачной, то есть демократичной... Кроме того, я предлагают ввести „не смертельную пытку“, как, например, разряды тока или иглы под ногти, которые вызовут невыносимую боль, не подвергнув опасности жизнь индивида».
«Демократичная пытка» – это, конечно, круто. Но самое печальное – что лично я (впечатлительных интеллигентов просят зажмуриться) порой ловлю себя на мысли, что согласен со светилом Гарварда. Конечно, возможны ошибки, но когда речь идет о терроризме...
Даю вводную. Вы – следователь. Перед вами сидит террорист, о котором точно известно, что он заложил мощную бомбу где-то в «месте наибольшего скопления людей». Где именно, неизвестно. Уточнить хотя бы приблизительно не удается. Весь большой современный город эвакуировать в чисто поле невозможно – еще и оттого, что времени у вас мало, считанные часы.
Ваши действия?
Вот то-то...
3. «Умонаклонение к добру».
Читатель, которому интересны в прошлых столетиях только авантюрные сюжеты и любопытные факты, имеет полное право пропустить этот раздел (и еще несколько из этой главы) и перейти сразу к рассказу о загадочной авантюристке княжне Таракановой и таинственным подробностям пугачевского бунта. Как бы там ни было, лично я намерен поговорить о материях, быть может, и более скучных, но необходимых для повествования о екатерининской эпохе. Речь пойдет о вещах, безусловно являющихся полной противоположностью пыткам, о которых мы только что говорили – о просвещении и воспитании.
К моменту восшествия Екатерины на престол российское образование безусловно было в состоянии крайне горестном.
Существовало несколько военных корпусов, где преподавали не только «специальные» предметы, но и, так сказать, общеобразовательные, общенаучные. Программа была довольно широкая – но в эти корпуса принимали исключительно дворян.
«Гражданское» образование тоже не блистало особенным разнообразием: Академический университет и гимназия в Петербурге, университет и две гимназии в Москве, гимназия в Казани.
И это – все. По всей стране более не имелось не то что университетов, но и простых школ – одни духовные училища. Не приходские школы, где учат духовные лица (как до Петра), а именно духовные училища со своим специфически узким кругом задач.
Впрочем, в Астрахани, где имелась единственная в России католическая церковь, монахи-францисканцы давным-давно открыли школу – вполне светскую. Именно ее закончил будущий знаменитый поэт Василий Тредиаковский (что характерно, ни его, ни его товарищей «злобные латинцы» и не пытались обратить в ту жуткую римскую веру).
И это – все... «Цифирные школы для детей всякого звания» с превеликой помпой открытые при Петре, как-то незаметно еще при его жизни самоликвидировались. В отдельных местностях даже пытались собирать учеников с помощью драгун (исторический факт!), но они быстренько разбежались.
Да и с теми учебными заведениями, что имелись, обстояло, как бы это поделикатнее, не вполне гладко...
На юридическом факультете Московского университета имелся один-единственный профессор, француз Дильтей, который свой предмет читал исключительно на родном языке, нимало не заботясь, все ли господа студиозусы его понимают. Так поступали и другие преподаватели (большинство из которых были иностранцами), шпарившие курс на французском, немецком, латыни. Русских профессоров в университете было только двое.
В 1765 г. Морской кадетский шляхетский корпус (единственное в стране высшее учебное заведение, готовившее офицеров для военно-морского флота) давал через все имеющиеся в то время газеты объявления о том, что ему крайне потребны преподаватели следующих специальностей:
Навигационных наук профессор – 1,
Корабельной архитектуры учитель – 1,
Подмастерье корабельной архитектуры – 1,
Словесных наук учителей – 3,
Латинского языка учитель – 1,
Шведского языка учитель – 1,
Подмастерья для преподавания датского, шведского и французского – 3,
Переводчиков – 2,
Учитель танцев – 1,
Учитель геодезии – 1.
Дефицит преподавательского состава налицо...
Да и постановка преподавания отличалась крайним несовершенством. В заведенных Елизаветой школах из класса в класс переходили не по успехам, а исключительно по возрасту. Тот, кто попал в обучение четырнадцати лет и проучился год, сидел на одной скамейке с тем, кто «в науки» был отдан в десять и учился уже пять лет. На одной скамейке сидят трое, но один учит «дивизию» (деление), второй – «мультипликацию» (умножение), третий только-только начинает читать по складам...
Учителя пьянствовали, работали спустя рукава, да и в массе своей были народом невежественным. Вдобавок ко всему бедолаг учеников драли, как сидорову козу – в гражданских заведениях только розгами, а в военных еще и «фухтелем» – лезвием обнаженной сабли плашмя, да по голой спине, да от души...
При острейшем дефиците кадров властям приходилось особенно не привередничать и работать с тем, что есть. В далеком Оренбурге частную школу содержал ссыльнокаторжный немец Розен, жестокий, развратный и невежественный. Но он выглядел сущим ангелом во плоти по сравнению с другим учителем (уже государственного заведения), о котором вспоминает известный во времена Екатерины артиллерист и конструктор майор Данилов. Этого субъекта взяли учителем прямо из тюрьмы, где он отсиживал срок за третье убийство. Представляете, насколько плохо было с кадрами, если приходилось привлекать к делу народного образования не досидевших убивцев из острога? Этот Алабушев еще и пил прямо на рабочем месте, ни одной юбки не пропускал – но начальство, надо полагать, утешалось хотя бы тем, что, по крайней мере, в педофилии никогда не был замечен...
Видя столь легкую и великолепную возможность подзаработать, в Россию массами кинулись иностранцы. Елизавета, правда, особом указом предписала всем им предварительно держать экзамен, но про этот указ быстренько забыли. В самом деле, ежели по нехватке кадров убийцу прямо из тюрьмы не на плаху тащат, а в школу, сеять разумное, доброе и вечное – какой, к лешему, экзамен?
Тогдашние газеты предоставляют массу любопытных подробностей. 1757 г. Два француза и немца дают объяву, что «Принимают детей для обучения французскому, немецкому и латинскому языкам, а жены их учат служанок мыть, шить и экономить». Другой француз, не мелочась, объявлял печатно, что обучает всем языкам, а также фортификации, архитектуре, политике, истории, географии, и прочее, и прочее... Почему столь энциклопедически образованный человек не нашел своим талантам применения на родине, остается загадкой. Впрочем, на родине он, скорее всего, в лакеях состоял или усиленно разыскивался парижской полицией для выяснения вопроса, отчего это у прохожих на Королевской площади регулярно исчезают часы и кошельки...
А вот содержатель школы (невыясненной национальности). Заверяет, что имеет «аттестат от Академии» (от какой и которой, благоразумно не уточняет), и «обучает детей истории, географии, употреблению глобуса (молчать, гусары! – А. Б.), метрике (это еще что за диковина?!), риторике, немецкому, латинскому языкам, а также пишет просительные письма (т. е. жалобы и ходатайства – А. Б.) на всех языках. Еще один универсал-многостаночник...
Современник характеризует ситуацию так: «Мы были осаждены тучей французов всякого рода, которые не ужились в Париже и отправлялись в другие страны. Мы были оскорблены, увидев среди них дезертиров, банкротов, негодных лакеев, которые все лезли в воспитатели. Очевидно, эта дрянь рассеялась везде, вплоть до Китая».
К слову, это пишет не русский злопыхатель, а секретарь французского посольства в Петербурге, которого этакие вот земляки уже достали...
Публика, словом, специфическая. Хорошо еще, если просто пили день напролет, как экземпляр, увековеченный Пушкиным в «Капитанской дочке». Но иные юных учениц обучали чему не следует, а кое-кто и учеников к педерастии приохочивал...
А ведь потребность в настоящем образовании была велика! И это понимали сами русские. Среди депутатских наказов «с мест», прозвучавших в Комиссии по уложению, было немало и касавшихся как раз образования. Об учреждении школ, корпусов и гимназий, причем порой речь шла и о девочках.
В этих наказах встречались даже детально разработанные учебные программы! Каширские дворяне требовали, чтобы преподавали грамоту, Закон Божий, арифметику, геометрию, фортификацию, немецкий. Кашинские пошли дальше: французский язык, рисование, фехтование, тригонометрия (знали и такое словечко в захолустном Кашине!), артиллерийское дело и танцы.
Правда, большинство проектов касались исключительно благородного сословия. Лишь серпуховские дворяне готовы были допустить в школы еще детей чиновников и купцов.
О женских учебных заведениях говорили депутаты из Чернигова, Глухова, Переяславля. А дворяне Дмитрова прониклись вольнодумством и прогрессом настолько, что предлагали всякому помещику содержать учителя на каждые 100 крестьянских дворов для обучения крестьянских детей грамоте и арифметике. Правда, продиктована эта идея была вовсе не вольнодумием: просто-напросто в той же бумаге дмитровцы писали: «От грамотного крестьянина помещик больше дохода получает». Но все равно, согласитесь, это какие-то новые веяния...
Купцы хлопотали о том же с утилитарных позиций: чтобы «учинить» такие школы, где не только их дети, но и сироты обучались бы иностранным языкам, счетоводству «и другим полезным купцу знаниям». Ряжские купцы требовали вообще поголовного и обязательного обучения грамоте – штрафовать родителей, пренебрегающих образованием своих чад.
Самые толковые и радикальные программы внесли архангельские купцы. Народ был развитой, торговавший с заграницей и часто там бывавший (даже реформы Петра не смогли архангельское купечество изничтожить). Купцы из Архангельска жаловались, что русские по недостатку образования отстают от иностранных негоциантов, «благодаря чему иностранцы берут преимущество в барышах». А потому северные грамотеи разработали внушающую и сегодня уважение программу будущей школы: правописание и чтение, купеческое письмо (правила составления деловых бумаг), арифметика и «наука о весах русских и иностранных», бухгалтерия, купеческая география (т. е. экономическая), иностранные языки, торговое право русское и иностранное, навигация. Весьма серьезно.
Поначалу Екатерина привлекла к реформе образования того самого Теплова из Академии наук, что соучаствовал в убийстве Петра III. Однако тот составил нелепый и дурацкий, по сути, прожект, о котором нет нужды рассказывать – достаточно бегло упомянуть, что Екатерина этот план моментально отвергла и больше Теплова к таким делам не привлекала.
И тут на сцене появляется наш старый знакомый Иван Иванович Бецкой, один из образованнейших людей своего времени, ежевечерний чтец императрицы, умнейшая личность.
Его проекты отличались от тепловских писаний, как небо от земли. «Генеральный план императорского воспитательного дома» был первым. Буквально через несколько месяцев Екатерина выделила огромные деньги на осуществление этого проекта, и Воспитательный дом был построен.
Что означает это название? Да то, что мы сегодня называем «детский дом». Куда всякая мать, родившая незаконного ребенка, могла его сдать, произведя на свет как на стороне, так и в самом доме, «в особливом госпитале для неимущих родильниц».
Там, по замыслу Бецкого, должны были воспитывать новых людей – образованных, высоконравственных. Вообще Бецкой (по примеру Фридриха Великого и западноевропейских гуманистов) обучение ставил на второе место, а на первое – как раз воспитание высокой морали и нравственности. За что его дружно и громогласно предавали потом анафеме даже не большевики (которых и в проекте не имелось), а горластая и малость поврежденная в рассудке на почве «прогресса» интеллигенция Российской империи. Чуть ли не в каждой исторической работе считалось хорошим тоном высокомерно проехаться по «заблуждениям» Бецкого. Заблуждался, изволите ли видеть, Бецкой по причине острой своей непрогрессивности. По убеждению расейских интеллигентов, поступать следовало как раз наоборот: как можно больше знаний! Точных наук! А мораль и нравственность – дело десятое, по большому счету, даже вредящее «прогрессивности»...
Однако при Екатерине интеллигентов можно было по пальцам пересчитать, а если один какой и заведется, его или в Сибирь налаживали, или в крепость отправляли, что безусловно сохраняло обществу душевное здоровье... Одним словом, Воспитательный дом быстро превратился в огромное, прекрасное надежное «хозяйство», просуществовавшее до самой революции. Вскоре подобное заведение открылось и в Москве, и во многих других городах. Бецкой составил новую программу: «Генеральный план воспитания юношей обоего пола». Многое из него Екатерина осуществила на практике.
Даже краткий пересказ биографии Бецкого поражает. Именно он (на равных с Екатериной) был основателем «Смольного общества благородных девиц» – того самого, знаменитого впоследствии Смольного института. А также – подобного Смольному Екатерининского училища в Москве.
Реформа Сухопутного кадетского шляхетского корпуса – снова Бецкой. Коммерческое училище при Воспитательном доме, «родовспомогательное училище при Санкт-Петербургском воспитательном доме, училище при Академии художеств, педагогические училища, дворянские „благородные училища“, „мещанские училища“ – и это Бецкой. Более тридцати лет Иван Иванович руководил всеми учебными заведениями империи, старыми и вновь создаваемыми. Он был главным попечителем Московского воспитательного дома, попечителем Смольного, президентом Академии художеств, фактическим руководителем Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Да вдобавок был одним из основателей Комиссии от строений Санкт-Петербурга и Москвы (подготовка и распределение всевозможных специалистов для заводов и фабрик, постройки и реставрации зданий, создание проектов застройки городов, строительство набережных). И разрабатывал уставы трех банков, и написал немало книг о воспитании детей...
И на всех этих должностях работал всерьез. И, между прочим, на связанные с воспитанием и образованием проекты израсходовал свои собственные, огромные средства (по подсчетам изумленных французов, два миллиона франков золотом). В отличие от подавляющего большинства тогдашних сановников, не принимал от Екатерины никаких «материальных благ» – за исключением крохотной усадебки в Лифляндии.
Одним словом, потрясающий был человек, неизмеримо много сделавший для России...
Его смерть прошла не замеченной! Ни одной строчки в тогдашних газетах, охотно и много писавших о людях гораздо более малозначительных. Только Гаврила Державин откликнулся стихотворении «На смерть благотворителя». Когда зайдет речь о восемнадцатом столетии, охотно и много вспоминают об авантюристах вроде Калиостро, о дуэлянтах и повесах, о куртизанках, великосветских хлыщах – но мало кто помнит Ивана Ивановича Бецкого, которому впору памятники ставить. В прошлом году исполнилось двести лет со дня его рождения – но промолчали высокоумные академики, ни одна собака к могиле в Александро-Невской лавре цветочек не принесла... Прости уж, Иван Иванович! Ленивы мы и беспамятны...
Вернемся к Екатерине. При ней (не без участия Бецкого!) был создан предшественник Министерства образования – Главное правительство училищ. Подчинено оно было непосредственно императрице – и в каждой губернии были созданы народные училища, куда принимали всех, кроме детей крепостных.
Безусловно, система была не идеальная, несмотря на государственное финансирование (училища, кстати, были бесплатными) и подробно разработанные правила, направленные на то, чтобы учителя подбирались толковые, а учебники составлялись качественные. Гладко было на бумаге... Местные органы управления оказались не на высоте поставленной задачи, в учителя по-прежнему попадал народец невежественный и пьющий (а жалование, что греха таить, было не ахти).
И все же! Начато было с нуля – а к концу царствования Екатерины по всей России насчитывалось 316 народных училищ с 744 учителями и 14 341 учащимся. Это уже серьезно. Преемники Екатерины лишь совершенствовали и расширяли начатое... Даже те из историков, кто к Екатерине относится, мягко говоря, без энтузиазма, признают учреждение народных училищ актом замечательным и соглашаются, что ими было положено начало широкому народному образованию в России. В чем, обращаю особое внимание, Россия определила иные европейские державы.
И в заключение раздела – о нравах, дабы отвлечь заскучавшего читателя от скучной цифры и длинных названий былых учреждений...
Нравы, как и по всей Европе на протяжении «галантного века», были, прямо скажем, легкомысленными. Муж или жена из столичного «благородного» сословия, соблюдавшие супружескую верность, подвергались откровенным насмешкам. На этом фоне прямо-таки белой вороной смотрелась супруга графа П. А. Румянцева, женщина добрая, однажды растрогавшая мужа прямо-таки до слез. По случаю какого-то праздника она сделала подарки не только мужу и слугам, но и послала несколько отрезов на платья мужниной любовнице. Граф публично сокрушался: жаль, что нет у моей дражайшей половины любовника. А то бы и я ему непременно дорогой презент послал...
Генерал-майор Левашов, отличившийся во время русско-шведской войны 1788–1790 годов, на всякий случай отправил с войны по начальству простодушное письмо: «Я имею от многих дам детей, коим число по последней ревизии шесть душ; но как по теперешним обстоятельствам я легко могу лишиться жизни, то прошу, чтобы по смерти моей означенные дети, которым я может быть и не отец, были наследники мои».
В военном ведомстве сидели люди душевные и жизнь понимающие – хихикать никто не стал, письмо с фронта аккуратно подшили в папочку на всякий случай (Левашов, правда, вернулся с войны живой).
По воспоминаниям людей посвященных, брат фаворита Елизаветы П. И. Шувалов умер не от естественных причин, а оттого, что имея нескольких любовниц и стремясь соответствовать, ежедневно принимал тогдашние аналоги виагры, отчего и скончался.
А уж в провинции, господа мои...Некий сельский помещик завел себе гарем, и ладно бы из крепостных девок – звездой в нем была дочь местного священника. Отец пытался доченьку оттуда вызволить, но, как вспоминают свидетели, «заплатил своей жизнью, ибо неизвестно куда девался».
Болотов вспоминает, что школьный учитель города Богородицка совращал «лучших девок» при помощи каких-то напитков, заманивая их к себе, спаивал к распутству». Провинциальная интеллигенция, ага...
Впрочем, технари не лучше. От восемнадцатого столетия остались подробные и бесхитростные мемуары Анны Лабзиной, мелкой дворянки, которую в тринадцать лет выдали за горного инженера Карамышева, пятнадцатью годами ее старше (между прочим, университет окончил). Первую брачную ночь «анжинер» провел не с женой, а с племянницей – да и потом частенько развлекался «любовью втроем». По меркам того столетия – ничего особенного. Муж был настолько пронизан традициями эпохи, что и юной Аннушке советовал завести себе сердечного друга – чтобы супружница вполне соответствовала передовым европейским нравам. Так и спали в одной постели: справа Анна, слева – племянница. Правда, от усердного следования прогрессивным тенденциям означенный Карамышев вскоре и помер...
А впрочем, порой связь на стороне как раз и приводила, кот чудо, к исправлению нравов. Любопытное свидетельство тому оставил не кто иной, как Гаврила Державин: «Имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, и как был очень к ней привязан, а она не отпускала меня отклоняться в дурное знакомство, то и исправил мало-помалу свое поведение».
И даже влюбился по-настоящему, и возмечтал жениться. Чтобы дать читателю возможность почувствовать из первых уст весь колорит эпохи, следующий раздел я целиком отведу собственноручным воспоминаниям Державина, озаглавленным длинно: «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».
Наберитесь терпения и осильте четвертый раздел. Честное слово, не пожалеете – бесхитростно и обстоятельно рассказывает о своем сватовстве человек восемнадцатого столетия. Только имейте в виду, что Державин, как порой было тогда принято, говорит о себе в третьем лице: «он».
Итак... Уже будучи коллежским советником на гражданской службе, Гаврила Романович увидел на балу в доме некоего Козодавлева девицу лет семнадцати поразительной красоты, которая ему ужасно понравилась. Второй раз увидел в театре – «изумился». Увидел в третий – понял, что влюблен...
4. Сватовство в XVIII столетии.
И как среди бурного сего происшествия (дуэль, на которой Гаврила был секундантом и едва не скрестил шпаги с секундантами противника – А. Б.) не вышла красавица из памяти у Державина, то, поехав с Гасвицким домой, открылся ему дорогую о любви своей и просил его быть между собою уже и победительницею его посредником; то есть на другой день в объявленный при дворе маскарад, закрывшись масками, вместе с ним поискать девицу, которая ему нравится, и беспристрастными дружескими глазами ее посмотреть. Так и сделали. Любовник[1] тотчас увидел и с восторгом воскликнул: «Вот она!» – так что мать и дочь на них пристально посмотрели. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, примечали поведение особливо молодой красавицы, и с кем она и как обращается. Увидели знакомство степенное и поступь девушки, во всяком случае, скромную и благородную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовую стыдливостию. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора[2], а его товарищ, человек простой, впрочем, умный и прямодушный, их одобрил. За чем дело стало? Державин уже имел некоторое состояние, то и взял он намерение порядочным жить домом, а потому и решился твердо в мыслях своих жениться. Вследствие чего и рассказал, будто шуткою, своим приятелям, что он влюблен, называя избранную им невесту ее именем. В первый день после маскарада, то есть в понедельник на первой неделе великого поста, обедая у генерал-прокурора, зашла речь за столом о волокитстве, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах; Александр Семенович Хвостов вынес на него прошедшего дня шашни. Князь спросил, правда ли, что про него говорят. Он сказал: правда. «Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?» Он назвал фамилию.
Петр Иванович Кириллов, действительный статский советник, правящий тогда ассигнационным банком, обедая вместе, слышал шутливый разговор, и когда встали из-за стола, то отведши на сторону любовника: «Слушай, братец, не хорошо шутить на счет честного семейства. Сей дом мне хорошо знаком; покойный отец девушки, о коей речь идет, был мне другом; он был любимый камердинер императора Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется молочною сестрою; да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю». «Да я не шучу, – ответствовал Державин, – я поистине смертельно влюблен». «Когда так, – сказал Кириллов, – что ты хочешь делать?» «Искать знакомства и свататься». «Я тебе могу сим служить». А потому и положили на другой же день, ввечеру, будто не нарочно, заехать в дом Бастидоновой, что и исполнено. Кириллов, приехав, рекомендовал приятеля, сказав, что, проезжая мимо, захотелось ему напиться чая, то он и упросил (показывая на приехавшего) войти к ним с собою. По обыкновенных учтивостях сели и, дожидаясь чаю, вступили в общий общежительный разговор, в который иногда с великою скромностью вмешивалась и красавица, вязав чулок. Любовник жадными очами пожирал все приятности, его обворождившие, и осматривал комнату, приборы, одежду и весь быт хозяев, между тем как девка, встретившая их в сенях с сальною свечою в медном подсвечнике, с босыми ногами, тут уже подносила им чай; делал примечания свои на образ матери и дочери, на опрятность и чистоту в платье, особливо последней, и заключил, что хотя они люди простые и небогатые, но честные, благочестивые и хороших нравов и поведения: а притом дочь не без ума и не без ловкости, приятная в обращении, а потому она и не по одному прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему понравилась, а более еще тем, что сидела за работою и не была ни минуты праздною, как другие ее сестры непрестанно говорят, хохочут, кого-нибудь пересуживают, желая показать остроту свою и умение жить в большом свете. Словом, он думал, что ежели не ней женится, то будет счастливым. Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося позволения и впредь к ним быть въезжу новому знакомому. Доро́гою спросил Кириллов Державина о расположении его сердца. Он подтвердил страсть свою и просил убедительно сделать настоятельное предложение матери и дочери. Он на другой же день исполнил. Мать с первого разу не могла решиться, а просила несколько дней сроку, по обыкновению, расспросить о женихе у своих приятелей. Экзекутор второго департамента Сената Иван Васильевич Яворский был также короткий приятель дому Бастидоновых. Жених, увидевшись с ним в том правительстве, просил и его подкрепить свое предложение, от которого и получил обещание; а между тем как мать расспрашивала. Яворский собирался со своей стороны ехать к матери и дочери, дабы уговорить их на согласие. Жених, проезжая мимо их дому, увидел под окошком сидящую невесту, и, имея позволение навещать их, решился заехать. Вошедши в комнату, нашел ее одну, хотел узнать собственно ее мысли в рассуждении его, почитая для себя недостаточным пользоваться одним согласием матери[3]. А для того, подошедши, поцеловал по обыкновению руку и сел подле нее. Потом, не упуская времени, спросил, известна ли она через Кириллова о искании его? «Матушка мне сказывала», – она отвечала. «Что она думает?» «От нее зависит» «Но если бы от вас, могу я надеяться?» «Вы мне не противны», – сказала красавица, вполголоса, закрасневшись. Тогда жених, бросаясь на колени, целовал ее руку. Между тем Яворский входит в двери, удивляется и говорит: «Ба! ба! И без меня дело обошлось! Где матушка?» «Она, – отвечает невеста, – поехала разведать о Гавриле Романовиче». «О чем разведывать? Я его знаю, да и вы, как видно, решились в его пользу, то, кажется, дело и сделано». Приехала мать, и сделала помолвку, но на сговор настоящий еще не осмелились решиться без соизволения его высочества наследника великого князя, которого почитала дочери отцом и своим сыном. Через несколько дней дала знать, что государь великий князь жениха велел к себе представить. Ласково наедине принял в кабинете мать и зятя, обещав хорошее приданое, как скоро в силах будет. Скоро, по прошествии великого поста, то есть 18-го апреля 1778 года, совершен брак».
Великолепно, не правда ли? Та старинная романтика, деликатность нравов, от которой в двадцатом столетии не осталось и следа...
И Державин, и семейство его невесты принадлежали, напомню, к небогатому дворянству. В сенях гостям светила босая девка с медным подсвечником, она же и чай подавала. Вельможи, легко догадаться, жили совершенно иначе.
Большинство держали так называемый «открытый стол» – раз в неделю устраивали обеды на несколько десятков человек, куда мог прийти и преспокойно сесть за стол даже совершенно незнакомый человек, лишь бы одет был прилично. А уж эти обеды... Сохранились описания. Первая «подача» – двенадцать различных супов – выбирай, душа! Вторая – двенадцать салатов, двенадцать соусов. Потом – третья подача, жаркое: дикая коза, куропатки с трюфелями, фазаны с фисташками и масса прочих вкусностей. Которые невозможно было не то что съесть, но и надкусить – многие блюда так и уносили нетронутыми, это была чистой воды демонстрация хлебосольства, изысканного вкуса и богатства хозяина. Окуни с ветчиной, голубятина с раками...
Была и закуска «селедочные щеки» – чтобы приготовить одну порцию, поварам приходилось старательно вырезать щеки у двадцати четырех тысяч селедок. Даже соловьиные языки кто-то гостям предлагал.
Известный тогдашний московский прожигатель жизни Новосильцев выезжал на коне, чья сбруя состояла из золотых и серебряных цепочек, а чепрак был расшит золотом – натуральными золотыми нитями, общим весом этак в фунт.
Еще один штришок к картине эпохи: в те времена повальной картежной игры Гаврилу Романовича Державина все уважали за то, что человек «знает свою меру» и умеет вовремя остановиться: за раз поэт проигрывал «не более» тысячи рублев...
Ну, а подальше от столицы, в захолустье, нравы царили и вовсе уж непринужденные: когда надоедало развлекаться в гаремах, господа помещики (и помещицы тоже!) вели меж собой самые настоящие войнушки по всем правилам – соберут крепостных, вооружат чем бог послал и отправляются в поход на соседа. Не столько развлечения ради, сколько для того, чтобы оттяпать у того деревеньку-другую. Это были не картинные мордобои, а форменные баталии с ранеными и убитыми.
Если не подворачивалось войны с соседом, разбойничали на больших дорогах – самым натуральным образом. Печально прославился один отставной прапорщик, который любил ловить по дорогам проезжих купцов. Правда, грабить особенно не грабил – отвозил в имение и сажал на цепь в подвал, очевидно, разыгрывая средневекового барона-разбойника. Когда они ему надоедали лязгом цепей и причитаниями, выпускал. Купцы жаловались, но прапорщик состоял в родственных связях кое с кем из губернского начальства и всякий раз выкручивался.
Была вдовая помещица, которая грабила всерьез. Сколотила шайку из собственных крестьян и всевозможного «гулящего» народа и промышляла на дорогах довольно долго.
А по Волге плавали разбойнички в немерянном количестве, у которых на челнах имелись даже легкие пушечки. Совсем небольшие, так называемые «шлюпочные», длиною в локоть – но пушки были самые настоящие и палили убойно...
Кроме разбойников, беглых тюремных сидельцев и всевозможного уркаганского народа, по России странствовали также «государи императоры Петры III», каковых тоже насчитывалось немало. Большинство из них не поднялись выше мелких аферистов и очень быстро попадали за решетку – но главному из них еще предстояло появиться...
5. Экономика должна быть...
Еще в 1910 г. уже тогда крупный ученый, будущий академик Тарле с сожалением писал, что в отечественной историографии экономике и промышленности XVIII столетия не повезло – ее почти не изучали, занимаясь лишь частными вопросами. (Замечу в скобках, что за следующие сто лет положение особенно не изменилось. Экономика для российских гуманитариев – нечто скучное, докучливое и откровенно третьестепенное. Войнами, интригами или скрупулезным подсчетом крепостных, которых Екатерина подарила тому или иному фавориту, заниматься гораздо интереснее...)
Сам Тарле в те же годы всерьез стал изучать интереснейший вопрос: можно ли считать екатерининскую Россию экономически отсталой страной?
Обнаружилось, ничего подобного. Это в девятнадцатом веке Россия резко стала отставать от европейских держав. А при Екатерине обстояло совсем иначе. Оказалось после вдумчивых исследований, что почти все иностранцы, писавшие о русской торговле и промышленности в конце XVIII века, вовсе не считали Россию экономически отсталой или зависимой от Запада страной! Географы, статистики, путешественники, за редкими исключениями, говорят одно и то же.
Бюшинг (известное в свое время имя) настолько хорошего мнения о русской торговле, что даже делает вывод: «Можно, конечно, сказать, что ни один народ в мире не имеет большей склонности к торговле, чем русские».
Француз-учитель Буржуа (не шарлатан, а образованный человек из французского колледжа в Берлине) писал так: «Нельзя у них оспаривать, что они – народ, заслуживающий почтения вследствие своих сил, своих ресурсов, своей торговли и вследствие того, что они создали самую обширную империю, которая когда-либо существовала». Более того, он с неподдельным восхищением отмечает первенство российской экономики над французской в некоторых аспектах. Например, в России не платят никаких внутренних пошлин при провозе товара из одной области в другую или при ввозе в город. А в Париже тех времен, напротив, ввозимое в город продовольствие облагалось дополнительными «въездным» налогом, что, как легко догадаться, увеличивало расходы потребителя. Хватало во Франции и «внутренних таможен», с которыми покончила только революция. А сели добавить дорожные пошлины...
В германских государствах наблюдалось то же самое. Там во множестве имелись так называемые «штапельштадт» – города, имевшие исключительную привилегию быть складами для тех или иных товаров. Та или иная округа вынуждена была устраивать торговлю только в таком городе – или провозить товары исключительно через него, что развитию нормальной экономики только мешало – ни конкуренции, ни свободного рынка.
В 1774 г. на заседании английской палаты общин было засвидетельствовано, что без ввозимого в Англию русского полотна «бедные классы английского народа обойтись не могут». Тогда же британцы признали, что «баланс в англо-русской торговле решительно склоняется в пользу России».
Француз Ле Клерк тогда же писал: торговля Европы с Россией нужнее Европе, чем России, а потому баланс всегда в пользу русских.
Люди понимающие прекрасно знают, что о процветании страны в первую очередь свидетельствует превышение экспорта над импортом. Посмотрим, как обстояли дела в русско-французских торговых отношениях...
В 1785 г. из России во Францию пришло 140 торговых судов общей вместимостью 24 892 тонны. Ушло из Франции в Россию вдвое меньше – 74 судна вместимостью 14 391 тонна.
В 1782 г. Франция получила от России товаров на 9 721 000 ливров, а вывезла в Россию – на 4 802 000 ливров. Другими словами, российские торговцы продали Франции товаров на сумму вдвое большую, чем заплатили за ее товары. Да и в последующие годы счет был в пользу России.
Известно точно, что именно во Францию ввозили русские и что из нее вывозили. После этого без всяких натяжек приходишь к мысли, что сырьевым придатком для России была как раз Франция, и ни в коем случае не наоборот.
Точная статистика это подтверждает. Достаточно взять данные за 1785 од.
Общая сумма, на которую ввезено русских товаров во Францию – 6 412 339 ливров. Распределяется она так:
Парусный холст – 98 000 ливров.
Сырье – воск, кожи, сало, лес, лен, пенька, железо – 4 280 000.
«Продукты индустрии» (т. е. промышленные товары) – 1 412 000.
Пшеница, рожь и овес – 472 000.
«Мелкие товары» (детально не обозначенные) – 150 389.
Конечно, сырье и зерно составляли значительную часть русского экспорта. Но посмотрим, что в том же году поставила нам Франция на 5 485 675 ливров. Машины, станки, прочие промышленные изделия? Ничего подобного.
Вино – 1 156 009.
Водка – 609 000.
Фрукты – 126 000.
Соль – 117 000.
«Мелкие товары» (скорее всего, галантерея и прочие предметы роскоши для модных лавок) – 225 675.
Выводы делайте сами...
Теперь – промышленность.
Француз Левек: «Русским удаются фабрики и ремесла. Они делают тонкие полотна в Архангельске, ярославское столовое белье может сравниться с лучшим в Европе. Стальные тульские изделия, быть может, уступают только английским. Русская шерсть слишком груба, чтобы можно было фабриковать из нее тонкие сукна, но некогда получали от иностранцев все сукно для обмундирования войск, а теперь иностранцы сами начинают получать его из фабрик этой страны... Русские более, чем какие-либо другие нации, приближаются к совершенству формы... Заставьте русского состязаться с иностранцем, и можно биться об заклад, что русский будет работать с меньшим числом инструментов так же хорошо и выработает те же предметы с менее сложными машинами...»
Немец Фрибе, не всегда к России благожелательный, тем не менее отмечает, что во второй половине XVIII века «кожевенные фабрики так усовершенствовались, что другие страны тщетно пытаются в этом отношении сравниться с Россией».
А потому продукция русской кожевенной промышленности составляла, например, серьезную конкуренцию итальянской – в том числе на итальянских рынках.
И наконец, при сравнении российской промышленности с французской оказалось, что Россия Францию безусловно превосходит по количеству крупных фабрик и заводов. Во Франции «крупными» считались те производства, где трудилось 100–200 человек. 300–400 рабочих – это уже исключение из правил. Меж тем в России, по свидетельству совершившего долгое путешествие немца Германа, фабрики с сотней-другой работников – мелкие. На страницах книги Германа мелькают совсем другие цифры: семьсот рабочих, девятьсот, тысяча, полторы и даже две...
Ну, а что касается квалифицированных кадров – то Россия и здесь безусловно первенствовала. Существует анекдотическая по сути, но точно документированная история – обширная переписка из французских архивов, касавшаяся судьбы юной особы пятнадцати лет. Эта девчушка оказалась единственной, кто умел обращаться с какой-то сложной по тем временам машиной – и французские чиновники собираются послать ее в провинцию заведовать целой фабрикой. Беда в том, что «директриса» возмутительно молода... Переписка длилась долго, в нее вовлекли даже министра финансов. Чем дело кончилось, мне, к сожалению, неизвестно...
Что касается торговли внутренней, то Екатерина самым решительным образом отменила прежнюю систему «монополий», о которой я уже не раз упоминал: когда группа тогдашних «олигархов», пользуясь связями при дворе, получала исключительное право на ту или иную деятельность в конкретном районе. До Екатерины подобная монополия существовала на торговлю с Китаем. При Екатерине в Китай мог отправляться без всяких разрешений любой купец – были бы товары и желание.
В общем, за время царствования Екатерины общий товарооборот внешней торговли России увеличился в пять раз. А внутри страны к концу столетия появилось 25 ярмарок «всероссийского» масштаба.
Нельзя не упомянуть и о созданном Екатериной Вольном Экономическом Обществе – своеобразном научно-исследовательском институте торговли времени, занимавшемся торговлей, промышленностью, сельским хозяйством. Просуществовало оно до 1917 г. – а значит, толк от него, безусловно, был.
Отдельный разговор – об «ассигнациях», то есть бумажных деньгах. Именно Екатерина их ввела в России – причем ее финансисты ухитрялись вести дела так, что в России не было и следа кризисных явлений вроде инфляции или бездумного «шлепанья» необеспеченных бумажек (каковых хватало в западных странах).
А теперь перейдем от скучных материй к самым натуральным авантюрам...
Монету испокон веков подделывали по всему свету – и, как только появились бумажные деньги, умельцы моментально смекнули, что и эта овчинка стоит выделки...
В общем, уже через три года после введения в оборот ассигнаций появились фальшивки. Поначалу это были кустарные упражнения – бралась государственная двадцатипятирублевая ассигнация, и слово «двадцать пять» не без изящества переделывалось на «семьдесят пять». Благо тогдашние деньги не имели ни водяных знаков, ни рисунков – прямоугольный листок бумаги с коротким текстом...
Когда прохвостов довольно быстро изловили, выяснилось, что они успели «испакостить своим манером» всего-навсего девяносто ассигнаций. Ну, разумеется, драли кнутом и загнали на каторгу.
Однако всего через год образовывалась гораздо более серьезная шайка, намеривавшаяся уже не возиться с государственными ассигнациями, а печатать свои, насквозь поддельные. Шайка эта с полным на то правом может именоваться международной...
Но начнем по порядку. Жили-поживали в России два брата – отставной капитан Сергей Пушкин и коллежский советник Михаил Пушкин (дальние родственники великого поэта, увы, увы, в семье не без урода...). Именно к ним пришел приехавший в Россию ловить удачу французскоподанный Луи Бротарь и без особых церемоний поинтересовался: ребята, разбогатеть хотите?
Ребята хотели, и еще как. Тогда француз предложил насквозь уголовный, но крайне привлекательный план: изготовить «ассигнационные штемпели» (т. е. клише) и напечатать за границей ни много ни мало 300 000 рублей. Потом украдкой ввезти их в Россию – а дальнейшее уж дело техники.
Братья без колебаний согласились. К ним примкнул еще и вице-президент Мануфактур-коллегии с символической фамилией Сукин. Вы будете смеяться, но планы у этой троицы уже тогда мало чем отличались от мечтаний нынешних нуворишей: переехать в Швейцарию, купить там особнячки и зажить панами...
Бротарь, не мешкая, отправился в голландский город Амстердам, быстренько нашел резчика-гравера, обещавшего сделать клише, а также мастера, согласившегося сделать копии привезенных из России ассигнаций – как образец для штемпеля. Правда, мастер этот оказался прохвостом, ни в чем не уступавшим честной компании: моментально смекнул, что заказ не имеет никакого отношения к изящным искусствам и потребовал взять его в долю – иначе пойдет в полицию и всех заложит.
Что тут поделаешь? Пришлось взять. Воспрянувший мастер выполнил работу в сжатые сроки, клише получилось – загляденье! Приехавший в Голландию Сергей Пушкин работу тоже одобрил, забрал штемпеля и поехал в Россию...
Он и представления не имел, что на границе его уже ждали, и ориентировку, говоря современным языком, на него дал сам генерал-губернатор пограничных губерний Браун...
Никто из подельников не подозревал, что чиновника Сукина давным-давно уже мучили жуткие страхи. И разбогатеть на халяву хотелось, и страшно боялся тех кар, которые их всех ожидали в случае провала. Сукин долго терзался, терзался... а потом отправился куда следует и с честными глазами заявил, что желает исполнить свой гражданский долг: ему, мол, совершенно случайным образом стало известно, что брательники Пушкины, негодяи этакие, намереваются конкурировать с государственным банком в выпуске денег, для чего предприняли то-то и то-то, отправились туда-то... О своей роли в этом предприятии Сукин скромненько умолчал.
Поскольку ничего подобного в России прежде не случалось, о новой уголовной напасти моментально донесли императрице, и та взялась лично руководить операцией.
Сергея Пушкина аккуратненько тормознули на границе и, уверяя, будто лично против него ничего не имеют, а выполняют указание начальства о поголовном обыске приезжающих в целях борьбы с контрабандой, разобрали его экипаж на мелкие винтики – что один человек сделал, другой всегда разломать сможет... Быстренько нашли тайник, а в тайнике – клише и типографский шрифт. Пушкин наверняка кричал, что знать ничего не знает, что бричку в таком виде и купил – но его, не вступая в дискуссии, отвезли в Петропавловскую крепость, а чуть позже присовокупили к нему и Михаила.
На первых же допросах брательники, узнав, по чьей милости оказались на нарах, заложили и вице-президента Мануфактур-коллегии. Повязали и Сукина...
Всех троих приговорили к смертной казни – но, учитывая указы Елизаветы и Екатерины об отмене таковой, жизнь фальшивомонетчикам сохранили. Сергея Пушкина, самого деятельного члена «международного преступного сообщества», лишили всех чинов и дворянства, влепили на лоб клеймо «В» («вор») и отправили на вечное заключение в Пустозерский острог Астраханской губернии. Михаила лишили чинов и дворянства, но, учитывая его второстепенную роль во всем этом деле, отправили всего лишь в ссылку, в Енисейск. Все их имения передали ближайшим законным наследникам, а братьев было велено впредь именовать исключительно «бывшими Пушкиными». Господина Сукина дворянства не лишили ввиду отсутствия такового – но все чины с него сняли и законопатили на вечное поселение в Оренбургскую губернию. И напоследок взялись за последнего оставшегося на свободе члена шайки – прыткого француза Бротаря. Вычислив его в Голландии, русские разведчики-дипломаты его прямо там же повязали и доставили в Россию. Отодрали на совесть кнутом, вырезали ноздри, заклеймили и сослали в вечную работу на Нерчинские заводы. Вообще-то это было явное нарушение международного права – Бротарь был иностранным подданным – но французы никаких протестов не вносили. У них и самих таких штукарей хватало по всем тюрьмам, и поднимать шум из-за явного уголовника показалось неуместным... Вот так бесславно закончилась первая попытка подделывать в России бумажные деньги – как легко догадаться, зная человеческую природу и историю предмета, оказавшаяся лишь первой ласточкой...
Пожалуй, к чисто экономическим мероприятиям Екатерины примыкает и секуляризация – то есть полная конфискация у церкви всех ее земельных владений вместе с крепостными, коих, как я мельком упоминал, насчитывалось более девятисот тысяч.
Крестьяне встретили это известие с искренним восторгом. Поскольку были переведены в разряд государственных и вместо тяжелой барщины теперь должны были платить лишь денежный оброк – а это давало больше самостоятельности и позволяло жить зажиточнее.
Точных документальных данных не осталось, но современники упрямо приписывали Екатерине речь, произнесенную по этому поводу перед членами Синода: «Существенная ваша обязанность состоит в управлении церквами, в совершении св. таинств, в проповедовании слова Божия, в защищении веры, в молитвах и воздержании. Но отчего происходит, что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способ жить в преизбыточестве благ земных, что совершенно противно вашему званию? Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям?»
Самое пикантное, пожалуй, в том, что Екатерина не сама это «раскулачивание» придумала... а всего-навсего выполняла проработанный во всех деталях план, составленный по приказу ее покойного супруга Петра III.
А впрочем, и Петр в данном вопросе лишь пытался совершить то, что задумывали его далекие предшественники...
Обладавшие особым статусом земельные владения церкви попросту мешали нормальному развитию экономики, что еще за сотни лет до Петра III понимали русские правители. Еще Иван III (однажды преспокойно приказавший высечь на людях архимандрита Чудова монастыря) всерьез подумывал отобрать у церквей и монастырей их обширные владения. На Стоглавом соборе, о котором я уже говорил, ту же идею пытался провести Иван Грозный – но церковь в те времена являла собой силу, перед которой спасовал и Грозный. Он лишь добился, чтобы церковь не могла себе прикупить земель «без доклада царю». И Михаил Романов, и Алексей Михайлович пытались всячески ограничить возможности церкви в приобретении новых владений, прямо запрещая порой подданным жертвовать монастырям земли и крестьян. Пытался «отписать на государство» церковные владения и Петр I – но не успел. Даже набожная Елизавета разрабатывала схожий проект – но попросту не решилась претворить его в жизнь.
Да и в самой православной церкви несколько сот лет шла ожесточенная борьба иерархов с так называемыми «нестяжателями», начиная с ереси «стригольников» (30-е годы XIV века). На знаменитом Соборе во Владимире 1274 г. предшественники «нестяжателей» четко сформулировали свою точку зрения: «Невозможно и Богу работати, и мамоне». То есть говорили то же самое, что и Екатерина в приписываемой ей речи.
Вообще, суды первой половины восемнадцатого столетия завалены жалобами церковных иерархов друг на друга – в полном соответствии с буйными нравами эпохи, духовные лица, собрав крестьян и прихожан, устраивали форменные татарские набеги друг на друга и на светских соседей, отбирая луга и покосы, устраивая побоища из-за спорных территорий. Жалобщикам отказывали примерно с такой формулировкой: уймитесь, поскольку у вас самих рыльце в пушку...
Секуляризация церковных земель была не единственным проектом Петра, который Екатерина скрупулезно провела в жизнь. Что характерно, сразу после взятия власти Екатерина попросту подтвердила приказ Петра расквартированным в Пруссии русским войскам возвращаться на родину. Если бы она хотела порвать тот самый якобы оскорбительный для России мир с Фридрихом, заключенный Петром, то к этому у нее имелись все возможности – Пруссия была слаба, Восточная Пруссия полнехонька русскими дивизиями...
Однако Екатерина, на словах осуждая Петра, взяла тот же курс. Два года спустя она подписала с Фридрихом новый союзный договор, ряд статей которого без малейших изменений перенесен из «предательского».
Этого требовали насущные требования политики. Как я уже не раз говорил – и буду утверждать впредь – у России с Пруссией попросту не существовало противоречий, которые следовало разрушать путем полномасштабной войны. Зато их союз позволял легко отразить попытки любой третьей державы – той же Англии – установить в Европе свою гегемонию. До 1914 г. меж Россией и Пруссией (а впоследствии Германией) сохранялись если не дружеские и союзные, то вполне ровные отношения, а все трения и конфликты (случалось, как же) никогда не выходили до той роковой черты, за которой опять-таки требуется большая война. Историческим врагом России была как раз Франция – а Великобритания до 1908 г. прямо-таки официально считалась наиболее вероятным «потенциальным противником»...
Кажется, мы как-то незаметно отвлеклись от экономики. Ну что же, о ней уже все сказано. Перейдем к географии. Точнее, к Америке. К русской Америке.
6. Колумб российский между льдами...
Именно при Екатерине Россия твердо поставила ногу на американское побережье. Сегодня, увы, встречаются люди, которые попросту не помнят, что когда-то Аляска принадлежала России. Молодежь, конечно. Признаюсь по секрету, давненько подбираю материалы для книги «Русская Америка», но в данной работе о многом придется говорить кратко...
Принято считать, что впервые русские увидели берега американского континента в 1741 г., когда туда приплыл пакетбот «Святой Павел» под командованием подчиненного командора Беринга Алексея Чирикова. Однако вполне может казаться, что Чириков был далеко не первым...
Еще в 1937 г. американские археологи, производившие раскопки на Аляске в заливе Кука, обнаружили остатки тридцати с лишним строений, которые по их форме, материалу и другим признакам признали не индейскими и не эскимосскими, а русскими. И недвусмысленно заявили, что строениям этим не менее... трехсот лет. То есть речь идет о временах Михаила Федоровича Романова!
А в 1944 г. в октябрьском номере американского журнала «Восточнославянское обозрение» появилась статья американского же ученого Т. Фарелли с прелюбопытнейшим названием «Затерянная колония Новгорода на Аляске».
Опираясь на данные о раскопках в заливе Кука и другие находки, американец выдвинул сенсационную (и надежно аргументированную) гипотезу: еще в конце шестнадцатого века новгородские мореходы достигли устья Колымы, построив там 7 судов, прошли Беринговым проливом (в ту пору, естественно, безымянным), и одно из них даже добралось до континентальной Америки, где его команда основала поселение.
Сорок четвертый год был неподходящим временем, чтобы вдумчиво интересоваться археологическими раскопками. Статья прошла незамеченной, оказалась забытой и известна только по пересказам. Версию о старых русских поселениях на Аляске вовсе не опровергли – ее попросту подзабыли. В моем распоряжении этих материалов нет, а потому судить о них трудно.
Но известно, что в 1648 г. Семен Дежнев Беринговым проливом все же прошел – причем и он, и прошедшие позже по его маршрутам казаки слышали от чукчей, коряков и камчадалов, что «на востоке за морем», на «Большой Земле», обитают белокожие бородатые люди...
Быть может, это были все же потомки новгородцев (как раз в конце шестнадцатого столетия пускавшихся в вынужденную эмиграцию после взятия Новгорода Иваном Грозным). Быть может, кто-то из спутников Дежнева – не все его спутники вернулись назад, некоторые корабли пропали без вести.
Как я уже говорил, континентальную Америку русские еще до времен Екатерины наблюдали – не высаживаясь на берег.
Уже заложив в машинку эту страницу, я наткнулся на свидетельство о том, что капитан Чириков был не первым...
Еще в июне 1732 г. от устья реки Камчатки вышел бот «Св. Гавриил», которым командовал подштурман Иван Федоров. Был на борту и геодезист Михаил Гвоздев. Бот побывал на острове Диомида. Собрав у тамошних жителей сведения о «Большой Земле», Федоров с Гвоздевым первыми из достоверно нам известных русских мореплавателей подошли к материку, и бот бросил якорь у мыса, который теперь именуется мысом принца Уэльского. Гвоздев снял на карту часть побережья. Но потом материалы экспедиции канули в архивы, имена первооткрывателей оказались надолго забытыми, как бы заслоненными гораздо более известными плаваниями Беринга.
В июле 1741 г. к американским берегам подошел «Святой Павел» Чирикова – и возникла неразгаданная по сей день тайна...
Чириков отправил на берег шлюпку с несколькими моряками, им было поручено отыскать подходящее для якорной стоянки место, найти пресную воду и, если окажется, что поблизости обитают туземцы, войти с ними в контакт.
Шлюпка ушла в туман – и исчезла. Прошла неделя. На берегу, в районе предполагаемой высадки, был замечен огонь. Чириков послал туда вторую шлюпку. Исчезла и она. Пятнадцать человек и сегодня числятся пропавшими без вести. Поскольку море было совершенно спокойным, а в тех местах не имелось никаких таких коварных подводных скал, совершенно ясно, что обе шлюпки все же достигли берега...
Выяснить, что с ними случилось, Чириков не смог. Шлюпок на его корабле больше не было, вода и продовольствие подходили к концу, на борту началась цинга – и, спасая оставшийся экипаж, Чириков увел пакетбот...
А слухи о некоем старинном русском поселении на Аляске стойко держались на протяжении всего XVIII века. Об этом упорно твердили путешественники: Малгин (1710), Дауркин (1765), казачий сотник Кобелев (1773), ученые, участники экспедиции Беринга Иннлер, Штеллер, Линденау (О том же говорили иностранные мореплаватели – например, капитан Горо (1789). Составляя карту американского побережья, помянутый Дауркин отчего-то изобразил на берегу самую настоящую крепость. А Кобелев подробно описал все, что слышал от чукчей: на берегу реки Юконде стоит крепость под названием Кынгевей, и там живут бородатые белые люди, которые умеют читать, писать, имеют книги и молятся иконам. Он отправил даже письмо этим «бородачам» через тех же чукчей, но о судьбе послания сведений нет.
Потом в тех водах появился Григорий Иванович Шелихов, тот самый, о котором Ломоносов писал в своем стихотворении:
– Колумб российский между льдами спешит и презирает рок...Родился он в городе Рыльске Калужской губернии, происходил то ли из семьи крупного купца, то ли владельца мелкой лавочки. В семидесятых годах XVIII столетия он вместе с купцом Лукой Алиным построил небольшое судно и вывез с Алеутских островов богатый груз – шкуры морских бобров, каланов и голубых песцов. Потом построил еще несколько кораблей, которые сначала плавали к Алеутским и Командорским островам, а потом добрались и до Американского континента. В 1788 г. «Американская компания» Шелихова поставила первые укрепления на Аляске. Именно укрепления, говоря по-американски, форты – поскольку тамошние индейцы особым миролюбием не отличались. Племя колошей подчинило себе всех окрестных краснокожих, драло с них три шкуры, а потому в русских моментально увидело опасных конкурентов и реагировало соответственно...
Вот тогда-то, на переговорах с вождями племен, Шелихов и увидел среди индейцев... светловолосых и голубоглазых и сразу вспомнил об исчезнувших моряках Чирикова. Индейцы ему рассказали две совершенно противоположных версии: согласно одной, высадившихся на берег «бледнолицых» заманил в лес один из вождей, нарядившийся в медвежью шкуру. Моряки приняли его за настоящего зверя, увлеклись погоней, и их всех до одного перебили из засады. По другой версии, их взяли в плен, и они долго жили среди индейцев, оставив тех самых белокурых и голубоглазых потомков. Ясности нет и, наверное, уже не будет...
Именно компания Шелихова стала уже при Павле I знаменитой «Русско-Американской компанией», успешно осваивавшей Аляску, много лет находившуюся в русском владении. Этих земель Россия лишилась, вопреки официальной версии, не в силу неких «непреодолимых обстоятельств», а попросту из-за бездарнейшей политики Александра II, проваливавшего все, за что он брался – и внутри страны, и за ее пределами (подробно об этом – в одной из следующих книг).
В 1793 году произошла любопытнейшая история. В залив Кука приплыл английский капитан Джордж Ванкувер (тот самый, чьим именем назван город в Канаде). Почти месяц он изучал залив – считая, что это то ли устье реки, то ли попросту пролив, по которому и можно пройти из Тихого океана в Северный Ледовитый.
Тут появились на нескольких эскимосских байдарах бородатые люди вполне европейского облика. «Господа, вы кто?» – в полнейшей растерянности вопросил Ванкувер, вовсе не ожидавший встретить тут белых.
«Живем мы тут», – бесхитростно ответили бородачи. – Местные мы, сэр...»
Это были русские зверопромышленники, обитавшие в этих краях уже несколько лет. Они и поведали англичанину, что его корабль находится не в устье реки и не в проливе, а в самом натуральнейшем морском заливе – и указали его размеры и глубину, полностью соответствовавшие тем данным, что месяц собирал Ванкувер.
Исследователь добросовестный и честный, английский капитан подробно описал эту историю в своей книге. Мало того, именно он назвал один из островов Кадьякского архипелага именем Алексея Чирикова: «...в честь сотоварища Беринга, которого подвиги на многотрудной стезе открытий не были еще, таким образом, переданы памяти потомства». Увы, эта ситуация встречается частенько – когда не сами русские, а иностранцы отдают должное нашим землякам...
Я обязательно напишу отдельную книгу о Русской Америке. А пока что, завершая главу, упомяну о событии, которое отношения к географическим открытиям не имеет, но является важнейшим для отечественной медицины.
Именно Екатерина стала инициатором оспопрививания в России. Эта «чума XVIII века» последний раз прокатилась по нашей стране в 1768 г., оставив десятки тысяч покойников и не меньшее число навсегда обезображенных. В Англии в том же оду врач Эдвард Дженнер наконец отыскал средство от страшной болезни – прививку. Он привил восьмилетнему мальчику сначала коровью, а потом человеческую оспу, и мальчик остался жив, подтвердив теорию.
Однако и Англия, и остальная Европа как-то не спешили внедрять новшество – как бы чего не вышло, дело новое и сомнительное...
Тогда Екатерина пригласила ученика Дженнера, военного врача Томаса Димсдейла, в Россию. В том же 1768 г. он привил оспу сначала Екатерине, а потом четырнадцатилетнему наследнику Павлу Петровичу и Григорию Орлову.
Здесь Екатериной нельзя не восхищаться: дело было новое, «просвещенная» Европа его откровенно побаивалась, и принять такое решение наверняка было нелегко...
Екатерина писала впоследствии: «Мне посоветовали привить оспу моему сыну. Но, сказала я, с каким лицом сделаю я это, если не начну с себя самой, и как ввести прививание оспы, если я не подам тому примера. Я принялась за изучение этого предмета, твердо решившись взяться за средство менее опасное. Последующее размышление заставило меня решиться наконец. Всякий благоразумный человек, видя перед собою две опасные дороги, избирает ту из них, которая менее опасна. Было бы тупостью оставаться всю жизнь в действительной опасности со многими миллионами людей, или же предпочесть меньшую опасность, продолжавшуюся короткое время, и тем спасти много народу. Я думала, что выбрала самое верное; миг прошел, и я в безопасности».
Оспу императрице, наследнику и Орлову прививали от больного ею пятилетнего мальчика «из простых», Александра Даниловича Маркова. После удачной операции он указом Екатерины был возведен в дворянство под фамилией Оспинный и пожалован тремя тысячами рублей. Ничем особенным, впрочем, он себя впоследствии не проявил – служил в армии и по болезни в тридцать лет вышел в отставку секунд-майором.
Пример императрицы произвел должный эффект: все столичное дворянство, а за ним и провинциалы, наперебой кинулось прививаться. Оспопрививание стремительно распространилось в России, опередив Европу. Димсдейл и его помощник-сын стали российскими баронами.
А теперь от мирных медицинских дел перейдем к вещам прямо противоположным – к тем войнам, что велись в царствование Екатерины. Среди них нет ни одной проигранной.
Глава девятая Гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс
Это – строчки из Державина. Ничуть не противоречащие исторической правде, в царствование Екатерины велись три больших войны, одна со Швецией и две с Турцией. Все они были оборонительными, все они закончились для русского оружия самым почетным образом.
Первая русско-турецкая война началась из-за Польши. Там Екатерина несколько лет назад назначила королем своего бывшего сердечного друга Станислава Понятовского, что сама объясняла со здоровым цинизмом: «Из всех искателей он имел наименее прав, а следовательно наиболее должен был чувствовать благодарность к России».
Кое-кто может тут усмотреть очередные «имперские амбиции», но перед нами всего-навсего рациональная внешняя политика: любое государство заинтересовано в том, чтобы соседствующие с ним державы возглавляли не враги, а люди удобные...
К сожалению, Понятовский был совершеннейшим ничтожеством и бездарностью – уж никак не тем человеком, который сумел бы держать в узде буйную польскую шляхту. Означенная шляхта быстро создала так называемую Барскую Конфедерацию (от названия городка Бар на турецкой границе), собрала войско и начала мятеж. При этом гордые шляхтичи ориентировались на басурманскую Турцию, от которой получали поддержку – ради выгоды можно было заискивать и перед «нехристями»...
Понятовский, не способный справиться с этим самостоятельно, в панике запросил помощи у России. В Польшу весной 1768 г. без промедления вошла русская армия под командованием генералов Апраксина, Кречетникова и Прозоровского.
Шляхта очень быстро обнаружила, что произносить воинственные речи и бряцать саблями – это одно, а вот воевать по-настоящему – совсем другое. Троица бравых генералов быстренько показала бунтующим кузькину мать: Кречетников после трехнедельной осады взял укрепленный монастырь Босых Кармелитов, Апраксин занял Бар, откуда драпанули конфедераты, а потом Апраксин и Прозоровский, по пути расколошматив мятежников под Бродами, заняли Краков.
Тут зашевелился Стамбул, ультимативно потребовав, чтобы Россия убрала войска из Польши, поскольку означенная территория является «сферой жизненных интересов» Турции.
Россия, полагавшая, что Польша является как раз сферой жизненных интересов ее самой, отказалась. Тогда султан, по старому обычаю засадив русского посла Обрезкова в Семибашенный замок, двинул против России войска.
И получил по полной программе. На суше блестяще действовал талантливый полководец Румянцев, автор многих тактических новинок (в подчинении у него был молодой полковник Суворов, уже прекрасно себя показавший в боях против конфедератов). Коротко говоря, война на суше сводилась к тому, что турок лупили и лупили.
На море с ними поступали столь же решительно. Русский десант под командованием бригадира Авана Абрамовича Ганнибала, сына «арапа Петра Великого», лихим ударом взял крепость Наварин – а через три месяца произошло знаменитое морское сражение в Чесменской бухте. Русский флот возглавлял Алексей Орлов, «Генералиссимус и генерал-адмирал всего Российского флота в Средиземном море». Но фактически командовали адмирал Спиридов и капитан-командор Грейг, шотландец на русской службе (впоследствии дослужившийся до полного адмирала, ставший русским дворянином и командующим Балтийским флотом).
Это была блестящая, звонкая победа, которой вправе до скончания времен гордиться любой военно-морской флот. После победы в Хиосском сражении русские заблокировали турецкий флот в Чесменской бухте.
И расчихвостили, как Бог черепаху.
Сгорело 15 турецких линейных кораблей, 6 фрегатов и 5 галер, а также множество мелких судов. Русские захватили целехонькими 66-пушечный корабль «Родос», пять галер и 22 пушки. Турки потеряли около десяти тысяч человек. Русские потери составили одиннадцать человек.
К сожалению, от столь блестяще выигранной войны Россия тогда не получила особенных выгод – пришлось срочно заключать мир, потому что армия требовалась для борьбы против Пугачева. Но именно во время этой войны русские войска вступили в Крым, добились его независимости от Турции, посадили на трон (или что там было) своего хана – а в 1783 г. Крым был официально присоединен к России.
Это – еще одна славная страница екатерининских свершений. Было ликвидировано разбойничье гнездо, откуда не одну сотню лет совершались набеги на нашу родину – с неисчислимыми разрушениями, грабежами и угоном в неволю сотен тысяч пленников. Россия прочно утвердилась на Черном море, а южные земли стали из «Дикого поля» российскими губерниями.
В 1788 г. против России начали войну жаждавшие реванша шведы.
Несколькими годами позже первой русско-турецкой войны Екатерина, не вступая в военные действия, поставила на место «владычицу морей» Англию. Тогда как раз началась освободительная война североамериканских колоний против осточертевшей метрополии. Выросло новое поколение людей, которые считали себя уже американцами – и решительно выступили против дурацких, отживших свое феодальных порядков, старательно поддерживавшихся Лондоном и за океаном.
Англия поначалу пыталась просить помощи у России, добиваться, чтобы Екатерина послала в Америку свои войска и помогла раздавить возомнивших о себе колонистов. Британцы упирали на то, что в Америке, мол, «чернь» восстала против монархии – а следовательно, Екатерина, говоря современным языком, является «классово близким» союзником.
Однако в России тогда прекрасно понимали: бунтовать против монархии, конечно, нехорошо, но, с другой стороны, Англия как раз и есть главный противник, не раз доказывавший это на практике откровенно враждебными акциями. Екатерина отказалась собственными руками усиливать Англию.
Тогда британцы, чтобы пресечь доставку в Америку продовольствия и вооружения для взбунтовавшейся колонии, стали захватывать корабли всех без исключения стран – по малейшему подозрению в том, что они «могут плыть» в Америку. И самым наглым образом взяли на абордаж несколько русских кораблей, везших зерно вовсе не в Америку, а в Средиземное море.
Тогда Екатерина собственноручно разработала «Декларацию о вооруженном нейтралитете». Суть ее состояла в том, что кораблям нейтральных стран разрешалось беспрепятственно плавать у берегов воюющих держав (против Англии к тому времени воевали Франция, Испания и Голландия), и все грузы, находящиеся на кораблях под нейтральным флагом, являются неприкосновенными (кроме оружия и боеприпасов, о которых точно известно, что их везут в Америку).
Декларацию в кратчайшие сроки признали только что образованные США, Дания, Швеция, Голландия, Пруссия, Австрия, Испания. Историки эту конвенцию однозначно оценивают как документ, во многом способствовавшей освобождению США от колониального гнета.
А в 1788 г. начала войну возжаждавшая реванша Швеция... Без объявления войны шведы осадили крепости Нейшлот и Фридрихсгам. Только через несколько дней король Густав III предъявил России ультиматум.
Историки над этим ультиматумом, забыв об академическом беспристрастии, откровенно потешаются. К тому есть все основания: неведомо с какого перепугу Густав требовал, чтобы Россия немедленно вернула Швеции все земли в Финляндии и Карелии, отошедшие русским в результате прошлых войн – а Турции вернула Северное Причерноморье, Крым и часть Грузии. Подобные требования, в общем, принято выставлять наголову разбитому противнику – но король Густав был человеком, деликатно говоря, странноватым: во всеуслышание хвастал, что он через пару недель займет Петербург, велит свалить Медного всадника, а не его место водрузить собственную конную статую.
Война, уточним, началась с откровенной провокации: поскольку по конституции шведский король имел право вести исключительно оборонительную, а не наступательную войну, то Густав велел переодеть парочку своих батальонов в русскую форму и отправить их в Финляндию, где «русские» принялись жечь и грабить деревни. После чего, естественно, мирная Швеция просто обязана была начать оборонительную войну против агрессора...
Похвальбы и ультиматумы Густава, как моментально выяснилось, нимало не соответствовали реальному положению дел. Когда король, лично руководивший осадой Нейшлота, потребовал сдать крепость, русский комендант ответил: «Я без руки, не могу отворить ворот; пусть его величество сам потрудится».
Нейшлот был довольно слабым укреплением, а его гарнизон – немногочисленным. Но все равно, как ни старались шведы, Нейшлота они не взяли и убрались восвояси после первого же штурма. С Фридрихсгамом обстояло еще позорнее: только-только король отправил в крепость парламентеров, требуя сдаться, появились со стороны суши русские подкрепления. Шведы с королем во главе, пихаясь локтями, кинулись на свои галеры и, загребая так, что весла трещали, уплыли несолоно хлебавши.
На море шведов в основном били – дважды в 1789 г., в мае 1790-го (когда они, имея тройное превосходство в силах, напали на стоявшую в Ревеле эскадру Чичагова, но потеряли в бою несколько кораблей и убрались в море). Под Выборгом чуть позже тот же Чичагов заблокировал шведский флот (где на одном из кораблей находился сам Густав). Шведы вырвались с превеликим трудом, но пять тысяч моряков попали в русский плен, и немало кораблей было уничтожено. Между прочим, на стороне шведов преспокойнейшим образом воевал английский адмирал Смит, особо не маскируясь (при том, что меж Россией и Англией не было войны).
Исторической справедливости ради стоит упомянуть, что и русский флот в ходе этой войны потерпел однажды крупное поражение – на Роченсальском рейде, где 55 русских кораблей (треть принимавшей участие в сражении эскадры) была потоплена или захвачена. Авторы одного из капитальных трудов по военной истории объясняют это «глупостью и бездарностью» командовавшего русской эскадрой германского принца Карла Нассау-Зигена, которого отчего-то именуют «международным авантюристом на русской службе». Истине это, надобно знать, не соответствует. Принц был никаким не авантюристом, а приличным человеком, опытным офицером (участвовавшим не только в европейских войнах, но и в научной французской кругосветной экспедиции капитана Бугенвиля). Сама Екатерина виновным принца вовсе не считала, прекрасно зная, что он потерпел поражение главным образом из-за сильного шторма. Дело в том, что почти все русские корабли были гребными – и, когда погода испортилась, парусный шведский флот получил несомненное преимущество над галерами. Когда принц подал прошение о лишении его ввиду поражения должности, всех русских чинов, званий и орденов (странноватый поступок для «международного авантюриста», не правда ли?), Екатерина отправила вице-адмиралу недвусмысленное письмо: «Я не забыла, что вы семь раз были победителем на юге и на севере. Сей же раз была буря, которая противоборствовала вашему предприятию и которая обычна человеку, находящемуся на морской службе. Вы мне служили, еще служите и впредь будете служить, дабы урон сей наградить».
Ну, а потом Густав III, совершенно забыв о своем дурацком ультиматуме и планах касаемо Медного всадника, смиренно запросил у России мира: его казна опустела, подданные негодовали, а пообещавшая союз Англия благоразумно воздержалась от посылки своей эскадры на помощь шведам. Мирный договор был заключен, оставив границы обоих государств неизменными.
В 1787 г. Турция опять-таки предъявила России ультиматум – вернуть ей Крым, отказаться от мирного соглашения по итогам прошлой войны, отказаться от покровительства Грузии. И, не ожидая даже ответа, объявила войну.
И снова получила по сусалам – еще качественнее, чем в прошлый раз. В сражении при Кинбурне Суворов отразил попытку турок вторгнуться в Крым. Румянцев взял города Хотин и Яссы и двинулся к Черному морю. Князь Григорий Потемкин штурмом взял Очаков. Турок колошматили под Фокшанами, у Рымника, взяли крепости Аккерман и Бендеры – а несколько позже Суворов взял и считавшийся неприступным Измаил. Английское правительство, к слову, несколько раз направляло в Петербург своих представителей, которые буквально руки выкручивали русским министрам, неприкрытым шантажом и угрозами заставляя заключить мир с Турцией на невыгодных для России условиях. Однако Екатерина держалась твердо и писала своим иностранным корреспондентам, что «не потерпит, чтобы ей предписывали законы, и что, наконец, она бы давно заключила мир, если бы смутники (т. е. англичане – À. Á.) сидели смирно и не мешали туркам мириться, а на это дело они тратят попусту огромные суммы. Русские так и останутся русскими».
В результате турки не только признали присоединение к России Крыма, но и передали России территории меж Бугом и Днепром, в том числе Очаков и местечко Гаджибей, на месте которого чуть позже появилась Одесса. Можно было бы добиться и больших уступок – но помешали польские события. Там вспыхнул очередной мятеж панов шляхтичей. На сей раз дошло до того, что незадачливого короля Станислава вытащили из кареты и вдумчиво отхлестали по физиономии. Все-таки бездарный был человечишка, совершенно никчемный – я что-то не помню в Европе другого монарха, которому взбунтовавшиеся поданные самым вульгарным образом били бы морду. Дальше и ехать некуда...
Подробно описывать польские дела нет нужды – достаточно констатировать тот факт, что Польша превратилась в совершенно неуправляемое и нежизнеспособное государство. Россия, Пруссия и Австрия ее без особых церемоний взяли да и поделили меж собой – причем России достались не польские земли, а территории, населенные украинцами и белорусами, которые сама Польша в свое время приобрела захватом...
В качестве положительных деяний Екатерины безусловно следует назвать решительную и окончательную ликвидацию Запорожской Сечи.
С легкой – и бесспорно талантливой – руки Николая Васильевича Гоголя у нас как-то привыкли считать эту разросшуюся до невероятных пределов разбойничью шайку этакими светлыми рыцарями, борцами за веру православную. Увы, мало-мальски детальное исследование камня на камне не оставляет от этой версии. Запорожцы были именно примитивной бандой, озабоченной лишь грабежом любых соседей, до которых могли дотянуться.
Что касаемо православной веры – в Запорожской Сечи и в самом деле находилось некоторое количество священников. Однако «кошевые», запорожские атаманы, категорически отказывались, как везде полагалось, подчинять этих священников и патриарху всея Руси, и даже митрополиту Киевскому, заявляя, что они сами-де и есть «церковное руководство» в Запорожье. Подобное, мягко говоря, несколько противоречит церковным установлениям...
Кстати, запорожцы с превеликим удовольствие совершали набеги на православную Молдавию, где с одинаковым усердием грабили как турецкие деревни, так и своих единоверцев – и несколько раз пытались захватить Молдавию в собственность (очень уж богатый был край), но зловредные турки воспрепятствовали (подозреваю, при поддержке самих молдаван, которые вряд ли приходили в восторг оттого, что их жгут и грабят не турецкие янычары, а вполне православные «лыцари»...)
Как на деле проходила «борьба с басурманами», прекрасным образом показывает история набега на Крым запорожского атамана на Сирко в 1675 г. Как следует там побуйствовав и пограбив, запорожцы вернулись в свои степи, уводя с собой несколько тысяч пленников, схвачены без различия вероисповедания. Остановившись лагерем, начали их сортировать. Христиан оказалось семь тысяч. Тогда атаман Сирков вопросил: кто из вас, православные, хочет идти с нами, а кто вернуться в Крым?
Так вот, три тысячи из семи – русские, православные – пожелали как раз вернуться в Крым! Мотивируя это тем, что им с татарами живется не так уж плохо, особого утеснения православной вере не наблюдается, у каждого есть свое хозяйство, которое жаль бросать.
Что-то не вполне похоже на классическую картину угнетенных славян, стенающих под жестоким басурманским игом?
Так вот, Сирко эти три тысячи отпустил назад в Крым – и тут же послал за ними вслед казачий отряд с приказом вырубить всех до единого. Казаки этот приказ скрупулезно исполнили.
Исторический факт.
Да, для ясности: если кому-то доведется перечитывать «Тараса Бульбу», непременно учтите: те города, которые казаки осаждают, штурмуют и разоряют дотла, никоим образом не «польские». Это города с русским населением, разве что исповедующим не православие, а католицизм. Красавица «панночка» из повести Гоголя – никакая ни полячка, а русская девушка. Именно так и обстояло...
Знаменитое письмо запорожских казаков турецкому султану (абсолютно реальное и, кстати, не единственно) известно многим. Безусловно имеет смысл привести начало письма, адресованного на сей раз христианской коронованной особе.
«Божией милостью, августейший и непобедимейший христианский император, всемилостивейший государь. Всепокорнейше чистосердечно мы передаем Вашему Императорскому Величеству как верховной главе всех христианских королей и князей себя самих и постоянную верную покорнейшую службу свою; молимся также Богу всемогущему за здравие и счастливое царствование Его Императорского Величества в христианских странах, и чтобы тот же Всемогущий унизил врагов святого креста, турецких бусурманов и татар, также чтобы даровал Вашему Императорскому Величеству победу, здравие и блага, Вами только желаемые. Вот что все запорожское войско желает Вашему Императорскому Величеству верно и чистосердечно».
Кто же этот христианский император, которому запорожцы готовы верно и преданно служить, за которого запорожцы молятся? Только не подумайте, что это кто-то из русских...
Когда было написано это письмо, в России императоров еще не было, а на царстве сидел Федор Иоаннович. «Верховный глава всех христианских королей и князей», которому верноподданническое послание адресовано... император Священной Римской Империи Рудольф!
Стопроцентный «латынец», к православной вере не питавший ни малейшей любви. Но император нанял казаков к себе на службу (между прочим, в том числе и для похода в православную Валахию), платил хорошие деньги, а потому к католическому монарху следовало относиться с самым что ни на есть раболепием – иначе обидится и денег больше не даст...
Кстати, еще во времена Петра I часть запорожцев (так называемые некрасовцы) ушли в Крым. О их дальнейшей службе пишут русские историки: «Те были гвардией Крымского Хана; в набегах Крымцев на Россию Некрасовцы всегда шли вперед, указывали знакомый путь, выискивали скрывшихся в знакомых местах жителей; были самыми злейшими нашими врагами: зеленые их знамена носились всегда в тех местах, где проливалось больше Русской крови, где более было пожаров и более забиралось пленников».
Интересные дела! Еще менее напоминающие борьбу с басурманами за святую православную веру...
Били челом запорожцы и польскому королю Стефану Боторию – в обмен на пожалования и привилегии. Рассорились они с «чертовыми ляхами» гораздо позже, когда преемник Батория перестал посылать в Сечь золото и наделять «лыцарей» шляхетскими правами. Впрочем, поссорились не навсегда. После завершения Смутного времени и избрания царем Михаила Романова польских королевич Владислав пошел войной на Русь – и запорожцы к нему охотно примкнули, разграбив и спалив дотла немало русских городов. А в 1709 г., накануне Полтавской битвы, запорожцы во главе с атаманом Гордиенко выступили на стороне шведов совместно с гетманом Мазепой – по этой причине им вскоре пришлось бежать в Турцию...
Одним словом, Запорожская Сечь была и оставалась просто-напросто бандой разбойников, готовой служить за хорошую плату кому угодно против кого угодно. Другие казачьи войска, хотя и принимали порой участие в русских смутах на стороне отнюдь не законной власти, все же выглядели гораздо более прилично: они жили оседло, с женами и детьми, пахали землю, разводили скот, занимались охотой, ремеслами – и большей частью служили России верой и правдой (донцы, кстати, запорожцев прямо таки ненавидели). Запорожцы же вели жизнь, далекую от нормальной: в их «малины» женщины категорически не допускались, не говоря уже о том, чтобы заниматься сельским хозяйством или полезными ремеслами – настоящий «лыцарь» признавал исключительно грабеж.
Даже против яицких казаков, поддержавших Пугачева, Екатерина не провела массовых репрессий. Реку Яик переименовали в Урал, Яицкое войско – в Уральское. Часть замешанных в бунте императрица попросту переселила в Сибирь, где они положили начало нескольким казачьим войскам.
А вот с запорожской бандой разделалась без малейших церемоний. В один прекрасный день Сечь окружили войска генерала Текели и объявили, что таковая отныне считается ликвидированной на вечные времена, а населяющим ее лоботрясам предоставляется на выбор: либо поступить на службу в русскую армию, либо освоить какое-нибудь полезное ремесло и записаться в городские жители.
Некоторая часть так и поступила. Другая предпочла сбежать как раз к басурманам – в Турцию, отчего-то предпочитая покровительство «нехристей» жизни среди единоверцев.
Эх, и помотало эту братию по Европе! Как известный предмет в проруби... Сначала турки их поселили на Балканах – но там, легко догадаться, не было никаких возможностей для грабежи, и часть запорожцев оказалась в Австрии, где тем более не прижилась. Кое-кто из них все же вернулся в Россию, положив начало Кубанскому казачьему войску, но многие так и остались на чужбине. Последнего кошевого атамана Сечи Екатерина без всякой гуманности определила за решетку. Сидел он и при Павле, и при Александре I, пока не помер...
Последние осколки некогда грозной Запорожской Сечи, не в силах отрешиться от традиций, основали в Турции Задунайскую Сечь, просуществовавшую (точнее, прозябавшую) аж до 1828 года. Потом все-таки ушли в Россию. На том и кончилась история примитивной банды, опоэтизированной Николаем Васильевичем Гоголем совершенно не по заслугам, вопреки суровым историческим фактам...
Что еще можно рассказать о внешней политике Екатерины? Порой ее упрекают в том, что она не оказала должной помощи в борьбе с революционной заразой, исходившей от Франции.
Однако обвинения эти насквозь несправедливы. В конце-то концов, не могла же Россия практически в одиночку посылать армию через всю Европу. Поскольку никакой «коалиции», поставившей бы целью восстановить во Франции монархию, попросту не существовало. Поначалу против нее выступили армия из эмигрантов и пруссаков – но главнокомандующий, герцог Брауншвейгский (как достоверно выяснилось только через двадцать лет, после его смерти), попросту принял от посланцев революционного Парижа в виде взятки бриллиантов на сумму в пять миллионов (революционеры инсценировали «ограбление неизвестными лицами» королевской сокровищницы, и камушки уплыли к герцогу).
Равным образом и Англия первые несколько лет не проявляла никакого желания воевать против Франции. По весьма житейской и крайне выгодной для себя причине. Дело в том, что, как это обычно водится во времена революций, французы, увлеченно ликвидируя все «принадлежности старого режима», вместе с тем, что безусловно заслуживало отмены, изничтожили и некоторые вполне полезные учреждения, необходимые любой власти. В частности, отменили не только пережиток средневековья, внутренние таможни, но и таможенные пункты в портах, через которые ввозились иностранные товары. Два или три года английские негоцианты ввозили во Францию все, что хотели, в любых количествах, не платя ни копейки пошлины. Это было так доходно, что в британском парламенте «купеческое лобби» блокировало любые меры, направленные против революционной власти...
Что же, Россия должна была в одиночку донкихотствовать?
Екатерининские дипломаты в свое время любили говаривать: «Без нашего позволения ни одна пушка в Европе выстрелить не сможет».
И это, знаете ли, вполне соответствует истине...
В этой короткой фразе, в общем, прекрасно характеризуется тогдашнее положение России на международной арене.
Рассказ о политике закончен, и теперь мы перейдем к тем самым увлекательным вещам, о которых читать гораздо интереснее, чем о скучных словопрениях дипломатов – интригам, заговорам, самозванцам екатерининских времен.
Глава десятая Кавказская княжна и прочие
Сначала – о заговорах, если можно так выразиться, «внутренних», то есть задуманных гвардией здесь же, в Петербурге, я бы даже сказал, в тесном семейном и дружеском кругу.
После неудачного предприятия Мировича года три было совершенно тихо, никто на императрицу не злоумышлял.
Ну, а потом – началось...
В 1767 г. определенно что-то произошло. Достоверных данных нет до сегодняшнего дня, но долго, подозрительно долго ходили слухи, что во время поездки Екатерины в Москву там на нее было совершено покушение. Быть может, и правда. В характере Екатерины как раз было бы скрыть понадежнее все детали, подробности и обстоятельства. Умные правители так и поступают – чтобы меньше было болтовни. Глупые, наоборот, поднимают шум на всю прилегающую Вселенную. Вот, скажем, некий идеалист по фамилии Дамьен совершил покушение на жизнь Людовика XV – точнее, чуточку поцарапал его перочинным ножичком не в целях смертоубийства, а демонстрации ради. Чтобы таким образом, изволите ли видеть, сообщить его обожаемому величеству: страна на пороге пропасти, финансы в кризисе, министры дураки и короля обманывают...
Дамьена торжественно и принародно раздернули на куски четверкой лошадей посреди Гревской площади – а попутно самым подробным образом рассказали стране о нем, его мотивах и его показаниях на следствии. Страна на пороге пропасти, финансы в кризисе, министры дураки и короля обманывают – лишний раз прозвучало на всю Францию...
В том же шестьдесят седьмом году капитан кавалергардского полка Панов и еще несколько гвардейских офицеров начали вести меж собой крайне крамольные разговоры: мол, великому князю Павлу Петровичу исполнилось тринадцать лет, по законам Российской империи он вошел в совершеннолетие... а потому не положить ли конец «бабьему царству»? Самым решительным образом, как уже не раз поступала гвардия?
Всех их быстрехонько сослали кого в Сибирь, кого на Камчатку – тогдашний край света, далее которого никакой Макар со своими телятами уже не доберется.
1769 г. Восемнадцатилетний офицер из нарвского гарнизона Опочинин, поддержанный корнетом Батюшковым, начал всем рассказывать, что он – сын Елизаветы и «англицкого короля» (с которым Елизавета в жизни не виделась). А потому Екатерину следует заарестовать и посадить в крепость, Орловых перебить без жалости, всех пятерых, чтобы не маячили и не воображали из себя – а на трон возвести Павла Петровича. Впрочем, Опочинин тут же мечтательно уточнял, что здоровье у великого князя слабое, того и гляди, помрет скоро, и тогда уж императором будет он сам.
Поначалу его слушали, не выдавая, но потом Опочинин нарвался на батальонного лекаря Лебедева, который, как истинный интеллигент, тут же сообщил куда следует. Обоих офицеров моментально арестовали. На допросах они валили вину друг на друга – Опочинин клялся, что это Батюшков его уверил в «царском» происхождении, Батюшков отпирался, и оба утверждали, будто «все спьяну», прекрасно зная, что на Руси именно этот аргумент сплошь и рядом служит смягчающим обстоятельством.
То ли и судьи так же думали, то ли постарался настоящий отец Опочинина (не англицкий король, а русский генерал-майор), но юные обормоты отделались, по меркам того столетия, довольно легко: смертную казнь Екатерина заменила Батюшкову пятилетней каторгой, а Опочинину – и вовсе ссылкой в Иртышский гарнизон.
Лично меня такой мягкий приговор крайне удивляет. Потому что в протоколах допросов попадаются такие показания, которые непременно должны были заставить Екатерину насторожиться. Опочинин: «Настоящая государыня не императрица, а управительница». Батюшков: «Вот-де, когда цесаревич вырастет, то, верно, спросит, куда батюшку-то его девали, и так-де Бог Орловым за это заплатит...»
Опасные были словеса... Но – обошлось.
В 1772 г., накануне восемнадцатилетия Павла в гвардии вновь начались совершенно предосудительные разговоры. Солдат Исаков рассказал солдату Жихареву, что Гришка Орлов хочет извести наследника Павла Петровича и сам сесть на царство. Жихарев побежал с этакой новостью к солдату Карпову, тот – к капралу Оловенникову. Оловенников пересказал все подпоручику Селехову, но, в отличие от предыдущих, не просто разнес сплетню, а еще и предложил немедленно составить план действий, как возвести на трон Павла, пока Гришка его не погубил.
Все вышеперечисленные, не теряя времени даром, тут же стали планировать переворот. В этой непринужденности не было ничего от клиники или тупоумия: в конце-то концов, в Российской империи примерно такая же горстка гвардейцев свергала и Бирона, и Анну Леопольдовну...
Екатерину решено было бестрепетно прикончить – а если Павел Петрович проявит чистоплюйство и не захочет занимать добытый подобным образом трон, то и его зарезать к чертовой матери, а в государи выбрать, «кого солдаты захотят». Впрочем, разошедшийся капрал Оловенников предложил в развитие идеи не связываться с волеизъявлением масс (что они понимают в высокой политике?), а назначить самодержцем всероссийским его самого. За поддержку он обещал сообщнику, солдату Подгорцеву, чин фельдцехмейстера, то есть командующего всей российской артиллерией, его брату – пост генерал-прокурора, а солдату Карпову – звание генерал-адъютанта. Однако Подгорнев с таким раскладом не согласился и выдвинул уже свою кандидатуру в императоры, вполне логично заявив капралу: «Если тебе можно, отчего мне нельзя?» Какое-то время шумно препирались, кому же все-таки быть царем, но к согласию так и не пришли. Чтобы не погрязнуть в бесконечных спорах, решили выбрать в цари того самого князя Щербатова, как человека честного, умного и доброго (князь от такой чести, надо полагать, с инфарктом бы свалился).
Заговор ширился, на полном серьезе стали разрабатывать план похищения наследника. Как обычно случается, когда вовлекают много народу, нашлись доносчики...
Всех замешанных выдрали кнутом и сослали в Сибирь.
А по необъятным просторам Российской империи к тому времени уже шастали многочисленные «чудесно спасшиеся Петры Федоровичи»! В немалых количествах.
Дело в том, что в смерть Петра упорно не верили. За свое короткое полугодовое царствование он успел сделать много толкового и доброго – и возбудил еще больше надежд. Не только среди простонародья, но и в кругах столичных дворян ходили слухи, что Петр все же жив, что похоронили неизвестно чье тело, совершенно постороннее, а настоящий император то ли сумел бежать за границу, то ил содержится в Шлиссельбургской крепости, то ли сидит в уединенном каземате в Риге.
И появились самозванцы, самые разные типажи. Некий пропившийся капитан Оренбургского гарнизона начал было признаваться окружающим: «Хочу сказаться государем Петром Федоровичем, может, какой дурак и поверит», – но, поразмыслив, от столь опасной затеи все же отказался.
Зато гораздо больше решительности проявил беглый солдат Гаврила Кремнев. Сначала он, выдавая себя за капитана, ездил с двумя сообщниками по Воронежской губернии и мутил народ, утверждая, будто прислан огласить указы об отмене подушных податей и набора в солдаты. Потом решил не мелочиться и провозгласил себя Петром. Одного своего «оруженосца» произвел в «генералы Румянцевы», другого – в «генералы Пушкины», собрал небольшую ватагу, но был изловлен. Естественно, драли кнутом, клеймили, загнали в вечную каторгу. Так же поступили с объявившем себя Петром армянином Асланбековым, беглыми солдатами Евдокимовым и Чернышовым, казаком Каменьщиковым, дерзнувшими тоже утверждать, будто они – Петры.
Таких «императоров» набралось десятка два. А то и гораздо больше. Время от времени объявлялись Иоанны Антоновичи, а однажды мелькнул даже... Алексей Петрович, да не один, а в компании с Петром II. Право слово, эпидемия какая-то...
Самое интересное, что и за границей объявились «Петры Федоровичи», целых три. Двое из них промелькнули по страницам истории бледными тенями, не оставив ни малейшего следа, а вот третий, некто Степан Малый, оказался гораздо активнее: его даже выбрали правителем Черногории. История известная и откровенно сюрреалистическая: какое-то время русские представители в Черногории не делали ни малейших попыток самозванца изобличить – поскольку на русский трон он не претендовал, а России важно было утвердить свое влияние на Балканах, потеснив турок. «Петру Федоровичу» даже вручили в подарок от императрицы русский военный мундир. Потом, правда, арестовали – что интересно, при полном нейтралитете черногорских «поданных». Под арестом Степан и умер – а чуть позже появился уже его двойник-самозванец...
Ну, а потом объявился Пугачев.
События, известные, как «Пугачевский бунт», до сих пор остаются во многом непроясненными и крайне загадочными. Они ничем не напоминают мятеж Разина. Разинская ватага, собственно говоря, была всего-навсего лишенной всякой идеологии и программ гигантской разбойничьей шайкой. Поначалу Разин ходил разбойничать в Персию, но потом его оттуда вышибли, и он, поднакопив силенок, стал промышлять уже в России. Какое-то время, пользуясь слабостью гарнизонов, громил и грабил города, но, как только послали регулярные воинские части, Разину пришел конец.
Так вот, у Пугачева, в отличие от предшественника, имелась и программа, и идеология, и даже система управления...
Изучая те скудные сведении, что доступны (а доступно отчего-то крайне мало), невозможно отделаться от впечатления, что Емельянов Пугачевых было два. Перед нами – два совершенно разных человека. Один – ничем не примечательный, не блиставший ни умом, ни талантами рядовой казак, неграмотный дезертир, в котором окружающие не отметили ровным счетом ничего выдающегося, достойного внимания. Второй – предводитель восстания – оказался толковым организатором, превратившим в самые сжатые сроки свое воинство в прекрасно организованную армию.
Уже через месяц после того, как Пугачев «объявился», начала действовать Военная коллегия, форменным образом возникшая на пустом месте. Она занималась прежде всего комплектованием полков и снабжением войск продовольствием, обмундирование и вооружением, а также ведала административными делами на контролируемой повстанцами территории, финансами, распределением изъятого имущества, разбирала жалобы пострадавших от «неорганизованных» бесчинств. Это было крупное, работоспособное и эффективное учреждение. Как такое ухитрился устроить простой неграмотный казак, остается загадкой. Смешно было бы объяснять этот успех стараниями его есаулов-самородков. Чудеса, конечно, случаются, и самородки встречаются, но не перебор ли с чудесами?
Любопытно, что первые манифесты «государя императора» вовсе не провозглашали поголовное истребление дворянства. Пугачев лишь обещал «отобрать» у помещиков земли и крестьян, но взамен... «платить большое жалованье». Лишь гораздо позже, во время крупных неудач, «государь» велел вырезать дворян поголовно.
А если учесть, что при Пугачеве находилось немало якобы «пленных» офицеров, служивших тем не менее верой и правдой... В том числе прототип пушкинского Швабрина – сын того самого Шванвича, что полоснул саблей Орлова, Алексей Шванвич. И бывший депутат Комиссии по составлению Уложения Тимофей Падуров. И еще многие. При штабе и в войсках Пугачева оказалось немало ссыльных польских конфедератов, были там и какие-то загадочные французы – а в составе армии повстанцев сражались отряды поволжских немцев-колонистов, приглашенных Екатериной в Россию.
Связи Пугачева тянулись и за границу. До сих пор неизвестно, чем он, собственно, занимался во время своего пребывания в Польше. Есть глухие упоминания о его контактах с мощной общиной староверов, обитавших в местности под названием Ветка на территории Жечи Посполитой. А впоследствии у Пугачева неведомо откуда обнаружилось подлинное голштинское знамя – одно из четырех, когда-то принадлежавших голтшинской гвардии Петра III. Подозревали как раз староверов.
Что интересно, пугачевская артиллерия была... лучше той, которой располагали правительственные войска. Генерал Кар, самонадеянно решивший шапками закидать «толпу мужичья», но сам в два счета моментально разбитый этой толпой (а ведь у него была тысяча триста опытных солдат!), доносил настоящей Военной коллегии: «Артиллериею своею чрезвычайно вредят, отбивать же ее атакою пехоты весьма трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из нее, имея для отводу готовых лошадей, и как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми дальше на другую гору, опять стрелять начинают, что весьма проворно делают и стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было».
Иногда это объясняют тем, что у пушек-де стояли опытные в стрельбе «мастеровые уральских заводов» – но в том-то и соль, что сражение с Каром происходило до того, как Пугачев достиг Урала! Во время осады Оренбурга (опять-таки до похода на Урал) пугачевцы навесным огнем, что опять-таки требует немалого мастерства, громили дома в центре города – и по сохранившимся подробным описаниям историки делают вывод, что действовали опытные артиллеристы. Снова самородки?
Кстати, рота гренадер, двигавшаяся на соединение с Каром, по собственному почину сдалась, едва завидев не такие уж и превосходящие силы пугачевцев. И отряд полковника Чернышова преспокойным образом сдался...
Вот тогда-то Кар и совершил странный поступок, которому историки до сих пор не находят объяснения – помчался в Петербург. Получив от президента Военной коллегии графа Чернышова предписание вернуться назад, он продолжал путь. В конце концов его задержали в Москве и тут же уволили со службы, объявив «трусом», дезертиром. Однако он был старым служакой и прежде в трусости не замечен. Быть может, он стремился сообщить императрице нечто важное касаемо «бунта», выходившее за пределы официальной версии? Трудно сказать. Но тогда же возникли упорные слухи, что «Петра» втайне поддерживают некие важные лица из Петербурга...
Прибывший к месту действия из Петербурга Владимирский гренадерский полк пришлось поставить под бдительный тайный надзор – оказалось, что «меж рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения перед бунтовщиками ружья».
И если бы только солдаты... В Саратове при приближении «Петра Федоровича» ему навстречу вышли с развернутыми знаменами и местный пехотный гарнизон, и артиллерийская команда со всеми офицерами во главе и самим начальником гарнизона в чине секунд-майора. Любопытно поведение офицеров – ясно, что они нисколько не верили официальной версии, будто самозванец истребляет поголовно всех офицеров, попавших ему в руки. В Самаре при приближении пугачевцев горожане вышли навстречу под предводительством духовенства, певшего благодарственные молебны, и начальника гарнизона капитана Балахонцева. В Заинске на сторону Пугачева моментально перешли местный воинский начальник капитан Мертвецов, его ближайший помощник подпрапорщик Буткевич, все духовенство – а за ними, понятно, и жители.
А человек, в свое время находившийся в центре событий – майор Рунич, член особой следственной комиссии – отчего-то в своих мемуарах, написанных уже при Николае I, связывал бунт Пугачева с «известиями о ссылке в Сибирь некоторых лейб-гвардии офицеров»...
Духовенство «государю» присягало практически поголовно. После подавления восстания в Петербурге сгоряча решили было расстричь всех примкнувших к самозванцу священников – но оказалось, что тогда без духовенства окажутся целые губернии, поскольку примкнули, за редчайшими исключениями, чуть ли не все. Во главе крестных ходов к Пугачеву выходили и архимандриты крупных монастырей. Против казанского архиепископа Вениамина существовали серьезные и обширные улики касаемо его тайной связи с Пугачевым – но дело решили замять.
Священники в немалых духовных чинах, многочисленные офицеры, поляки, немцы, французы, заграничные староверы, квалифицированные артиллеристы, разветвленный аппарат Военной коллегии, стройная система управления... Что-то это решительно не похоже на устроенный неграмотным казаком бунт. Не похоже, и точка. Перед нами, рубите мне голову, что-то совершенно другое – то ли заговор, объединивший наряду с казаками и крестьянами всех недовольных Екатериной, то ли предприятие, руководимое (или по крайней мере консультируемое) из-за границы...
Вольтер, кстати, отчего-то считал Пугачева турецким агентом. Возможно, ниточки тянутся в Польшу и во Францию: связи поляков с казачеством насчитывают не одно столетие и далеко не всегда были исключительно враждебными, а Французы еще с середины XVII столетия поддерживали с казаками регулярные связи, и их разведчики на юге России были замечены не раз. Документально подтвержденный факт: в первые годы освоения русскими Крыма на черноморских верфях русская контрразведка сцапала французских агентов, пытавшихся поджечь строящиеся корабли. Наконец, старообрядческие «эмигрантские центры», располагавшие разветвленной агентурной сетью в России...
(Кстати, вопреки пестовавшейся в советские времена версии о союзе восставших с «уральским пролетариатом» достоверно известно, что треть уральских заводов оказала пугачевцам самое яростное сопротивление...)
Выводы? К сожалению, чтобы их сделать, информации недостаточно. Практически все исторические труды, посвященные пугачевскому бунту, изобилуют общими местами, о многом умалчивают, перепевают одно и то же. Огромное количество документов попросту не введено, как принято выражаться, в научный оборот. А ведь документов должно остаться немало! Невозможно представить, чтобы Следственная комиссия и Тайная экспедиция не допрашивали самым подробным и тщательным образом служивших у самозванца офицеров, поляков, немцев, казацких атаманов. И эти обширные архивы наверняка где-то пялятся – ведь прекрасно сохранилась масса документов тайной полиции доекатерининских времен, сохранилось следственное дело Степана Разина... Но пугачевские дала почему-то никто не спешит опубликовать – хотя давным-давно опубликованы и материалы по Разину и самые пустяковые протоколы полиции времен Елизаветы... Вот поневоле и закрадываются подозрения, что у событий было «второе дно», нам пока что неведомое. Лично я категорически не верю в «самородков» – не тот случай.
В конце концов, нет точной уверенности, что казак станицы Зимовейской Емельян Пугачев и человек, выдававший себя за Петра III – одно и то же лицо. Екатерина старательно подчеркивала «официальную» версию, которой мы пользуемся до сих пор – но она могла так поступать и из высоких государственных соображений, чтобы не усложнять ситуацию в непростые времена.
Между прочим, в пугачевской практике имелось очевиднейшее противоречие: с одной стороны – манифесты, объявляющие простому народу всяческие вольности и привилегии, с другой – деятельность пугачевской Военной коллегии, полностью противоречившая декларируемым намерениям «поверстать всю страну в вольные казаки». Разрыв теории и практики налицо. Без малейшей натяжки можно предположить, что Пугачев попросту намеревался сменить лишь элиту, не трогая саму систему...
Так кто же он был, кто за ним стоял, и что за скелеты до сих пор скрыты в пыльных шкафах? Очень хочется верить, что когда-нибудь мы это узнаем...
А когда Пугачев еще пребывал на свободе, во главе своего мутного воинства, где всякой твари нашлось по паре, в Европах объявилась его родная сестра. По крайне мере, она сама так уверяла. И таинственно намекала. Что Пугачев-то и не донской казак вовсе, а кое-кто познатнее...
Речь идет о знаменитой самозванке и авантюристке, которую в отечественной литературе до сих пор кое-кто называет «княжной Таракановой» и верит, что бедняжка утонула в своей камере во время петербургского наводнении. Благо существует – и красуется в Третьяковке – нарисованная еще в 1864 г. картина Флорицкого: бурный поток хлещет в зарешеченное окошко, вон и крысы тюремные уже плавают пузом вверх, девушка с распущенными красиво волосами прижалась к стене...
А пятнадцать лет назад был снят художественных телефильм под названием «Царская охота». Фильм великолепный, актеры отличные. Вот только к исторической правде он не имеет ни малейшего отношения. Во-первых, совершенно осталась за кадром долгая, целеустремленная деятельность «княжны» по облапошиванию на приличные суммы простодушных лохов. «Княжна» показана исключительно в нерабочей, так сказать, обстановке – милая, обаятельная, романтичная девчушка, которую зачем-то с особым цинизмом обманул негодяй Алехан Орлов. Девочка в него всерьез врезалась по самые уши, а он ее коварнейшим образом обманул, завлек на корабль, арестовал и увез на расправу в Россию. По фильму получается – исключительно за то, что эта наивная резвушка, желая пошалить, всего-то навсего назвала себя незаконной дочкой Елизаветы.
Во-вторых, авторы фильма вытащили на свет Божий – и подробно проиллюстрировали – старую байку про то, что Орлов якобы нарядил одного из своих матросов священником, и тот, поганец, парочку обвенчал, мастерски имитируя настоящий обряд.
Так вот, это все чушь собачья. Самозванка никогда себя не называла княжной Таракановой, и никто из окружающих ее так не называл. В наводнение она не утонула – а умерла от чахотки, которой хворала давно, еще порхая по Европе в поисках доверчивых богатых простаков. Никакой матрос священником не наряжался, и никто, пусть даже для виду, авантюристку с Орловым не венчал. Наконец, ни о какой ее романтической влюбленности в Алехана и речи быть не может. Перед нами – холодная, расчетливая, циничная аферистка, ни разу не замеченная в романтичности чувств...
Обычно толковые самозванцы, вообще авантюристы стараются бумаг после себя не оставлять, вообще не обрастать канцелярией. Наша «героиня» оказалась исключением – она тщательно хранила весь свой архив, огромный, целиком попавший в руки российских следователей и сохранившийся до сего времени. К нему присовокуплена обширная переписка «Таракановой», материалы ее допросов, и так далее. Мало сыщется аферистов, чей жизненный путь (по крайней мере, с определенной поры) так обширно и недвусмысленно документирован, как это произошло с «княжной»...
Но давайте по порядку.
В 1772 г. в веселом, шумном и богатом городе Париже, куда все мало-мальски серьезные пройдохи слетались, как мухи на мед, объявилась молодая очаровательная особа. Возраст ее никак не удавалось установить точно: одни считали, что ей не более двадцати, другие подозревали, что все тридцать. Касаемо имени царил еще более впечатляющий разнобой: незнакомка именовала себя то «госпожой Франк», то «фрейлейн Шёлль», то «мадемуазель Тремуйль». А для разнообразия порой утверждала, что она – персидская принцесса Али, русская «госпожа Азова» (в данном случае это была не фамилия, а, как объясняла красавица, русский дворянский титул, происходящий от города Азова). Но более всего предпочитала называться «черкесская княжна Волдомира».
В Париже – вот провинция! – все эти штучки прекрасно прокатывали. Народ там обитал незатейливый, представления не имевший, что в Персии «Али» – исключительно мужское имя, что черноморский город Азов сроду не был дворянской собственностью, от которой можно было бы производить титул, что имени «Волдомира» ни у русских, ни у черкесов отродясь не бывало...
С «княжной» прибыла и небольшая свита: немецкий купеческий сын Вантоэрс, скрывавшийся и от законной супруги, и от кредиторов. В Париже «княжна» придумала ему новое имечко, покрасивее: барон Эмбс. Имелся еще приехавший из Лондона мистер Шенк, как полагают серьезные исследователи – бывший любовник красотки.
Это гоп-компания быстро свела знакомство и с парижскими богачами, и с польским «политэмигрантом», бывшим великим гетманом литовским Михаилом Огиньским, автором того самого знаменитого «Полонеза».
На Западе тогда обосновалось немалое количество польских шляхтичей, участников Барской конфедерации, разнесенной в пух и прах русскими войсками. За иными впечатлительными романтиками остается полное право считать эту публику светлыми рыцарями и борцами за свободу, но есть и другие точки зрения. Во-первых, шляхта подняла в Баре мятеж главным образом из-за того, что Екатерина II ультимативно потребовало от Польши, чтобы православные подданные польской короны, украинцы и белорусы, получили такие же права, как католики, и не подвергались впредь откровенной дискриминации по религиозному признаку. Ну, а панам ляхам как раз хотелось и далее «прессовать» православных, как людей второго сорта...
Во-вторых, в первую очередь наши буйные паны дрались за те самые собственные необозримые привилегии, что как раз и поставили польское государство на грань исчезновения. Чтобы и впредь торговать крепостными, как горшками, оставаться неподсудными, что бы ни вытворяли, мятежи против властей устраивать на законном основании... В свои ряды эти «борцы за свободу» принимали исключительно лиц благородного происхождения, из-за чего и проиграли: простой народ, самый что ни на есть польский и католический, равнодушно отнесся к очередной шляхетской забаве...
В-третьих, существуют и чисто польские источники, рисующие конфедератом в несколько ином свете, например, вышедшая в 1844 г. книга ксендза Пстроконского: «Всякий бездельник, всякий резник, сапожник, ремесленник, лакей, дурак, сделавшись товарищем[4], офицером, ротмистром, полковником, хотел иметь подчиненными самых лучших людей, обирал, грабил, тянул с деревни налоги, не так, как абсолютный монарх, а как деспот, как тиран: еще и до сих пор он носит на себе печать бесчеловечности до такой степени, что по физиономии многих из этих пьяниц, какого-нибудь бесчестного пьянчужки узнаешь, что он был конфедератом и угрожает, что еще им и будет».
После поражения изрядное число благородной шляхты сумело утечь за границу и болталось по Европе, существуя впроголодь (поначалу конфедератам, преследуя собственные политические цели, ради пущего ослабления России помогали и Париж, и Стамбул, и Вена, но, присмотревшись поближе и сообразив, что народец крайне несерьезный и вложенных в него денег ни за что не отработает, помогать перестали). Одним из таких были и Огиньский. В карманах у него посвистывал ветерок, а потому поиметь с него «княжне», казалось бы, было нечего. Не спешите...
«Персидская принцесса», будучи при деньгах после какой-то очередной удачной аферы, сама подкинула монет Огиньскому, но отнюдь не из благородства чувств. Дело в том, что бывший гетман (нечто вроде командующего военным округом, военного министра и главного кадровика в одном лице), убегая и Польши, прихватил с собой малую печать военной канцелярии. Вот «персиянка» и уговорила его выписать «барону Эмбсу» патент на чин капитана литовской армии. В восемнадцатом веке такие бумажки прибавляли авторитета и уважения в обществе – невзирая даже не то, что беглец-эмигрант, строго говоря, уже не имел никакого права кого-то производить в офицеры. Но как отказать очаровательной девушке, которая не только деньгами ссужает, но и откровенно намекает, что готова переспать?
В общем, Огиньский патент выдал. Однако «барону» это помогло, как мертвому припарка: в Париже объявились назойливые кредиторы, прекрасно знавшие, что никакой это не барон – и в два счета упрятали «капитана» в долговую тюрьму.
Компашка его, однако, выкупила, поскольку «княжна», стреляя глазками и сделав вырез поглубже, сумела обаять очередного старого дурака, французского аристократа де Марине, и тот подкинул денег. Однако в Париже становилось как-то неуютно, и все подались в германские земли, прихватив с собой и де Марине – авось еще на что-нибудь пригодится.
А заодно взяли в странствия еще двух французов, Поцета и Маская, по живости характера и симпатии к «персиянке» охотно последовавших за авантюристкой. Тем более что и денежки у обоих водились, и с моральным обликом обстояло не лучшим образом.
Во Франкфурте-на-Майне навалилось катастрофическое невезение. Так и осталось неизвестным, что они там все вместе наворотили, но «барона» упрятали в тюрьму, куда всерьез собирались засунуть и троих оставшихся. А «персидскую княжну», как весьма подозрительную личность, отчего-то выселили из гостиницы и в другие уже не пускали.
Быть может, ее попросту опознали?
Дело в том, что в 1770 г. из тюрьмы в Брюсселе освободили раньше срока и от греха подальше выслали за границу некую восемнадцатилетнюю самозванку, которая довольно долго выдавала себя за побочную дочь австрийского императора Франциска I. Показывала купцам и дворянам в Бордо вроде бы подлинные «письма папеньки» и под этим соусом выманивала немного денег у простаков. В конце концов, когда в Австрии прослышали об этакой «родственнице», императрица Мария-Терезия попросила французов что-нибудь предпринять. Те и предприняли – изловили, увезли в Брюссель и посадили. Но выпустили, впрочем, по-тихому, чтобы не раздувать скандала вокруг приличных людей...
Почерк этой особы крайне похож на ухватки «персиянки». Неизвестно, была ли это одна и та же женщина, но совпадение многозначительное: после выхода из брюссельской тюрьмы «дочь императора» бесследно исчезает, и навсегда, а в Париже вскоре нарисовалась «черкесская княжна Волдомир», пользовавшаяся в точности такими же ухватками...
В общем, во Франкфурте категорически не климатило. И тут нашей красавице подвернулся сиятельный господин, в отличие от нее самой имевший длинный ряд вполне законных титулов: Филипп Фердинанд, граф Лимбурга, владетель Штирума и совладелец графства Оберштейн. Вдобавок он (чисто на бумаге) считался князем Северной Фризии и Вагрии, наследником Гельдерна и графства Зутфен, Пиннеберг, господином Виш, Боркелоэ, Гемена и прочая, и прочая, и прочая.
Все эти Лимбурги, Штирумы и Оберштейны являли особою очередные крохотулечки размеров пару гектаров – но все же были самыми настоящими (правда, Северная Фризия и прочая, и прочая... давным-давно находились в чужих руках, откуда их выцарапать не представлялось возможным. Но граф все равно эти титулы солидности ради присовокуплял к реальным). И ухитрялся вести более-менее сытную жизнь: драл налоги с подданных, содержал крохотную армию, а для пополнения казны придумал изящный финт: учредил аж три новых ордена с пышными названиями «Орден Льва голштинско-лимбургского», «Орден соединенного родовитого дворянства и четырех царей», «Крест азиатского ордена, основанного султаном Али». И за приличные деньги этими орденами награждал честолюбивых дураков.
В общем, как-то крутился человек. Голодным спать не ложился. С одним из его приближенных «персиянка» познакомилась в Париже – и вот теперь это сработало. Граф увидел «персидскую княжну Али» – и влюбился, как простой мальчуган. Особа как-никак, говоря современным языком, была весьма сексапильная – да вдобавок настоящая экзотическая принцесса из далекой таинственной Персии! Сама сказала!
Хотя персидским красавицам, судя по тамошней литературе, положено быть скромными и застенчивыми, наша «персиянка» без особых церемоний пригласила графа в постель – и очаровала окончательно. Он моментально успокоил франкфуртских кредиторов деньгами и помянутыми орденами, вызволил из тюрьмы сообщников «принцессы», а ее саму увез в один из своих замков, окружил всей возможной роскошью и почувствовал себя на седьмом небе.
«Принцесса» (отчего-то именовавшаяся теперь Элеонорой) графа ублажала со всем усердием – но в промежутках меж теми эпизодами, которых несовершеннолетним смотреть не рекомендуется. Стала уговаривать упорно и навязчиво: пупсик, отдай мне твой Оберштейн! Ну что тебе стоит? Ты такой милый! А уж я со всей душой... а хочешь, вот так? А можешь даже...
Губа у нее была не дура: Оберштейн, хоть и размером с гулькин нос, давал право на взаправдашний графский титул. Однако, как ни млел граф, Оберштена за просто так, даром, все же не отдавал – жаба давила.
Тогда «принцесса» стала уверять, что она графство честным образом выкупит. Не сегодня-завтра ее дядя, персидский принц, пришлет ей кучу персидских денег, и она аккуратнейшим образом расплатится.
Граф в принципе соглашался, но никаких дарственных все же не подписывал. К тому времени и родственники, и министры ему уже наперебой пытались объяснить суровую истину, заключавшуюся в нехитром вопросе: «Дурень, ты что, не понимаешь, с кем связался?»
Будучи, как вы уже понимаете, не великого ума, Лимбург тем не менее в любимой засомневался. Почувствовав это, «принцесса» однажды заявилась к нему с сокрушительным видом и заявила, что суровый дядя отзывает ее в родную Персию, чтобы там без ее согласия, как это у варваров-персов принято, выдать замуж за какого-то злыдня. Так что прощай, любимый, не суждено нам быть вместе, шариатские законы против...
Лимбург сдуру ляпнул, что он в таком случае моментально отречется от престола в пользу младшего брата и поедет вслед за любимой в Персию, чтобы сберечь ее от навязанного жениха и объяснить дяде-принцу, что в наш просвещенный восемнадцатый век с девушками так поступать не годится даже в Персии.
Можно представить, что наша авантюристка думала про любовничка, когда он этакое плел. Кое-как она графа отговорила от этаких безрассудных замыслов. Тогда он, не в силах перенести грядущую разлуку, возопил: коли так, я на тебе сам женюсь! Станешь графиней Лимбург, и прочая, и прочая...
Вот это было уже совсем другое дело! «Принцесса», для порядка потупившись, согласилась практически мгновенно. И даже на радостях обещала жениху, что пришлет ему энное количество «персидских солдат», чтобы он смог выиграть затянувшийся спор с Пруссией.
К слову сказать, «нарушение Пруссией суверенитета Лимбурга», из-за которого граф долгие годы вел с Фридрихом Великим судебный процесс, заключалось исключительно в том, что однажды некий капитан прусской армии спьяну надавал по физиономии егерю Лимбурга, а кинувшихся было на помощь лимбургских гусар в два счета разогнал то ли саблей, то ли подсвечником. (Повторяю на всякий случай: я излагаю подлинную историю похождений «княжны» с невымышленными подробностями).
Услышав про персидские полки и живо представив, как он с их помощью в два счета раскатает самого Фридриха, граф окончательно разомлел и стал торопить со свадьбой.
Но тут вновь вмешались зловредные родственники с министрами и стали растолковывать влюбленному пингвину очевидные вещи: Филиппушка, Фердинандушка, родной наш, спать ты можешь с кем попало, дело житейское, век на дворе галантный, но вот насчет законного брака – такие дела с кондачка не решаются. У невесты нужно для порядка документы посмотреть... ага, мамзель, вы и сами пришли! Не соблаговолите ли – тысяча извинений! – нам рассказать. Кто вы такая? И нет ли у вас приличествующей случаю родословной?
Невеста ужасно оскорбилась: то есть как это, кто такая? Ну объясняю же: владетельница города Азова, наследница дома Волдомир. Имущества – немеряно. Вот только оно было взято в казну, не насовсем, правда, на двадцать лет, и они вчера истекли, так что я скоро буду богаче жениха...
На что родственники и министры, вежливо кивая, ответили: это все очень благородно, но документики у вас какие-нибудь найдутся? Ах, скоро пришлют? Вот когда пришлют, тогда и поговорим серьезно, а пока, извините, не будем насчет венца...
Грустновато что-то становилось «княжне» в Лимбурге. В особенности если учесть, что все это время ее «свита» торчала тут же, при дворе. Да не просто торчала, а через графа делала крупные займы (у «принцессы» ни одного приличного платья нету! И туфельки нужны!), торговала от имени графа теми самыми орденами в диких количествах, в общем, развернула широчайшие махинации. Все больше и больше людей начинали скрести в затылках: черт побери, что это за гоп-компанию граф пригрел? И с чего это «персидская княжна» как две капли воды походит на аферистку, недавно наворотившую дел в Берлине, Генте и Лондоне? Воля ваша, но надо бы через полицию кое-что проверить...
Возвышенная и романтичная душа княжны всегда противилась столкновению со столь грубой прозой жизни, каковой безусловно является полиция. А платонически в княжну влюбленный Огиньский писал, что он перебрался в Венецию, где собралось приятное общество – эмигранты-конфедераты, люди знатнейшие...
«Принцесса Али» поняла, что пора собираться в дорогу, пока придирчивая немецкая полиция не накопала, чего не следует.
И как раз именно в это время в германских землях начали оживленно болтать о незаконной дочери Елизаветы и Алексея Разумовского, которая вроде бы инкогнито странствует по Европе, намереваясь предъявить свои права на русский престол.
Эти слухи распустила вовсе не «княжна». Она их услышала далеко не первая.
Но именно ее осенило!
Теперь она уже знала, кем отныне будет...
И, не теряя времени, выложила любовнику-графу свою «подлинную» историю, которую раньше по соображениям высокой политики должна была скрывать. Она и есть та самая дочь императрицы Елизаветы и Разумовского (Правда, русские реалии самозванка знала плохо, как и имена тамошних сановников, а потому объявила, что тайным супругом Елизаветы и ее отцом был именно Кирилл). Но граф о России знал еще меньше и потому в очередной раз поверил, придурок. Очень уж завлекательный план подруга ему предложила: она, мол, спишется с деятелями польской эмиграции, с Фридрихом Великим, подключит Турцию, соберет войско, вторгнется в Россию и махом прогонит узурпаторшу Екатерину. После чего, как легко догадаться, Россию поделят меж Турцией, Польшей, Пруссией... и, ясен, пень, Лимбургом.
Посмотрев на карте Россию и сообразив, насколько она превосходит размерами Лимбург, граф одурел окончательно. Ни о какой проверке документов уже и речи не шло. Выпросив приличную сумму на дорогу, «княжна» отправилась в Венецию, ухитрившись смыться чисто: никто ее не собирался объявлять в розыск, никто пока что не рвался проверять ее документы. В общем, утро вечера мудренее...
В Венеции ее, как родную, принял знаменитый князь Радзивилл, в свое время считавшийся некоронованным королем Литвы (т. е. современной Белоруссии). Один из богатейших магнатов королевства, он теперь, увы, был не более чем эмигрантом без особенных средств к существованию. Но весом среди конфедератов пользовался немалым.
«Принцесса Али» отошла в прошлое. Теперь самозванка в открытую называла себя Елизаветой II, без запинки объясняя: матушка, Елизавета I, особым документом передала ей все права на российский престол, а Петру III поручила воспитать девочку должным образом. Однако коварный Петр, желая царствовать сам, безжалостно отправил Лизаньку в Сибирь. Нашелся добрый священник, который ее оттуда увез, и они бежали в «столицу донских казаков», название которой самозванка благоразумно не приводила, поскольку и сама не знала. Там ее посланцы Петра пытались отравить, но как-то обошлось, и девушка бежала в Персию, куда еще во времена шаха Танаса (истории решительно не известного – А. Б.) переселился родственник ее отца, Кирилла Разумовского. Ну, а теперь настала пора вернуть свой престол, захваченный приблудной немкой Катькой Аггальтской...
Эта история имела среди поляков и венецианцев большой успех. Трудно сегодня сказать, насколько верил в нее сам князь Радзивилл, неофициальный глава эмигрантов. По одним воспоминаниям, верил всецело. По другим, не особенно. В любом случае он явно видел великолепный повод для очередной смуты, которую можно устроить в России. Цинично выражаясь с точки зрения большой политики, какая, собственно, разница, настоящая она принцесса или шлюха подзаборная? Главное, можно заварить неплохую кашу, вспомнить хотя бы Лжедмитриев...
По некоторым данным Елизавета (как мы ее отныне и будем называть) не замедлила затащить в постель и Радзивилла. Точных данных нет, но, зная ее привычки, на правду похоже.
Одна беда: почета было много, а вот денег никак не удалось срубить. У поляков у самих карманы были пустые, а венецианские банкиры, с удовольствие слушавшие повествование о мытарствах законной наследницы русского престола, денежек тем не менее не спешили занять. Все, что у них удалось выцарапать – жалкие двести дукатов. Каковые моментально прожрала образовавшаяся вокруг принцессы «свита». Пора было менять дислокацию.
Под именем графини Пиннеберг (реальный титул, на который, конечно же, наша героиня не имела никакого права), она перебралась в принадлежавший Венеции город-порт Рагузу (ныне – хорватский Дубровник). И вновь начала рассказывать свои байки всем и каждому: полякам, горожанам, французским офицерам.
Самое интересное, что теперь, помимо слов, она располагала сразу тремя «документами»: «завещанием Петра Великого», «Завещанием Екатерины I» и «Завещанием Елизаветы». Все три были составлены так, что, предъявляемые один за другим, наилучшим образом удостоверяли ее права на престол.
Все это, разумеется, были фальшивки чистой воды, по сделанным еще сто лет назад предположениям, составленные кем-то из «свиты». Точный автор неизвестен, но вряд ли это имеет значение (эти «завещания» тоже попали в руки русских следователей с архивом «Елизаветы»).
А поблизости, в Ливорно, стояла русская эскадра под командованием Алексея Орлова...
Елизавета написала обширное письмо турецкому султану, где подробно излагала ту же сказочку про ссылку в Сибирь, бегство, отравленный пирог в «столице донских казаков» и прочие персидские приключения. Мало того, байку эту она творчески дополнила и развила: «казак Пугачев», надобно знать его султанскому величеству, на самом деле... тоже сын Елизаветы и Разумовского, ее родной брат, воюющий теперь с узурпаторшей за свои законные права и права сестры. И если султан им с братом поможет, чем только будет в состоянии, они, заняв принадлежащий им по праву престол, установят меж Россией и Турцией самые теплые отношения...
Забегая вперед, скажу, что султан на это письмо так и не ответил, хотя вроде бы его получил. То ли ни капельки не поверил, то ли уже знал то, о чем Елизавета и представления не имела: что Пугачев уже разбит, и дни его шайки сочтены... Соответственно, и турецкого золота «принцесса» так и не дождалась.
Едва отправив письмо в Стамбул, она накатала второе – Алексею Орлову. Объявила, что она – законная наследница русского трона, что «князь Разумовский», командующий частью нашего населения под именем Пугачева», одерживает победу за победой, что она якобы уже заключила договор с турецким султаном. А потому Орлову, если он не дурак и озабочен собственным будущим, следует немедленно к ней присоединиться вместе со всем флотом – а то, не дай бог, опоздает к раздаче милостей и орденов...
К письму она приложила все три подложных завещания, а также манифест, который Орлову следовало немедленно зачитать перед своими моряками. Письма достаточно длинные, и я их поместил в Приложение, а манифест можно и привести прямо здесь.
«Божией милостью, Мы, Елизавета II, княжна всея России, объявляем всем верным нашим подданным, что они могут высказаться только за Нас, или против Нас. Мы имеем больше прав, чем узурпаторы государства, и в скором времени объявим завещание умершей императрицы Елизаветы. Не желающие Нам принять присягу будут казнены по освященным, установленным самим народом, возобновленным Петром I, повелителем всей России, законам».
Лихо, не правда ли? Разумеется, Алехан манифест перед матросами читать и не подумал, и «княжне всея России» не ответил ни словечка – но в Петербург, понятно, обо всем сообщил...
«Елизавета» этими поступками сама выкопала себе могилу. Пока она примитивно дурила головы германским и итальянским дурочкам, вымогая деньги, пусть даже и под именем «дочери Елизаветы», на нее смотрели сквозь пальцы. Но теперь, когда она без всяких шуток во всеуслышанье претендовала на русский трон... Шутки кончились. Ни один нормальный человек теперь не успокоился бы, пока она оставалась на свободе...
Какое-то время она продолжала блистать в Рагузе. Местные ей верили вполне. Однажды в Рагузе проездом оказался русский майор, которого пригласили бить челом «законной наследнице». Вояка не только не стал кланяться неведомо с какого дуба упавшей самозванке, но во всеуслышание назвал ее «лгуньей и негодницей». После чего ему форменным образом пришлось из Рагуза бежать, потому что его собирались пристукнуть за непочтение к «Елизавете». Такой был общественный настрой...
Но вот деньги, денежки! Никто их просто так не хотел давать. Даже князь Радзивилл, бывший друг (а может, и любовник) начал «принцессу откровенно избегать. Французский консул в открытую втолковывал конфедератам: с кем связались, бессмысленные? Гоните вы к чертовой матери эту аферистку!
Даже негр-слуга, прихваченный еще из Германии, сбежал со скандалом, потому что ему не платили. Шляхтич Доманский, набравшись смелости, подступил к «принцессе» с требованием сказать правду: настоящая она, или голову дурит? Елизавета, глядя на него глазами невинной лани, заверила, что она, конечно же, настоящая, это злые люди на нее клевещут – а может, узурпаторшей Екатериной подкуплены... И пошла по проторенному пути: увлекла шляхтича в спаленку. Когда он оттуда вышел, то в подлинности принцессы уже не сомневался. Правда, горожане, совсем недавно горячо верившие в персидскую галиматью, мнение свое поменяли самым решительным образом и над претенденткой на русскую корону насмехались уже открыто.
Пора было уносить ноги. И Елизавета засобиралась в Рим. Ей в голову пришла новая великолепная идея: а не перейти ли «православной княжне» в католичество? Проистекающими от этого выгодами вполне можно заинтересовать папский престол...
Тут пришло письмо от истосковавшегося Лимбурга, тоже сообразившего, с кем он связался. Граф всячески ругал подругу за авантюры, про которые сплетничает уже вся Европа – но великодушно соглашался ее принять в Лимбурге, если она пообещает бросить все эти глупости насчет Персии, брата-Пугачева и русского трона. Крепенько, должно быть, вскружила ему голову эта стервочка...
Но она, должно быть, уже не могла остановиться и после эффектного появления в роли «русской княжны» вернуться в крохотную германскую державочку...
И поехала в Рим. В сопровождении нескольких шляхтичей (известный историк профессор Лунинский, сто лет назад изучавший эту историю, считал, что напоследок она у одного из этих панов выманила доверенные ему конфедератами денежки).
Прибыли в Вечный Город – причем в довольно неподходящее время: скончался папа, должны были выбирать нового, плелись интриги, составлялись партии, вопрос был сложный, имевший международное значение, заинтересованные иностранные послы втихомолку развили бурную деятельность, весь Рим только этим и озабочен... Какая тут, к дьяволу, русская принцесса, да еще сомнительная?
Елизавета сняла дом, где и поселилась все оравой: слуги, возлюбленный Доманский, ксендз Ханецкий, некто Вансович, за какие-то провинности выгнанный из ордена иезуитов. И еще один колоритный тип, конфедерат Чарноцкий, который по Риму разгуливал в польском национальном костюме, с саблей на боку, растопырив усищи. Любившие зрелища римляне за ним толпой бегали, перекликаясь:
– Дывысь, Джузеппе, яка диковина! Бачишь?
– Бачу, Карло, а як же!
Но за это зрелище денег не платили, а деньги требовались по зарезу. Елизавета от тоски решилась на вовсе уж глупую авантюру: послала в ломбард в виде залога некий запечатанный ящик, присягнув своим честным словом, что там лежат немаленькие ценности. Как можно не поверить на слово дочери русской императрицы?! Однако недоверчивые владельцы ломбарда объяснили посланцу, что они и папе римскому на слово не поверят, такой уж у них специфический бизнес. Так что открывайте, а там посмотрим. Посланец, превосходно знавший, что в ящике нет ничего, кроме хлама, пообещал, что зайдет попозже, и тихонько смысла вместе с ящиком...
Деньги добывали, где придется – у одного выманят, у другого... Рим вообще-то слезам не верит, но там тоже достаточно простаков. Для пущего удобства Елизавета то и дело меняла фамилию, перед каждым потенциальным кредитором: то она русская царевна, то снова «черкесская княжна Волдомир»... Наконец вздумала назваться Елизаветой Радзивилл, родной сестрой князя – но тут же нашлись люди, прекрасно знавшие, что не было сроду у князя никакой сестры, ни Елизаветы, ни, скажем, Голендухи...
Пошла к английскому послу, выложила ему старую сказочку – ссылка в Сибирь, бегство, Персия, претензии – попросила взаймы семь тысяч золотом или, на крайний случай, паспорт на имя добропорядочной немки, а то и рекомендательные письма к английским послам в Вене и Стамбуле. Англичанин вежливо выслушал, не показывая лицом своих подлинных мыслей, но ничего ей не дал, да вдобавок отписал Алексею Орлову, что за птица тут объявилась, и что мелет. Орлов, не медля, сообщил в Петербург. А Петербург уже давненько, еще после первых донесений, начал охоту за этой пташкой. Агенты русской разведки уже шныряли по Рагузе, пытаясь выведать что-то через конфедератов (достоверно известно, что один из них бесследно пропал, и до сего дня следов не отыскано). Орлов уже получил от императрицы письмо с инструкциями: попробовать заманить самозванку на борт русского корабля. Если не получится, потребовать у городских властей выдать «Елизавету», а если откажутся – без церемоний обстрелять Рагузу с кораблей. Дело обстояло уж совсем серьезно, если приходили такие инструкции...
Елизавета тем временем настойчиво искала дорожки на самый верх, и в конце концов ухитрилась выйти на контакт ч влиятельным в папской курии кардиналом Альбани, которому и переслала письмо со всеми прежними выдумками.
Кардинал, человек серьезный, разумеется и не подумал встречаться с неведомо откуда взявшейся «царевной», но послал своего секретаря аббата Роккатани – пусть посмотрит, что за персона объявилась, в конце концов, искусство большой политики в том и заключается, чтобы извлекать выгоду решительно из всего...
Аббат пришел, долго слушал рассказы о бегстве из Сибири и трех завещаниях – и к окончательному выводу так и не пришел. Времена стояли бурные и причудливые, случались самые разные, абсолютно достоверные приключения. Вдобавок некий католический монах, бывший офицер российской армии, начал уверять, будто часто видывал эту особу в Зимнем дворце. Может, она и не дочь Елизаветы, но он точно помнит, что тогда была княгиней Ольденбургской, женой одного из троюродных братьев Петра III.
В общем, у аббата мозги пошли набекрень, он и верил, и не верил... Елизавета ему старательно вкручивала, будто флот Орлова уже на ее стороне, а в Киеве ждут шесть тысяч гусар. О конфедератах она уже отзывалась в самых скверных выражениях (должно быть, мстя за скупость и охлаждение к ней князя Радзивилла(, зато открытым текстом объявляла: если Рим ей поможет, она, – мамой клянется! – введет в России вместо православия католицизм.
Об этих переговорах и загадочной царевне прослышала вся римская аристократия. Кружили самые дурацкие пересуды. Живший там в то время принц Оранский начал всем рассказывать, что загадочная Елизавета – дочь турецкого султана. Ему, мол, один монах рассказал, человек солидный, врать не будет...
Кардинал и его секретарь-аббат, временами подкидывали Елизавете небольшие деньги на жизнь, а сами тем временем установили за ней надежное наблюдение – и изучали все три «завещания», которые самозванка им дала в копиях.
В конце концов, все тщательно изучив, обдумав и взвесив, пришли к выводу, что имеют дело все же с авантюристкой. И отправили к ней доверенного человека, маркиза Античи. Тот ничего не стал говорить прямо, а, как настоящий дипломат, вежливо стал внушать: мол, девушка, вы такая молодая и красивая, к чему вам эти политические дрязги и опасные для здоровья заговоры? Поезжайте куда-нибудь в провинцию, живите тихо и скромно, коровку заведите, молочко пейте...
Маркиз так настойчиво гнул свою линию, тихонечко и предельно вежливо, что до Елизаветы в конце концов дошло: ни черта ей тут не обломится... Снова все рухнуло! А банкирам и прочим кредиторам она уже должна черт-те сколько... Что делать и куда подаваться?
И тут на пороге у нее возник русский майор Христенек, представился по всем правилам и стал таинственно намекать, что его послал сам граф Орлов, который наконец-то понял, что имеет дело с натуральнейшей принцессой...
Елизавета, не такая уж доверчивая, поначалу не верила в этакое счастье. Но ее к тому времени умело обложили со всех сторон. Английский посол Гамильтон уговаривал вернуться в Рагузу – согласно тайной договоренности с Орловым. Другой англичанин, сэр Джон Дик, английский консул в Ливорно, был по совместительству еще и поверенным в делах Петербурга, кавалером русских орденов, как о нем отзывались сами русские, «негодяй первого сорта». Впрочем, за это и ценили – разведка свои кадры вербует не в институте благородных девиц... Короче говоря, доверенные люди Дика, не открывая, на кого работают, стали Елизавете внушать ту же мысль: в Риме ловить больше нечего, пора уезжать. А поскольку кое-кто из этих лиц был как раз кредитором «принцессы», то их доводы звучали особенно убедительно...
И ведь уговорили! Благо кредиторы Елизавету уже ловили прямо на улице, хватали за рукав и невежливо интересовались, вернут им деньги, или в полицию идти...
И она решилась. Майор заплатил все ее долги – шестнадцать тысяч золотых (любила девушка пожить красиво!) И ксендз, и бывший иезуит куда-то исчезли (первого из них к тому времени всерьез подозревали в сотрудничестве с русской разведкой). Елизавета отправилась из Рима в Пизу в сопровождении влюбленного Доманского, бравого усача Черноцкого и нескольких слуг.
В Пизе ее жизнь какое-то время напоминала волшебную сказку – Орлов снял богато обставленный дом, оплачивал все текущие расходы, каждый день приезжал с визитом, возил «царевну» по городу, показывая разные достопримечательности вроде знаменитой тамошней башни. Сопровождавшие его флотские офицеры обращались с Елизаветой совсем почтением, разве что на колени не падали.
Все, что меж ними происходило, истории неизвестно, хотя иные утверждают, что в одной постели они все же оказались. Зато точно известно, что Орлов объяснялся в страстной любви, клялся в верности и предлагал сочетаться законным браком.
Ясно, что Алехан ее в конце концов уболтал... В один прекрасных день пригласил «покататься на корабле» – и к адмиральскому кораблю «Исидор» шлюпка подвезла всю честную компанию: и Елизавету, и обоих шляхтичей, и прислугу. Все было обставлено пышно: играла музыка, матросики орали Елизавете «Ура» в тысячи глоток, гремели пушки, маневрировали фрегаты...
А ближе к вечеру адмирал Орлов незаметно куда-то исчез, и появившийся ему на смену гвардии капитан Литвинов, окруженный вооруженными матросами, объявил самым простецким образом: все арестованы, стоять и не рыпаться!
В дни моей юности это называлось: «Картина Репина „Приплыли“». И ведь действительно приплыли, отбегалась...
В особняке уже вовсю шуровали люди Орлова, захватили весь богатый архив и прихватили остатки «свиты», остававшейся на берегу. Корабли развернули паруса и поплыли с добычей в Россию. Какое-то время, ради игры, самозванку уверяли, что Орлова тоже арестовали, поддерживая эту версию, сам Орлов ей отправил письмо, якобы из-под ареста...
Раскаяния за свой поступок Алехан не испытывал ни малейшего – его подробнейший отчет императрице написан веселым, легким, остроумным слогом, и, как всегда водилось в таких делах, Балафре свои заслуги ставил крайне высоко, долго расписывал, какое это было опасное предприятие, как его могли в два счета пристукнуть бешеные конфедераты...
А собственно, господа мои, с какого перепугу он должен был испытывать раскаяние?! Я согласен, что в истории с убийством Петра III Алехан выглядел крайне неприглядно, но тут совсем другой случай. По сути, обычная контрразведывательная операция, потребовавшая притворства и лжи. На том разведка и стоит испокон веков, и стоять будет. В конце концов, Орлов не благонравную наивную девицу похитил из родительского дома, чтобы продать в гарем, а поставил ловушку на откровенную авантюристку, чья деятельность самым недвусмысленным образом шла во вред России. Какие тут раскаяния могут быть?!
В Петербурге «царевну» определили в Петропавловскую крепость, следствие поручили князю Голицыну. Елизавета начала и ему вкручивать свои сказочки, уже чуточку измененные: она, мол, до девяти лет жила и воспитывалась в Германии, а потом трое загадочных мужчин повезли было в Петербург, но вместе Петербурга завезли на персидскую границу, где старая нянька ей проговорилась, что все делается по велению Петра III. Оттуда какой-то добросердечный крестьянин-татарин увез обоих аж в Багдад, а там девочку усыновил персидский богач Али...
И так далее, и тому подобное. Голицын, страдальчески морщась, в два счета разбивал эту брехню. Елизавета похватилась, что знает персидский и арабский – тогда князь ее попросил написать что-нибудь на листочке. И пошел с листочком в Академию наук, где ему специалисты по данным языкам моментально объяснили, что это всего-навсего бессмысленные каракули...
Тогда Голицын начал расспрашивать уже про более близкие к текущему дню дела, начиная с Парижа. Елизавета отпиралась вяло и неискусно: мол, никаких писем не писала, никаких манифестов к флоту не составляла... А это что? – хладнокровно спрашивал Голицын, предъявляя подлинник манифеста. Это? Ну, это так просто, шуточки такие... Почему выдавала себя за дочь Елизаветы? А мне люди так сказали, я и поверила. Какие люди? Не помню, дело было давно...
Примерно так она изворачивалась – а потом просила императрицу о личной встрече, уверяя, будто все вышло из-за того, что ее оклеветали враги. Но она надеется, что императрица во всем разберется, врагов накажет, а ее освободит...
Шляхтичи тоже ушли в глухую несознанку. Один твердил, что знать ничего не знает, ни в каких интригах не замешан, и за самозванкой таскался исключительно из любви к путешествиям. Второй клялся, что дела меж ним и «принцессой» были исключительно постельные, и никакой политикой он не занимался.
Поскольку в России времена стояли новые, никого из троицы не пытали. Екатерина вообще-то говорила, что намеревается законопатить «принцессу» в крепость навечно, но та через несколько месяцев умерла от застарелой чахотки, которой питерский климат и Петропавловская крепость определенно способствовали.
Потом недоброжелатели Екатерины, как водится, твердили, что бедную «княжну» удушили по приказу императрицы, но в это совершенно не верится: из материалов следственного дела видно, что Екатерина чертовски хотела узнать, кто же это все-таки, откуда родом, какой нации и веры?
Ответов на эти вопросы мы никогда уже не получи. Косвенные данные не помогают. Русского «принцесса» не знала – и польского тоже. Говорила только по-французски и по-немецки. К религии – православной, католической, протестантской – относилась совершенно равнодушно. Умирая, она, правда, попросила для исповеди православного священника, но даже в последние минуты врала, как нанятая: что якобы имела в личном владении то самое графство Оберштейн в Германии, что три завещания и манифест к флоту ей кто-то злокозненный «подбросил», а она по простоте душевной эти бумажки переписывала и рассылала, не ведая, что творит...
И умерла. Ее похоронили внутри крепости, в Алексеевском равелине. Осталась совершеннейшая неизвестность – ее жизнь ранее появления в Париже попросту не прослеживалась, хоть ты тресни. Английский посол Гуннинг сообщал Екатерине, что самозванка, по его данным – дочь ресторатора из чешской Праги. Но никаких убедительных доказательств не представил. Сэр Джон Дик уверял, что она – дочь булочника из Нюрнберга. Но и тут – ни малейших доказательств.
Так что происхождение «принцессы» навсегда останется тайной.
А все легенды о ней, которые до сих пор временами появляются без ссылок на источники, происходят из книги француза Кастера, русофоба и писаки крайне недобросовестного. Именно он и сочинил, что самозванка утонула при наводнении, что Орлов с ней якобы обвенчался с помощью маскарадного попа (причем настолько плохо знал реальную историю, что уверял, будто эта комедия состоялась... в Риме(. Наконец, Кастера недрогнувшей рукой написал, будто детей у Елизаветы с Разумовским было аж трое, что «принцесса» получила фамилию «княжна Тараканова» от слободы Таракановки, где родился Разумовский...
Француз и представления не имел, что Разумовский родился в Лемешах Черниговской губернии – а «Таракановки» нет ни в означенной губернии, ни вообще на Украине, потому что в украинском языке никогда не было слова «таракан». Таракан по-украински – «каралюх»...
Именно от Кастера, чья книга – пасквиль на Екатерину II – вышла в Париже в 1793 г., и пошли сказки насчет «Таракановой», гибели в волнах наводнения, а также побасенка насчет мнимого венчания...
Впрочем, его современники были не лучше. Француз Гельбих пытался доказать, что вся эта история – чистая правда, но «принцесса» дочь не Разумовского, а Шувалова. Некто Горани, чья книга вышла в Париже в тот же год, что и «труд» Кастера, всерьез уверял, что «княжна» и не тонула, и от чахотки не умирала – просто-напросто в камеру пришли русские палачи-варвары (в красных рубахах! Бородатые!) и захлестали ее кнутами насмерть...
Да, напоследок. Что интересно, после смерти «княжны» обоих шляхтичей по личному приказу Екатерины освободили, дали по сто рублей на дорогу и велели убираться из России к чертовой матери, предупредив, чтобы помалкивали, иначе под землей найдут и языки отрежут. А если вздумают вернуться в Россию, попадут на виселицу. Этой шушеры Екатерина явно нисколечко не опасалась.
Обрадованные шляхтичи, отделавшиеся лишь несколькими месяцами отсидки, взяли деньги и моментально испарились из Петербурга. Следом отправили слуг, выдав им уже по пятьдесят рублей, кроме горничной – эта оказалась дворянкой, а потому получила целых сто пятьдесят.
На том и кончилась реальная история оставшейся неизвестной самозванки. Вот только время от времени всплывают побасенки, сочиненные еще Кастера...
А после казни Пугачева и смерти «Елизаветы» у Екатерины объявились еще два нешуточных врага. Причем оба они не поднимали мятежей, не выдвигали претензий на трон, не объявляли себя «чудесно спасшимися императорами» или «незаконными детьми Елизаветы». Они вообще ничего не делали – только виртуозили пером над бумагой. Но тем не менее одного из них, Радищева, Екатерина всерьез именовала «бунтовщиком хуже Пугачева». В советские времена обоих полагалось безудержно восхвалять, как людей невероятно прогрессивных.
Посмотрим, как с ними обстояло...
Радищева, как многие должны помнить, Екатерина отправила на десять лет в ссылку – за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», согласно советским энциклопедиям, «рисующую картину крепостного угнетения».
Это правда, но не вся. Вообще-то бытовала и другая точка зрения: что Радищев сгустил краски и отдельные случаи изобразил как нечто типичное, повседневную практику. Но дело даже не в этом...
Вот Радищев подробно живописует случившееся в одном из сел трагическое происшествие: трое лоботрясов, помещичьих сынков, затащили в амбар молодую крестьянку-крепостную, которая в этот день выходила замуж, и изнасиловали. Прибежал жених и колом проломил голову одному из насильников. Помещик, их отец, велел жениха сечь. Сбежавшиеся крестьяне – практически вся деревня – убили и отца-помещика, и трех сыновей.
История, что и говорить, омерзительнейшая. Однако Радищев на ее основе разворачивает целую философию, согласно которой «всякий гражданин» вправе прибегнуть к немедленному самосуду, согласно «законам природы». «Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния». Всякий, «имея достаточно сил», вправе тут же «отмстить обиду, ему содеянную».
Вот за этакие философские идеи Радищева в первую голову и притянули к ответу! А вовсе не за «протест против крепостничества».
Идея, в самом деле, страшненькая. Прежде всего оттого, что декларирует: право на самосуд выше закона. Никто не спорит, трое молодых барчуков – твари последние. Но дает ли это право «возмущенному народу» тут же убивать и их отца, который, со всех точек зрения, не совершил ничего, караемого бы смертной казнью? Крепко сомневаюсь...
История человечества дает массу примеров кровавого бардака, который моментально воцарялся, едва – из самых лучших побуждений! – начинали вместо закона руководствоваться «природным правом защищения». То бишь – примитивным линчеванием на манер Дикого Запада. Подчеркнем особо: линчевание процветало как раз оттого, что на тех территориях не имелось ни законов, ни власти. Как только появлялась власть, юстиция, официальные учреждении, те самые несгибаемые шерифы начинали самую ожесточенную борьбу с линчевателями, невзирая на мотивы таковых.
Человеческое общество должно жить по закону, а не по правила, которые каждый устанавливает для себя сам. Наверняка именно из этих побуждений императрица и назвала Радищева бунтовщиком опаснее Пугачева. В самом деле, даже у Пугачева его Военная коллегия четко отделяла «самоуправство» от «законной кары» – и с первым боролась всерьез...
Пропагандируемый Радищевым тезис о праве на самосуд плох в первую очередь тем, что автоматически порождает массовые злоупотребления. В самом деле, где границы «природного права защищения», если «всякий гражданин» вправе устанавливать их себе сам? Как быть с ложными обвинениями, корыстными мотивами, которыми какой-нибудь подонок непременно будет маскировать свои действия, не имеющие ничего общего с восстановлением справедливости? Закон для того и необходим, чтобы соблюдать порядок и по мере возможности изживать злоупотребления. Самый скверный кодекс законов лучше самой благородной анархии – а именно анархию и пропагандировал Радищев.
Эти нюансы четко понимали уже в раннее средневековье. Первый русский писаный уголовный кодекс, «Русская Правда», составленный еще в одиннадцатом веке, например, дает право хозяину дому убить захваченного в доме грабителя – именно в доме. Если грабитель, вор выбежал на улицу, его следует ловить, задерживать – но категорически запрещено убивать.
Схожие положения встречались и в уголовном праве некоторых итальянских земель в том же средневековье. Обманутый муж имеет право порой убить любовника, застав его со своей женой на месте преступления, в доме (а то и жену отправить на небеса) – но на улице уже убивать нельзя.
Мотивы лежат на поверхности: предупреждение возможных злоупотреблений. Встретил на улице своего врага, проткнул его мечом – а потом тверди с честными глазами, что все дело в ревности и супружеской неверности... Мало ли найдется таких догадливых? Чтобы застраховаться от этаких выдумщиков, под прикрытием закона сводящих счеты, тысячу лет назад четко прописывали юридические формулировки...
Которые, например, содержатся в сегодняшних американских законах, дающих человеку право на самооборону. Если на тебя напали, ты вправе стрелять из законно имеющегося пистолет – без всяких предупредительных, на поражение с первого выстрела. Но тут же подключаются нюансы: если нападавший находился от тебя на расстоянии большем, чем предписывает закон, или уже убегал, а ты пальнул ему в спину – сам сядешь на жесткую скамеечку... И ответишь по всей строгости.
Для восемнадцатого века – как и для нашего, кстати, подобные завиральные идеи, пропагандировавшие отказ от законов и замену его совершеннейшей анархией, были категорически неприемлемы. Вот за них-то Радищева и послали по этапу...
Впрочем, насчет этапа сказано для красного словца. Если кто-то вообразит, будто ссыльный Радищев прозябал где-то у Полярного круга, в одинокой, затерянной среди бескрайних снегов избушке, к которой запросто приходили волки-медведи – глубоко ошибается.
Сохранились подробные воспоминания сына Радищева о том, как все происходило на самом деле.
«В Тобольске Радищев пользовался величайшей свободой, как и все ссыльные. Он был всегда приглашен на обеды, праздники, бывал в театрах».
Это Радищев так пока что едет в ссылку. Первая остановка – как раз Тобольск.
В Тобольске Радищева «всех лучше принимал его губернатор Александр Васильевич Алябьев». Уточним, что у гостеприимного губернатора Радищев задержался аж на семь месяцев.
Следующая остановка – Томск. Тамошний комендант, француз на русской службе де Вильнев, столь же радушно принимал ссыльного почти две недели.
В Иркутске Радищев провел два месяца, опять-таки пользуясь широким гостеприимством тамошнего общества. И вот пришла пора все же ехать к месту ссылки, в Илимск...
Для Радищева иркутский губернатор Пиль приготовил не тесную избушку, а бывший воеводский дом: «В нем было пять комнат, при том кухня, амбар, хлев, сараи, людские избы, погреба, обширный двор и огород на берегу Илима».
Но этот дом показался губернатору все же недостаточно удобным для ссыльного. Губернатор самолично прислал в Илимск плотников и столяров, и те быстро сварганили Радищеву новое «узилище»: «В новом доме было восемь комнат: во-первых, большая спальня с нишами, чайная, большой кабинет, где была библиотека, кладовая, небольшие гостиные и столовая. И две комнаты, где жили два женатых лакея... Дом был тепел, печки огромные».
Библиотеку Радищев вез с собой – как и двух лакеев с их женами. А чуть позже к нему приехала сестра его покойной жены с двумя его младшими детьми – и ссыльный очень быстро вступил с ней в законный брак. А из Петербурга ссыльному все эти десять лет беспрепятственно шли письма, книги, журналы, научные приборы. Поскольку друг Радищева, занимавший довольно крупны пост, граф Воронцов, все эти годы приятелю покровительствовал и особо преписывал всем губернаторам тех мест, чтобы относились к господину Радищеву со всем возможным почтением.
Такой вот «узник царского режима». Десять лет проживший в комфорте и уюте. Екатерина за эти годы не могла не дознаться, в каких условиях «прозябает» бедняга – но никогда его ни в чем не ограничивала.
Перейдем теперь к Н. И. Новикову. Советский энциклопедический словарь шестидесятых годов характеризует его следующим образом: «Выступал против дворянства, обличал крепостное право, произвол помещиков. Издавал журналы, книги по всем отраслям знания, организовывал типографии. В 1792–1796 гг. находился в заключении в Шлиссельбургской крепости за вольнодумство. Деятельность Новикова сыграла большую роль в развитии русской прогрессивной мысли».
Ну что же, давайте посмотрим в деталях, как развивал Новиков со товарищи прогрессивную мысль, как обличал крепостное право...
Начнем с того, что Новиков был активнейшим членом московского масонского движения. В разговоре о масонах приходится соблюдать всю возможную взвешенность и осторожность, поскольку вокруг них наворочено немало глупейшей ерунды...
Объясняя популярно и упрощенно, масоны были самой доподлинной реальностью – хотя, разумеется, не стоит верить в страшные сказки о некоем «всемирном заговоре», согласно которому масоны стремились извести повсюду королей и разрушить религии. Всемирный заговор – штука сомнительная, тем более в восемнадцатом веке...
Разгадка в том, что не было никакого такого единого «масонства». Под этой вывеской действовали самые разнообразные кружки и общества: от патентованных революционеров иллюминатов до безобидных сборищ в трактирах, куда под масонской вывеской попросту смывались от жен добропорядочные бюргеры, чтобы попить пивка и потискать служанок. Разнобой был фантастический: тут и записные мистики, и попросту своеобразные «профсоюзные собрания» элиты, и кружки идеалистов, всерьез думавших о всеобщем просвещении и смягчении нравов. Одним словом, всякой твари по паре. Поразительная пестрота целей, видов деятельности и устремлений.
Например, организованная по «английскому обряду» масонская ложа «Астрея» И. П. Елагина во все время своего существования занималась исключительно тем, что день и ночь напролет пыталась «разгадать символику масонских ковров» и тайный «второй слой» старинных масонских легенд. Спорили до хрипоты, гипотезы выдвигали, ломали голову, что означает завиток в углу – а потом снова спорили. Одним словом, были чем-то вроде тех безобидных одержимых, что долгими годами ищут заложенные в размерах египетских пирамид «тайные знания» – один усматривает в длине, ежели ее помножить на ширину, расстояние от Земли до неба, а другой из тех же чисел выводит формулу вечного двигателя... В общем, народ был совершенно безобидный.
Масоны-мартинисты, к которым принадлежал Новиков, были посерьезнее – и, прямо скажем, поопаснее...
Жизненную цель они видели в «собственной внутренней духовной работе», «познания Бога через познание натуры и себе самого по стопам христианского вероучения».
Как это сплошь и рядом случается, теория самым решительным образом расходилась с практикой.
Начнем с того, что мартинисты принадлежали к розенкрейцерам, печально известным как раз самой густопсовой мистикой, сплошь и рядом вступавшей в противоречие с христианским учением любой конфессии – не зря их с завидным постоянством преследовали и католические французские короли, и протестантские немецкие князья, и секретные службы православной Российской империи...
Главной своей целью розенкрейцеры считали познание некоей тайной науки, якобы сохраненной со времен Адама некими «посвященными». Сводилась эта «тайная наука» к поискам философского камня, лекарства от всех болезней, превращения металлов в золото и мистическому толкованию Библии (мол, ежели зачеркнуть все буквы «е», прочитать каждую третью строчку каждой пятой главы – познаешь высшую истину. Примерно так. Не зря всякий уважающий себя аферист вроде Калиостро и Сен-Жермена активнейшим образом с розенкрейцерами путался и вовсю применял их теоретические наработки для приумножения содержимого своего кошелька.
На словах члены этой ложи объявляли самые что ни на есть братские, чистые и светлые отношения меж членами. На деле обстояло несколько иначе. «После возвращения И. Е. Шварца из-за границы изменился двух московского масонства... До тех пор толковали только о распространении религиозного чувства. Те немногие, которые оставались еще не совращенными, были удалены, и их презирали. Самые нелепые сказки стали распространяться... Шварц властвовал грубо над целою массою высокоуважаемых братьев».
Шварц – это ученый немец из Трансильвании, давненько живший в Москве из основавший там не одну масонскую ложу. А процитированные строки – воспоминания анонимного автора, тогда же, в XVIII столетии, описавшего то, чему был свидетелем во время пребывания в масонах.
Ну, а для высоких целей требовались и деньги. Их собирали где только возможно. Пудрили мозги тогдашним лохам. Вроде богача П. Татищева, о котором впоследствии сам Шварц выражался следующим образом: «Вот так-то следует ловить лисиц! Дурак Татищев от расточаемой ему похвалы сделался совершенно ручным и дарит 18 тысяч рублей, которые нам надобны через три дня для одной расплаты».
О царившей в розенкрейцерских ложах обстановке. «Сумрачной и далеко не братской была и внутренняя обстановка в ложах, где процветали мелочный контроль, слежка и доносительство. Каждые три месяца – подробнейший отчет о всех делах и внутренних переживаниях. Проверялась и личная корреспонденция братьев».
Стоило Н. М. Карамзину саму чуточку высмеять масонскую мистику, как его стали откровенно травить. Ну, а идеалом в ложе было так называемое «внутреннее христианство» – некий «внутренний духовный поиск», противопоставлявшийся официальной церкви, которую именовали «пережитком».
Тема отдельного разговора – как Новиков и его приятели доили богатого и простодушного Г. М. Походяшина. Он был младшим сыном уральского горнозаводчика, вышел в отставку в чине премьер-майора, женился и поселился в Москве. Где имел несчастье познакомиться с Новиковым и «братьями», которые очень быстро задурили ему голову рассуждениями о прогрессе, совершенствовании, помощи ближнему и всеобщем братстве.
Кое-какие благотворительные акции масоны и в самом деле проводили, например, раздачу хлеба крестьянам во время неурожая. Хлеб покупали на деньги Походящина – но израсходовали всего пятьдесят тысяч рублей, в то время как за пять лет (1786–1791) Походящин им передал полмиллиона. Сумма по тем временам астрономическая. Чтобы ее раздобыть, отставной майор по настоянию «братьев» задешево продал доставшиеся от отца в наследство заводы.
Разница, ясное дело, пошла в карман «братьям». Именно на походяшинские деньги Новиков прикупил себе за 18 тысяч рублей именьице со 110 крестьянами (что совершенно не согласуется со светлым образом «борца против крепостничества»). А потом Походяшина уговорили приобрести у «братьев» типографию и книжный склад, где пылилось на сотни тысяч рублей нераспроданных книг – сплошь мистическая тарабарщина, которую тогдашний читатель (будучи более здрав умом, чем нынешний) ни за что не покупал...
Позже, уже на допросах, приказчик Новикова показал: «Походяшин побужден употреблять на все свое имение, яко он находится в числе их братства и теперь живет в Москве. Его члены сей шайки не выпускают почти из виду и обирают сколько возможность позволяет».
В следственном деле значились и другие потерпевшие – двое князей Трубецких, А. С. Щепотьев, С. И. Плещеев: «Сделавшись жертвами своего легковерия, они потеряли большое состояние и горько раскаивались впоследствии в сделанных глупостях».
Узнаете? Под прикрытием пышных слов о всеобщем благе и просвещении процветает тирания и наушничество, мороча голову богатым простакам «тайными науками», их завлекают в «ложу» и выворачивают карманы по полной программе.
Да это же попросту тоталитарная секта вроде «Аум Синрике» «Белого братства» или кришнаитов! Совершенно те же приемчики, ухватки, методика облапошивания под мистические причитания... Как видим, кое-какие «общества духовного просветления» берут начало еще в восемнадцатом веке – и методы работы с тех времен практически не изменились. На дурака не нужен нож, ему не много подпоешь – и делай с ним, что хошь...
Но власти взялись за «мартинистов» отнюдь не оттого, что они обирали доверчивых простаков. Тогда, как и теперь, привлечь за подобное к ответственности было крайне сложно: не было заявлений от потерпевших, потерпевшие, наоборот, клялись и божились, что добровольно отдали все нажито хорошим людям.
Масоны решили, не размениваясь по мелочам, стать самой настоящей оппозицией и влиять на большую политику...
Историк девятнадцатого столетия: «Когда в руках „больших господ“ остаются лишь „малые дела“, они заполняют досужее время разговорами о том, что не ими делается, как при них бывало и как они поступили бы, если бы их призвали к власти. Таких господ в екатерининской Москве было множество. Их объединяло все: общественное положение, родство, свойство, жизнь не у дел, на покое, в опале. В конце 70-х годов, после Пугачевского восстания, в Москве пошли толки о тайных масонских собраниях, с участие знатных вельмож, недовольных правлением Екатерины II. В следующем десятилетии масоны выступили публично, суд, школу и печать, благотворительность. Правительство и общество насторожилось».
Как видим, под словом «масоны» на сей раз скрывалась всего-навсего великосветская оппозиции, стремившаяся «приобрести значение». Екатерина сообщала в письме к министру иностранных дел графу Безбородко, что собирается выпустить специальный манифест с предостережением народа «от прельщения, выдуманного вне наших пределов под названием разного рода масонских лож и с ними соединенных мартинистских иллюминатов и других мистических ересей, точно клонящихся к разрушению христианского православия и всякого благоустроенного правления, а на место оного возводящих неустройство под видом несбыточного и в естестве не существующего мнимого равенства».
Поначалу Екатерина полагала решить дело чисто литературной полемикой. Она написала сочинение «Тайна противонелепого общества», остроумную пародию на масонские ритуалы. Потом сочинила три комедии, тогда же поставленные в театре: «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман сибирский», где опять-таки высмеивала масонов, а заодно и Калиостро. «Добродетель их она считала и лицемерием, самих масонов – или обманутыми простаками, или ловкими мошенниками».
Эффекта от этого не было ни малейшего (как нет его и теперь, потому что «обманутые простаки» все равно будут слепо верить своим «гуру». А «ловким мошенникам» на любые комедии начихать). Екатерина писала: «Перечитав и в печати, и в рукописях все скучные нелепости, которыми занимаются масоны, я с отвращением убедилась, что, как ни смейся над людьми, они не становятся от того ни образованнее, ни благоразумнее».
Становилось ясно, что пора и власть употребить...
К тому времени немец Шварц уже помер (так и не найдя эликсира вечной жизни), и московскими масонами стал руководить Новиков. Тут в «соответствующие органы» стала поступать вовсе уж нехорошая информация, которую никакая власть не оставит без внимания...
Новиков и его «братья» пытались найти дорожку к великому князю Павлу, чтобы завлечь его в ложу. И дело тут было уже не в Новикове, в общем, простом бумагомарателе. Группа отставных аристократов вроде старого ненавистника Екатерины Никиты Панина просто-напросто использовала масонов в качестве инструмента – чтобы подчинить наследника именно себе. Панин чувствовал себя настолько вольготно, что еще в 1784 г. когда до смерти Екатерины оставалось двенадцать лет, стал готовить манифест о восшествии на престол Павла и отослал ему проект, начав письмо так: «Державнейший император Павел Петрович, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!»
При живой и здоровой Екатерине такое обращение к наследнику выглядело как-то... не вполне вежливо. И не прибавило Екатерине добрых чувств в отношении «масонской шайки».
А тут еще заграничные агенты присылали неприятные отчеты. Московские розенкрейцеры, мистики мохнорылые (как выражался один из литературных героев) существовали не сами по себе, а подчинялись главной розенкрейцеровской ложе в Пруссии, в Берлине. И наследники Фридриха стали прикидывать, не удастся ли им с помощью «московских братьев» оторвать Лифляндию от России и присоединить ее к Пруссии.
Это уже называется не масонством, а использованием агентов влияния... Московские масоны побывали в Берлине, встретились там с главой ордена, поговорили и о Лифляндии, и о том, что следует как можно скорее привлечь к себе Павла Петровича – Екатерина, хотя и сама была немкой, немцев недолюбливала, а вот Павел относился к ним гораздо спокойнее.
Вот тут-то, получив сведения о берлинских посиделках, и начали масонов брать, начиная с Новикова. Обвинения ему предъявили по всем правилам, и вовсе не за «порицание крепостничества» и «вольнодумство». Речь шла о вещах гораздо более конкретных: насаждение непозволительных с православной точки зрения ритуалов и обрядов; подчиненность московских лож Берлинскому центру «мимо законной и Богом учрежденной власти», тайная переписка предосудительного характера с прусскими министрами; попытка привлечь к своей деятельности наследника (которого в документах обтекаемо именовали «известной особой»); издание «противных закону православному книг». А главное, к тому времени все же накопали кое-какие улики по облапошиванию доверчивых богатеев. Так и написано: «Уловляя пронырством свои и ложною как бы набожностию слабодушных людей, корыстовались граблением их имений, в чем он (Новиков – А. Б.) неоспоримыми доказательствами обличен быть может».
Радищев, к слову, тоже немало в свое время хороводился с новиковской компанией. Как видим, на глазах рассыпается сказочка о бедном, невинном идеалисте, пострадавшем за просвещение, вольнодумство и «обличение крепостного права». Перед нами – классический руководитель тоталитарной секты, аферист и политический интриган, вступивший к тому же в подозрительные связи с иностранной державой. Ни в одной стране таких типов пряниками не кормят. Для сравнения: попробуйте представить, как американский судья в наши дни поступил бы с членами мексиканской секты, собравшимися завлечь в свои ряды дочь президента Буша, чтобы таким путем добиться возвращения Мексике Техаса... Заперли бы в камеру и ключ выбросили.
Что за публику Новиков к себе принимал, прекрасно иллюстрирует пример с «братом розенкрейцером» студентом Невзоровым. Когда его посадили, он стал на полном серьезе утверждать, что в Петропавловской крепости «все иезуиты», которые его из-за стены «душат магнетизацией». Перед нами – первый достоверно зафиксированный родоначальник того многочисленного и горластого племени, которое впоследствии «агенты КГБ облучали из соседской квартиры секретным излучением». Ну, что вы хотите – классический выкормыш тоталитарной секты со съехавшей крышей. В восемнадцатом столетии это было еще в новинку. Мистика мохнорылого, не допрашивая более, гуманно перевезли в соответствующую больничку...
И это все о них. Лучше бы и дальше варили философский камень из старых подков, придурки. Сидеть бы не пришлось...
Глава одиннадцатая Дела сердечные
Отвлечемся от искателей эликсира бессмертия, мистиков-аферистов и прочей предосудительной публики, которая, в общем, примитивна, скучна и совершенно не интересна. Поговорим о вещах гораздо более завлекательных и где-то даже романтических. Никак нельзя, усевшись за обстоятельную книгу о Екатерине II и ее времени, обойти молчанием екатерининских фаворитов... Интереснейшая тема. Здесь и глупость смешана с государственным умом, и почет с позором, и циничный расчет с самой настоящей любовью.
Начнем с сухой и бесстрастной цифири. Поскольку восемнадцатый век находился к нам довольно-таки близко и письменных источников – мемуаров, посольских донесений и личной переписки – осталось немало, то «официальных», так сказать, то есть открыто признанных фаворитов при Екатерине насчитывалось ровным счетом десять. Чтобы придать этой книге некое наукообразие, приведу точный список и точные даты.
Григорий Орлов – 1762–1772;
Васильчиков – 1772–1774;
Григорий Потемкин – 1774–1776;
Завадовский – 1776–1777;
Зорич – 1777–1778;
Корсаков – 1778–1780;
Ланской – 1780–1784;
Ермолов – 1784–1785;
Мамонов – 1785–178;
Платон Зубов – 1782–1786.
Иногда форменным образом мелькали случайные симпатии, вроде Страхова или Высоцкого – но эти, получив некую толику материальных благ, моментально исчезали и со сцены, и вообще из российской истории.
С Григорием Орловым Екатерину связывали неподдельные чувства, и это была самая настоящая любовь. Об этом можно говорить с уверенностью, поскольку амор начался в ту пору, когда Екатерина, несмотря на титул наследницы престола и великой княгини, была, в сущности, никем, поскольку зависела исключительно от капризов Елизаветы: захочет – оставит в прежнем звании, захочет – домой отправит...
И вряд ли в ту пору Екатерина, первый раз уступая нахальному гвардейцу, уже тогда думала: ага, этот-то мне возмутит гвардию в два счета, и трон добудет! Совершенно другие были мотивы, к политике отношения не имевшие...
Сохранилась масса свидетельств русских сановников и иноземных высоких гостей, что Екатерина вела себя после восшествия на престол, как женщина по-настоящему влюбленная: то и дело наводила разговор на Григория: не правда ли, умен? Остроумен? Толков? А как на сцене играет в любительской пьеске!
Вот только Григорий Орлов навсегда, на всю оставшуюся жизнь так и остался гвардейским поручиком, какие бы чины и посты не занимал, какими бы милостями ни был осыпан, какими бы миллионами не ворочал. Гришка – и все тут...
Я уже рассказывал, как он вскоре после воцарения Екатерины пытался пробить идею насчет своего с ней замужества. Но и Екатерину эта мысль не прельщала (мадам Орлова, фи!), и гвардия, прослышав кое-что, пришла в нешуточное возмущение: по полкам комментировали этакие новости открыто и насквозь матерно, кто-то даже сорвал с триумфальной арки портрет Екатерины, что вообще-то подпадало под неотмененный еще закон об оскорблении величества (не нашли озорника). Гвардейцев понять можно: все они Гришку распрекрасно знали, а к монархам тогда питали нешуточное суеверное уважение, считая их особами, стоящими где-то на недосягаемой высоте. Конечно, можно было без особых душевных терзаний свергнуть, а потом придушить императора, но это – совсем другое... Монарх – это такой особый человек, небожитель. И представить, что «навроде царя» в России окажется, вот смех, Гришка Орлов, еще недавно один из превеликого множества поручиков... С точки зрения гвардейца восемнадцатого столетия это было глубоко неправильно.
Идею с замужеством посему тихонечко спустили на тормозах. Гришка успокоился, ему и без того было хорошо: во время торжественных выездов он сидел, развалясь, в золоченой карете рядом с императрицей, а родовитейшие сановники тащились рядом на лошадках – что по меркам того столетия их чертовски уязвляло, поскольку ставило в подчиненное положение согласно нормам этикета...
Уже в 1765 г. французский дипломат (и разведчик, понятно) Беранже сообщал шифром в Париж: «Этот русский (т. е. Орлов – А. Б.) открыто нарушает законы любви по отношению к императрице. У него есть любовницы в городе, которые не только не навлекают на себя гнев государыни за свою податливость Орлову, но, напротив, пользуются ее покровительством. Сенатор Муравьев, заставший с ним свою жену, чуть было не произвел скандала, требуя развода, но царица умиротворила его, подарив ему земли в Лифляндии».
Словом, Гришка гулял в открытую – и даже, по некоторым сведениям, порой Екатерину вульгарно поколачивал – так, легонько, чтобы помнила, кто в доме хозяин. Она меж тем все эти годы старательно пыталась приспособить его к государственным делам.
(Да, кстати. Едва Екатерина заняла трон, из Польши моментально примчался, пылая любовью, прежний амант Понятовский. Но Екатерина уговорила его побыстрее покинуть Россию. Орловых она прекрасно знала и опасалась, что те без затей пристукнут ляха к чертовой матери, чтобы не путался под ногами и не лез на готовенькое...)
Екатерина старательно нагружала Орлова серьезными должностями. Не почета ради – ей и в самом деле необходимы были на ответственных постах надежные и толковые люди. Орлов стал генерал-фельдцехмейстером (начальником всей российской артиллерии), генерал-директором инженерного корпуса, шефом Кавалергардского корпуса, подполковником Конной гвардии) то есть фактически командиром всех конногвардейских полков. Полковником в них во всех по старой, еще до Екатерины заведенной традиции, всегда была императрица). А еще – президентом канцелярии, ведавшей приезжавшими в Россию иностранными колонистами, президентом Вольного экономического общества. Екатерина пыталась сделать его еще и председателем Комиссии по составлению Уложения, но Гришка категорически отказался. Не по его живому характеру было сидеть дни напролет и слушать, как депутаты то читают свои нудные наказы, то цапаются, пока их не рассадили так, «чтобы плевок одного не достигал личности другого».
Впрочем, он и на всех остальных постах ничегошеньки не делал, свалив все на подчиненных. В этом было его, наверное, единственное положительное качество: Орлов, в отличие от множества своих «коллег» в России и за границей, совершенно не интересовался большой политикой и государственным управлением, не лез в дела. А все эти посты считал наказанием божьим. Я же говорю, мужик был простой, как две копейки. Золото с бриллиантами, вино и бабы – а больше ничего в этой жизни и не нужно.
Все свои обязанности по артиллерийскому ведомству Гришка свел к простой процедуре: когда означенному ведомству выдавали два миллиона по ежегодной смете, Орлов половину тут же смахивал в собственный карман, а остальное великодушно отдавал Екатерине (которая эти деньги употребляла главным образом на строительство). Конечно, кое-что все же перепадало и артиллерии, нельзя же свистнуть ежегодный бюджет до последней копеечки – но до пушкарей доходили кошачьи слезки...
Единственное его реальное достижение в качестве государственного человека – ликвидация знаменитого Чумного бунта в Москве в 1771 г. Москвичи, озверев от хворобы, неуверенности и врачей-вредителей (тогдашние эскулапы массами загоняли мало-мальски состоятельный народец в карантины, откуда выпускали только за деньги), устроили бунт на всю катушку, так увлеклись, что ненароком убили до смерти митрополита, а губернатор сбежал из Белокаменной. Орлова с воинской командой послали наводить порядок. Ну, он и навел, так, что потом уцелевшие еще три года зубами щелкали от страха. Однако это его единственное достижение, согласитесь, все же сомнительное – тут, в принципе, справится любой прапорщик с замашками держиморды. Показать всем кузькину мать, располагая полком бравых ребятушек со штыками наперевес – это не победу над внешним врагом одержать...
В общем, Орлов без особых умствований прожигал жизнь, благо положение позволяло – и ничего более не хотел. Иногда попадаются упоминания, что он «покровительствовал Ломоносову», но, скорее всего, заключалось это покровительство в том, что Гришка заезжал к ученым людям дерябнуть чарку да подивиться на всякие научные машины: крутятся-вертятся, искрами сыплют, диковина! Встречалось мне и утверждение, что Орлов состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо, одним из виднейших европейских мыслителей... Ну, не знаю. По моему глубокому убеждению, последний, кого можно заподозрить в переписке с Руссо – это как раз Гришка Орлов.
Ну на кой черт ему Руссо? У него десятки тысяч крестьян, огромные поместья, подаренные императрицей дворцы (в том числе и тот, в Ропше, где убили Петра), десять тысяч рублей в месяц карманных денег, вокруг шляется куча неосвоенных баб... Какой тут Руссо?
Екатерина, тщательно пытаясь все же обрести помощника, сделала его главным директором фортификаций (то есть начальником, отвечавшим за строительство новых крепостей и содержание в порядке старых). Гришка и тут ничем себя не прославил. Поставила членом Государственного Совета – но на его заседаниях Орлов подремывал, и лишь единожды, ко всеобщему удивлению, потребовал слова. Тогда как раз обсуждалась кандидатура нового польского короля, предлагались назначить Понятовского – и все Гришкино выступление свелось к тому, что он матерно крыл ляха (по старой ревности).
Но чашу терпения императрицы переполнили «подвиги» Орлова на дипломатической ниве. Екатерина поручила ему серьезнейшее дело: возглавить мирные переговоры с турками после первой русско-турецкой войны. Ну, Гришка и возглавил...
Трудно сказать, что ему стукнуло в голову, но последствия прекрасно известны от свидетелей. Прямо на заседании, где присутствовали делегации высоких договаривающихся сторон, Орлов стал орать, что никакого мира заключать не намерен, более того – собирается захватить Стамбул и вновь переименовать его в Константинополь. Дружно одурели все – и турки и русские. Главнокомандующий русской армией Румянцев, здесь же присутствовавший, пытался деликатно Гришку утихомирить, полагая, что все от водки, но Гришка, никого не слушал, стал кричать, что отставляет Румянцева с поста главнокомандующего, каковым назначает сам себя – а если Румянцев будет возникать, то он, Орлов, его тут же повесит. Объявил переговоры прерванными и уехал в Яссы, где стал закатывать балы, щеголяя в костюме, усыпанном щедротами Екатерины бриллиантами на миллион рублей...
Это был уже форменный беспредел... Такого Екатерина никому не прощала. Тем более что спустя две недели после отъезда Орлова к туркам у нее появилась новая официальная симпатия – молодой красавец Васильчиков.
Орлов помчался в столицу, но его остановили под предлогом «карантина» по личному приказу императрицы. Чрезвычайно похоже, что Екатерина Гришку по-настоящему боялась – ходили упорные слухи, что она велела сменить замки в комнатах Васильчикова и резко усилила караулы на въездах в Петербург. Орлов вынужден подчиниться и поселиться в Гатчине.
Для него начинается черная полоса...
Как он ни рвался поговорить с Екатериной, она его не принимала и даже потребовала вернуть ее осыпанный бриллиантами портрет, который Орлов носил на груди (тогда это считалось особым знаком отличия, стоявшим выше всех орденов). Орлов отослал бриллианты, а портрет, писал, вернет только собственноручно.
Не помогло. Екатерина особым указом объявила ему отставку со всех занимаемых постов и написала, что «позволяет» (т. е. прямо приказывает) отправиться путешествовать «для поправления здоровья».
Это был полный и окончательный разрыв. Пришлось смириться. Гришка уехал в Ревель, где с головой ушел в балы и прочие увеселения. Правда, он и там вел себя, как первое лицо в государстве, совершая поступки, на которые уже не имел никакого права: кого-то наградил орденом св. Анны, кому-то пожаловал казенное поместье. Екатерина, впрочем, эти дела законным образом утвердила – чем бы ни развлекался, лишь бы не отирался в Петербурге, чудо в перьях...
Получил все же дозволение вернуться в Петербург (но к императрице – ни ногой!) и получив в утешение княжеский титул, Гришка ухитрился переполошить и русский, и прусский двор. В Россию приехала принцесса Гессен-Дармштадтская с двумя дочерьми, меж которыми Павел Петрович должен был выбрать себе невесту. Так вот, Гришка вдруг стал во всеуслышание заявлять, что на одной из дочек сам женится.
Петербургские и прусские дипломаты развязали активнейшую переписку, понеслись курьеры с шифровками, и Екатерина, и Фридрих Великий решили, что Орлов замыслил какую-то особо изощренную интригу и непонятно куда метит...
Переполох был страшный. Однако Гришка всего-навсего по своему обыкновению приволокнулся за юной красоткой – и, едва подвернулась какая-то уступчивая фрейлина, забыл о добропорядочной немке. Напрочь. Но паники, сам того не ведая, наделал изрядной...
В 1777 г. он по-настоящему влюбился в девятнадцатилетнюю красавицу, фрейлину Зиновьеву. Они обвенчались и жили счастливо. Но через пять лет жена Орлова умерла от чахотки.
Орлова сорвало в безумие, от которого он уже не оправился до самой смерти шесть лет спустя. Конец его был печален: по достоверным данным, он постоянно мазался собственными испражнениями, которые, пардон, и ел. Ходили упорные слухи – не исключено, основанные на точных сведениях от врачей и лакеев, что во время припадков безумия он видел перед собой призрак Петра III и повторял, имея в виду смерть жены: «Это мне наказание!»
Екатерина уверяла в письме к одному из своих постоянных корреспондентов, что «громко рыдала и страшно страдала», но ее обширное письмо не показывает никакой особой удрученности – все, надо полагать, давным-давно перегорело...
Их сын, тот самый Бобринский, ничем путным себя не проявил. Порхал по заграницам, как вертопрах, делал огромные долги (в Париже ухитрился небрежно занять не менее миллиона) – тогда Екатерина распорядилась, чтобы его вернули в Россию и малость приструнили...
Алексей Орлов – Алеха, Барафре – в круг фаворитов не входил, но некоторые историки утверждают, что у него все же был сын от Екатерины, получивший фамилию Чесменский. Точно неизвестно, возможны очередные байки – потому что, например, о некоем «поляке Высоцком» как любовнике Екатерины упоминает лишь тот самый француз Кастера, что сочинил кучу ерунды о «Елизавете II», а ни один отечественный исследователь ни о каком Высоцком представления не имеет...
Алехан, несмотря на созвездие высоких постов, тоже ничем особенным себя не прославил, разве что захватом самозванки в Италии. Победу под Чесмой, за которую он получил титул Чесменского, одержал не он, а талантливые флотоводцы Спиридов и Грейг. Единственное бесспорное достижение Алехана – это то, что именно он после долгих трудов вывел породу знаменитых орловских рысаков.
Едва воссев на престоле, Павел I решил восстановить справедливость в отношении отца – торжественная процессия перенесла гроб с телом из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор. Император специально распорядился, чтобы для участия в процессии собрали всех участников переворота и заговора 1762 г. – понятно, не рядовых солдат. Впереди процессии должен был нести корону Алексей Орлов.
Он ее и пронес – с каменным лицом, нисколечко, я уверен, не терзаясь угрызениями совести и прочими глупостями. Не тот был человек – Балафре. Пожалуй что, покрепче нервами и гораздо умнее братца Гришки.
Графиня Загряжская рассказала молодому Пушкину о разговоре, который еще при жизни Павла состоялся у нее с Алеханом, уехавшим за границу, поскольку, окружающие прекрасно понимали, находиться ему в России при Павле было как-то неудобно: «Орлов был в душе цареубийца, это у него было как бы дурной привычкой... Мы разговорились о Павле I. „Что за урод? Как его терпят! „Ах, батюшка, да что же ты прикажешь делать? Ведь не задушить же его?“ „А почему ж нет, матушка?“ „Как? И ты согласился бы, чтобы дочь твоя Анна Алексеевна вмешалась в это дело?“ „Не только согласился бы, а был бы тому очень рад!“ Вот каков был человек!“.
Ну какие тут угрызения совести? Это вам непростак Гришка. Дорого бы я отдал, чтобы иметь возможность взглянуть на лицо Алехана, идущего впереди процессии морозным Петербургом с короной убитого им императора – это все равно что заглянуть в глаза всему восемнадцатому веку...
Род Орловых пресекся в 1832 г. Те, кто продолжали и княжескую и графскую линии – узаконенные внебрачные сыновья Федор Орлова и родственники по женской линии, которым «всемилостивейше разрешено» было принять фамилию.
Помянутый Васильчиков, из-за которого (хотя не только из-за него) Екатерина с Орловым рассталась, был личностью совершенно незначительной. Красавчик «в случае», как это тогда называлось.
Сам он свою роль «мальчика по вызову» прекрасно понимал. Однажды сам жаловался приятелю (который передал этот разговор французскому дипломату, а тот записал для истории): «Я был только содержанкой, и со мной так и обращались. Не хотели, чтобы я видел кого-нибудь, чтобы выходил. Когда я просил за кого-нибудь, мне не отвечали. Когда я говорил за себя, было то же самое. Когда я хотел получить ленту св. Анны и сказал об этом императрице, то я на следующий день нашел в своем кармане 30 000 руб. ассигнациями. Мне всегда закрывали рот таким образом и отсылали в мою комнату».
Следующий фаворит был ему полной противоположностью – речь идет о Григории Александровиче Потемкине, одном из ярчайших деятелей екатерининского царствования и вообще восемнадцатого века.
Из небогатых дворян, учился в школе, но был оттуда выставлен за лень и прогулы. Пришлось идти унтером в гвардейский полк. Как именно он познакомился с Екатериной, так и останется неизвестным. Существует версия: когда в день переворота Екатерине принесли гвардейскую офицерскую форму, забыли где-то темляк на шпагу – и молодой унтер отдал свой. Ни проверить достоверность этой легенды, ни опровергнуть ее не представляется возможным. Фактом является, что, когда наделяли чинами и наградами участников переворота и Потемкин в списке значился корнетом, Екатерина это собственноручно вычеркнула и написала: «В подпоручики». А всего через четыре месяца подпоручик получил придворный чин камер-юнкера, то есть свободный доступ ко двору. Причины опять-таки остаются тайной навсегда. История с темляком – чересчур ничтожный повод для того, чтобы императрица обратила особое внимание на обыкновенного унтера. Невелика заслуга...
Быть может, Потемкин играл какую-то важную роль в подготовке заговора, оставшуюся неизвестной историкам и молве? Это, пожалуй, самое логичное объяснение – потому что внимание Екатерины действительно было особым. Молодого придворного она вводит в сенатские комиссии, письменно приказав сенаторам «познакомить со всеми делами» – а там производит и в камергеры, находит ему хороших заграничных учителей, словно бы выращивая себе сподвижника, опытного в государственном управлении.
Однако за этим с нешуточной ревностью наблюдают братья Орловы, Гришка и Алехан. У Потемкина происходит с ними какая-то ссора (иногда ее называют несчастным случаем), в ходе которой Потемкин теряет один глаз. Должно быть, были все основания опасаться куда как более серьезного продолжения – и Потемкин отправляется на первую русско-турецкую войну, где делает неплохую карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. А потом пишет Екатерине письмо, где просит чина генерал-адъютанта, «если она считает его заслуги достойными себя». Это намек!
Екатерина согласилась. Васильчиков отправляется в почетную ссылку в Москву. А Потемкин занимает его место. «Циклоп», как его прозвал разобиженный Гришка Орлов, становится всемогущим – назначает и смещает министров, руководит внешней политикой и внутренними делами империи.
Подробно об этом рассказывать нет смысла – о Потемкине написано немало книг. Он руководил армией и во вторую турецкую войну, осваивал южные земли, Новороссию, Крым, строил города, крепости и корабельные верфи, налаживал сельское хозяйство на приобретенных землях. До сих пор имеет хождение дурацкая легенда о «потемкинских деревнях» – якобы Потемкин во время знаменитого путешествия императрицы по югу России вместо реальных городов и деревень соорудил грубые декорации, которые Екатерина и сопровождающие ее иностранные вельможи и дипломаты приняли за настоящие.
Однако давным-давно доказано, что эту чепуху запустил в обращение секретарь саксонского посольства Гельбиг. Который в той поездке как раз не участвовал. Этот субъект старательно собирал всевозможные слухи, сплетни и анекдоты, из которых даже состряпал книгу. Но главное тут было даже не в любви к слухам, а в личности дипломата. Ни Россию, ни Екатерину он терпеть не мог, а потому старательно пытался представить освоение русскими Причерноморья как нелепую и вредную авантюру. Вот и придумывал, будто дома в Херсоне были не настоящими, а сляпанными на скорую руку из камыша и покрашенными. Что военный флот (реальный!), показанный императрице в Севастополе, состоял из старых купеческих кораблей, которые замаскировали под фрегаты. А конные полки существуют только на бумаге...
Меж тем сама Екатерина писала в Петербург: «Легкоконные полки, про которые покойный Панин и многие другие старушонки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не картонные, но в самом деле прекрасные».
Ага, вот именно. Вместе с Гельбигом слухи о «потемкинских картонных городах» распространял еще давным-давно отставленный от всех дел граф Панин, сам решительно ничего занятного не создавший...
Вместе с Екатериной в этой поездке были австрийский император и дипломаты из нескольких стран – однако они-то как раз описывают не «камышовые дома», а настоящую крепость в Херсонесе, арсенал, верфи и корабли, церкви, казармы. А венесуэлец де Миранда, путешествовавший по тем местам, оставил подробнейшие записки, полностью противоречащие выдумки Гельбига.
К слову сказать, венесуэлец был колоритнейшей личностью, на которые богат восемнадцатый век. Закончил университет в Каракасе, во время войны за независимость воевал на стороне американских колонистов, потом стал генералом французской республиканской армии – а свое путешествие по России совершил в качестве агента английской разведки.
Соответствующие русские службы его «расшифровали» еще в Стамбуле, через который венесуэлец ехал – но в России решили не препятствовать явному разведчику, а наоборот, показать ему как можно больше (за исключением особых секретов). Показать, что Россия прочно закрепилась в Причерноморье, освоила регион и имеет достаточно сил, чтобы его защитить. Подобные приемы в дипломатии и разведке существуют с давних пор. Потемкин даже показывал гостю карту Крыма, составленную офицерами его штаба, документы о численности жителей – и подсунул абсолютно достоверные сведения о количестве войск на юге России. Де Миранда думал, что это он, проныра, раздобыл через «оборотистых людей» секретные данные – а ему их подсунули агенты Потемкина. Чтобы Англия окончательно убедилась: русские в тех местах освоились крепко...
Так что Потемкин был полной противоположностью Орлову – не только любовник императрицы, но и ее правая рука во всех делах (роль, которую Екатерина тщетно добивалась от Орлова, пока не поняла совершенно точно, что все усилия бесполезны).
Сохранилось множество записок Екатерины к Потемкину (они переписывались почти каждый день). Какие меж ними были отношения, становится ясно сразу:
«Голубчик мой, я здорова и к обедне пойду... Сударушка милый, целую тебя мысленно».
«Милушка, что ты мне ни слова не скажешь и не пишешь...»
«Батенька, здравствуй, каков ты? А я здорова и тебя чрезвычайно люблю».
«Душонок мой, сердечно жалею, что недомогаешь, и прошу об нас не забыть, а мы душою и сердцем навек Гришатке крепки».
«Здравствуй, душенька! Я спала до девятого часа и теперь только встала. Каково ты почивал? Пришли сказать нам о сем, буде писать поленишься рано. Люблю тебя, как душу душа, душатка милая».
«Гришонок, бесценный, беспримеримый и милейший на свете! Я тебя чрезвычайно и без памяти люблю, друг милый, целую и обнимаю».
«Гришенька, друг мой, когда захочешь, чтобы я пришла, пришли сказать, а между тем я села читать газеты».
Это был крайне удачный союз – в 1776 г. Потемкина сменил в спальне императрицы Завадовский, но «Гришонок» еще семнадцать лет, до самой своей смерти, оставался довереннейшим лицом, ближайшим помощником и всесильным правителем. Вот характерное письмо Екатерины от 10 февраля 1788 г.: «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Письмо твое от 23 января, в котором пишешь, что ты опять занемог, не мало меня тревожит. Божусь тебе, что я почти дрожу всякий раз, что имею о твоем здравии известия не такие, как мне желается; дай Боже, чтобы ты скорее выздоровел».
Письмо искреннее: Екатерина прекрасно понимала, что смазливых мальчиков найти нетрудно, только свистни, а вот таких сподвижников – по пальцам пересчитать.
Самое интересное, что все фавориты, появлявшиеся после Потемкина – Завадовский, Зорич, Корсаков, Ланской, Ермолов, Мамонов – были, собственно говоря, его людьми. Потемкин их, если можно так выразиться, продвигал, и они старательно соблюдали неписаный договор: тешились генеральскими званиями и поместьями, орденами и золотом, но в дела государственные лезть не смели. На это, все знали, есть князь Потемкин. Методы убеждения которого, отметим особо, вполне соответствовали веку, отнюдь не отличавшемуся ангельской кротостью поступков и благородством интриг. Князь Голицын, светский красавчик, начал привлекать взоры Екатерины – но Потемкина он отчего-то не устраивал, быть может, представлялся неуправляемым. Очень быстро два офицера (вскоре один женился на племяннице Потемкина) вызвали его на дуэль, где один из них, Шепелев, быстренько проткнул красавца шпагой насмерть. Каков век, такие и методы...
Все перечисленные фавориты (за исключением разве что Зорича) следа в российской истории не оставили ни малейшего и никак себя не проявили в чем бы то ни было. Недотепистый какой-то был народец. Единственное, что от них осталось – это подробный список чинов, орденов, придворных званий и крепостных душ, полученных от щедрот императрицы. Мамонов, обормот, за спиной Екатерины закрутил романчик с ее фрейлиной. Екатерина быстро узнала – и, скрепя сердце, быстренько молодых повенчала, благо Мамонов сам ей расписывал, как он влюблен (она была совершенно не мстительна, чего-чего, а этого ей даже недоброжелатели не приписывали). Корсакова Екатерина в один распрекрасный момент застала с графиней Брюс на собственной постели в самом что ни на есть пикантном положении. Опять-таки рассталась без скандала и мести. Ланской, шептались, умер от передозировки возбуждающих средств. Ермолов был совершеннейшим ничтожеством, и впоследствии, когда историки пытались хоть что-то о нем сказать, откопали один-единственный курьезный случай: будучи в Париже, на смотре французской и швейцарской гвардии, который проводил король Людовик XVI, Ермолов туда заявился в русском мундире инженерных войск, как две капли воды похожим на тот, что носил командующий швейцарами граф д’Артуа. Швейцарцы издали приняли Ермолова за своего начальника, взяли ружья на караул, в барабаны ударили. Ермолов по глупости решил, что это относится к нему лично (он всегда пыжился своим недолгим фаворитством) – и направился вдоль строя, благодушно кивая и бормоча что-то наподобие: «Не надо оваций...» Его взяли за локоток и деликатно оттеснили в сторонку, объяснив, что к чему и попросив не отсвечивать. Вот и все, что о нем история сохранила.
Семен Зорич, серб по происхождению, гусарский майор, был, по крайней мере, гораздо колоритнее. В первую турецкую войну турки его на поле боя окружили и едва не убили, и он, видя, что всех не перерубишь ввиду многолюдства, а его самого вот-вот искрошат в капусту, крикнул, показывая себе на грудь:
– Я – капудан-паша!
То есть, переводя на турецкие чины, полный генерал. Это его и спасло: в любой армии мира к генералам, даже неприятельским, относятся с почтением. Турки его взяли в плен, привезли в Стамбул и доложили султану: мол, захватили полного генерала, удалец, как ни верти, столько наших порубал... Зорич и в самом деле воевал храбро. Султан, посмотрев на пленника – точно, бравый! – пригласил его к себе на службу, но Зорич гордо отказался. Когда разменивали пленных, султан в письме к Екатерине со всей восточной цветистостью поздравил государыню от себя лично за то, что у нее есть такие верные вояки, как генерал Зорич: как ни стращали, а на турецкую службу не пошел и веру переменить отказался.
Екатерина удивилась: какой такой генерал Зорич? Вроде бы не слышала... Разобраться! Ей вскоре донесли, что в списках имеется, точно, майор Зорич, каковой и в самом деле сидит в плену у басурман – а генерала Зорича в армии отродясь не бывало...
Когда Зорич вернулся из плена, Екатерина захотела на него посмотреть впечатление были самые положительные: гусар, красавец, усы вразлет... Она, конечно, поинтересовалась, отчего это майор дерзнул себя именовать генералом.
Зорич простодушно ответил:
– Да ведь зарезать собирались, нехристи...
И тут же, спохватившись, продолжил:
– А еще – чтобы и далее иметь честь служить вашему величеству...
Екатерина присмотрелась... Еще присмотрелась... И, приняв решение, сказала:
– Ну, коли уж турецкий султан вас хвалит как храброго генерала, будьте генералом...
И стал Зорич генералом – второй любовник-иностранец (и единственный фаворит из иностранцев за все время царствования Екатерины). Малый, судя по отзывам, был недалекий, но неплохой. Кто-то его назвал «добрейшим из смертных», а сама Екатерина дала такую характеристику: «Любил доброе, но делал худое, был храбр в деле с неприятелем, но лично был трус».
Екатерина ему подарила не просто имение, а целый город Шклов – после того, как дала почетную отставку, видя, что и этот умом не блещет. В Шклове Зорич жил со всей возможной роскошью, завел такую карточную игру, какую, по отзывам современников, ни раньше, ни потом не видели. В конце концов проиграть все вчистую – и бриллианты на 200 000 рублей, и два миллиона денег, и земли. Умер совершенно разоренным (что любопытно, в день смерти Екатерины, хотя и тремя годами позже).
Но одно полезное дело он все же совершил: основал в своем Шклове кадетский корпус на двести воспитанников, которых обучал и содержал на свои средства. После его разорения этот корпус был переведен в Петербург и преобразован в военную гимназию.
О Корсакове есть великолепный рассказ. Однажды он, стараясь не отстать от тогдашней моды (все вокруг книжки читают, а императрица даже с философами переписывается) позвал ученого библиотекаря и с важным видом объявил, что собирается у себя устроить библиотеку.
Библиотекарь, конечно, первым делом поинтересовался:
– Какие же книги ваша милость желают иметь?
Посмотрел на него Корсаков, как баран на новые ворота, и безмятежно ответил:
– А чтоб толстые на нижних полках стояли, а маленькие – на верхних. Как у императрицы!
Ни убавить, ни прибавить...
В общем, вся эта публика хапала чины и поместья, блистала и пыжилась – а Потемкин работал, управляя Новороссией. Человек был сложный и неоднозначный, чего уж там. Помимо трудов на благо государства – блестящих! – казнокрадствовал также блестяще, в духе эпохи, то есть открыто, простодушно и незатейливо, нисколько не скрываясь. Так уж тогда было принято повсеместно...
Во время второй турецкой войны армии Потемкина было выдано пятьдесят пять миллионов рублей. Впоследствии Потемкин представил отчет (самый поверхностный) только на сорок один миллион. Остальные куда-то подевались, черт их ведает, куда. А впрочем, отчета у Потемкина решено было не спрашивать – ну, таков уж князь Григорий, благодушно улыбнулась Екатерина, что поделаешь... И, услышав, что князь снова нуждается в деньгах, купила у него в казну за пару миллионов дворец, да ему же моментально и подарила.
Сохранилась интересная история о том, как Потемкин платил долг одному из кредиторов, придворному часовщику, итальянцу по происхождению. Долги Потемкин страшно не любил платить. Итальянец настаивал: мол, что для вас, ваше сиятельство, четырнадцать тысяч Рублев? Смех один.
«Смех, говоришь?» – переспросил Потемкин и задумался...
В тот же вечер долг до последней копеечки – все четырнадцать тысяч рублей – итальянцу доставили на дом. Медной монетой, имеющей хождение на территории российской империи. Несчастный итальянец завалил этими деньгами две комнаты, под самый потолок...
Что любопытно, Потемкин был хамом и грубияном, под горячую руку преспокойно раздавал оплеухи сановникам и генералам – нос простым народом всегда держался добродушно. А потому в его армии офицеры его большей частью ненавидели – а солдаты обожали. Знатные господа терпеть не могли, а собственные слуги души в Циклопе не чаяли.
«Волком смотрит» – это подлинное, зафиксированное современниками мнение, повторявшееся годами. Екатерина как-то спросила своего лакея Зотова: «Любят ли в городе князя?» Тот ответил честно:
– Двое любят – вы и Господь...
В зените своего могущества ему было скучно. Есть любопытнейшие воспоминания его племянника Энгельгардта.
«Можно ли найти человека счастливее меня? – сказал он после долгого молчания. – Все мои желания, все мои прихоти исполняются как по мановению волшебного жезла. Я хотел получить высокие служебные посты – и моя мечта осуществилась, я стремился к чинам – они у меня все теперь, я любил игру в карты – и я могу проигрывать несчетные деньги, я любил празднества – и я могу устраивать их с поразительным блеском, я любил покупать земли – и у меня их столько, сколько я хочу, я любил строить дома – я понастроил себе дворцов, я любил драгоценности – и ни у одного частного человека не найдется столько редких и красивых камней, как у меня. Одним словом, я осыпан...» С этими словами он схватил фаянсовую тарелку и разбил ее об пол, затем убежал в свою спальню и запер ее на ключ...»
Между прочим, это вовсе не капризы пресыщенного богача и всесильного вельможи, как может показаться, а официально введенный в психиатрию только в 1985 г. «синдром Ротенберга-Аль-това» или «депрессия достижения». Суть ее как раз в том и заключается, что человек, оказавшийся в положении, когда ему просто нечего больше желать из задуманного, впадает в натуральнейшее душевное расстройство. Именно этот синдром (а вовсе не «жестокость буржуазного мира») сгубил главного героя романа Джека Лондона «Мартин Идеен». А потому специалисты советуют держать в загашнике еще какие-нибудь «запасные» серьезные желания – чтобы оставалась лазейка для нового приложения нешуточных усилий. Но в восемнадцатом веке таких тонкостей еще не знали...
Потемкин никогда не был скопидомом – все, что он с циничным простодушием присваивал из казны, он мотал. Например, на те самые великолепные праздники с сотнями гостей, фейерверками и пушечной пальбой – гремевшей в тот самый мин, когда светлейший князь, уединившись в парчовом шатре с очередной симпатией, достигал цели...
Люди тогда были яркие. Что бы они ни творили – цареубийства, воинские победы, казнокрадство, любовные дела, интриги друг протии друга – все происходило с нешуточным размахом, какого уже не знал скучный девятнадцатый век, как ни пытались миллионеры-оригиналы повторить иные забавы, не понимая, что окружающее время уже не то...
В главной квартире Потемкина в Бендерах насчитывалось не менее пятисот лакеев, двести музыкантов, кордебалет, труппа комических пьес, сотня златошвеек и двадцать ювелиров. Вспоминает очевидец: «Князь устроил в одной из зал занимаемого и дома палатку, где были собраны сокровища двух миров, чтобы очаровать красавицу, которую он хотел подчинить своей власти. Все там сверкало золотом и серебром. На диване, покрытом розовой материей из тканого серебра с бахромой и украшенной цветами и бантами, сидел князь в самом изысканном домашней костюме рядом с предметом своих вожделений, а вокруг них в костюмах, не скрывавших красоты тела, расположились пять или шесть дам, перед которыми дымились благовонные масла в золотых чашечках... За десертом разносили хрустальные кубки. Наполненные бриллиантами, и дамы приглашали брать из них».
Красавица, о которой идет речь – Екатерина Долгорукая, жена одного из служивших под начальством Потемкина генералов. Как полагалось в те времена, генерал нисколько не протестовал, поскольку сам где-то в отдалении развлекался с доступными красотками...
Прослышав, что в Вене живет выдающийся музыкант, Потемкин хотел пригласить его дирижировать своим оркестром – но дело сорвалось из-за внезапной смерти композитора. Фамилия его была Моцарт. Судьбы двух знаменитостей и талантов восемнадцатого века едва не переплелись...
В числе возлюбленных Потемкина – пять его племянниц, редкостных красавиц. Тогда это не считалось ни особенным извращением, ни кровосмешением – вспомним об Августе Сильном, который преспокойно спал и вовсе с родной дочерью, чему Европа восемнадцатого столетия лишь снисходительно ухмылялась.
Вареньку Энгельгардт (одну из племянниц, будущую княгиню Голицыну) Потемкин, судя по всему, любил по-настоящему. Одна из многочисленных любовных записок светлейшего: «Варенька, если я тебя бесконечно люблю, если моя душа ничего не хочет знать, кроме тебя, то умеешь ли ты, по крайней мере, ценить это? Могу ли я тебе верить, когда ты обещаешь вечно любить меня. О, как я тебя люблю, моя душа! Я никого так никогда не любил! Не удивляйся, если ты видишь меня иногда печальным: это совершенно невольные душевные настроения, и я прекрасно понимаю, что у меня нет никаких оснований быть грустным, но я не могу владеть собой. Прощай, мое обожаемое существо. Целую тебя всю».
Князь тревожился не зря: «обожаемое существо» было девочкой практичной и расчетливой. Немало воспользовавшись дядюшкиной щедростью, Варенька завела амор с будущим мужем князем Голицыным, а для разрыва с Потемкиным использовала хитрую тактику: притворилась, будто бросает любовника оттого, что его постоянные измены ей надоели. К слову, измены эти существовали не в ее воображении, а в реальности, так что крыть было нечем – карманы халатов Потемкина были набиты любовными записочками вовсе не от Вареньки...
Примерно так же вели себя и остальные осчастливленные племянницы – урвав немалую толику материальных благ, покидали князя. В полном соответствии с традициями эпохи. Сам Потемкин тоже не особенно стеснялся. Сохранились воспоминания, как однажды при большом стечении светского народа генерал Долгорукий, муж красавицы Екатерины, попытался было пенять Потемкину за связь со своей женой: судя по всему, чисто из приличия, чтобы проявить норов и не считаться «тряпкой». Потемкин – великан ростом, не обиженный силушкой – схватил его за орденские ленты, рывком вздернул в воздух и рявкнул:
– Несчастный, это я дал тебе и другим эти ленты, которых ты еще не заслужил! Все вы пешки, и я имею право делать все, что я хочу, с вами и со всем тем, что вам принадлежит.
Была в этом изрядная доля правды: слишком много народу откровенным образом выпрашивало у всемогущего князя чины и отличия, чуть ли не в ногах ползая. Точно, пешки. Потому что сохранилось немало свидетельств о том, как люди с чувством собственного достоинства отнюдь не лебезили с князем: мужчины давали словесный отпор, а одна из светских красавиц, когда Потемкин приобнял ее на людях, моментально закатила князю такую оплеуху, что звон пошел... Князь в таких случаях откровенно злился, но никогда не мстил.
Валить и подсиживать его пытались по-разному. Сейчас об этом мало кому известно, но буквально в последнее время дотошные исследователи раскопали любопытные факты. Выяснилось ненароком, что радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» – это еще и заказной памфлет, направленный против Потемкина...
Давайте по порядку. Господин Радищев, начнем с принципиальнейшего уточнения, крепостнические порядки поругивал исключительно абстрактно, взявшись за перо. Между тем сам он был владельцем аж трех тысяч крепостных «душ», которых никогда не проявлял поползновений освободить согласно собственным литературным идеям – идеи идеями, а с тремя тысячами рабов живется сытно и доходно. Не подлежит сомнению: если бы крестьяне Радищева, прочитав его книгу, попытались осуществить то самое «естественное право» на бунт и смертоубийство, Радищев не возрыдал бы от умиления, а моментально вызвал бы воинскую команду против подлых бунтовщиков. Обычно так и случается с абстрактными идеалистами, которые в частной жизни со смаком пользуются теми благами и привилегиями, против которых выступают публично...
Радищев был не затворник-мыслитель, а занимал довольно высокий по тем времена пост начальника Петербургской таможни. Таможни с момента своего появления на свет были для тех, кто там служил, невероятно хлебным местечком. Сам Радищев, правда, по свидетельствам современников, на лапу не брал – но, как это частенько случается с идеалистами, не обращал внимания на проделки подчиненных. А потому среди петербургского купечества в ту пору говорилось открыто – раньше, до Радищева, достаточно было подмазывать одного-единственного начальника таможни, а теперь приходится «отстегивать» дюжине подчиненных. Лучше бы уж один брал, обошлось бы гораздо дешевле...
Ну, в прямым начальником Радищева по означенному ведомству был граф Воронцов (как уже поминалось, брат знаменитой княгини Дашковой). Человек опять-таки «сложный и неоднозначный»: Потемкина он открытым текстом порицал за казнокрадство и роскошный образ жизни, но именно при Воронцове в ходе очередной бухгалтерской проверки на петербургской таможне неведомо откуда оказалось полтора миллиона неучтенных денег. Радищев, по его показаниям на следствии, обнаружив эти денежки, передал их Воронцову. После чего полтора миллиона куда-то загадочным образом испарились. Едва генерал-прокурор Сената Вяземский официальным образом поинтересовался, где полтора миллиона, воронцов моментально ушел в «бессрочный отпуск». Дело замяли, и деньги так никогда и не обнаружились. Ну, это было сугубо наследственное: отец Воронцова получил от окружающих кличку «Роман – большой карман», и дошло до того, что однажды Екатерина в день ангела этого самого Романа сделала ему подарок с намеком: расшитый бисером Кошелев длиной не менее аршина... Все вокруг смеялись, а Воронцову хоть бы хны...
Так вот, вокруг Воронцова, как это обычно бывает, сколотилась целая «партия», в которую входил и Радищев, пользовавшийся доверием и покровительством начальника и по его протекции только что получивший орден св. Владимира. Одна из глав «Путешествия» под названием «Спасская Полесть» – неприкрытый выпад против Потемкина, весьма прозрачно изображенного в виде некоего военачальника, погрязшего в роскоши и взяточничестве...
Радищев, кстати, чтобы издать свою книгу частным и тайным образом, провернул интересную операцию. Несколько хорошо знакомых ему по издательских делам наборщиков, корректоров и печатников он, изображая бескорыстного благодетеля, устроил к себе в таможню досмотрщиками судов, приходящих в порт. Естественно, все они моментально начали грести взятки с владельцев грузов. Радищев знал, да помалкивал. А потом открытым текстом потребовал ответной услуги. И все эти издательских дел мастера в глубокой тайне подготовили и напечатали 600 экземпляров книги. Не посмели ни отказаться, ни донести куда следует о крамольной книжке – моментально всплыли бы их собственные грешки...
Потемкина в персонаже книги узнали моментально. С. Н. Глинка вспоминал: «В сильной вылазке против князя Григория Александровича ор (Радищев – А. Б.) представил его каким-то восточным сатрапом, роскошествующим в великолепной землянке под стенами крепости».
Самого Потемкина этот явный «пашквиль» абсолютно не задел. Он-то как зраз уговаривал Екатерину оставить книгу без последствий: «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп. Верно и вы не понегодуете. Ваши деяния – ваш щит».
Вполне невозможно, Потемкин бегло пробежал только отведенные ему самому страницы и не обратил внимания на пропаганду «естественного самосуда» – а вот Екатерина моментально поняла, к чему такие теории могут привести... Оскорблена она была еще и на неблагодарность Радищева: «Грех ему! Что я ему сделала? Я занималась его воспитанием, я хотела сделать из него человека полезного Отечеству».
Это была чистая правда: в свое время именно Екатерина, прослышав о подающем большие надежды юноше по имени Саша Радищев, оплатила его обучение в Лейпцигском университете...
Между прочим, на следствии против Радищева интересовались не только литературой и идеологией, но и вещами гораздо более приземленными – состоянием дел на Петербургской таможне. Той самой, где в шкафу или под столом валялись неучтенными полтора миллиона неизвестно куда исчезнувших потом рублей. Но Воронцов, смывшись в свой бессрочный отпуск, увез в имение чуть ли не всю финансовую документацию таможни (в те времена высокопоставленные лица проделывали подобные фокусы запросто), а там бумаги опять-таки неведомо куда пропали, и следствие в этом направлении не смогло продвинуться ни на шаг...
Потемкин, конечно, давал массу поводов для критики – но сплошь и рядом сплетники обвиняли его в том, в чем он был не грешен совершенно. Болтали, например, что князь ради своих любимых устриц гоняет в столицу из Новороссии государственных курьеров, едут они якобы с важными казенными бумагами, а на деле – чтобы купить для начальника бочонок устриц и отвезти их опять-таки за государственный счет на тысячу верст.
Эту сплетню старательно изложил в своей книге Радищев, в выражениях не стесняясь: «в молодости своей натаскался по чужим землям», «полез в чины», «стал у устерсам (устрицам – А. Б.) как брюхатая баба, спит и видит, чтобы устерсы кушать».
Между тем Потемкин устриц не любил, вообще предпочитал русскую кухню (что в те утонченные времена считалось проявлением «грубости вкуса» и служило предметом насмешек). К тому же критиканы, люди от государственных секретов далекие, не подозревали, что подобные поездки курьеров Потемкина «за лакомствами» или за «дамской галантереей» порой служили просто-напросто прикрытием для серьезнейших операций. Как это было, скажем, с «французским маршрутом»: в революционный Париж приехал личный курьер Потемкина, отягощенный большой суммой денег. Он охотно объяснял всем и каждому, что по поручению светлейшего должен раздобыть в Париже бальные туфельки для Екатерины Долгоруков: этакий кузнец Вакула, разве что без черта...
На самом деле деньги предназначались чиновнику французского министерства иностранных дел, который за хорошую плату изъял из архивов и передал посланцу Потемкина кучу важнейших документов о переговорах насчет союза меж королем Людовиком XVI и Екатериной: в Петербурге не хотели, чтобы столь серьезные материалы попали в руки к новым революционным властям... Не посвященные в этакие тонкости посторонние долго сплетничали: вконец разложился светлейший, за черевичками для своей симпатии курьера в Париж гонял... А посвященные усмехались под нос и, разумеется, помалкивали.
Историк Масон писал о Потемкине: «Потемкин от всех его коллег отличает одно: потеряв сердце Екатерины, он не утратил ее доверие. Когда честолюбие заменило в его сердце любовь, он сохранил все свое влияние, и именно он доставлял новых любовников своей прежней наложнице. Все последовавшие за ни фавориты были ему подчинены, кроме одного».
Этот один, последний фаворит Екатерины – Платон Зубов, двадцатидвухлетний прапорщик гвардейского полка, попавший в «случай» помимо Потемкина. На него обратила внимание сама Екатерина. По отзывам современников, вьюнош красивый, но без особого ума. По некоторым свидетельствам, с ним теми же трудами занимался и его девятнадцатилетний брат Валерьян.
Ума, впрочем, Платону Зубову хватало, чтобы хапать где только возможно и помаленьку захватывать в свои руки все государственные дела. Он не мог рассчитывать свалить Потемкина в совершеннейшую отставку, но начал причинять немалое беспокойство князю. Так что последний год жизни Потемкина был не на шутку омрачен. Екатерина, увы, старела, была уже не та, что прежде и, очарованная новым любимцем, слишком многое ему позволяла. Из прапорщиков – в генерал-фельдцехмейстеры, всей российской артиллерии командир, флигель-адъютант и шеф Кавалергардского корпуса, и так далее, и тому подобное... Потемкин поначалу проглядел прыткого молокососа, но потом встревожился. Сохранилось его высказывание «Зуб болит, надо бы вырвать...»
Отправляясь в очередную поездку в Новороссию, Потемкин (еще не знавший, что эта поездка последняя в его жизни), тем не менее что-то такое предчувствовал. Та самая графиня Загряжская рассказывала потом Пушкину: «Потемкин приехал со мною проститься. Я сказала ему: „Ты не поверишь, как я о тебе грущу“. „А что такое?“ „Не знаю, куда мне будет тебя девать“. „Как так?“ „Ты моложе государыни, ты ее переживешь, что тогда из тебя будет? Я знаю тебя, как свои руки: ты никогда не согласишься быть вторым человеком“. Потемкин задумался и сказал: „Не беспокойся, я умру прежде государыни, я умру скоро. И предчувствие его сбылось. Уж я больше его не видела“.
И никто его больше не видел живым в Петербурге... В карете по дороге в Яссы, Потемкин почувствовал себя плохо. Его вынесли, положили на землю. Вскоре он умер.
Как водится, пошли слухи, что его отравили братья Зубовы но истине это нисколько не соответствует. Здоровье былинного великана и без яда было расшатанным донельзя.
Любопытно, что банкир Зюдерданд, обедавший с князем в день отъезда, умер в Петербурге в тот же день и даже, уверяют, в тот же час.
Его старый враг фельдмаршал Румянцев, которому Потемкин причинил немало неприятностей, плакал. Когда окружающие деликатно выразили недоумение, румянцев сказал честно:
– Чему удивляетесь? Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем усерднейшего сына.
Екатерина при известии о смерти Потемкина трижды впадала в обморок, ей пускали кровь, даже боялись, что умрет. Спустя год, в день смерти сподвижника, она отменила все встречи, весь день не выходила из своих комнат. Сохранились ее письма о князе: «Мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин-Таврический умер в Молдавии... Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца, цели его всегда были направлены к великому... везде была ему удача, на суше и на море... он был государственный человек».
От Потемкина остались земли, грандиозная коллекция бриллиантов и три миллиона долгов.
Некоторые историки полагают, что он был тайным мужем Екатерины, обвенчанным по всем правилам. Основание – огромное количество сохранившихся записок Екатерины к нему, где она именует князя то «мужем», то «супругом». В восемнадцатом веке такими вещами не шутили. Но точно ничего неизвестно.
Нереализованных планов осталось множество. Бывший помощник Потемкина, Панов, поставленный руководить Таврической губернией, многие свои решения, которые кому-то приходились не по вкусу, обосновывал тем, что он-де реализует оставшиеся в бумагах князя идеи. Прямо попросить у него показать эти самые бумаги как-то стеснялись...
Зато окончательный раздел Польши – это продолжение другими набросанных еще Потемкиным вчерне проектов.
У каждого народа есть свой «национальный заскок». Поляки (как и русские, увы), порой прямо-таки повернуты на поиски внешнего врага как единственного виновника своих несчастий. Считают, что все их бед – результат не собственной недальновидной политики и недостатков, а исключительно «козни врага нашего».
Некоторые толковые исследователи (например, Мечислав Чума) все же пишут объективно, что одной из главный бед Речи Посполитой послужило чрезмерное угнетение и дискриминация той части населения, что исповедовала православие. Другие привычно валят все на «заграничного супостата».
Меж тем крах Польши в конце восемнадцатого века (как и в 1939-м, кстати) – дело исключительно польских рук и умов... Пытаюсь порой представить раздел Польши таким образом, что вроде бы шла через лес к бабушке милая и непорочная девочка Красная Шапочка, но выскочили из чащобы лихие люди, пирожки отобрали и тут же сожрали, компот выпили, а девочку вдобавок изнасильничали прямо на муравейнике.
А вдобавок поляки заключили союзный договор с Высокой Портой, сиречь с Турцией, которой за помощь против России пообещали кусок своей собственной территории. Тогда же на нескольких иностранных языках деятели вроде Потоцкого с компанией издали и распространили манифест, где имелись примечательные строки: «Высокая Порта, добрая и верная союзница наша, побуждаемая трактатами, соединяющими ее с республикой и собственными выгодами, которые связуют ее с сохранением прав наших, приняла за нас оружие. Итак, все принуждает нас соединить все силы свои и противостоять падению святой нашей веры».
Другими словами, ради сохранения католической веры (которой никто не угрожал), следовало заключить союз с мусульманами, пообещать им кусок собственной страны и натравить на христианскую Россию. Зигзаги польской политической мысли порой так причудливы, что распутать их невозможно. Не кто иной, как маршал Пилсудский, гораздо позже их характеризовал в таких выражениях, что мемуаристы не решались привести целиком его слова...
Над манифестом в Европе, кстати, смеялись много и охотно. Так что пруссаки не торопились. Сольешься с Польшей в одно, значит, и Турцию получишь в качестве бесплатного, но крайне обременительного приложения, без которого и так головной боли хватает.
Реальность, разумеется, являет нам гораздо более унылую картину. Польша тогда ввязалась в большую европейскую политику, не имея к тому, деликатно выражаясь, особых прав. Игравший видную роль в сейме граф Игнатий Потоцкий открыто предложил «воспользоваться дружбой Пруссии для увеличения могущества Польши». Что за этим стояло? Пруссия, которой правил наследник Фридриха – довольно бледная тень великого человека – начал задумываться, как бы оттяпать у России Прибалтику. Дальше мечтаний дело не пошло, но отношения одно время стали довольно напряженными.
Потоцкий составил целый прожект, как воспользоваться ситуацией. Предполагалось избрать прусского короля еще и польским, а потом силами соединенной державы ка-ак обрушиться на Россию! И оттяпать у нее уже на одну Прибалтику, а вообще все, что удастся.
Однако осведомленные об этом проекте пруссаки вовсе не торопились в совершеннейшем восторге сливаться с Польшей в федеративное государство. Польшу они, как ближайшие соседи, знали прекрасно и не горели желанием соединяться на равных с этим олицетворением европейского бардака, чтобы потом своими руками добывать Польше Причерноморье.
Они тянули, тянули... Помня о том, как потерпел не одно поражение от русских войск сам Фридрих. А потом ситуация в Польше окончательно пошла вразнос – одни пытались ввести подобие конституции и отменить наконец крепостничество и многие другие средневековые пережитки, другие цепко держались за дедовскую старину, в сейме увлеченно ругались депутаты, подкупленные то Пруссией, то Россией, то другими сопредельными державами (притом перекупались в случае чего моментально). Начались мятежи, шляхетские разработки, дошло, как я уже говорил, до того, что и королю непринужденно набили морду...
В конце концов Польшу взяли, да и поделили. Король Станислав долго еще жил в России, где особого почтения ему не выказывали...
Глава двенадцатая Занавес падает
После смерти Потемкина Платон Зубов, генерал и кавалер, уж развернулся, так развернулся. Подгреб под себя все, до чего только мог дотянуться. Он и губернатор Таврический, и командующий Черноморским флотом (абсолютно независимый от Адмиралтейства), он и польскими делами ведает, и персидскими, и оставшиеся без хозяев польские поместья распределяет, и герцогством Курляндским рулит, и одесским портом, и всю дипломатическую переписку под себя стянул, и новый устав Сената составляет, и сочинил прожект, по которому русская армия должна браво вторгнуться в Индию, а русский флот занять Стамбул...
Толку от этого было мало – поскольку молодой человек умом не блистал. Дисциплина в армии при нем резко упала (так что впоследствии император Павел запретил упоминать в войсках имя Зубова как олицетворения незнания и нерадивости). Когда Зубов участвовал в переговорах о третьем разделе Польши, напорол столько ерунды, что едва не вызвал разрыв дипломатических отношений меж Берлином и Петербургом – улаживать скандал пришлось самой Екатерине...
Екатерина, разумеется, пыталась сделать из него подобие Потемкина – не просто фаворита, а сподвижника в важнейших государственных делах. Но кандидатуру выбрала скверную...
Она старела. Ее портреты в последние годы жизни отмечены поразительным сходством с Иваном Ивановичем Бецким (которое и раньше окружающими подмечалось).
С этими годами связана прелюбопытнейшая загадка, которую просто нельзя не обойти вниманием. Именно Екатерине Мусин-Пушкин, граф. Коллекционер древностей, историк-любитель принес торжественно раздобытую им в каких-то неназванных точно «архивах» копию произведения, получившего позже известность под названием «Слово о полку Игореве». Однако Екатерина (за что ее упрекало не одно поколение ученых) отчего-то не распознала «гениального творения безымянного гения XII в.», и рукопись графу вернула с резко негативным отзывом...
Это казалось странным. Предельно странным. Поскольку Екатерина была одним из образованнейших людей своего времени, оставила огромное творческое наследие, от мемуаров до пьес. И к русской истории относилась отнюдь не пренебрежительно, наоборот. Ее стараниями Новиков (в те поры еще не начавший под мистические словоблудия выманивать деньги у доверчивых дураков) в начале 70-х годов восемнадцатого столетия начал издавать обширную «Древнюю российскую вивлиофику» – собрание русских летописей. На деньги Екатерины он выпустил еще немало исторических книг – «Большой чертеж» XVII века (географическое описание тогдашней России), «Скифскую историю» Лызлова и многие другие уникальные труды, пылившиеся до того в светских и церковных архивах. Так что для русской истории Екатерина сделала немало... но почему-то с откровенным негодованием отвернулась от «Слова».
В чем причина?
Да в том, что, вопреки нынешним утверждениями, к «Слову» с самого начала отношение было настороженное. Называя вещи своими именами, в его подлинности сомневались, и сомневались крепко. Причем не какие-нибудь шарлатаны и недоучки. Сразу, как только «Слово» было опубликовано в 1800 г. его подлинность открыто подверг сомнению М. Т. Каченовский, основатель так называемой «скептической школы» русской истории. Человек был выдающийся – профессор славистики, ректор Московского университета, многолетний издатель серьезного журнала «Вестник Европы». В свое время (первая половина девятнадцатого столетия) российские историки еще считали допустимым вести дискуссии, выдвигать противоречащие друг другу версии, откровенно сомневаться в подлинности тех или иных «памятников». Потом трудами народившейся интеллигенции незаметно воцарилось единомыслие, и против того, что было торжественно объявлено, по сути, «священным тотемом племени», выступать было практически запрещено. А потому забвению были преданы и «скептическая школа», и сам Каченовский, чьей фамилии, (сужу по собственным наблюдениям), попросту не знают иные доктора исторических наук...
В чем же проблема со «Словом»?
Прежде всего в том, что оригинал подлинника, ветхой рукописи происхождением если не из двенадцатого, то хотя бы из семнадцатого столетия, попросту не существует, Мусин-Пушкин сначала никому его не показывал (уже не знаю, по каким мотивам), а после захвата французами Москвы воспрянул духом и стал уверять, что оригинал бесценной рукописи сгорел во время московских пожаров. Против такого аргумента крыть было решительно нечем, как ни взывал к здравому смыслу Каченовский.
В исторической науке, надобно вам знать, существует прелюбопытнейший «двойной стандарт». Подлинность нашумевшей, якобы написанной в седой древности «Влесовой книги» решительно отрицается на том основании, что ее подлинника никто не видел. Вообще-то это совершенно правильная точка зрения. Беда в том, что, когда историкам указывают на тот печальный факт, что и подлинника «Слово о полку Игореве» не видел никто, кроме Мусина-Пушкина (да и с ним дело темное), они дружно начинают уверять, будто это «совсем другое дело».
Почему? А потому! Потому, и все... Потому что «Слово» ученый мир «признает» подлинником, а «Влесову книгу» – нет.
Я вовсе не собираюсь кого-то уверять в подлинности «Влесовой книги». Просто-напросто элементарная логика требует, чтобы к предметам и явлениям соблюдался одинаковый подход. Если отсутствие подлинника – единственный критерий подложости, то он должен применяться ко всем без исключения «творениям», чье происхождение сомнительно.
Означенное «Слово» пестрит откровенными несуразицами. Начиная, простите за дешевый каламбур, с самого начала.
«Боян же вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками...» Интересно, за каких же недоумков нас держат жрецы «истории», если на полном серьезе пытаются втолковать, что в двенадцатом веке в русском языке существовало слово «мысль»? оно появляется как раз в восемнадцатом...
Аргумент вроде «это позднейшие переписчики вставили» автоматически уничтожается простейшим вопросом: «Покажи ранние списки и поздние. Покажи оригинал!»
А нету... Ни ранних, ни поздних, ничего, отдаленно напоминающего оригинал. Сегодняшние «толкователи», не моргнув глазом, пишут в оправдание этакого курьеза, что-де «Слово о полку Игореве» на Руси совершенно не пользовалось популярностью, потому, мол, и сохранился один-единственный экземплярчик, счастливо попавший под пытливый взор Мусина-Пушкина.
Вообще-то те же самые ученые историки частенько любят ввернуть, что единичность того или иного раритета чаще всего как раз и служит признаком подделки...
Вернемся к «Слову». Там попадаются перлы, которые в двенадцатом столетии просто не существовали. Например, «шеломы латинские» на князях Романе и Мстиславе. В применении к Западу слово «латынцы» начало употребляться гораздо позже, века с XV, когда произошло скандальное разъединение церквей. В двенадцатом веке еще не было деления христианской церкви на «православную» и «латынскую», разногласия имелись, но не было все же резкого размежевания...
Князю Галицкому Ярославу посвящены такие строки: «Ты стреляешь с отчего златого престола Салтанов за землями».
«Салтан» – это султан. В двенадцатом веке никаких таких «султанов» в Турции еще не существовало, султаны там появились в самом конце четырнадцатого столетия. Эти строки как нельзя более уместны веке в шестнадцатом...
Чтобы подыскать хоть какое-то объяснение (не вычеркивать же неудобную строку из «великого памятника»?), историки придумали этакую заумь: «салтаны», дескать, вовсе не турецкие, а – арабские. И дело якобы в том, что Ярослав Галицкий готовясь принять участие в крестовом походе против султана Саладина...
Одна беда: и в западноевропейских, и в древнерусских письменных источниках ни словцом не упоминается о подобных намерениях Ярослава. А ведь подобные предприятия требовали отправки послов к предводителям крестоносцев, каких-то переговоров, договоренностей, непременно остались бы упоминания о послах и переговорах... Но – нету...
В другом месте – очередной ляп. «Рассечены саблями калеными шлемы Аварские тобою, ярый тур Всеволод!»
Та же традиционная история, что с пеной у рта доказывает подлинность «Слова», не менее категорична касаемо аваров: гласит, что означенные авары начисто исчезли в девятом веке. Как же князь Всеволод ухитрялся дубасить саблей каленой по шлемам вымерших еще триста лет назад воинов? Что за роман ужасов с ожившими древними покойниками?
Быть может, тот, кто сочинил «Слово», попросту плохо разбирался в древней истории...
Отдельные циники, которыми богат наш век, давно уже утверждают, что «слово о полку Игореве» списано со вполне реального исторического памятника под названием «Задонщина». Эта рукопись повествует о войне русских с Мамаем.
Вот «Задонщина» как раз оригиналами похвастать может, и не одним. Ее краткий вариант сохранился в так называемом Кирилло-Белозерском списке, датируемом 70-ми годами XV века. Известны четыре экземпляра «расширенного варианта», шестнадцатого и семнадцатого столетий.
Аргументы? Извольте.
«Слово» начинается так: «Начнем же ту песню по былинам сего времени...»
Так вот, «серьезные ученые» нам сообщают, что слово «былина» в древнерусских текстах встречается только в «Слове» и «Задонщине». И загадочная страна «Хинове» упоминается только в «Слове» и «Задонщине», и нигде больше. Иные комментаторы видят в «Хине» Китай – но в «Слове» Ярославна недвусмысленно упоминает про «хинове стрелы», летящие в ее мужа Игоря. Значит, «Хинове» – это где-то рядом, уж никак не Китай...
Наконец, в «Слове» попадаются предельно загадочные слова, которых вообще больше никогда не встречается в древнерусских текстах: таинственные «шереширы» и не менее таинственная «зегзица». Историки опять-таки (по другим поводам, разумеется) любят говаривать, что подобное «словотворчество» – еще один признак «новодела». Между прочим, как ни бились, так и не отыскали «реку Каялу» и загадочные «Дудутки близ Новгорода», упоминаемые в «Слове».
Еще об истории его находки. Когда Новиков впоследствии был посажен, конфискованные архивы его «Типографической компании» попали к Мусину-Пушкину. Среди прочего Мусин отыскал там и работы умершего недавно писателя, историка и экономиста М. Д. Чулкова. Того самого, что за десять лет до того издал четырехтомное «Собрание разных песен» – народные исторические песни и сказания, которые Чулков в значительной степени подверг обработке. Следовательно, опыт работы со старыми «песнями», их творческого дополнения у него имелся.
Так вот, вскоре после работы с бумагами Новикова-Чулкова Мусин-Пушкин и припер Екатерине «Слово о полку Игореве», к которому она осталась совершенно равнодушна...
Быть может, кое-что знала?
Вторично свою копию старинной рукописи Мусин-Пушкин показал в 1797 г. императору Павлу I. Тот распорядился: издать! Но Мусин-Пушкин отчего-то начал подготовку к изданию только год спустя. Циники уверяют, что он попросту дожидался смерти Новикова, первоначального хозяина бумаг Чулкова, который – единственный! – мог что-то знать о подлинном авторе «Слова».
Вот такая история о «древнем» памятнике, чьего оригинала не существует – а сам «памятник» набит либо терминами, которых нет ни в одной другой древнерусской рукописи, либо ляпсусами, которых автор двенадцатого века ни на что не мог сделать. Каждый вправе относиться к нему по-своему.
Но вернемся к Екатерине.
Ее смерть была внезапной. Войдя в гардеробную, лакеи застали императрицу на полу, без сознания, и в себя она так уже и не пришла. Разумеется, ходили всевозможные дурацкие слухи: будто ее ткнули копьем снизу, пардон, в нужнике. А еще – якобы зловредные и всемогущие масоны, раздосадованные гонениями на них, подослали к императрице верного человека, и он украдкой ее оцарапал булавкой, смазанной злодейским ядом кураре. Чушь, разумеется. Не подлежит сомнению, что смерть Екатерины последовала от естественных причин.
Как никогда бывает, это была не просто смерть человека, венценосца, а конец целой эпохи. Это эпоха умерла – «век золотой Екатерины».
Но не сам восемнадцатый век.
Столетия плохо привязаны к конкретным цифрам. Справедливее будет считать, что восемнадцатый век закончился примерно в 1815 г. – когда было покончено с Наполеоном, самым блистательным осколком восемнадцатого столетия, когда помаленьку стали дряхлеть, уходить, кто в прямом, кто в переносном смысле, люди, воспитанные и сформированные восемнадцатым веком – и на смену им массово стали выдвигаться молодые, принадлежавшие уже другому столетию, девятнадцатому, новому. Эта смена поколений и есть реальная смена веков – а не забавы с арифметикой...
Да, между прочим... Занятно, но факт: Наполеона однажды форменным образом предсказала Екатерина, написавшая 11 февраля 1794 г., когда Бонапарт только-только стал бригадным генералом, почти ничем не примечательным: «Если Франция выйдет из теперешнего испытания, она будет сильнее, чем когда-либо; она станет послушной и кроткой, как ягненок; но ей необходим человек недюжинный, ловкий, смелый, стоящий выше своих современников, а может быть, и своего века. Родился ли он? Или нет? Придет ли он? Все зависит от этого. Если он появится, то остановить дальнейшее падение, и оно прекратится там, где он появится, во Франции или в другом месте».
Уж если это не предсказание, то, простите, не знаю, какого рожна вам и надо...
Эпоха умерла – а люди, как водится, ее в большинстве своем пережили. У них будет разная судьба. Немалых высот достигнет и умрет в почете Гаврила Романович Державин, успев перед смертью обратить внимание на кудрявого подростка, с жаром декламирующего юношеские пиитические опыты. Долгую и достойную жизнь проживет баснописец Крылов, в раннем детстве вместе с родителями переживший осаду пугачевцами крепости, где его отец служил офицером. Еще успеет поучаствовать в создании земского ополчения во время первых войн с Бонапартом Алехан Орлов. Чуть ли не до воцарения Николая I дотянет Платон Зубов, так ничем себя и не проявивший впоследствии – разве что тем, что был среди тех, кто шел свергать Павла, но по дороге пытался улизнуть, был в буквальном смысле схвачен за воротник генералом Беннигсеном и водворен в «строй». Сам не убивал – это вам не Алехан! – но актом отречения перед Павлом махал...
И вовсе уж живым курьезом, бледной тенью будет разъезжать по Европе бывший фаворит Екатерины Ермолов – в мундире легкой кавалерии, которой давно уже не существовало, со старым, польским еще Белым Орлом на шее. Это ничтожество, как частенько случается, переживет многих и многих – он умрет в 1834 г., всего за три года до смерти Пушкина. Вся жизнь его свелась к одному – напоминать окружающим: я был фаворитом Екатерины Великой, был, был, был! Это я!
В 1841 г. скончался гораздо более дельный и заметный человек, нежели никчемный Ермолов: адмирал, литератор, государственный деятель А. С. Шишков. Он всю жизнь любил вспоминать, как однажды князь Потемкин выручил его из нешуточной беды.
История и в самом деле примечательная – и забавная, пожалуй, в ней, как лучик солнца в капле воды, отразился весь восемнадцатый век с его причудливейшими нравами.
Юного Шишкова, мичмана, назначили в караул во дворец – и там у него случился конфликт с кем-то из камер-лакеев. Камер-лакей только тем и отличался от обычного, что служит при дворе, но давно известно, что больше, чем вельможи, пыжатся и строят из себя невесть кого их слуги...
Короче говоря, камер-лакей обращался с молодым мичманом совсем непочтительно. Шишков вспылил – офицер я, или кто? – и, не раздумывая, отвесил нахалу парочку оплеух. Лакей побежал с жалобой к обер-гофмаршалу (немалый придворный чин) князю Барятинскому, тому самому, что участвовал в убийстве Петра. Князь принял случившееся близко к сердцу (какой-то мичманок смеет обижать его подчиненного, господина придворного лакея!) и начал было предпринимать шаги, чтобы стереть дерзкого юнца в порошок. А возможности у него к тому были богатейшие...
Видя, что дело вот-вот кончится скверно, мичман Шишков пошел к Потемкину (которому был ни родня, ни даже знакомый), чистосердечно изложил дело и попросил заступничества.
Потемкину он, надо полагать, приглянулся. И светлейший распорядился:
– Приходи-ка ты ко мне сегодня вечером, братец, да держись поразвязнее...
И вот – вечером собрались гости. Сам Потемкин уже сидел за картами – с Разумовским, князем Вяземским и тем самым Барятинским. Входит никому не известный, ничем не примечательный мичман, на которого, как на сущую безделицу, никто поначалу не обратил внимания. Однако молодой человек, ничуть не смущаясь, подошел к Потемкину, развязно хлопнул его по плечу и преспокойно поприветствовал:
– Здравствуй, князь, играешь уже?
Бросил шляпу на подоконник и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по залу так важно, словно это был его собственный дворец, а все остальные незваными приплелись в гости.
Присутствующие немного одурели: может, сумасшедший какой? Мыслимо ли так с самим – без титула, без почтительного обращения?
Потемкин, с нескрываемым удовольствием наблюдая эту картину, позвал:
– Шишков, братец, поди-ка сюда! Не подскажешь, как мне сыграть? Я в затруднении...
Шишков подошел не торопясь, глянул в карты и даже с некоторым раздражением сказал:
– Да играйте, как хотите, что вы меня-то в советчики тянете!
– Хорошо, хорошо, – смиренно сказал Потемкин. – Вижу, батюшка мой, ты сегодня сердит...
Вот теперь все присутствующие сообразили: да это ж, ясное дело, любимчик! Новый какой-то, еще никому неизвестный! Точно, любимчик, кто же еще посмеет так с самим – а сам, что характерно, и не возмущается...
Естественно, Барятинский не рискнул предпринимать какие-то пакости против приближенного к Потемкину мичмана. И еще с месяц на всякий случай не только дворцовая шушера, но и знатные господа на всякий случай раскланивались с юным мичманом со всем почтением...
И еще многие, многие на склоне лет предавались воспоминаниям о «веке золотом Екатерины» – вряд ил только оттого, что речь шла о их молодости. Перечитайте «Горе от ума» – там грибоедовский Фамусов как раз порой и пытается донести до молодых слушателей необычность, инакость этого времени.
Каюсь, каюсь! Я и сам не так уж давно написал о Екатерине немало резких слов. Не то чтобы теперь мне за них было стыдно – никогда ей не прощу Петра III – но постепенно стало ясно, что проблема гораздо сложнее. И, с какой неприязнью к Екатерине ни относись за ропшинскую трагедию, приходится, хочешь не хочешь, воздать ей должное за многое, многое другое...
Будь она примитивной тупой бабой вроде Екатерины I, чьи интересы не простирались дальше венгерского вина и молодых поручиков... Но ведь – ничего подобного. Ярчайшая личность, с одним-единственным злодейством на совести и свершениями, которые достойны всяческого уважения.
Итак, Екатерина... Быть может, для того, чтобы лучше ее понять, нужно обратиться к тому, что она сама о себе говорила. Начнем с шуточной эпитафии на собственную могилу, которую она составила еще в 1778 г.
«Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штутгарте (значит, все-таки не в Штеттине?! А. Б) 21 апреля 1729 г. Она прибыла в Россию в 1744 г., чтобы выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела намерение – понравиться своему мужу, Елизавете и народу. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступила на Российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душою республиканской и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась. Она любила искусство и быть на людях».
Это не такая уж и шутка – многое из того, что здесь упомянуто, в характере и деятельности Екатерины действительно присутствовало и подтверждено многочисленными свидетельствами.
Письмо к барону Гримму: (1791 г.): «Я никогда не признавала за собой творческого ума. Мною всегда было очень легко руководить, потому что для достижения этого нужно было только представить мне лучшие и более основательные мысли, и я становилась послушна, как овечка. Причина этого кроется в желании, которое я всегда имела, содействовать благу государства. Мне посчастливилось узнать благие и истинные принципы, чему я обязана большими успехами; я имела неудачи, проистекавшие от ошибок, в которых я невинна и которые, быть может, случились только потому, что мои распоряжения не были точно исполнены. Несмотря на гибкость моей натуры, я умела быть упряма и настойчива, как хотите, когда мне казалось, что это необходимо. Я никогда не стесняла ничьего мнения, но при случае держалась своего собственного. Я не люблю споров, так как всегда замечала, что всякий остается при своем убеждении; к тому же я не могла бы никого перекричать. Никогда не была я злопамятна. Провидение поставило меня так высоко, что, взвесив все по справедливости, я не могла меряться с частными людьми и не находила равной себе партии. Вообще я люблю справедливость, но держусь того мнения, что безусловная справедливость не есть справедливость и что лишь условная справедливость совместима со свободою человека. Но во всех случаях я предпочитаю человеколюбие и снисходительность правилам строгости, которую, как мне казалось, очень дурно понимают. К этому привело мое собственное сердце, которое я считаю нежным и добрым. Когда старики проповедовали мне суровость, я, заливаясь слезами, признавалась в своей слабости и видела, как они со слезами же на глазах присоединялись к моему мнению. Я по природе своей весела и искренна, но я долго жила на свете и знаю, что есть желчные умы, не любящие веселости и что не все способны терпеть правду и откровенность».
Здесь, конечно, хватает откровенного кокетства – не женщины, а государственного деятеля – но, в общем и целом, и это письмо согласуется с деятельностью Екатерины и ее нравом.
И, наконец, документ 1789 г. – отнюдь не предназначавшийся для чужих глаз, найденный после смерти Екатерины в ее бумагах.
«Если мой век меня боялся, то был глубоко неправ; я никогда никому не хотела внушать страха; я хотела бы, чтобы меня любили и уважали, поскольку я этого стою, но не больше. Я всегда думала, что на меня клевещут, потому что не понимают меня. Я встречала многих людей, которые были бесконечно умнее меня. Я никогда не ненавидела и не презирала. Мое желание и удовольствие состояли в том, чтобы сделать других счастливыми. Честолюбие мое, наверное, не было злым, но, пожалуй, я взяла на себя слишком много, считая людей способными стать разумными, справедливыми и счастливыми. Я высоко ставила философию, потому что душа у меня всегда была искренно республиканской. Я согласна, что это, может быть, странны контраст, душа моего закала и неограниченная власть, принадлежавшая мне, но зато никто в России не может сказать мне, чтобы я этой властью злоупотребляла. Я люблю изящные искусства исключительно по природной склонности. Что касается моих сочинений, то я всегда смотрела на них как на пустяки; я просто любила пробовать перо в различном роде; мне кажется, что все, что я написала, довольно посредственно; поэтому я никогда не придавала этому никакого значения, кроме развлечения, которое мне это доставляло. Что касается моего поведения в политике, то я старалась следовать предначертаниям, которые казались мне наиболее полезными для моей страны и наиболее выносимыми для других. Если бы я знала лучшие, то следовала бы им. Хотя мне отплачивали неблагодарностью, никто, по крайней мере, не скажет, чтобы я сама бывала неблагодарной. Я часто мстила врагам тем, что делала им добро или прощала их. Человечество вообще имело в моем лице друга, который ни при каких обстоятельствах не изменял ему».
И в этом, не предназначенном для посторонних глаз документе, не мало правды...
Екатерина и в самом деле не была ни мстительной, ни злопамятной. Никак нельзя сказать, что ее царствование было основано на страхе – а ведь «творческие методы» Петра I заключались в откровенном принуждении и страхе. Жестокость и упрямство порой выглядели откровенной патологией, выхлестывавшей за все мыслимые пределы.
Даже относительно благодушные времена Елизаветы, не идущие ни в какое сравнение с правлением ее отца, порой отличались откровенным зверством, произволом. При ней резали языки женщинам на эшафоте и, что немыслимо в царствование Екатерины, при осуждении «государственного преступника» разоряли до нитки его семейство. Дошло до того, что Елизавета однажды засадила в тюрьму свою горничную-француженку, за то, что та в простоте душевной разболтала фасон платья императрицы – а Елизавета хотела сделать окружающим сюрприз.
При Екатерине – ничего похожего. Никакого самодурства и произвола. Даже сподвижники свергнутого Петра, хотя и были удалены от двора, но получили немалые должности: Волков – губернатор Оренбурга, Мельгунов – губернатор Новороссии. В предыдущее царствование куча народу, виновная лишь в том, что были близки к низложенному, стопроцентно оказались бы кто в Сибири, кто на Камчатке. Кто-то из офицеров, сопротивлявшихся в день переворота выводу войск, отсидел в крепости пару месяцев – и все.
Генерала Румянцева, которого Екатерина считала сторонником Петра, она заменила Паниным. Обиженный румянцев подал заявление прошение об уходе с военной службы вообще. Екатерина убедила его остаться, назначила губернатором Малороссии, во время русско-турецкой войны назначила командующим армией, а позже за звонкие победы произвела в фельдмаршалы.
Австрийский принц де Линь, сравнивая Екатерину и Людовика IV, отмечал, что король внушал страх, а Екатерина – расположение. Английский дипломат Гарлей писал в Лондон: «Надо признать, русская императрица понимает вернейший способ управлять гораздо лучше своими подданными, чем можно было ожидать от иностранной принцессы. Она так близко знакома с их духом и характером, и так хорошо употребляет эти сведения, что для большей части народа счастие его кажется зависящим от продолжительности ее царствования». Что примечательно, Гарлей относился к Екатерине отнюдь не восторженно и не благосклонно, наоборот...
В управлении императрица придерживалась простого принципа: хвалить во всеуслышание, а ругать тихо. Примеров множество. В том числе воспоминания Державина: «Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина (Державин был ее секретарем – À. Á.), а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с нею не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит; зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным».
На официальном обеде Екатерина резко читает нотацию иностранному послу. Тогдашний ее секретарь, Храповицкий, довольно громко говорит вполголоса соседу: «Зря матушка расходилась». Когда обед закончился, Екатерина отвела Храповицкого в сторону и резко выговорила за «дерзость». Бедолага ожидал уже ссылки в Сибирь, тем более что назавтра Екатерина его вызвала и вновь попрекала... а потом протянула усыпанную бриллиантами табакерку и сказала:
– Возьмите на память. Я женщина пылкая, часто увлекаюсь. Если заметите мою неосторожность, не выражайте явно своего неудовольствия и не высказывайте замечаний, но раскройте табакерку и понюхайте; я сейчас пойму и удержусь от того, чтобы вам не нравиться».
Молодой камер-юнкер Чичагов опоздал на службу. Екатерина в присутствии придворных начинает... расточать всяческие похвалы его отцу, упирая на то, что тот «прослужил пятьдесят лет и всегда бывал в срок на любом посту». Окружающие, не посвященные в суть дела, полагают, что императрица из благодушия оказывает особенную благосклонность юноше – но он, как позже признавался в своих мемуарах, прекрасно понял, что его ругают и не знал, куда деваться от стыда...
Кстати, Екатерина «зарубила» все пышные проекты торжеств по поводу двадцатилетия ее царствования – а пятьдесят тысяч рублей, собранных купцами на ее прижизненный памятник, приказала пустить на помощь неимущим.
Ее ругали за расточительность – в первую очередь за то, что тысячами раздавала крестьян фаворитам, а деньги – даже миллионами. Но крестьяне-то эти оставались в России, да и деньги главным образом тоже, не считая того, что знатные путешественники промотали за границей (но это уде от Екатерины не зависело и наблюдалось во все века). К тому же на эти деньги сплошь и рядом строились те великолепные усадьбы, которые нам сегодня известны как музеи, национальное достояние страны.
При Екатерине вообще много строили: не только в Петербурге, но и в Казане, Нижнем Новгороде, Тамбове, Орле, Туле. В Москве трудились два выдающихся архитектора: Баженов и Казаков.
Немало было сделано для промышленности и торговли – причем, в отличие от Петра, рассчитывавшего опять-таки на принуждение, Екатерина в указе 1767 г. излагала совсем другую точку зрения: «Никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, не можно завести принуждением, а дешевизна родится только от великого числа продавцов и от вольного умножения товаров». То есть речь идет о свободе предпринимательства.
Об успехах в просвещении и заботе о создании полноправного «третьего сословия» я уже говорил. Необходимо еще добавить, что время Екатерины – это время бурного расцвета живописи и литературы, исторической науки, журналистики, ваяния, монументальной скульптуры, театра и музыки.
На счету Екатерины нет ни одной проигранной войны – только победоносные. Которые к тому же позволили присоединить к России Причерноморье с Крымом и полностью покончить с татарскими набегами (а ведь последний состоялся уже при Екатерине, в 1769 г.)
И наконец, в случае Екатерины мы имеем дело с натуральной и неподдельной трагедией. Трагедией человека, поначалу из лучших побуждений действительно всерьез пытавшегося ввести решительные перемены, но очень быстро понявшего, что для них еще не время. «Отменить» крепостничество простым указом в те времена было попросту нереально – как нереально сего дня любым, самым грозным президентским указом в двадцать четыре часа «запретить» коррупцию и бюрократию...
Не подлежит сомнению, что Екатерина искренне хотела прогресса, просвещения и определенных свобод – но напоролась на ту самую глыбу, что именуется «общественным сознанием».
С этой глыбищей справиться невозможно, пока она помаленьку не уйдет под землю сама по себе. Примеров достаточно. Еще раз напоминаю: даже лучшие умы. Самые просвещенные люди были детьми своего времени, и не более того. Великий наш поэт Державин хладнокровно приказывал сечь своих скотниц, дерзнувших попросить у него выходной. Ученый Болотов сек и сажал на цепь не только воров, но и пьяниц, искреннее считая, что поступает так ради их же блага. В чем с ним был полностью солидарен генералиссимус Суворов – и сек пьяниц (из своих крестьян), и в колодки сажал, и головы брил, и в цепях под замком держал.
Свободы и реформы должны вызреть. В те же самые екатерининские времена в Англии католическое меньшинство подвергалось неслыханной дискриминации, абсолютно не сочетавшейся с теми самыми «старинными вольностями»: английский гражданин, имевший неосторожность придерживаться католичества, не только права избирать (и выдвигаться депутатом) был лишен, но и не считался полноправным свидетелем в суде. И даже отлучиться от места своего постоянного жительства далее чем на двадцать миль не мог без специального разрешения местного судьи.
Можно напомнить, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки – люди достойные во всех отношениях – поголовно были рабовладельцами. И лишь шестьдесят с лишним лет спустя после провозглашения государства общественное сознание дозрело до мысли, что рабство следует отменить вообще. И прошло еще несколько десятков лет, прежде чем женщины (белые!) получили равные права с мужчинами (право голоса, равной оплаты за равный труд и т. д.).
Подобные примеры можно приводить без конца. Так что не стоит требовать от Екатерины большего, чем она могла сделать в свое, непросто и простодушно жестокое время.
Судьба ее, конечно же, феерическая. Босоногая девчонка в драном платьице, игравшая на улице с детишками небогатых бюргеров, мало того, что стала императрицей в огромной стране – и еще и проявила при этом массу талантов, произвела немалые перемены.
Без малейшей натяжки можно предположить, что как обычный человек она была глубоко несчастна. Муж... известно, чем все кончилось. Сын для нее был не сын, а скорее нешуточная угроза, с некоторых пор висевшая над ней постоянно, как известный меч над Дамоклом. С определенного времени сама она, никаких сомнений, прекрасно понимала, что все эти Ланские и Мамоновы к ней не питают и тени чувств, а привлечены лишь орденами, поместьями и чинами. Не самые приятные истины, хотя с ними приходится жить. А впрочем, всякий монарх откровенно несчастлив, пусть в этом никто почти не сознавался. Тяжелая профессия – венценосец...
Между прочим, после смерти Екатерины ее «Записки» моментально попали в разряд, как мы сказали бы сегодня, диссидентской литературы. Екатерина оставила их Павлу в запечатанном конверте. Тот прочитал и буквальным образом взбеленился: из мемуаров Екатерины недвусмысленно вытекало, что его отец, очень даже возможно, и не Петр III. Павел упрятал «Записки» под семь замков – но раньше опрометчиво дал почитать князю Александру Куракину, а тот сделал несколько копий, и «самиздат» стал ходить в узком кругу.
Николай I Екатерину не любил откровенно, считал, что она «позорит род», пытался конфисковать все списки мемуаров, а в своей семье категорически запрещал читать их. Однако один из экземпляров попал за границу, и Герцен, издававший в Лондоне журнал «Колокол», «Записки» напечатал в 1859 г. Сначала – отрывки, а потом выпустил отдельное издание.
В российской империи «Записки» сразу же попали в список запрещенной, крамольной литературы. Российские дипломаты по всей Европе бросились скупать и уничтожать тиражи – а Герцен выпускал все новые «допечатки». Александр II сам-то прочитал «Записки» с большим интересом – но подданным то же самое категорически запретил. Этот запрет в 1891 г. подтвердил Александр III. Только после 1905 г. «Записки» легальным образом вышли в России – но все же с изъятиями, даже из 12-го тома академического собрания сочинений Екатерины некоторые куски все же выбросили...
Князь Ф. Н. Голицын, в царствование Екатерины игравший не последнюю роль, написал потом: «Но подобно, как человеческое тело имеет свою юность, зрелость, где все силы его и бодрость находятся в лучшем состоянии, а при старости начнет приходить в слабость; равно и государства, возвышаясь постепенно, находят, наконец, предел и с той точки уже начинают расстраиваться, ослабевать и к падению склоняться. Царствование Екатерины мнится, было высшей степенью славы России. Счастливым я себя поставляю, что жил в ее время и ей служил, и был очевидцем всей величественности и уважения, до которого достигло мое любимое Отечество».
Размышляя над этими строчками, я вдруг понял, что князь был абсолютно прав! Время Екатерины и в самом деле с полным на то правом может считаться самым славным временем России.
Павел I задумал массу серьезных, толковых преобразований, но мало что успел осуществить. Александр I страну, мягко скажем, не возвысил и к благоденствию не привел – и, перед тем как все же разбить Наполеона (совершив абсолютно не нужный России марш аж до Парижа), пережил позор отступления и гибели Москвы в огне. Николай I добился немалых успехов, олицетворяя тот же просвещенный абсолютизм, что и Екатерина – но под конец своего царствования допустил серьезные просчеты, вылившиеся в крымский позор. Александр II и новые территории присоединял, но особой пользы от этого страна не получила (что до Аляски, то ее самым идиотским образом навязали американцам, которые, в общем-то, и не выказывали особого желания покупать, так что пришлось раздать немалые взятки тамошним власть имущим). И войны выигрывал – но потом его неуклюжие дипломаты во главе с бездарностью Горчаковым так и не смогли превратить военные победы в политические выгоды. Царствование Александра III, если по совести, было не более чем консервацией определенного жизненного уклада. Николай II... Об этом ублюдке я писал много и аргументировано, так что возвращаться лишний раз нет совершенно никакой охоты.
Как ни крути, но выходит, что Голицын прав – более славного времени, чем «век золотой Екатерины» уже не было, и я в том отныне убежден целиком и полностью.
Интереснейшее было время, причудливое – восемнадцатый век. Быть может, второго столь же причудливого попросту нет. Когда в людях, в жизни, в свершениях, достижениях и провалах невероятнейшим образом переплетались вроде бы несовместимые мысли, поступки, качества и убеждения.
Быть может, в человеческой истории и не найдется второй подобной Золушки – из сущего ничтожества поднявшейся на трон великой империи, да вдобавок оказавшейся столь крупной и яркой личностью, о которой спорили, спорят и будут спорить еще долго.
Вот только, как водится, что-то навсегда останется недосказанным. И мы не знаем, что.
Красноярск, июнь 2005
Библиография
1. Акимова А. Вольтер. М.: МГ. 1970.
2. Акройд П. Лондон. Биография города. М.: Изд-во О. Морозовой. 2005.
3. Александров А. Екатерина II и ее фавориты. М.: Алконост, 2004.
4. Анисимов Е. Дыба и кнут. М.: Нов. Лит. обозрение 1.
5. Фон Архенгольц И. В. История семилетней войны. М.: Аст, 2001.
6. Балязин В. Правительницы России. М.: Астрель. 2004.
7. Балязин В. Императорские наместники первопрестольной. М.: Тверская, 13, 2000.
8. Балд М. и др. 100 запрещенных книг. М.: Ультракультура, 2004.
9. Бантыш-Каменский Д. Н. Российские генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы. М.: АСТ, 2005.
10. Беккер С. Миф о русском дворянстве. М.: Нов. лит. обозрение, 2004.
11. Белоусов Р. Тайны великой любви великих людей. М.: Рипол-классик, 2004.
12. Бендер Н. А. Имена русских людей на карте мира. Огиз, 1948.
13. Богословский М. М.: Петр I. Огиз, 1941.
14. Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 2002.
15. Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. М.: Астрель, 2004.
16. Вишневский К. Дочь Петра Великого. ВААП-Информ.
17. Вишневский К. Роман императрицы. М.: СП «Квадрат».
18. Вишневский К. Вокруг трона. Волгоград, 18.
19. Военная энциклопедия, тт. 2, 5. СПб, изд-во И. Д. Сытина, 1910.
20. Волкова И. Русская армия в русской истории. М.: Эксмо, 2005.
21. Воссоединение Украины с Россией, т. 1. М.: Изд-во Академии наук, 1953.
22. Всемирная история. Великая французская революция. М.: АСТ, 2001.
23. Всемирная история. Эпоха просвещения. М.: АСТ, 2001.
24. Головина В. Н. Мемуары. М.: Астрель, 2005.
25. Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.: Книга, 1990.
26. Данилова А. Благородные девицы, воспитанницы Смольного института. М., 2004.
27. Державин Г. Р. Сочинения. М.: Правда. 1985.
28. Декруазетт Ф. Венеция во времена Гольдони. М.: МГ, 2004.
29. Диккенс Ч. История Англии для юных. М.: НГ, 2001.
30. Доценко В. Тайны российского флота. СПб: Терра-фантастика, 2005.
31. Дэвис Н. История Европы. М.: АСТ, 2004.
32. Дюпюи Р., Дюпюи Т. Всемирная история войн, т. 2. Полигон, 1997.
33. Екатерина II в жизни. М.: Олма-пресс, 2004.
34. Елисеева О. Потемкин. М.: МГ, 2005.
35. Задонщина. Тула: Приокское кн. изд., 1980.
36. Записки императрицы Екатерины II. М.: Наука, 1990.
37. Запорожская Сечь. М.: Алгоритм, 2004.
38. Золотарев В. А, Козлов И. А. Три столетия российского флота, XVIII век. СПб.: Полигон, 2003.
39. Изъ нашего прошлаго. М., 1918.
40. История масонства. Смоленск: Русич, 2001.
41. Казанова. История моей жизни. М.: Моск. рабочий, 1990.
42. Кара-Мурза С. Потерянный разум. М.: Эксмо. 2005.
43. Карнович Е. П. Замечательные и загадочные люди XVIII и XIX столетий. Л. Смарт. 1990.
44. Каррер д’Анкосс Э. Императрица и аббат. М.: Олма-пресс. 2005.
45. Кастело А. Бонапарт. М.: Центрполиграф, 2004.
46. Де Кастр Р. Бомарше. М.: МГ, 2003.
47. Кеслер Я. Русская цивилизация вчера и сегодня. М.: Олма-пресс, 2005.
48. Кондратьев И. Седая старина Москвы. М.: Цитадель.
49. Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т. 2. М.: Эксмо, 2004.
50. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. М.: Астрель, 2005.
51. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. М.: МГ, 2003.
52. Ломоносов М. Записки по русской истории. М.: Эксмо, 2003.
53. Лопатин В. Светлейший князь Потемкин. М.: Олма-пресс, 2003.
54. Лунинский Е. Княжна Тараканова. М.: Терра, 1998.
55. Любавский М. История царствования Екатерины II. СПб, 2001.
56. Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века. М., 1990.
57. Ляхова К. Тайны великих авантюристов. М.: Рипол-классик, 2002.
58. Манько А. В. Российская монархия: символика и атрибуты. М.: Вече, 2005.
59. Манько А. В. Августейший двор под сенью Гименея. М.: Аграф, 2003.
60. Масоны. Идеология, история, тайный культ. М.: Вече, 2005.
61. Масоны и власть в России. М.: Алгоритм, 2005.
62. Морозова Е. Казанова. М.: МГ. 2005.
63. Монархи Европы. Судьбы династии. М.: Терра, 1997.
64. Морозов А. Ломоносов. М.: МГ, 1965.
65. Мурузи П. Екатерина II. М.: Вече, 2005.
66. Мурузи П. Павел I. М.: Вече, 2005.
67. Наполеон Бонапарт. О военном искусстве. М.: Эксмо, 2003.
68. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. СПб: Типография Паульсона и комп. Тт. 1–3. 1863.
69. Нахапетов Б. А. Тайны врачей дома Романовых. М.: Вече, 2005.
70. Ненахов Ю. Ю. Войны и кампании Фридриха Великого. Минск: Харвест, 2002.
71. Некрылова А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XIX века. СПб: Азбука-классика, 2004.
72. Овчинников В. Святой адмирал Ушаков. М.: Олма-пресс. 2003.
73. Орлов А. С. и др. Основы курса истории России. М.: Простор, 2005.
74. Оставшиеся творения Фридриха Втораго короля Прусскаго. тт. 7–8. СПб. Издание И. К. Шнора, 1789.
75. Охлябинин С. Повседневная жизнь русской армии во времена суворовских войн. М.: МГ, 2004.
76. Пантеон российских государей. СПб: Полигон, 2003.
77. Переписка Екатерины Великой с господином Волтеромъ. Москва: Губернская типография Решетникова, 1803.
78. Перцев В. Гогенцоллерны. Минск: Харвест, 2003.
79. Песков А. М.. М. Павел I. М.: МГ, 2000.
80. Пирсон Х. Вальтер Скотт. М.: МГ, 1978.
81. Писаренко К. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М.: МГ, 2003.
82. Павленко Н. И. Екатерина Великая. М.: МГ, 2004.
83. Плавильщиков Н. Н. Гомункулус. М.: Детская литература, 1971.
84. Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. М.: АСТ, 2004.
85. Полюх А. 2013 год. Воспоминания о будущем. М.: Олма-пресс, 2005.
86. Портрет в русской живописи. М.: Олма-пресс, 2004.
87. Пыляев М. И. Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб: Паритет, 2003.
88. Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб: Паритет, 2003.
89. Радзинский Э. Гибель галантного века. М.: Вагриус, 2004.
90. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М.: Худ. лит., 1989.
91. Русские и советские моряки на Средиземном море. М.: Воениздат, 1976.
92. Русские поэты XVII–XIX веков. Урал: ЛТД, 2001.
93. Русские открытия в тихом океане и Северной Америке в XVIII веке. М.: Огиз, 1943.
94. Русская военная мысль. XVIII век. М.: Аст, 2003.
95. Русские императоры, немецкие принцессы. М.: Эксмо, 2004.
96. Рыбаков Б. А. Стригольники. М.: Наука, 1993.
97. Савин А. Н. Лекции по истории английской революцию. М.: Крафт +, 2000.
98. Самые знаменитые тайны России. М.: Вече, 2004.
99. Самые знаменитые красавицы России. М.: Вече, 2002.
100. Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. М.: Вагриус, 2003.
101. Сен-Симон. Мемуары. М.: Прогресс, 1991.
102. Слово о полку Игореве. М.: Худ. лит., 1987.
103. Соловьев О. Эротика в русских дворцах. М.: Гелеос, 2004.
104. Соловьев О. Русские масоны. М.: Эксмо, 2004.
105. Сто великих переворотов и заговоров. М.: Вече, 2002.
106. Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: МГ, 2003.
107. Тайны веков. М.: МГ, 1978.
108. Тарле Е. Сочинения, тт. 1, 4, 7, 10. М.: Изд-во академии наук, 1959.
109. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. М.: Наука, 2003. Вып. 2, ч. 1.
110. Третьякова Л. Мои старинные подруги. М.: Виконт-МВ, 2004.
111. Третьякова Л. Красавицы не умирают. М.: Виконт-МВ, 2005.
112. Урнов Д. Дефо. М.: МГ, 1978.
113. Фрейзер Д. Фридрих Великий. М.: АСТ, 2003.
114. Фрили Д. Тайны османского двора. Смоленск: Русич, 2004.
115. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М.: Республика, 1994.
116. Фукс Э. Иллюстрированная история эротического искусства. Москва, 1914.
117. Хэриот Э. Кастраты в опере. Классика-XXI, 2001.
118. Цветков С. Карл XII. М.: Центрполиграф, 2000.
119. Цветков С. Александр Суворов. М.: Центрполиграф, 2005.
120. Чайковская О. Царствование Екатерины II. Смоленск: Русич, 2002.
121. Черняк Е. Пять столетий тайной войны. М.: Межд. отношения, 1977.
122. Интриги старины глубокой. М.: Рипол-классик, 2003.
123. Черняк Е. Невидимые империи. М.: Мысль, 1987.
124. Широкорад А. Тайны русской артиллерии. М.: Яуза, 2003.
125. Шокарев С. Ю. Знаменитые русские фамилии. М.: Росмэн, 2004.
126. Федорченко В. Дворянские роды, православное отечество. М.: Олма-пресс, 2004.
127. Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. Киев-Москва: Евролинц, 2003.
128. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. СПб, 1913.
129. Энциклопедический словарь М. М. Филиппова. тт. 1–3. СПб, 1901.
130. Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы. 1558–1715. Смоленск: Русич, 2005.
131. Большая советская энциклопедия (электронная версия).
Приложения
Приложение 1 Князь М. М. Щербатов О повреждении нравов в России
Взирая на нынѣшнее состояніе отечества моего, съ таковымъ окомъ, каковое можетъ имѣть человѣкъ, воспитанный по строгимъ древнимъ правиламъ, у коего страсти уже лѣтами въ ослабленіе пришли, а довольное испытаніе подало потребное просвѣщеніе, дабы судить о вещахъ, немогу я неудивляться, въ коль краткое время повредилися повсюдно нравы въ Россіи. Въ истину могу я сказать, что естли вступя позже другихъ народовъ въ путь просвѣщенія, намъ ничего неоставалось болѣе, какъ благоразумно послѣдовать стезямъ прежде просвѣщенныхъ народовъ, – мы подлинно въ людкости и въ нѣкоторыхъ другихъ вещахъ, можно сказать удивительные имѣли успѣхи и исполинскими шагами шествовали къ поправленію нашихъ внѣшностей. Но тогдаже съ гораздо вящей скоростью бѣжали къ поврежденію нашихъ нравовъ, и достигли даже до того, что Вѣра и Божественный законъ въ сердцахъ нашихъ истребились, тайны божественныя въ презрѣніе впали, гражданскія узаконенія презираемы стали; судіи вовсякихъ дѣлахъ нетоль стали стараться, объясня дѣло, учинить свои заключенія на основаніи узаконенія, какъ о томъ, чтобы, лихоинственно продавая правосудіе, получить себѣ прибытокъ, или, угождая какому вельможѣ стараются проникать, какое есть его хотѣніе; другіеже незная и не стараясь узнать узаконеній, въ сужденіяхъ своихъ, какъ безумные бредять, и ни жизнь, ни честь, ни имѣнія гражданскія несуть безопасны отъ таковыхъ неправосудій. Несть ни почтения отъ чадъ къ родителямъ, которые не стыдятся открытно ихъ волѣ противуборствовать и осмѣивать ихъ стараго вѣка поступокъ. Несть ни родительской любви къ ихъ исчадію, которые, яко иго съ плечь слагая, съ радостью отдаютъ воспитывать чуждымъ дѣтей своихъ, часто жертвуютъ ихъ своимъ прибыткамъ и многіе учинились для честолюбія и пышности продавцами чести дочерей своихъ. Несть искренней любви между супруговъ, которые часто другъ другу хлодно терпя взаимственныя прелюободѣянія, или другіе за малое что разрушаютъ собою церковью заключенный бракъ, и не токмо нестыдятся, но паче яко хвалятся симъ поступкомъ. Несть родственническія связи, ибо имя родовъ своихъ заничто почитають, но каждый живеть для себя. Несть дружбы, ибо каждый жертвуеть другомъ, для пользы своея. Несть вѣрности къ Государю, ибо главное стремленіе почти всѣхъ обманывать Государя, дабы отъ него получать чины и прибыточиыя награжденія. Несть любви къ отечеству, ибо почти всѣ служатъ болѣе для пользы своей; нежели для пользы отечества; и наконецъ несть твердости духу, дабы не токмо истину предъ монархомъ сказать; но ниже временщику въ беззаконномъ и зловредномъ его намѣреніи попротивиться.
Толь совершенное истребленіе всѣхъ благихъ нравовъ, грозящее паденіемъ государству, конечно должно какія основательныя причины имѣть, которыя въ первыхъ я потщусь открыть, а потомъ показать и самую исторію, какъ нравы часъ отъ часу повреждались, даже какъ дошли до настоящей развратительности.
Стеченіе многихъ страстей можетъ произвести такое поврежденіе нравовъ, а однако главнѣе изъ нихъ я почитаю сластолюбіе. Ибо оно рождаетъ разныя стремительныя хотЬнія, а дабы достигнуть до удовольствія оныхъ, часто человѣкъ ничего нещадитъ.
Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, предавшій себя весь своимъ безпорядочнымъ хотѣніямъ и обожа внутри сердца своего свои стремительныя страсти, мало уже помышляетъ о законѣ Божіемъ, а тѣмъ меньше еще о узаконеніяхъ страны, въ которой живетъ. Имѣя себя единаго въ виду, можетъ-ли онъ быть сострадателемъ къ ближнему и сохранить нужную связь родства и дружбы. А какъ Государя щитаетъ источникомъ, отъ коего можетъ получить такія награжденія, которые могутъ дать ему способы исполнить свое сладострастие, то привязывается къ нему, но не съ тою вѣрностью, каковую бы долженъ подданный къ Самодержцу своему имѣть, но съ тѣмъ стремленіемъ, къ чему ведетъ его страсть, то есть, чтобы угождать вовсемъ Государю, льстить его страстямъ и подвигнуть его награждать его. А таковыя расположенія нераждаютъ твердости; ибо можетъ-ли тотъ быть твердъ, который всегда трепещетъ недостигнуть до своего предмета и котораго твердость явнымъ образомъ отъ онаго удаляетъ. Іулій Цезарь, толь искусный въ познаніи сердецъ человѣческихъ, яко искусетель въ военныхъ и политическихъ дѣлахъ, который умѣлъ побѣждать вооруженныхъ противу него враговъ, и побѣжденныхъ сердца къ себѣ обращать, не иное что къ утвержденію своея похищенныя власти употребилъ, какъ большія награждения, дабы введши черезъ сіе сластолюбіе, къ нему якобы къ источнику раздаяній болѣе людей привязались. Не токмо всѣмъ своимъ поступкомъ изъявлялъ такія свои мысли, но и самыми словами единожды ихъ изъяснилъ. Случилось, что ему доносили нѣчто на Антонія и на Долабелу, якобы онъ ихъ долженъ опасаться. Отвѣчалъ, что онъ сихъ въ широкихъ и покойныхъ одеждахъ ходящихъ людей, любящихъ свои удовольствія и роскошь, никогда страшиться причины имѣть неможетъ.
По сіи люди продолжалъ онъ, которые о великолѣпности, ни о спокойствіи одеждъ нерадягъ, сіи же роскошъ презираютъ и малое почти за излишнее считаютъ, каковы суть Брутусъ и Кассій, ему опасны, вразсужденіи намѣреній его лишить вольности римской народъ. Не ошибся онъ въ семъ; ибо подлинно сіе его тридцати тремя ударами издыхающей римской вольности пожертвовали. И такъ самый сей примѣръ и доказуетъ намъ, что не въ роскоши и сластолюбіи издыхающая римская вольность обрѣла себѣ защищеніе, но въ строгости нравовъ и въ умѣренности.
Отложа всѣ суровости, слѣдствія непросвѣщенія и скитающейся жизни дикихъ народовъ, раземотримъ ихъ внутреннія и неистребленныя вліянныя природою въ сердце человѣческое добродѣтели. Худы-ли или хороши ихъ законы, они имъ строго послѣдуютъ; обязательства ихъ суть священны, и почти неслышно, чтобы когда кто супругѣ или ближнему измѣнилъ; твердость ихъ есть невѣроятна; они за честь себѣ считаютъ нетолько безъ страху но и съ презрѣніемъ мученій умереть; щедрость ихъ похвальна; ибо все что общество трудами своими пріобрѣтаетъ, то все равно въ обществѣ дѣлится, и нигдѣ я ненашелъ, чтобы дикіе странствующіе и непросвѣщенные народы похитили у собратій своихъ плоды собственныхъ своихъ трудовъ, дабы свое состояніе лучше другихъ сдѣлать. А все сіе происходить, что несть въ нихъ и незнаютъ они сластолюбія, слѣдственно и никакаго желанія, клонящагося въ ущербъ другому.
Довольно я уже показалъ, что источникъ поврежденія есть сластолюбіе, приступлю теперь показывать какими степенями достигло оно толико повредить сердца моихъ единоземцевъ. Но дабы говорить о семъ надлежитъ сперва показать состояніе нравовъ Россіянъ до царствованія Петра Великаго.
Не токмо подданные но и самые государи наши жизнь вели весьма простую: дворцы ихъ были необширны, яко свидѣтельствуютъ оставшіяся древнія зданія. Семь или восемь а много десять комнатъ составляли уже довольное число для вмѣщенія Государя. Оныя состояли: крестовая, она же была и аудіенцъ-камера, ибо тутъ приходили и ожидали Государя бояре и другіе сановники; столовая, гораздо небольшая, ибо по разряднымъ книгамъ видимъ, что весьма малое число бояръ удостоивалось имѣть честь быть за столомъ у Государя; и для какихъ великолѣпныхъ торжествъ была назначена Грановитая Палата. Незнаю я была ли у Государей предспальняя; но, кажется, по расположеніи старыхъ дворцовъ, которые я запомню, ей быть надлежало. Спальня и оная была не разная съ царицами, но всегда одна. За спальнею были покои для дѣвушекъ царициныхъ, и обыкновенно оная была одна, и для малолѣтнихъ дѣтей царскихъ, которыя по два и по три въ одной комнатѣ живали, когда же возрастали, то давались имъ особливые покои; но и оныя состояли небольше изъ трехъ комнать, то есть, крестовой, спальни и заспальной комнаты. Самые дворцы сіи большихъ украшеній неимѣли, ибо стѣны были голыя и скамьи стояли покрыты кармазиннымъ сукномъ, а изыскуемое было великолѣпіе, когда дурною, рѣзною работою вокругъ дверей были сдѣлапы украшенія, стѣны и своды вымазаны иконописнымъ письмомъ, образами святыхъ, или такъ цвѣты на подобіе арабеска, а естли было нѣсколько орѣховыхъ стульевъ или креселъ для царя или царицы, обитыхъ сукномъ или трипомъ, то сіе уже высшая степень великолѣпія была. Кроватей съ занавѣсами незнали, но спали безъ занавѣсокъ. А уже въ послѣднія времена токмо, яко знатное великолѣпіе было, что обили въ царскомъ домѣ крестовую палату, бывшую возлѣ краснаго крыльца, я помню самъ съ почернѣлыми ея обоями.
Столъ государевъ соотвѣтствовалъ сей простотѣ, ибо хотя я того утвердить и не могу, чтобы Государи кушивали не на серебрѣ; но потому что въ мастерской палатѣ невижу порядочнаго сервизу серебрянаго, заключаю, что тогда государи кушали на оловѣ; а серебряныя блюда и сдѣланныя горы, на подобие Синайскихъ, также и другія столовыя украшенія употреблялись только въ торжественные дни.
Кушанье ихъ сходственно съ тѣмъ-же было; хотя блюда были многочисленны, но они всѣ состояли изъ простыхъ вещей. Говядина, баранина, свинина, куры индейскія, утки, куры русскія, тетерева и поросята были довольны для составлений великолѣпнѣйшаго стола, съ прибавленіемъ множества пирожнаго, не всегда изъ чистой крупичатой муки сдѣланнаго; телятину мало употребляли, а поеныхъ телятъ и каплуновъ и незнали. Высочайшее – же великолѣпіе состояло, чтобы кость жареннаго и ветчины обернуть золотою бумагою, мѣстами пироги раззолотить, и тому подобное. Потомъ не знали ни капорцовъ ни оливковъ, ни другихъ приготовленій для побужденія апетиту, но довольствовались огурцами солеными, сливами и наконецъ за великопіе считалось подать студень съ солеными лимонами.
Рыбный столъ еще тощѣе мяснаго былъ, Садковъ купеческихъ было очень мало и не имѣли искуства изъ дальнихъ мѣстъ дорогую, живую рыбу привозить, да къ томуже Государевъ дворъ былъ не на подрядѣ, но изъ волостей своихъ всѣмъ довольствовался. И такъ въ Москвѣ, гдѣ мало состояло обильства рыбы, довольствовался токмо тою рыбою, которую въ Москвѣ рѣкѣ и въ ближнихъ рѣчкахъ ловили, а какъ происходилъ чувствительный недостатокъ въ столѣ Государевѣ, то, сего ради, какъ въ самой Москвѣ, такъ и по всѣмъ государевымъ селамъ сдѣланы были пруды, изъ которыхъ ловили рыбу про столъ государевъ, впрочемъ же употребляли соленую, привозя изъ городовъ, изъ которыхъ на многіе, гдѣ есть рыбныя ловли и въ дань оная была положена, какъ мнѣ самому случалось видѣть въ Ростовѣ грамоты о сей дани. А зимою привозили и изъ далекихъ мѣстъ рыбу, мерзлую и засоленую, которая къ столу Государя употреблялась.
Дессертъ ихъ такой же простоты былъ; ибо изюмъ, коринка, винныя ягоды, черносливъ и медовыя пастилы составляли оный, что касается до сухихъ вещей. Свѣжія же лѣтомъ и осенью были: яблоки, груши, горохъ, бабы и огурцы; а думаю, что дынь и арбузовъ и незнали, развѣ когда нѣскОлько арбузовъ привезутъ изъ Астрахани. Привозили еще и виноградъ въ патакѣ а свѣжаго и понянтія неимѣли привозить, ибо оный уже моей памяти въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны, тщаніями Ивана Антоновича Черкасова, кабинетъ-министра, началъ свѣжій привозиться.
Для толь малаго числа покоевъ не много бы освѣщенія надобно; но и тутъ нетокмо неупотребляли, но и за грѣхъ щитали употреблять восковыя свѣчи, а освѣщены были комнаты сальными свѣчами, да и тѣхъ не десятками или сотнями поставляли, а велика уже та комната была, гдѣ четыре свѣчи на подсвѣчникахъ поставлялись. Напитки состояли: квась, кислы щи, пиво и разные меды. Изъ простова вина сдѣланная водка; виныцерковное, то есть красное ординарное вино; ренское, подъ симъ именемъ разумелся нетокмо рейнвейнъ, но такоже и всякое бѣлое ординарное вино; романея, то есть греческія сладкія вина и аликантъ, которые чужестранные напитки съ великою бережливостью употребляли, и погреба, гдѣ они содержались, назывались Фряжскія; потому что какъ первые оные, а паче греческіе получались черезъ Франковъ, а другія знали, что изъ Франціи идутъ, то общее имя имъ и дали Фряжскихъ винъ.
Таковъ былъ столъ государевъ, въ разсужденіи кушанья и напитковъ, посмотримъ какіе ихъ были екипажи. Государи и всѣ бояре лѣтомъ ѣздили всегда верхомъ, а зимою въ открытыхъ саняхъ; но въ чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ находимъ по лѣтописцамъ, что въ случаѣ болѣзни, когда Государь въ походѣ занеможегъ, то такоже сани употребляли и лѣтомъ, и правда, что въ верховой ѣздѣ государское великое было великолѣпіе, яко видно по оставшимся конскимъ уборамъ хранящимся въ мастерской палатѣ. Арчаги сѣдлъ были съ каменьями, стремена также каменьями были покрыты; подушки бархотныя, шитыя или золотомъ, или серебромъ, или и низанныя жемчугомъ, съ запонами драгоцѣнныхъ каменьевъ, попоны томуже великолѣпію подобныя, бархатныя или аксаметныя золотыя, съ шитьемъ, и съ низаньемъ и съ каменьями. Но сіе азіатское великолѣпіе неубыточно было, ибо сдѣланные однажды таковые уборы на многія столѣтія могли служить.
Царицы же ѣзжали обыкновенно въ колымагахъ, родъ каретъ, сдѣланныхъ снаружи на подобіе Фурмановъ, гдѣ не было ни мѣста чтобъ сидѣть, ни окошекъ, но клали внутри пуховики для сидѣнья, а вмѣсто нынѣшнихъ драгоцѣнныхъ точеныхъ стеколъ, опускающеюся кожею окошки и двери закрывали. Не могли такія коляски удобны быть ни къ какому украшенію, ибо снаружи всѣ обиты были кожею, а верхъ великолѣпія въ дѣланіи оныхъ состоялъ, чтобы наружную кожу мѣстами позолоченную и тисненную употребить. Каретъ же нетокмо не знали но и воображенія о нихъ неимѣли, ибо уже въ царствованіе Петра Великаго ближніі мой свойственникъ, бояринъ Михаило Ивановичь Дыковъ, человѣкъ пребогатый, бывши воеводою у города Архангельскаго, выписалъ орѣховую, украшенную рѣзбою карету, съ точеными стеклами, по смерти его сія карета досталась дѣду моему и почиталась столь завидною и драгоцѣнною вещью, хотя и снова тысячи рублей нестоила, что к. М... (князь Меншиковъ?) дѣлалъ нападки на дѣда моего, чтобы ее получить, и за неотданіе учинилъ, что дѣдъ мой лишился всѣхъ недвижимыхъ имѣній, которыя надлежало бы ему наслѣдовать послѣ супруги к. Лыкова.
Воззримъ теперь на одежды царскія. Онѣ были великолѣпны. Въ торжественныхъ ихъ одѣяніяхъ злато, жемчугъ и каменья повсюду блистали; но обыкновенныя одежды, въ. коихъ болѣе наблюдали спокойствія, нежели великолѣпія, были просты, а потому не могли быть причиною сластолюбія; а торжественныя столь рѣдко употреблялись и толь крѣпки были, что ихъ за носильныя одежды и почитать недолжно; но были они яко какіе коронные сосуды, опредѣленные токмо для показания великолѣія монарша; а естли не самыя одежды, то по крайней мѣрѣ украшения ихъ, бывъ сдѣланы изъ золотыхъ бляхъ, жемчугу и каменей изъ роду въ родъ переходили. Но общимъ образомъ сказать: небыло никакихъ ни изыскуемыхъ и тлѣнныхъ украшеній, ни великаго числа платей, но пять или – шесть а много до десяти платьевъ когда имѣлъ царь или царица, то уже довольно считалось, да и тѣ нашивали до износу, развѣ изъ особливой милости кому съ плеча своего платья пожалуютъ.
Главной же роскошъ въ царскихъ обыкновенныхъ платьяхъ состоялъ въ драгоцѣнныхъ мѣхахъ, которые они для подкладки и на опушку одѣяній своихъ употребляли, но мѣха сіи некупленные и не изъ чуждыхъ Государствъ превезенные были; но дань собираемая съ сибирскихъ народовъ. Впречемъ царицы имѣли обычай носить длинныя, тонкія, полотняныя у сорочекъ рукава, которыя на руку набирали и сіи были иногда толь длинны, что даже до двадцати аршинъ полотна на нихъ употреблялось.
Се есть все что я могь собрать о родѣ питья, выѣзду, одежды царской а сіе самое и показуетъ коликая простота во всемъ ономъ находилась. Бояре и прочіе чиновники, по мѣрѣ ихъ состоянія, подобную же жизнь вели, стараясь притомъ, изъ почтенія по царскому сану, никогда и къ простому сему великолѣпію не приближаться. А болѣе всего сохраняло отъ сластолюбія, что ниже имѣли понятія о перемѣнѣ модъ; во что дѣды нашивали, то и внучата, непочитаясь староманерными носили и употребляли. Бывали у бояръ златотканныя, богатыя одѣянія, которыя просто золотами назвали, и не инако надѣвали, когда для какаго торжественнаго случая, повелѣно имъ было въ золотахъ ко двору собираться, а посему сіи одежды имъ на долго служили, и я заподлинно слыхалъ, что не стыдились и сыновья, покончинѣ родителей своихъ тоже платье носить. Однако несть никакаго общества, кудабы всликолѣпіе и роскошъ не вкрадывались, – то, колико, кажется мнѣ, главное великолѣпіе состояло у бояръ имѣть великое число служителей. Великолѣпіе можетъ быть до излишества доведенное; но въ самомъ дѣлѣ основанное на нуждѣ, ибо бояри съ людьми своими хоживали на войну. И оные обще и воиновъ государственныхъ и защитниковъ въ опасномъ случаѣ своимъ господамъ были. Но въ мирное время за честь себѣ бояре щитали, когда ѣдитъ по городу, чтобы ему предшествовали человѣкъ пятдесятъ слугъ пѣшками; слыхалъ я что и самыя боярыни нетокмо куда вознатное посѣщеніе, но ниже къ обѣдни къ своему приходу стыдились безъ предшествованія двадцати или тридцати слугъ ѣхать. Однако содержаніе сихъ слугъ недорого стоило: давали имъ пищу и весьма малое на сапоги жалованье а въ прочемъ они содержались своимъ искуствомъ, дома носили сѣрые, сермяжные кавтаны, а при выѣздѣ господина или госпожи, какой у кого получше кавтанъ сыщится, ибо тогда ливреи незнали; и я самъ запомню, что безъ гостей званныхъ, во всѣхъ домахъ лакеи ливреи не надѣвали, а употребленные къ должностямъ люди, которыхъ бывало мало, носили такія кавтаны, какіе случится.
Остается мнѣ еще сказать, что небыло тогда ни единаго, ктобы имѣлъ открытый столъ; но развѣ ближніе самые родственники безъ зову куда обѣдать ѣздили, а посторонніе инако уеѣзжали какъ токмо званные и могли сидѣть поутру до часу обѣденнаго, а ввечеру до ужина небывъ уняты обѣдать или ужинать.
Таковые обычаи чинили, что почти всякій, по состоянію своему безъ нужды могь своими доходами проживать и имѣть все нужное, непростирая къ лучшему своего желанія, ибо лучшаго никто и незналъ. А потомуже воспитаніе въ набожіи, хотя иногда дѣлало иныхъ суевѣрными, но влагало страхъ закона Божія, который утверждался въ сердцахъ ихъ ежедпевною домашнею, божественною службою. Не было разныхъ для увеселенія сочиненныхъ книгъ и тако скука и уединенная жизнь заставляла читать божественное писаніе, иначе: въ Вѣрѣ утверждаться.
Правленіе деревень занимало большую часть время, а сіе правленіе влекло за собою разсмотрѣніе разныхъ крѣпостей и заведенныхъ разныхъ приказныхъ дѣлъ, которыя понуждали вникнуть въ узаконеніе государства, и за честь себѣ щитали младые люди хаживать сами вездѣ, какъ я въ родѣ своемъ имѣю примѣры, что Кн. Дмитрій Федоровичь Щербатовъ, хаживалъ нетокмо по своимъ дѣламъ, но и почужимъ и толь учинился благоразуміемъ своимъ знаемъ боярину Князь Федору Федоровичу Волконскому, что сей, хотя Кн. Щербатовъ по причинѣ раззоренія дому его, а купно съ убіеніемъ дѣда его Саввы.......Щербатова отъ самозванца Отрепьева, и въ бѣдности находился, однако сей бояринъ, человѣкъ, весьма богатый, дочь свою и наслѣдницу своего имѣнія за него отдалъ и Кн. Иванъ Андреичь Щербатовъ, который послѣ былъ министромъ въ Гишпанш, Царградѣ и Англіи и наконець дѣйствитсльнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ и ордена Св. Александра Невскаго Кавалеромъ, по своимъ дѣламъ въ молодости своей вездѣ хаживалъ.
Почтеніе къ родамъ умножило еще твердость въ сердцахъ вашихъ предковъ; – безпрестанные суды мѣстничества питали ихъ гордость; пребываніе въ совокупленіи умножало связь между родовъ и содѣловало ихъ безопасность что твердое предпринять, а тогдаже и налагало узду кому что недостойное имени своего сдѣлать; ибо безчестіе однаго весь родъ того имени себѣ щиталъ. А сіе нетокмо молодыхъ людей, но и самыхъ престарѣлыхъ въ ихъ должнсти удерживало. Благородной гордости бояръ мы многіе знаки обрѣтаемъ.
Князь Симскій Хабаровъ, бывъ принуждаемъ уступить мѣсто Малютѣ – Скуратову, съ твердостью отрекся, и когда царемъ Іоанномъ Васильевичемъ нужденъ былъ за сіе на смерть, послѣднѣю милость себѣ просилъ, чтобы, прежде его, два сына его были умервщлены, яко, бывъ люди молодые, ради страха гоненія и смерти, чего не достойнаго роду своему неучинили. Князь Михайло Петровичь Репнинъ лучше восхотѣлъ потѣрпѣть гнѣвъ Царя Іоанна Васильевича и наконецъ убіеніе, нежели сообщникомъ учиниться распустныхъ его забавъ. Соединеніе же родовъ толь твердо было, что ни строгой обычай Царя Іоанна Васильевича, ни казни немогли возбранить, чтобы совокупясь многими родами, непросили у сего Государя пощады своимъ родственникамъ и свойственникамъ, осужденнымъ на казнь и бралися быть поруками впредь за поступки того, яко свидѣтельствують сіе многія, сохраненныя грамоты въ Архивѣ Иностранной Коллегіи, гдѣ таковыя поручныя подписи есть и дѣдъ мой, Князь Юрій Федоровичь Щербатовъ неустрашился у разгнѣвленнаго Государя Петра Великаго, по царевичеву дѣлу, за родственника своего, ведомаго на казнь, прошеніе просить, прося, что естли неучинено будетъ милосердіе, дабы его самаго въ старыхъ лѣтахъ сущаго, лишить жизни, да неувидять очи его безчестія роду в племени своего, и пощаду родственнику своему испросилъ.
Такая тѣсная связь между родовъ обуздывала страсти юношей, которые нетокмо бывъ воспитываемы въ совершенномъ почтеніи и безпрекословномъ повиновеніи, къ ихъ родителямъ, обязаны были почитать всѣхъ старшихъ своего рода И въ нихъ обрѣтали строгихъ надзирателей своихъ поступковъ; такъ какъ защитниковъ, во всякомъ случаѣ.
Самые, хотя мало остающіеся обычаи нынѣ сіе свидѣтельствуютъ, которые, въ младости моей помню, яко священные законы хранились, чтобъ молодые люди каждый праздникъ пріѣзжали по утрамъ къ ихъ старшимъ родственникамъ для изъявленіая почтенія ихъ, и чтобъ ближеніе родственники и свойственники съѣзжались загавливаться и разгавливаться къ старшему.
Самые самовластнѣйшіе Государи принуждены иногда бываютъ последовать умоначертанію своего народа, такъ наши Государи и послѣдовали утверждать сіи обычаи, нетокмо снизходя на просьбы благородныхъ, но также производя предпочтительно предъ другими изъ знатнъйшихъ родовъ; и мы находимъ въ родѣ Князей Репниныхъ, что многіе изъ столниковъ, миновавъ чинъ окольничаго, прямо въ бояре были жалованы. Преимущество сіе часто и младымъ людямъ учиненное могло бы подать причину подумать: что оное обращалось въ обиду другимъ, но сего не было; ибо не по однимъ чинамъ тогда благородныхъ почитали, но и по рожденіямъ ихъ, и тако чины давали токмо должности, а рожденіе пріобрѣтало почтеніе.
Въ воздояніе за такое снисхожденіе Государей получали они, что находили въ благородныхъ-вѣрныхъ, усердныхъ и твердыхъ слугъ. Потщусь я нѣсколько мнѣ извѣстныхъ примѣровъ предложить. Афанасій Нагой бывъ посломъ въ Крыму и многое претерпѣвая отъ наглостей Крымскихъ, хотя выбиваемъ былъ Ханомъ изъ Крыму, чувствуя нужду его пребыванія въ семъ полуостровѣ, объявилъ, что онъ развѣ связанный будетъ вывезенъ изъ Крыму, а безъ того непоѣдитъ, хотя бы ему смерть претерпѣть. Князь Борись Алексѣичь Голицынъ предпочелъ сохраненіе здоровья Государева возвышенію своего рода, спасъ Петра Великаго во младенчествѣ и винному своему родственнику пощаду живота испросилъ. Прозоровскій, вовремя трудныхъ обстоятельствъ начала Шведскія войны, соблюлъ великое число казны и государственныя вещи, повелѣнныя Государемъ изломать и перебить въ монету, утаилъ, давъ вмѣсто ихъ собственное свое серебро, и при благополучнѣйшихъ обстоятельствахъ, когда Государь самъ сожалѣлъ объ истребленіи сихъ вещей, цѣлыя, не желая никакого возмездія возвратилъ. – Борись Петровичь Шереметевъ судъ царевичевъ неподписалъ, говоря, что «онъ рожденъ служить своему Государю, а не кровь его судить» и не устрашился гнѣву Государева, который нѣсколько времени на него былъ въ гнѣвѣ яко внутренне на доброжелателя несчастнаго царевича. – Князь Яковъ Федоров. Долгоруковъ многія дѣла, Государемъ подписанныя, останавливалъ, дая ему всегда справедливые совѣты, и гнѣвъ Государской, за чистое его противуборство воли его на, почтеніе обращалъ; а тѣмъ открывалъ путь обще къ славѣ своего Государя и кь блаженству народному Сіи были остатки древняго воспитанія и древнего правленія.
Воззримъ же теперь какія перемѣны учинили въ насъ нужная, но, можетъ быть, излишняя перемѣна Петромъ Великимъ, и какъ отъ оныя пороки зачали вкрадываться въ души наши, даже какъ царствованіе отъ царствованія они часъ отъ часу, вмѣстѣ съ сластолюбіемъ возрастая, дошли до такой степени, какъ выше о нихъ упомянулъ. Сіе сочинить купно исторію правленій и пороковъ.
Петръ Великій, подражая чужестраннымъ народамъ, не токмо тщался ввести познанія наукъ, искуствъ и ремеслъ, военное порядочное устроеніе, торговлю и приличнѣйшія узаконенія въ свое государство, также старался ввести и таковую людскость, сообщеніе и великолѣпіе, о коемъ ему сперва ЛеФортъ натвердилъ, а потомъ которое и самъ онъ усмотрѣлъ. Среди нужныхъ установленій законодательства, учрежденія войскъ и артиллеріи, не меньше онъ прилагал намѣренія являющіяся ему грубые, древніе нравы смягчить. Повелѣлъ онъ бороды брить, отмѣнилъ старинныя, русскія одЬянія и вмѣсто длинныхъ платьевъ заставить мужчинъ нѣмецкіе кавтаны носить, а женщинъ, вмѣсто тѣлогреи, бострги, юбки, шлаФорки и самары, вмѣсто подкалковъ, фонтанжами и корнетами голову украшать. Учредилъ разныя собранія, гдѣ женщины, до сего отдаленныя отъ сообщеніи мужчинъ, вмѣстѣ съ ними при веселіяхъ присутствовали. Пріятно было женскому полу, бывшему почти до сего невольницами въ домахъ своихъ, пользоваться всѣми удовольствіями общества, украшать себя одѣяніями и уборами, умножающими красоту лица ихъ, и оказующіми ихъ хорошіе статъ; не малое же имъ удовольствіе учинило, что должны прежде видѣть въ кѣмъ на вѣкъ должны совокупиться, и что лица жениховъ ихъ и мужей уже не покрыты стали колючими бородами, к съ другой стороны пріятно было молодымъ и незаматерѣлымъ въ древнихъ обычаяхъ людямъ, вольное обхожденіе съ женскимъ поломъ, и что могутъ напередъ видѣть и познать своихъ невѣстъ, на которыхъ прежде, повѣряя взору родителей своихъ женивались. – Страсть любовная, до того почти въ грубыхъ нравахъ незнаемая, начала чувствительными сердцами овладѣвать, и первое утвержденіе сей перемѣны отъ дѣйствія чувствъ произошло. А сіе самоё и учинило, что жены, до того нечувствующія своей красоты, начали силу ея познавать, стали стараться умножать ее пристойными одѣяніями, и болѣе предковъ своихъ распростерли роскошь въ украшешяхъ. О коль желаніе быть приятной дѣйствуетъ надъ чувствіями женъ! Я отъ вѣрныхъ людей слыхалъ, что тогда въ Москвѣ была одна только уборица для волосовъ женскихъ и ежели къ какому празднику когда должны были младыя женщины убираться, тогда случалось, что она за трои сутки нѣкоторыхъ убирала, и онѣ должны были до дня выѣзда сидя спать, чтобы убору ие испортить. Можетъ быть сему неповѣрятъ нынѣ, но я паки подтверждаю, что я сіе отъ столь важныхъ людей слышалъ, что въ семъ сомнѣваться недолжно. Естли страсть быть пріятной такое дѣйствіе надъ женами производила, немогла она неимѣть дѣйствія и надъ мущинами, хотящими имъ угодными быть, то тщаніе украшеній туже роскошъ раждала. И уже престали довольствоваться однимъ или двумя длинными платьями, но многія съ голунами, съ шитьемъ и съ пондесланами (?) дѣлать начали.
Колико самъ государь ни держался древней простоты нравовъ въ своей одеждѣ, такъ что кромѣ простыхъ кавтановъ и мундировъ никогда богатыхъ ненашивалъ, и токмо, для коронаціи Императрицы Екатерины Алексѣевны, своей супруги, сдѣлалъ голубой гродетуровой кавтанъ съ серебреннымъ шитьемъ; да сказываютъ еще у него былъ другой кавтанъ дикой съ золотынъ шитьемъ, незнаю, для какаго знатнаго же случая сдѣланной. Прочее было все такъ просто, что и бѣднѣйшій человѣкъ нынѣ того носить нестанетъ, какъ видно по оставшимся его одеждамъ, которыя хранятся въ куншткамерѣ при Императорской Академіи Наукъ. Манжетъ онъ не любилъ и не нашиваль, яко свидѣтельствуютъ его портреты; богатыхъ екипажей неимѣлъ, но обыкновенно ѣзжалъ въ городахъ въ одноколкѣ, а въ дальномъ пути въ качалкѣ. Множество служителей и придворныхъ у него не было, но были у него деныцики и даже караулу окромѣ какъ полковника гвардіи неимѣлъ. Однако при такой собственной особѣ его простотѣ, хотѣлъ онъ, чтобы подданные его нѣкоторое великолѣпіе имѣли. Я думаю, что сей великій государь, который ничего безъ дальновидности не дѣлалъ, имѣлъ себѣ въ предметѣ, чтобы велпколѣпіемъ и роскошью подданыхъ побудить торговлю, фабрики и ремеслы, бывъ увѣренъ, что при жизни его излишнее великолѣпіе и сластолюбіе не утвердить престола своего при царскомъ дворѣ. И такъ мы находимъ, что онъ побуждалъ нѣкоторое великолѣпіе въ платьяхъ, какъ видимъ мы, что во время торжественнаго входу, послѣ взятія азовскаго, генералъадмиралъ Лефортъ шелъ въ красномъ кавтанѣ съ голупами по швамъ, и другіе генералы такоже богатые кавтаны имѣли; ибо тогда генералы мундировъ не нашивали. Богатые люди изъ первосановниковъ двора, или которые благодѣяніями его были обогащены, какъ Трубецкіе, Шереметевъ и Меншиковъ, въ торжественные дни уже старались имѣть богатые платья.
Парчи и галуны стали какъ у женъ, такъ и у мужей въ употребленіи, и хотя нечасто таковыя платья надѣвали, моды хотя долго продолжались, однако онѣ были, и по достатку своему оные уже ихъ чаще, нежели при прежнихъ обычаяхъ дѣлали. Вмѣсто саней и верховой ѣзды и вмѣсто колымагъ, не терпящихъ украшеній, появились уже кареты и коляски, начались уже цуги, которыхъ до того не знали и приличныя украшенія къ симъ екипажамъ. Служители переодѣты на нѣмецкій манеръ, не въ разноцвѣтныхъ платьяхъ стали наряжаться, но каждый по гербу своему, или поизволеніе дѣлалъ имъ ливреи, а офисъянты, которыхъ тогда еще весьма мало было, еще въ разноцвѣтныхъ платьяхъ ходили.
Касательно до внутренняго житья, хотя самъ государь довольствовался самою простою пищею, однако онъ ввелъ уже въ употребленіе прежде незнаемые въ Россіи напитки, которые предпочтительно другимъ пивалъ. То есть, вмѣсто водки домашней, сиженой изъ простаго вина, водку голандскую анисовую, которая приказной называлась и вины: ермитажъ и венгерское, до того незнаемыя въ Россіи.
Подражали ему его и вельможи и тѣ, которые близко были къ двору; да и въ самомъ дѣлѣ надлежало имъ сіе имѣть; ибо Государь охотно подданныхъ своихъ посѣщалъ, то подданный чего для Государя не сдѣлаетъ? Правда сіе не токмо было для него угодно, но напротиву того, онъ часто за сіе гнѣвался, и не токмо изъ простаго вина подслащенную водку, но и самое простое вино пивалъ; но и собственное желаніе удовольствія, до того ими незнаемаго, превозмогло и самое запрещеніе государево, дабы послѣдовать его вкусу. Уже въ домахъ завелися не токмо анисовая, приказная водка, но и гданскія; вина не токмо старинныя, о коихъ выше помянуто, но также ермитажъ, венгерское, и другія. Правда, что еще сначала ихъ довольно бережливо подавали и въ посредственных домахъ никогда въ обыкновенные столы употребляемы не были, но токмо во время праздниковъ и пиршествъ, да и тутъ не стыдились, принести четвертную, запечатанную и наливъ изъ нее по рюмкѣ, опять запечатавъ на погребъ отослать.
Однако хотя Петръ Великій самъ не любилъ и не имѣлъ времени при дворѣ своемъ дѣлать пиршества, то оставилъ сіе любимцу своему кн. Меншикову, который часто оныя, какъ въ торжественные дни, такъ и для чужестранныхъ министровъ съ великимъ великолѣпіемъ по тогдашнему времени чинилъ. Имѣлъ для сего великій домъ, не токмо на то время, но и въ нынѣшнее; ибо въ оный послѣ кадетскій сухопутный корпусъ былъ помѣщенъ, и слыхалъ я, что Государь видя изъ дворца своего торжество въ домѣ его любимца, чувствовалъ удовольсвіе, говоря: « вотъ какъ Данилычь веселится.» Равно ему подражая, такъ и бывъ обязаны самыми своими чинами, другіе первосановника Имперіи, такоже имѣли открытые столы, какъ Генералъ-Адмиралъ Графѣ Федоръ Матвѣевичь Апраксинъ, Генералъ – Фелдмаршалъ Графъ Б. П. Шереметевъ, Канцлеръ Графъ Гаврилъ Ивановичь Головкинъ, и Бояринъ Тихонъ Никитичь Стрешневъ, которому, поелику онъ оставался первымъ правителемъ Империі, во время отсутствія въ чужіе краи Императора Петра Великаго, на столъ и деревни были даны.
Симъ знатнымъ людямъ и низшіе подражая, уже въ многихъ домахъ открытые столы завелися, и столы не такіе, какъ были старинные, то есть, что токмо произведенія домостройства своего употреблялись; но уже старались чужестранными приправами придать вкусъ добротѣ мясъ и рыбъ.
И конечно въ такомъ народѣ, въ которомъ гостепріимство сочиняло всегда отличную добродѣтель, нетрудно было ввести въ обычай таковыхъ открытыхъ столовъ употребленіе; что соединяясь и съ собственнымъ удовольствіемъ общества, и съ лучшимъ вкусомъ кушанья противу стариннаго, самымъ удовольствіемъ утверждалось.
Не непріятель былъ Петръ Великій честному обществу; но хотѣлъ чтобы оно безубыточно каждому было. Онъ учредилъ ассамблеи, уа которыя въ назначенные дни множество собиралось. Но симъ ассамблеямъ предписалъ печатными листами правила, что должно на столъ поставлять, и какъ принимать пріѣзжихъ, симъ упреждая и излишнюю роскошъ, и тягость высшихъ себѣ принимать; ибо общество ни въ опиваніи и обжираніи состоитъ и неможетъ оно быть пріятно гдѣ нѣтъ равности. Самъ часто Государь присутствовалъ въ сихъ ассамблеяхъ и строго наблюдалъ, дабы предписанное исполнялось.
Но слабы были сіи преграды, когда вкусъ, естественное сластолюбіе и роскошъ стараются поставленную преграду разрушить; и гдѣ неравность чиновъ и надежда получить что отъ вельможъ истребляютъ равность.
Въ присутствіе Государевомъ, учиненныя имъ предписанія сохранялись въ ассамблеяхъ, но въ простомъ житьи роскошъ и униженіе утверждали свои корни.
И подлинно мы видимъ, что тогда зачали уже многіе домы упадать, и упадающіе ожидать отъ милости Государской и отъ защищенія вельможъ своего подкрѣпленія. Изъ первыхъ знатныхъ домовъ, мнѣ случалось, слышать объдомѣ Князя Ивана Васильевича Одоевскаго, котораго домъ былъ на Тверской, тотъ самый, который послѣ его былъ Василья Федоровича Салтыкова, потомъ Строганова, а нынѣ за Князь Алексѣемъ Борисовичемъ Голицынымъ сосостоитъ, въ приходѣ у Спаса.
Сей Кн. Одоевскій неумѣреннымъ своимъ сластолюбіемъ такъ раззорился.что продавъ всѣ деревни, оставилъ себѣ токмо нѣкоторое число служителей, которые были музыканты, и сіи ходя въ разныя, мѣста играть и получая плату, тѣмъ остальное, время жизни его содержали. Во истину, при древней простотѣ нравовъ, музыканты ненашли бы довольно въ упражненіи своемъ прибыли, чтобы и себя и господина своего содержать.
Я сказалъ о семъ Кн. Одоевскомъ, яко о раззорившемся человѣкѣ; но и многіе другіе естли не въ раззореніе отъ сей перемѣны жизни пришли, то по крайней мѣрѣ чувствовали немалую нужду.
Дабы умолчать о прочихъ, Борисъ Петровичь Шереметевъ, Фелдмаршалъ, именитый своими дѣлами, обогащенный милостью монаршею, принужденъ однако былъ впередъ Государево жалованье забирать и съ долгомъ симъ скончался яко свидѣтельствуетъ сіе самая его духовная. И послѣ смерти жена его подавала письмо Государю, что она отъ исковъ и другихъ убытковъ пришла въ раззорѣніе.
Перемѣнившійся такимъ образомъ родъ жизни сначала первосановниковъ Государства, а въ подражаніе имъ и другихъ дворянъ, и расходы: достигши до такой степени, что стали доходы превозвышать, начали люди наиболѣе привязываться къ Государю и вельможамъ, яко къ источникамъ богатства и награжденій. Страшусь я, чтобы кто несказалъ, что по крайней мѣрѣ сіе добро произвело, что люди наиболѣе къ Государю стали привязываться. Несть сію привязанность, несть благо, ибо она неточно къ особѣ Государской была, но къ собственнымъ своимъ пользамъ; привязанность сія учинилась непривязанность верныхъ подданныхь, любящихъ Государя и его честь, и соображающихъ все съ пользою Государства; но привязанность рабовъ, наимщиковъ, жертвующихъ все своимъ выгодамъ а обманывающихъ лестнымъ усердіемъ своего Государя.
Грубость нравовъ уменьшилась, но оставленное ею мѣсто лестью и самствомъ наполнилось; оттуда произошло раболѣпство, презрѣніе истины, обольщеніе Государя и прочія зла, которыя днесь при дворѣ царствуютъ, и которыя въ домахъ вельможей возгнѣздились.
Не сокрылся сей порокъ отъ остроумнаго Монарха, и сей Государь, строго и справедливо до крайности, старался сколь можно лесть отгонять, яко случилось, какъ я слыхалъ, что одинъ изъ знаемыхъ ему офицеровъ, бывъ съ нимъ на асамблее, выхвалялъ свое усердіе къ Государю, говоря, что онъ во всякомъ случаѣ готовъ за него умереть. Услышавъ сіе, Государь ему говорилъ, что ни онъ не желаетъ, ни должность его ему неповелѣваетъ, чтобы онъ хотѣлъ неразбирая случая для него умереть, но требуетъ токмо того, чтобы въ случаѣ нужды или опасности его особы, что неможетъ быть несоединено съ пользою государственною, онъ расположенъ былъ пожертвовать своею жизнію. Офицеръ, хотя наиболѣе показать свое усердіе, зачалъ паки утверждать, что онъ сіе готовъ учинить всякой часъ, когда угодно будетъ Государю. Острожный Монархъ ничего неотвѣчавъ, взявъ его руку, палецъ поднесъ къ горячей свѣчѣ и зачалъ его жечь; отъ боли офицеръ зачалъ силиться выдернуть руку. Тогда и опустя, сказалъ ему государь, что когда онъ малой боли обозженія пальца вытерпѣть немогь, не по пуждѣ, но по волѣ Государя, то какъ онъ могъ щедро обѣщать, съ радостью и все тѣло свое безъ нужды пожертвовать? Другой случай, слышанный же мною: доказуетъ, коль любилъ Государь истину. Захаръ Данилычь Мешуковъ, бывшій порутчикомъ во Флотѣ, преждѣ 1718 году, любимый Государемъ, яко первый русской, въ которомъ онъ довольно знанія мореплаванія нашелъ, и первой, который командовалъ уже Фрегатомъ, бывъ на единомъ пиршествѣ съ Государемъ въ Кронштадтѣ и напившися нѣсколько пьянъ, сталъ размышлять о лѣтахъ Государя, о оказующемся слабомъ его здоровьѣ и о наслѣдникѣ, какаго оставляетъ, вдругъ заплакалъ. Удивился Государь возлѣ котораго онъ сидѣлъ о текущихъ его слезахъ, любопытно спрашивалъ причину оныхъ. Мешуковъ отвѣтствовалъ, что онъ размышлялъ, что мѣсто, гдѣ они сидятъ, градъ столичный, близь него строенный, флотъ заведенный, множество русскихъ, входящихъ въ мореплаватели, самый онъ служившей въ флотъ и ощущающій его милости, суть дѣянія рукъ его; то взирая на сіе и примѣчая, что здоровье его, Государя и благодѣтеля ослабѣваетъ, немогі отъ слезъ удержаться, прилагая при томъ простою рѣчью: «на каво ты насъ оставишь?» – Отвѣтствовалъ Государь: «У меня есть наслѣдникъ», разумѣя Царевича Алексѣя Петровича. На сіе Мешуковъ слѣпо и неосторожно сказалъ: «охъ, вѣдь онъ глупъ, все разстроитъ!» При Государѣ сказать такъ о его наслѣдникѣ, и сіе не тайно, но предъ множествомъ предсѣдящихъ. Чтожъ сдѣлалъ Государь? Почувствовалъ онъ вдругъ дерзость, грубость и истину и довольствовался, усмѣхнувшись, ударить его въ голову, съ приложеніемъ: « дуракъ сего въ беседѣ неговорятъ». Но не взирая на таковое любленіе истины, ни на отвращеніе его отъ лести, немогъ Государь вкрадывающийся сей ядъ искоренить. Большая часть окружающихъ его ни въ чемъ несмѣли ему противурѣчить, но паче льстили, хвала все сдѣланное имъ и непротивурѣча его изволеніямъ, а иные и угождая страстямъ его. Хотя онъ знатнымъ образомъ никогда обмаманутъ и небылъ, однако Князь Яковъ Федоровичь Долгоруковъ никогда ненашелъ въ сопротивленіяхъ своихъ Государю въ Сенатѣ себѣ помощниковъ. И тщетно онъ суровыми и справедливыми своими предложеніями два опредѣленія, подписанныя Государемъ, отмѣнилъ, о привозѣ на перемЬнныхъ лошадяхъ провіанту въ Петербургъ на армію, и о набраніи посохи на содержаніе народномъ для дѣланія Ладожскаго канала. Въ обоихъ сихъ случаяхъ, ни въ другихъ никто соучастникомъ его твердости и справедливости быть нехотѣлъ.
Единый самъ Государь терпѣлъ его грубыя, но справедливыя предложенія, и хотя съ стѣсненіемъ сердца, превозмогая себя, на оныя соглашался. Я слышалъ отъ очевидныхъ свидѣтелей и Василиій Никитичъ Татищевъ въ исторіи своей еіе вмѣстилъ, что бывши Государь въ Кронштатѣ, въ единомъ пиршествѣ окружающіе его вельможи начали превозносить его хвалами, говоря, что онъ болѣе отца своего. Между таковыхъ похвальныхъ воплей единой Кн. Я. Ф. Долгоруковъ въ молчаніи пребывалъ. Примѣтя сіе, Государь требовалъ его мнѣнія. Сей остроумный твердый мужъ не могъ вдругъ отвѣтствовать на такой вопросъ гдѣ состояло сужденіе между царствующаго Государя и его отца, обоихъ отличныхъ ихъ качествами. Взявъ нѣсколько времени подумать, сказалъ слѣдующее: исчисливъ онъ все подробно что Петръ Великій сдѣлалъ для пользы отечества, исчисливъ его труды и подвиги и наконецъ сказалъ; какъ великъ онъ есть во владыкахъ земныхъ, но продолжая говорилъ: всѣ сіи труды, всѣ сіи установленія неутверждаютъ еще внутреннего спокойствія государства и безопасность гражданскую въ жизни и имѣніяхъ, отецъ же твой, говорилъ, при тихости нравовъ начиналъ многое, но паче всего что онъ сдѣлалъ Уложеніе, которое нынѣ, при перемѣнѣ обычаевъ, перемѣны требуетъ; когда окончишь ты всѣ свои подвиги благими узаконеніями, тогда справедливо можно будетъ сказать, что весьма превзошелъ твоего отца. Государь возчувствовалъ всю справедливость его глаголовъ и согласіемъ своимъ мнѣніе его утвердилъ. Чегоже ради никто другой ни въ бесѣдахъ, ни въ Сенатѣ и нигдѣ индѣ таковой правды неговорилъ, какъ сей, безсмертія достойный Кн. Долгоруковъ? Того ради, что они болѣе желали пріобрѣсти милость Государскую, нежели чиновъ и имѣній; ибо въ самомъ дѣлѣ невидно, чтобы любимецъ его Кн. Меншиковъ, когда ему строгую правду представлялъ, чтобы Гаврила Ивановичь Головкинъ, Государственный Канцлеръ отвратилъ его отъ переписки съ Галембурхомъ, съ Горцомъ и съ англійскими и шкотландскими сообщниками претендента; ни Остерманъ, бывшій тогда въ маломъ чину, и написавшій требуемое письмо, несовмѣстность сего поступка представилъ; чтобы Иванъ Муссинъ-Пушкинъ его отъ какаго поступка удержалъ, чтобы Адмиралъ Апраксинъ имѣющій такую повѣренность, что вопреки сказалъ Государю. Но всѣ токмо согласіе свое изъявляли и впускали вкореняться лести и рабству, для собственныхъ своихъ прибытковъ, чему и самъ Государь и Кн. Я. Ф. Долгоруковъ противуборствовали. А съ другой стороны духовный чинъ, который его нелюбилъ за отнятія своей власти, грѣмелъ въ храмахъ Божіихъ его панегириками. Между сими Прокоповичь, который изъ духовенства, хотя нелюбви къ Государю неимѣлъ, но былъ совершенно ослѣпленъ честолюбіемъ, яко въ другія царствованія ясно оказалъ, выспренный свой голосъ на хвалы Государевы вознесъ. – Достоинъ онъ былъ многихъ похвалъ, но желательно бы было, чтобы они не отъ лести происходили, а похвалы Прокоповича сего непостриженнаго монаха, сего честолюбиваго архіерея, жертвующаго законъ изволеніямъ Бирона, сего, иже неустыдился быть судьею Тайной Канцеляріи, бывъ Архипастыремъ Церкви Божіей, были лестны, яко свидѣтельствуетъ его собственное сочиненіе «Правда воли Монаршей,» памятникъ лести и подобострастія монашескаго изволенію Государскому.
Сказалъ я, что сластолюбіе и роскошъ могли такое дѣйствіе въ сердцахъ произвести; но были еще и другіе причины, ироисходящия отъ самыхъ учрежденій, которыя твердость и добронравіе искореняли. Разрушенное мѣстничество (вредное впрочемъ службѣ и государству) и незамѣненное никакимъ правомъ знатнымъ родамъ, истребило мысли благородной гордости въ дворянахъ; ибо стали не роды почтенны, а чины и заслуги и выслуги; и тако каждый сталъ добиваться чиновъ, а не всякому удасться прямыя заслуги учинить, то за недостаткомъ заслугъ, стали стараться выслуживаться всякими образами льстя и угождая Государю и вельможамъ; а при Петрѣ Великомъ введенная служба, въ которую вмѣстѣ съ холопами ихъ носили на одной степени ихъ господъ въ солдаты, и сіи первые по выслугамъ пристойнымъ ихъ роду людямъ, доходя до офицерскихъ чиновъ, учинились начальниками господамъ своимъ и бивали ихъ палками. Рода дворянскіе стали раздѣлены по службѣ такъ, что иной однородцовъ своихъ и вѣкъ не увидитъ.
То могла ли остаться добродѣтель и твердость въ тѣхъ, которые въ юности своей отъ палки своихъ начальников дрожали? Которые иначе какъ подслугами почтенія немогли пріобрѣсти и бывъ каждый безъ всякой опоры отъ своихъ однодворцевъ, безъ соединенія и защиты, оставался единъ, могущій преданъ быть въ руки сильнаго.
Похвально есть, что Петръ Великій хотѣлъ истребить суевѣріе въ законѣ ибо въ самомъ дѣлѣ не почтеніе есть Богу и закону суевѣріе, но паче руганіе; ибо прописывать Богу неприличныя ему дѣянія сіе есть богохулить.
Въ Россіи бороду образомъ Божіимъ почитали, и за грѣхъ щитали ее брить, а черезъ сіе впадали въ ересь антропоморфитовъ. Чудеса, безъ нужды учиненныя, явленные образы, рѣдко доказанные, повсюду прославляли, привлекали суевѣрное богомоліе и дѣлали доходы развратнымъ священно служителямъ. Все сіе Петръ Великій тщился отвратить; указами повелѣлъ брить бороды, и духовнымъ регламентомъ положилъ преграду ложньмъ чудесамъ и явленіямъ, равно какъ и неблагопрнстойнымъ сборамъ при поставленныхъ на распутіяхъ образахъ. Зная, что законъ Божій есть къ сохраненіи рода человѣческаго, а не къ истребленію его безъ нужды, благословеніемъ отъ Синода и отъ вселенскихъ Патріарховъ учинилъ позволено есть мясо въ посты въ нуждѣ, а паче въ морской службѣ, гдѣ и безъ рыбы довольно люди къ скорбутинѣ подвержены, повелѣвая самохотно жертвующихъ жизнію своею, таковымъ воздержаніемъ, вовремя приключившихся от болезней, въ воду кидать. Все сіе очень хорошо, окромѣ что послѣднее несколько сурово.
Но когда онъ сіе учинилъ? Когда народъ былъ еще не просвѣщенъ, и тако отнимая суеверіе у непросвѣщеннаго народа, онъ самую вѣру къ божественному закону отнималъ. И сіе дѣйствіе Петра В. можно примѣнить къ дѣйствіи неискустнаго садовника, который у слабаго дерева отрѣзываетъ водяныя, пожирающія его сокъ вѣтви. Естлибы оно было корнемъ сильно, то сіе обрѣзыванье учинило ему произвести хорошиія и плодовитая вѣтви; но какъ оно слабо и больно, то урезаніе сихъ вѣтвей, которыя чрезъ способъ листьевъ своихъ, получающихъ внѣшнюю влагу, питали слабое дерево, отнявъ ее новыхъ плодовитыхъ вѣтвей непроизвело, ниже сокомъ раны затянуло, и тутъ содѣлались дупла, грозящая погибелью дереву Такъ урѣзанье суевѣрій и на самыя осповательныя части вѣры вредъ произвело; уменьшились суевѣрія, но уменьшилась и вѣра; изчезла рабская боязнь ада, но изчезла и любовь къ Богу и къ святому его закону; и нравы за недостаткомъ другаго просвѣщенія, исправляемыя вѣрою, потерявъ сію подпору, въ развратъ стали приходить.
Со всѣмъ почтеніемъ, которое я къ сему великому въ монархахъ и великому въ человѣкахъ въ сердцѣ своемъ сохраняю, совсѣмъ чувствіемъ моимъ, что самая польза государственная требовала, чтобы онъ имѣлъ окромѣ царевича Алексѣя Петровича, законныхъ дѣтей, пріемниками его престола, – немогу я удержаться, чтобы не охулить разводъ его съ первою его супругой, рожденной Лопухинной, и второй бракъ по постриженіи первой супруги, съ плѣнницею Екатериною Алексѣевною; ибо примѣръ сей нарушенія таинства супружества, ненарушимаго въ своемъ существѣ, показалъ, что безъ наказанія можна его нарушать. Пусть Монархъ имѣлъ къ тому сильныя причины, которыя однакожъ я невижу, окромѣ склонности ея къ Монсовымъ, сопротивленія жены его новымъ установленіемъ. Но подражатели его имѣли-ли государственныя причины подобно дѣлать? Павелъ Ивановичь Егузинскій, постригши первую свою жену и женясь на другой, режденной Галевкиной, имѣлъ-ли государственныя причины стараться имѣть себѣ потомство, въ нарушеніи Божественныхъ законовъ. Многіе и другіе сему подражали и нетокмо изъ вельможъ, но и изъ малочинныхъ людей, яко Князь Борись Сонцевъ – Засѣкинъ сіе учинилъ.
И тако, хотя Россія, чрезъ труды и попеченія сего Государя, пріобрѣла знаемость въ Европѣ и вѣсъ въ дѣлахъ; войска ея стали порядочнымъ образомъ учреждены, и флоты Бѣлое и Балтійское море покрыли, коими силами побѣдила давныхъ своихъ непріятелей и прежнихъ побѣдителей, поляковъ и Шведовъ, пріобрѣла знатныхъ области и морскія пристанища. Науки, художества и ремесла стали въ ней процвѣтать, торговля начала ее обогощать и преобразовались Россіяне изъ бородатыхъ въ гладскіе, изъ долгополыхъ въ короткополые, стали сообщительнѣе и позорища благонравныя извѣстны имъ учинились. Но тогда же искренная привязанность къ вѣрѣ стала исчезать, таинства стали впадать въ презреніе, твердость уменьшилась, уступая мѣсто нагло стремящейся лести, роскошь и сластолюбіе положили основаніе своей власти, а симъ побужденіемъ и корыстолюбіе къ разрушенію законовъ и ко вреду гражданъ начало проникать въ судебныя мѣста. Таково есть состояніе, въ которомъ (не взирая на всѣ преграды, которыя собственною своею особою и своимъ примѣромъ полагалъ Петръ Великій для отвращенія отъ пороковъ), вразсужденія нравовъ осталася Россія по смерти сего великаго Государя.
Воззримъ теперь колико, при двухъ громкихъ царствованіяхъ Екатерины Первой и Петра Втораго, пороки сдѣлали шаговъ, дабы наиболѣе утвердится въ Россіи.
Женскій полъ обыкновенно болѣе склоненъ къ роскошамъ, нежели мужской, и тако видимъ мы, что Императрица Екатерина Алексѣевна Первая, еще при жизни супруга своего Петра Великаго, имѣла уже дворъ свой; камергеръ у нея былъ Монсъ, котораго излишная роскошь была первымъ знакомъ, доведшимъ его до поносной смерти; камеръ-юнкеры ея были Петръ и Яковъ Федоровичи Балковы, его племянники, которые также при несчастіи его отъ двора были отогнаны. Любила она и тщилась украшаться разными уборами и простирала сіе хотѣніе до того, что запрещено было другимъ женщинамъ подобные ей украшенія носить, яко то убирать алмазами обѣ стороны головы, а токмо позволяла убирать лѣвую сторону; запрещено стало носить горностаевые мѣха съ хвостиками, которые одна она носила, и сіе не указомъ не закономъ введенное обыкновеніе учинилось почти узаконеніе, присвояющее сіе украшеніе единой Императорской фамиліи тогда какъ въ нѣмецкой землѣ и мѣщанки ею употребляютъ. А. такое тщаніе не показуетъ-ли, что если лѣта зачали убавлять ея красоту, то уборами, отличными отъ другихъ, тщилась оную превозвысить. Незнаю справедливо-ли сіе мнѣніе было, и прилично-ли Государю ежечасно подобно какъ въ маскарадномъ платьи передъ подданными своими быть, якобы недоставало ему другихъ украшеній могущихъ его отличить. По возшествіе ея на престолъ, довольно чуднымъ образомъ воспослѣдовавшемъ; ибо Петръ Великій не съ тѣмъ ее вѣнчалъ царскомъ вѣнцемъ, чтобы ее наслѣдницею своею учинить, ниже когда того желалъ; но умирая, неназнача наследника, – вельможи, а именно: Кн. Меншиковъ, зная слабость Императрицы; Толстой, боясь мщенія отъ сына Царевича Алексѣя Петровича, законнаго наслѣдника, за привезеніе и за смерть отца его, вопроса Ивана Ильича Мамонова, подполковника гвардіи, – надѣется-ли онъ на согласіе гвардіи полковъ и получа утвердительный отвѣтъ, предъ собранными полками ее самодержцею провозгласили. Тако взошла сіа государыня па всероссійской престолъ: дѣйствіе недостатка основательныхъ законовъ.
И Петръ Великій еще неохлодѣлъ мертвый а уже неволя его, не право наслѣдственное и привязанность къ крови, но самовольное желаніе вельможъ рѣшило важнѣйшую вещь въ свѣтЬ, то есть наслѣдство его престола.
Возшествіе ея такимъ образомъ на престолъ слѣдующія дѣйствія надъ нравами народными произвело. Она была слаба, роскошна во всемъ пространствѣ сего названія; вельможи были честолюбивы и жадны; а изъ сего произошло, упражняясь въ повседневныхъ пиршествахъ и роскошахъ, оставила всю власть правительства вельможамъ, изъ которыхъ вскорѣ взялъ верхъ Князь Меншиковъ. Пышность и сластолюбіе у двора его умножились, упала древняя гордость дворянская, видя себя управляема мужемъ хотя достойнымъ, но изъ подлости произшедшимъ на мѣсто ея раболѣпство къ сему вельможѣ, могущему все.
Краткое царствованіе сей Императрицы впрочемъ большихъ перемѣнъ немогло учинить, окромѣ что вывозъ разныхъ драгоцѣнныхъ уборовъ и винъ весьма умножился, и сластолюбіе сіе во всѣ степени людей проникло, умножило нужды, а умножа нужды, умножило исканіе способовъ, безъ разбору, дабы оныя наполнить.
Какое тогда состояніе было сына Царевича Алсксѣя Петровича, по несчастію отца своего лишеннаго принадлежащаго ему наслѣдія? Онъ былъ въ юныхъ лѣтахъ; о воспитаніи его непомышляли, наслѣдникомъ престола не признавали и ниже моленія въ церквахъ о здравіе его было, якобы надлежало о произшедшемъ отъ царскаго корня, – и всѣ его поступки подозрѣваемы были.
Дабы наиболѣе надзирать его поступки и примѣчать слова и движенія, опредѣленъ къ нему былъ младый, умный и честолюбивый человѣкъ, Кн. Иванъ Алексѣевичъ Долгоруковъ. Сей, примѣчая жизнь Императрицы Екатерины Алексѣевны и разсуждая, что неуповательно, чтобы двѣ дщери Петра, Великая Герцогиня Анна и Цесаревна Елисавета, яко до браку рожденныя, могли на россійской престолъ послѣ матери своей взойти, вмѣсто чтобы подъ видомъ служенія Князю Петру Алексѣевичу, быть его предателемъ, разсудилъ сыскать его къ себѣ милость и повѣренность. – Въ единый день, нашедъ его единаго, палъ предъ нимъ на колѣни, изъясняя всю привязанность, какую весь родъ его къ дѣду его, Петру Великому имѣетъ и къ его крови, изъяснилъ ему что онъ, по крови, по рожденію и по полу, почитаетъ его законнымъ наслѣдникомъ россійскаго престола, прося да увѣрится въ его усердіи и преданности къ нему Таковыя изъясненія тронули сердце младаго, чувствующаго свое положеніе Князя. Тотчасъ довѣренность послѣдовала подозрѣніямъ, а послѣ и совершенная дружба, по крайней мѣрѣ, со стороны Петра Алексеевича, сихъ младыхъ людей соединила.
Однако Князь Меншиковъ, видя себя правителемъ Государства – и такъ близко къ престолу, не могь осмѣлиться желать оный себѣ пріобрѣсти, зная что никто изъ Россіянъ непотерпитъ, чтобъ имѣя еще многихъ царскаго рода, онъ могъ, произшедиши изъ низкихъ людей, похитить себѣ престолъ, – обратилъ мысли свои, естьли небыть самому Государемъ, то учиниться его тестемъ. Князь Петръ Алексѣевичь, оставленный отъ всѣхъ и непризнанный наслѣдникомъ престола, ему показался быть къ сему удобнымъ орудіемъ. Но прежде онъ хотѣлъ, обязаннаго близкимъ родствомъ, Вѣнскаго Двора мысли о семъ узнать, то есть, чтобы и оный согласился оставить ему правленіе Государства до возрасту Императора и дочь свою за онаго выдать. По бывшимъ переговорамъ съ Графомъ Вратиславомъ, посломъ цесарскимъ, на все сіе согласіе получилъ и Цесарскій Дворъ прислалъ 70 тысячъ рублевъ въ подарокъ Госпожѣ Крамеръ, Камеръ-Фрау Императрицы Екатерины Алексѣевны, дабы она ее склонила именовать по себѣ наслѣдникомъ Князя Петра Алексеевича.
И тако въ семъ случаѣ Россійскій престолъ сталъ покупаться и не близость крови, но избраніе прежде бывшей плѣнницы – внука Петра Великаго и Правнука Царя Алексѣя Михайловича на престолъ столь знатной Имперіи возводило.
Вскорѣ по именованіи своемъ Наслѣдникомъ Россійскаго Престола, Князь Петръ Алексѣевичь, подъ именемъ Императора Петра II взошелъ на престолъ, по смерти Императрицы Екатерины Алексѣевны.
Сила и могущество Князя Меншикова умножились; Государь былъ въ юныхъ лѣтахъ, а сей вельможа, хотя небылъ именованъ регентомъ, но дѣйствительно таковымъ был.. А сіе самое доказуетъ колико упалъ духъ благородныхъ. При младенчествѣ Царя Іоанна Васильевича, законной властью утвержденному совѣту для управленія вовремя малолѣтства Государя, боярамъ, выбраннымъ изъ среды самихъ ихъ, изъ среды знатнѣйшихъ родовъ Государства: повиноваться нехотѣли.
И когда въ болѣзни своей царь Іоаннъ Васильевичь хотѣлъ утвердить престолъ малолѣтнему сыну своему, то, нехотя быть управляемы боярами, сыну Государя своего присягнуть нехотѣли. Во время младенчества самаго Петра Великаго на случай Нарышкиныхъ негодовали; а се нынѣ изъ подлости произшедшему мужу, безъ всякаго законнаго утвержденія его власти, безспорно повиновались. Да разсудятъ посему вѣрность-ли сіе было къ Государю или паденіе духу благороднаго.
Истина заставила меня сіе сказать, поелику мнѣ извѣстна – непохвалить поступокъ Кн. Меншикова. Онъ честолюбіемъ на мѣсто сіе былъ возведенъ; но управленіе его было хорошо, а паче попеченіе его о воспитаніи и наученіи младаго Государя; часы были уставлены для наукъ, для слушанія дѣлъ, для разговоровъ и обласканія первосановниковъ Государства, и наконецъ часы для веселія. И можно сказать, что былъ купно Правитель Государства и дядька государевъ. Еще бы похвальнее его поступокъ былъ, естлибы онъ неимѣлъ собственныхъ своихъ видовъ, а дѣлалъ бы сіе для пользы отечества и въ воздаяніе за то, чѣмъ онъ долженъ Петру Великому, дѣду царствующаго Государя. Но онъ неимѣлъ толь героической души и всѣ мысли его клонились, чтобы обручить дочь свою за младаго Государя, что наконецъ противу самой склонности Государя исполнено имъ было.
Посемъ приумножилъ свое, стараніе о воспитаніи и наученіи Государя, взявъ его жить въ домъ свой, неотлучно при немъ пребывая, и домъ Князя Меншикова учинился дворецъ Государевъ. Во время сіе сдѣлалъ онъ два дѣла, которыя, присоединенныя къ противусклонности Государевой обрученія его съ Княжною Меншиковой, приключили наконецъ падете сего вельможи. Первое, былъ при Государѣ учитель, родомъ Венгерецъ, по имени Зеннинъ. Сей противенъ учинился владычествующему Министру и сего онъ втайнѣ оть Государя удалилъ. Хотя молчанію сіе предалъ Государь, но не оставилъ подозрѣвать отъ кого сей его наставникъ былъ удаленъ, несмѣя и возпрошать о немъ дабы болѣе ему несчастся неприключить. Второе, принесено было оть купечества нѣсколько тысячь червонныхъ къ Государю; были благосклонно приняты; но тогда случившаяся тутъ сестра Государева, Принцесса Наталья Алексѣевна сихъ денегъ къ себѣ просила. Государь, который весьма любилъ сестру свою, приказалъ ихъ отнести, еще тогда какъ принесшіе ихъ купцы въ прихожей находились. Встрѣтился Князь Меншиковъ съ несомыми сими деньгами въ комнату Принцессы, ихъ немедленно возвратилъ и пришелъ въ комнату Государеву, представлялъ ему, что таковый немедленно учивенный даръ принесенныхъ денегъ купцами показываетъ прѣзреніе къ онымъ и можетъ огорчить его подданныхъ. Можетъ быть, представлялъ ему и правила бережливости какія Петръ Великій имѣлъ. Сіе огорчило Государя и сестру его, а подало случай, наединѣ, любимцу его, Кн. Ив. Ал. Долгорукову представить ему, коль мала его есть власть. Кажется властолюбіе въ сердцахъ прежде всего родится, а паче въ сердцахъ монаршихъ; и тако сіе оскорбленіе, тѣмъ наивящше, что отмстить за него немогъ, на сердцѣ молодаго Монарха оставалось.
Однако приличными весельями и удовольствіями, частными съѣздами къ двору старался Князь Меншиковъ благопристойнымъ образомъ въ праздные часы веселить своего Государя и зятя. А примѣръ Двора, разливаясь сперва на вельможъ а потомъ и на другихъ гражданъ, чинилъ, что и они по мѣрѣ достатку своего, а иногда и свыше старались съ обществомъ веселиться и простота нравовъ изчезла.
Наконецъ приходило время паденію Кн. Меншикова и произошло оно отъ слѣдующаго случая. Сей вельможа всячески стараясь утѣшить своего Государя и укрѣпить движеніемъ и трудами его тѣло повезъ его съ псовою охотою. Гоньба, травля и протчее что веселить въ сей охотѣ, весьма полюбилось младому Государю. Часто Кн. Меншиковъ отьѣзжалъ въ Мызу свою Оранинъ-баумъ и случилось что единажды въ небытность его въ Петербургѣ въ пасмурной и холодной день, Государь поѣхалъ на полѣ. По возвращеніи своемъ нашелъ онъ Меншикова весма раздраженна сею ѣздою, который съ тою горячностью, коковая можетъ произойти отъ желанія сохранить его здоровѣ и отъ опасности потерею онаго лишиться толь великаго союза, ему представлялъ коль неразсудительно было въ пасмурное и холодное время ѣздить и здоровьѣ свое подвергать. Хотя горячи были его изъясненія, но они оть усердія происходили. Однако младый Государь ощущалъ только въ нихъ единую горячность, и яко нарушеніе почтенія къ себѣ; однако скрылъ и то въ сердцѣ своемъ. и К. Иванъ Алексѣевичь Долгоруковъ, ищущій погибели Меншикова, дабы самому и родъ свой на ту степень возвысить, не оставилъ паче очернить всѣ слова сего вельможи.
Помнится мнѣ въ іюлѣ мѣсяцѣ поѣхалъ Кн. Менщиковъ въ Мызу свою Оранинъ-баумъ, для освящнія созданныя имъ Церкви. Сей ожидаемый уже давно случай и былъ употребленъ къ погубленію его. Государь, по совѣту К. Ив. Алек. Долгорукова, поѣхалъ въ ПетергоФъ, и окруженъ гвардіей, и повелѣно было Кн. Меншикову сказать, чтобы онъ въ ПетергоФѢ неѣздилъ, а проѣхалъ бы прямо въ Петербургъ, гдѣ тогдаже двору Государеву велено изъ дому Кн. Меншикова выбираться.
Тщетно ниспадавший сей Министръ просилъ единыя милости, чтобы видеть Государя и оправданія свои принести; тщетно княжна Катерина Александровна, его дочь, невѣста государева, писала къ Великой Княжнѣ Натальѣ Алексѣевнѣ дабы она упросила у Государя своего брата, прощеніе родителю ея. Первое, понеже опасались, чтобы сохраняемая нѣкая Кн. Меншиковымъ власть и сильныя его представленія нетронули сердце Государева, отказано было; а нелюбимыя невѣсты, отъ которой Государь избавиться хотѣлъ, просьбы такъже дѣйствія не возъимѣли, и Князь Меншиковъ, по приездѣ своемъ въ Петербургъ, назавтрѣе былъ арестованъ и сосланъ въ ссылку. Тако ниспалъ сей пышный вельможа, примѣрь перемѣны и непостоянства счастія. Изъ низкаго состоянія почти до трона дошедшій и паки въ низость и несчастіе свергнутый.
Почемъ Петръ Вторый началъ править самъ государствомъ, естли можно назвать правленіемъ правленіе юноши Государя. Кн. Ив. Алек. Долгоруковъ другъ и наперсникъ Государевъ, толь ему любимый, что даже на одной постели съ нимъ сыпалъ, всемогущій учинился. Пожалованъ немедленно былъ въ оберъ камеръ – геры, возложена на него была андреевская лента, пожалованъ въ капитаны гвардіи преображенскаго полку гренадерской роты и всѣ родственники его были возвышены, правя поизволеніямъ ихъ всѣми дѣлами Имперіи; престали науки Государевы, министры лишь для виду были допускаемы; все твердое и полезное отгонялось отъ двора, и пользуясь склонностью Государевой къ охотѣ, она всѣхъ важныхъ упражненій мѣсто замѣняла. Однако, что погубило Кн. Меншикова, то неустрашило Долгорукихъ; они употреблялись стараніе, дабы имъ родственицу свою Княжну Екатерину Алексѣевну, дочь Кн. Алексѣй Григорьевича, сестру Кн. Ивана Алекеѣевича, за Государя обручить. И въ семъ обрученіи нѣчто странное было; ибо хотя обрученіе сіе было въ присутствіи всѣхъ и всего двора, но во время обрученія Государь и его невѣста были окружены Преображенскаго полку гренадерами, которые кругъ ихъ подъ начальствомъ своего капитана, Кн. Ив. Алек. Долгорукова, баталіонъ-каре составляли.
Кн. Ив. Алек. Долгоруковъ былъ молодъ, любилъ распутную жизнь, и всѣми страстями, къ каковымъ подвержены младые люди, неимѣющіе причины обуздывать ихъ, былъ обладаемъ. Пьянство, роскошь, любодѣяніе и насиліе мѣсто прежде бывшаго порядку заступили. Въ примѣръ сему, къ стыду того вѣка скажу, что слюбился онъ или, лучше сказать, взялъ на блудодѣяніе себѣ между прочими жену К. Н. Е. Т. рожденную Головкину, и не токмо безъ всякой закрытности съ нею жилъ; но при частныхъ съ ѣздахъ у К. Т... съ другими своими младыми сообщниками пивалъ до крайности, бивалъ и ругивалъ мужа бывшаго тогда ОФицеромъ кавалергардовъ, имѣющаго чинъ Генералъ-Маіора, и съ терпѣшемъ стыдъ свой отъ прелюбодѣянія жены своей сносящаго. И мнѣ самому случилось слышать, что единажды бывъ въ домѣ сего Кн. Трубецкаго, по исполненіи многихъ надъ нимъ ругательствъ, хотѣлъ наконецъ выкинуть его въ окошко, и естлибы Степанъ Васильичь Лопухинъ, свойственникъ Государевъ по бабкѣ его Лопухиной, первой супруги Петра Великаго, бывшій тогда камеръ-юнкеромъ у двора и въ числѣ любимцевъ Кн. Долгорукова, сему не воспрепятствовалъ, то бы сіе исполнено было.
Но любострастіе его одного или многими неудовольствовалось; согласіе женщины на любодѣяніе уже часть его удовольствія отнимало и онъ иногда пріѣзжающихъ женщинъ изъ почтенія къ матери его, затаскивалъ къ себѣ и насиловалъ. Окружаюнйе его однородны и другіе младые люди, самымъ распутствомъ дружбу его пріобрѣтшіе, сему примѣру подражали, и можно сказать, что честь женская не менѣе была въ безопасности тогда въ Россіи, какъ отъ Турковъ во взятомъ градѣ.
Привычка есть и къ прсступленіямъ, а сей былъ первый шагъ, которымъ жены выступали изъ скромности и тихова житія, которое отъ древнихъ нравовъ онѣ еще сохраняли.
Отецъ его Кн. Алексѣй Григорьевичь, человѣкъ посредственнаго разума и единственно страстенъ къ охотѣ – для коронаціи Государи всегда бываютъ въ Москвѣ, то послѣ оный и присовѣтывалъ ему тамъ утвердить свое житіе, оставя навсегда Петербурга. Пріѣехалъ дворъ въ Москву, но распутство не престало; по мѣсяцу и болѣе отлученіе Государево для ѣзды съ собаками остановило теченіе дѣлъ; сила единаго рода учинила, что токмо искатели въ ономъ чины и милости получали, а другіе уже и къ грабежу народа приступали. Желавшіе угодить роскошнымъ Долгорукимъ юношамъ пиры, со всею знаемою для нихъ роскошью, дѣлали.
Воззримъ теперь, какія были сіи ѣзды Государевы на охоту, и какія были тамъ упражненія. Ибо примѣръ двора великое дѣйствіе надъ образомъ мысли и всѣхъ подданныхъ имѣетъ. Ездилъ Государь въ Боровскомъ, Коломенскомъ, и другихъ уѣздахъ, иногда и по мѣсяцу, ежедневно, невзирая ни на сырую погоду, ни на холодъ. ѣзда съ собаками была отъ утра до вечера. Окромѣ что охота Государева, при которой и сокольники находились и всѣ придворные, которые по неволѣ должны были охотниками сдѣлаться, со всей Россіи собранные, знатнѣйшіе охотники дворные имѣли позволеніе быть при охотѣ Государевой. То коль сіе должно было составить великую толпу людей и коликое множество собакъ. Всякій изъ сего себѣ представить можетъ пощажены-ли были тогда поля съ хлѣбомъ, надежда земледѣльца; стада скота хотя и отгонялись, но не могли-ли иногда съ сею толпою собакъ встретиться? А окружающіе Государя вельможи, которые были тогдаже и охотники, для удовольствія своего, не представляли младому и незнающему Государю, колико таковыя ѣзды вредъ земледѣлію наносятъ. Иззябшій возвращался Государь ввечеру на квартиру; тутъ встрѣчала его, невѣста его, Кн. Долгорукова, со множествомъ женъ и дѣвицъ, и балъ начинался, который иногда довольно поздно въ ночь былъ продолженъ. Млодыя Государевы лѣта оть распутства его сохраняли; но подлинно есть, что онъ былъ веденъ, чтобы современемъ въ распутство впасть; а до тѣхъ мѣстъ любимецъ его К. Иванъ Алексѣевичь Долгоруковъ всѣмъ самъ пользовался и утружденнаго охотою Государя принуждалъ по неволѣ представляемыя ему веселья вкушать.
Наконецъ возвратился Государь въ Москву изъ Коломенскаго уѣзду; новыя начались веселія, ежедневно медвѣжья травля, сажаніе заицовъ, кулашные бои, съ весельями придворными всѣ часы жизни его занимали; даже какъ простудяся, занемогъ весною; въ девятый день скончался и вся надежда Долгорукихъ яко скудельный сосудъ о твердый камень сокрушилась. Осталось только памяти его царствованія, что неисправленная грубость съ роскошью и распутствомъ соединилась. Вельможи и вышніе впали въ роскошь, жены стыдъ, столь украшающій ихъ полъ, стали забывать, а нижніе граждане пріобыкли льстить вельможамъ.
Однако, по смерти Петра II, никаго не было назначеннаго къ пріятію россіскаго престола. Первостепенные вельможи собрались, дабы учинить важное рѣшеніе, кого во владыки толь великой части свѣта возвѣсти. Коль ни дерзки, коль ни самолюбивы, однако несмѣли безъ взятія мнѣнія отъ имянитѣйшихъ благородныхъ сего рѣшить. Разныя мнѣнія были подаваны. Иные представляли, что какъ вторая супруга Петра Великаго уже царствовала надо Россіею, то надлежитъ взять изъ монастыря первую супругу Петра Великаго, и оную на престолъ возвести. Другіе представляли, что есть въ живыхъ двѣ дочери Петра Великаго, Принцесса Анна въ супружествѣ за Герцогомъ Голштинскомъ и Принцесса Елизавета въ дѣвицахъ, и хотя онѣ и прежде браку рождены, но какъ уже законными признаны, то рожденіе ихъ не препятствуетъ взойти имъ на россійскій престолъ. Третіи представляли Принцессу Екатерину, Герцогиню Меклембургскую, старшую дочь Царя Іоанна Алексеевича; наконецъ четвертые Принцессу Анну, вдовствующую Герцогиню Курляндскую.
Уже собравшіеся вельможи предопредѣлили великое намѣреніе, ежелибы самолюбіе и честолюбіе оное непомрачило, то есть, учинить основательные законы Государству, и власть Государеву Сенатомъ или Парламентомъ ограничить. – Но засѣданіе въ СенатЬ токмо нѣсколыкимъ рядамъ предоставили, тако уменьшая излишнюю власть Монарха, предавали ее множества вельможамъ, со огорченіемъ множества знатныхъ родовъ, и вмѣсто однаго толпу Государей сочиняли. – Сіи вельможи пріяли въ разсужденіе разныя выше предложенныя мнѣнія о наслѣдствѣ престола. Были многіе и дальновиднѣйшіе, которые желали возвести царицу Евдокнію Федоровну, на Россійскій престолъ, говоря, что какъ она весьма слабымъ разумомъ одарена, то силѣ учрежденнаго Совѣту сопротивляться неможетъ, и черезъ сіе дастъ время утвердиться постановленнымъ узаконеніямъ въ предосужденіе власти монаршей. Но на сіе чинены были слѣдующія возраженія, что законъ препятствуетъ санъ монашескій, хотя и поневолѣ возложенный съ нее снять и что она имѣвши множество родни Лопухиныхъ, по коимъ была привязана, родъ сей усилится и можетъ для счастія своего склонить ее разрушить предпологаемыя постановленія. – Дочерей Петра Великаго яко незаконно рожденныхъ отрѣшили. Принцессу Екатерину Іоанновну, Герцогиню Меклембургскую, отрѣшили ради безпокойнаго нрава ея супруга, и что Рост имѣеть нужду въ покоѣ, и не мѣшаться въ дѣла сего Герцога, по причинѣ его несогласія съ его дворянствомъ. И наконецъ думали что толь знатное и нечаенно предложенное наслѣдство Герцогинѣ Аннѣ Ивановнѣ, заставитъ искренно наблюдать полагаемыя ими статьи; а паче всего склонилъ всѣхъ на избраніе сіе Кн. Василій Лукичь Долгоруковъ, который къ ней особливую склонность имѣлъ и можетъ быть мнилъ, отгнавъ Бирона, его мѣсто заступить. Всѣ сіи на сіе согласились, и онъ самъ посланъ былъ съ пунктами призывать на престолъ Россійской, естли будетъ обѣщаться и подпишетъ сіи предустанавляемые законы.
Герцогиня Анна неотрѣклася подписать уменщающія Россіскаго Императора власть статьи, которыя ея возводили изъ Герцогинь Курляндскихъ въ Россійскія Императрицы, и поѣхавъ изъ Митавы, недоѣхавъ до Москвы за семь верстъ остановилась въ селѣ Всесвяцкомъ, принадлежащемъ Царевичу Грузинскому, въ его домѣ, во ожиданіи пріуготовленія торжественнаго ея вшествія въ Москву А тогдаже было дано дозволеніе всѣмъ благороднымъ пріѣзжать въ оное село для принесенія своего поздравленія Государынѣ. Долгорукіе знали, что множество благородныхъ были весьма недовольны учиненными ими статьями, которыя въ руки нѣкоторыхъ родовъ всю власть правительства вручали; и сего ради имѣли великую осторожность, дабы кто какой записки подходя къ рукѣ неподалъ; и сего ради всегда кто изъ Долгорукихъ стоялъ возлѣ Государыни, повелѣвая всѣмъ, подходящимъ къ рукѣ, имѣть руки назади, непринимая руку Монаршу на свою, какъ сіе обыкновенно есть.
И подлинно, еще прежде прежде въ Москву Императрицы Анны, извѣстно было Долгорукимъ и другимъ что нѣкоторымъ уменьшеніе власти Монаршей, противно было, яко сіе оказалось, что Павелъ Ивановичь Егузинской, Генералъ-Прокуроръ, зять же Канцлера Гаврилы Ивановича Головкина, послалъ тайно отъ себя офицера Петра Спиридоновича Сумарокова съ письмомъ, увѣщающимъ Герцогиню Курляндскую неподписывать посланныя къ ней съ Князь Василій Лукичемъ пункты.
Сіе письмо было онымъ Княземъ Долгоруковымъ поймано, и онъ посланнаго немилосердно самъ билъ, о таковомъ писаніи сообщилъ въ Московской вельможъ Совѣтъ, который и намѣрялся Павла Ивановича немедленно казнить; по предложенія Князь Григорья Алексѣевича Долгорукова превозмогли, чтобъ таковую щастливую перемѣну кровью подданнаго необогрять и онъ впредь до рѣшенія посаженъ былъ подъ жестокую стражу.
Сказалъ я уже выше, что духъ благородной гордости и тведости упалъ въ сердцахъ знатнорожденныхъ Россіянъ, и тако хотя великая честь ощущала неудовольствіе; но никто ни къ чему смѣлому приступити недерзалъ. – Однако естли неточно пользою отечества побуждены, то собственными своими видами, нашлися тате, которые предпріяли разрушить сіе установленіе. – Феофанъ Прокоповичь, Архіепископъ Новгородскій, мужъ исполненный честолюбія, хотѣлъ себѣ болѣе силы и могущества пріобрѣсти. Василій Никитичь Татищевъ, человѣкъ разумный и предпріятельный искалъ своего счастія. – Князь Антіохъ Дмитріевичь, человѣкъ ученый предпріятельный, но бѣдный, по причинѣ права перворожденія брата своего Дмитрія Дмитріевича, искалъ себѣ и почестей и богатства, которое надѣялся, черезъ умыселъ свой противу установленія, получить, и тѣмъ достигнуть еще до желанія его жениться на Княжнѣ Варварѣ Алексѣевнѣ Черкаской, дочери и наслѣдпицѣ Князь Алек. Мих. Черкаскаго, богатѣйшаго изъ Россійскихъ благородныхъ. Сіи три связанные дружбою, разумомъ и своими видами учинили свое расположеніе для разрушенія сдѣланнаго Долгорукими узаконенія. Они вопервыхъ открылись въ семъ Князь Алек. Мих. Черкаскому, человѣку весьма недовольному Долгорукими, а паче за причиненное ими оскорбленіе Кн. Никитѣ Юрьевичу Трубецкому, его шурину. Сей человѣкъ молчаливый, тихій, коего разумъ никогда ни въ великихъ чинахъ, не блисталъ, но повсюду являлъ осторожность, невошелъ токмо самъ въ сей умыселъ, а довольствовался токмо стараться о мнѣніяхъ подданныхъ Императрицѣ сообщить. Сіе онъ исполнилъ черезъ свояченницу свою, Прасковью Юрьевну Салтыкову, супругу Петра Семеновича; ибо Салтыковы нѣсколько въ свойствѣ съ Императрицею. Сія жена хитрая и нашла способъ, бывъ при надзираемой Императрицѣ, наединѣ ей записку о начинающихся намѣреніяхъ сообщить.
Однако воспослѣдовала коронація, и Императрица Анна Іоановна, не яко самодержавная, но яко подчиненная нѣкіемъ установленіямъ была коронована. Долгорукіе и ихъ сообщники нѣсколько успокоились, мня, что сила клятвы, учиненной Императрицею при коронаціи воздержить ее сдѣлать какую перемѣну. Тщетная надежда. Императрица послѣ коронаціи своей нестоль стала наблюдаема, а потому о продолженіи умысла возвратить ей самодержавство удобнѣе извѣстія получала, а Прокоповичь и Кантемиръ, сочиня челобитную отъ всѣхъ гражданъ, на смѣхъ множеству недовольныхъ дали ее подписать и наконецъ вдругъ въ назначенный день, подъ предводительствомъ Кн. Черкаскаго, представъ на аудіенцію къ Императрицѣ, подали ей челобитную, по прочтеніи которой, яко снисходя на желаніе народное, подписанные пункты были принесены, ею самою были разодраны, она самодержавною учинилась, и вскорѣ нещастіе Долгорукихъ послѣдовало.
Обстоятельства сіи хотя казалисьбы и несовмѣстны съ описаніемъ состоянія нравовъ, однако если кто прилежно разсмотритъ оныя, то умоначертаніе народное и перемѣны мыслей ясно усмотритъ; и такь можно сказать, что бываемыя перемѣны въ государствахъ всегда суть соединены съ нравами и умоначерташемъ народнымъ. Воззримъ-же теперь, какъ при правленіи сея Императрицы наивящше упала твердость въ сердцахъ, и какъ роскошъ наиболее стала вкореняться; а для показанія сего надлежитъ разсмотрѣтъ, во первыхъ, обычаи самой сей Императрицы, второе, обычаи ея любимца Бирона, послѣ бывшаго Герцогомъ Курляндскимъ и его могущество и третіе состояніе двора и какія были сдѣланы при сей Государынѣ учрежденія въ разсужденіи великолѣпности онаго.
Императрица Анна не имѣла блистательнаго разума, но имѣла сей здоровый разсудокъ, который тщетной блистательности въ разумѣ предпочтителенъ. Съ природынраву грубаго, отчего и съ родительницею своею въ ссорѣ находилась и ею была проклята, кажъ мнѣ извѣстно сіе по находящемуся въ архивѣ Петра Великаго одному письму отъ ея матери, отвѣтственному на письмо Императрицы Екатерины Алексѣевны, чрезъ которое она прощаетъ дочь свою сію Императрицу Анну Грубой ея природной обычай несмягченъ былъ ни воспитаніемъ, ни обычаями того вѣка, ибо родилась во время грубости Россіи, а воспитана была и жила тогда какъ многія строгости были оказуемы; а сіе учинило, что она нещадила крови своихъ подданыхъ и смертную мучительную казнь безъ содраганія подписывала; а можетъ статься еще къ тому была побуждаема и любимцемъ своимъ Бирономъ. Не имѣла жадности къ славѣ, и потому новыхъ узаконеній и учреждений мало вымышляла, но старалась старое, учрежденное, въ порядкѣ, содержать. Довольно для женщины прилежна къ дѣламъ и любительница была, порядку и благоустройства; ничего спѣшно и безъ совѣту искуснѣйшихъ людей государства неначинала, отчего всѣ ея узаконенія суть ясны и основательны. Любила приличное великолѣпіе Императорскому сану, но толико, поелику оно сходственно было съ благоустройствомъ государства.
Не можно оправдать ее въ любострастіи ибо подлинно, что бывшій у нее Гофѣ – мейстеръ Петръ Михайловичь Бестужевъ имѣлъ участіе въ ея милостяхъ, а потомъ Биронъ и явно любимцемъ ея былъ, но наконецъ, при старости своихъ лѣтъ является, что она его болѣе яко нужнаго друга себѣ имѣла, нежели какъ любовника.
Сей любимецъ ея, Биронъ, возведенный ею въ Герцоги Курляндскіе, при россійскимъ дворѣ, имѣющій чинъ оберъ-камергера, былъ человѣкъ, рожденный въ низкомъ состояніи въ Курляндіи, и сказываютъ, что онъ былъ берейторъ, которая склонность къ лошадямъ до смерти сохранялась. Впрочемъ былъ человѣкъ одаренный здравымъ разсудкомъ, но безъ малѣйшаго просвѣщенія, гордъ, золъ, кровожаждущъ и непримирительный злодѣй своимъ непріятелямъ. Однако касающее до Россіи, онъ никогда не старался, во время жизни Императрицы Анны, что либо въ ней пріобрѣсти, и хотя въ разсужденіи Курляндіи снабжалъ ее сокровищами россійскими, однако зная, что онъ тамъ отъ гордаго курляндскаго дворянства ненавидимъ, и что онъ инако, какъ сильнымъ защищеніемъ Россіи не можетъ сего герцогства удержать, то и той пользы пользамъ Россіи подчинялъ. Впрочемъ былъ грубъ яко свидѣтельствуетъ единый его поступокъ, что ѣздивъ на малое время къ границамъ Курляндіи и нашедъ мосты худы, отчего и карета его испортилась, призвавъ сенаторовъ, сказалъ что онъ ихъ вмѣсто мостовинъ велитъ, для исправленія мостовъ, положить. Сіе первые правительства присутствующіе, къ которымъ Петръ Великой, толикое почтеніе имѣлъ принуждены были отъ любимца чужестранца востерпѣть безмолственно. Толико уже упала твердость въ сердцахъ Росіянъ. Правленіе Императрицы Анны было строгое а иногда и тираническое. За самыя малѣйшія дѣла сажали въ Тайную Канцелярію, и въ стѣнѣ сдѣланныя казармы Петербургской крѣпости недовольны были вместить сихъ нещастныхъ; казни были частыя, яко Долгорукіе, бывъ прежде за тщаніе ихъ ограничить власть Монаршу сосланы, а потомъ за туже вину изъ Сибири перевезены и переразнены въ Шлюсельбургѣ, и бывший и не сосланъ Кн. Сергій Григорьевичь Долгоруковъ, назначенный уже въ Польское посольство, за то что увѣдано было, что Долгоруковъ Князь Алексѣй Григорьевъ съ сыномъ и другіе сочинили духовную, которой, якобы при смерти своей Петръ Второй признавалъ, что имѣлъ сообщеніе съ Княжною Екатериною Алексѣевною и оставлялъ ее беременну, я сего ради оказывалъ свое желаніе возвести ее на престолъ – духовную сію переписывалъ, но тогдаже силою своихъ представленій учинилъ сіе безумное сочиненіе безчещущее Княжну Долгорукову безъ всякія пользы уничтожить, также смертную казнь токмо за переписку претерпѣлъ; – и учиненъ былъ указъ дабы Долгорукихъ непроизводить. Было гонѣніе и на родъ Голициныхъ. Кн. Дмитрій Михайловичь, человѣкъ разумнѣйшій того вѣка, былъ сосланъ въ ссылку и напрасное его осужденіе довольно видно по самому Манифесту его сосланія; дѣти его Кн. Сергій Дмитр., дабы отдалить его отъ двора, сосланъ былъ въ Казань въ Губернаторы, а Кн. Алексѣй Дмит. бывшій тогда уже Штатскимъ Дѣйствительнымъ Совѣтникомъ, посланъ нижнимъ ОФицеромъ въ Кизляръ.
Кн. Петръ Михаил. Голицынъ, который и услуги Бирону показалъ, безъ всякаго суда изъ Камеръ – Геровъ посланъ былъ въ Нарымъ въ управители; а наконецъ Артемій Петровичь Волынскій, Оберъ – Егеръ – мейстеръ, по единой его ссорѣ и непріязни Бироновой, былъ съ принужденіемъ имъ воли самой Государыни, мучительными пытками пытанъ, а потомъ казненъ. Дѣло его толь жало доводило его до какаго наказанія, что мнѣ случилось слышать отъ самой нынѣ царствующей Императрицы что она прочетши съ прилежностью, запечатавъ, отдала въ Сенатъ, съ надписаніемъ, дабы наслѣдники ея прилежно прочитывали оное и остерегались бы учинить такое неправосудное безчеловѣчіе.
Но можно сказатъ съ единымъ стихотворцемъ. На пышные верхи громъ чаще ударяетъ.Хотя трепеталъ весь дворъ, хотя небыло ни единаго вельможи, которыйбы оть злобы Бирона неждалъ себѣ несчастія; но народъ былъ порядочно управляемъ. Не былъ отягощенъ налогами, законы издавались ясны, а исполнялись въ точности, страшилися вельможи подать какую либо причину къ несчастію своему, а небывъ ими защищаемы, страшились и судьи что неправое сдѣлать, мздоимству коснуться. Былъ управленъ кабинета, гдѣ безъ подчиненія и безъ робости единъ другому каждый мысли свои изъяснялъ, и осмѣливался самой Государинѣ при докладахъ противурѣчить; ибо она неимѣла почти никогда пристрастія то или другое сдѣлать, но искала правды; и такъ покрайней мѣрѣ месть въ таковыхъ случаяхъ отогнана была; да можно сказать и не имѣла она льстецовъ изъ вельможей; ибо просто наслѣдуя законамъ дѣла надлежащимъ порядкомъ шли. Лѣта же ея и болѣзни ей неоставляли время – что другое предпріимать. Чины и милости всѣ по совѣту или лучше сказать поизвеленію Бирона, Герцога Курляндскаго, истекали; имѣла она для своего удовольствія нѣсколько женщинъ, а именно: Княгиню Аграфену Александровну Щербатову, къ которой, какъ по веселому ея нраву, такъ и по другимъ причинамъ привязана была; Анну Федоровну Юшкову и Мельгариту Федоровну Манахину, которыхъ еще Императрица знала въ молодости своей, когда онѣ были при дворѣ простыми дѣвушками. Любила шутовъ и дураковъ и были при ней Кн. Никита Федоровичь Волконскій, Балакиревъ и Кн. Михаило Голицынъ, которые иногда и шутками ее весилили. Се вящій знакъ деспотичества, что благороднѣйшихъ родовъ люди, въ толь подлую должность были опредѣлены. Но вмѣсто ее, всѣ вельможи дрожали передъ Бирономъ; единый взглядъ его благороднѣйшихъ и именитѣйшихъ людей въ трепетъ приводилъ; но толь былъ грубъ и неприступенъ, что ниже и мести мѣста давалъ; однако были нѣкоторые преданные, то есть ГраФъ Остерманъ, котораго онъ другомъ почиталъ и уважалъ его по дѣламъ, принимая оть него совѣты, и Князь Александръ Борисовичь Куракинъ, оберъ-Шталмейстеръ угождалъ ему лошадьми, яко умный человѣкъ льстилъ ему словами и яко веселый веселилъ иногда и Государыню своими шутками, и часто сдѣланныя имъ въ пьянствѣ продерзости, къ чему онъ склоненъ былъ, ему прощались; Петръ Федоровичь Балкъ шутками своими веселилъ Государыню и льстилъ Герцогу, но ни въ какія дѣла впущенъ небылъ.
Сказалъ уже я выше, что Императрица Анна Ивановна любила приличное своему сану великолѣпіе и порядокъ, и тако дворъ, который еще никакаго учрежденія не имѣлъ, былъ учрежденъ, умножены стали придворные чины, сребро и злато на всѣхъ придворныхъ возблистало, и даже ливрея царская сребромъ была покровенна; уставлена была придворная конюшенная канцелярія и экипажи придворные все могущее блистаніе того времени возымѣли. Италіанская опера была выписана, и спектакли начались, такъ какъ оркестра и камерная музыка.
При дворѣ учинились порядочные и многолюдные собранія, балы,торжества и маскарады.
А все вышеписанное и показуетъ, какіе шаги, обстоятельствами правленія и примѣрами двора, злые нравы учинили. Жестокость правленія отняла всю смѣлость подданныхъ изъяснять свои мысли, и вельможи учинились не совѣтниками но дакалыциками Государевыми – и его любимцевъ, во всѣхъ такихъ дѣлахъ въ которыхъ имѣли причину опасаться противурѣчіемъ своимъ неудовольствіе приключить, любовъ къ отечеству убавилась и самство и желаніе награжденні возрасло. Великолѣпіе введенное у Двора понудило вельможъ, а подражая имъ и другихъ умножить свое великолѣпіе. Оно уже въ платьяхъ, столахъ и другихъ украшеніяхъ начинало изъ мѣры выходить; такъ что самою Императрицею Анною примѣчено было излишнее великолѣпіе, и изданнымъ указомъ запрещено было ношеніе золота и серебра на платьѣ, а токмо позволено было старое доносить, которыя платья были запечатаваны.
Но тщетное приказаніе когда самъ дворъ, а паче тогда по причинѣ сыновей Герцога Курляндскаго, людей молодыхъ, въ роскошъ сей впалъ. Не токмо сей роскошъ видѣнъ былъ на торжественныхъ одѣяніяхъ придворныхъ и другихъ чиновъ людей; но даже мундиры гвардіи офицеровъ оной ощущала; а паче мундиры конной гвардіи, которые тогда были синіе съ красными обшлагами, выкладены петлями и по швамъ широкимъ золотымъ галуномъ. Многіе изъ знатныхъ людей стали имѣть открытые столы, яко Фельдмаршалъ ГраФъ Минихъ, Вицъ – Канцлеръ Графъ Остерманъ, хотя впрочемъ весьма умѣренно жилъ; Гаврила Ивановичь Головкинъ, Генералъ-Адмиралъ ГраФъ Николай Федоровичь Головинъ и другіе. Число разныхъ винъ уже умножилось и прежде незнаемыя: шампанское, бургондское и капское стало привозиться и употребляться на столы.
Уже вмѣсто сдѣланныхъ изъ простаго дерева мебелей стали не иные употребляться, какъ англинскія, сдѣланныя изъ краснаго дерева мегагеня; домы увеличились, и вмѣсто малаго числа комнатъ уже по множеству стали имѣть, яко свидѣтельствуютъ сіе того времени построенныя зданія; стали домы сіи обивать штофными и другими обоями, почитая неблагопристойнымъ имѣтъ комнату безъ обои; зеркалъ, которыхъ сперва весьма мало было, уже во всѣ комнаты и большія стали употреблять. Екипажи тоже великолепіе возчувствовали, богатыя, позлащенныя кареты, съ точеными стеклами, обитыя бархотомъ, съ золотыми и серебрянными бахрамами; лучшія и дорогія лошади, богатыя тяжелыя и позлащенныя и посеребрянныя шоры, съ кутасами толковыми, и съ золотомъ или серебромъ, такоже богатыя ливреи стали употребляться. И паче таковой роскошъ былъ видѣнъ, ибо онъ по приказанію учиненъ, во время сватьбы Принцессы Анны Меклембургской, племянницы Императрициной за Принца Антона Ульриха Брауншвейскаго.
Всякій роскошъ приключаетъ удовольствіе и нѣкоторое спокойствіе, а потому и пріемлется всѣми съ охотою и помѣрѣ пріятности своей роспространяется. А отъ сего, отъ великихъ принимая малые, повсюду началъ онъ являться. Вельможи проживаясь привязывались болѣе ко двору, яко къ источнику милостей, а нижніе по вельможамъ, для тойже причины.
Исчезла твердость, справедливость, благородство, умеренность, родство, дружба, пріятство, привязанность къ Божію и къ гражданскому закону и любовь къ отечеству; а мѣста сіи начинали занимать: презрѣніе божественныхъ и человѣческихъ должностей, зависть, честолюбіе, сребролюбіе, пышность, уклонность, раболѣпность и лесть, чѣмъ каждый мнилъ свое состояніе дѣлать и удовольствовать свои хотѣнія. Однако между множества людей оставалось еще великое число, которые небывъ толь близко у двора, сохраняли древнюю строгость нравовъ; и правосудіе, естли не по склонности, но покрайней мѣрѣ по страху казней исполняемое еще въ довольномъ равновѣсіи вѣкъ свой сохраняло. При таковыхъ обстоятельствахъ (по краткомъ правленіи Принцессы Анны, вмѣсто сына Іоанна Брауншвейскаго, именованнаго наслѣдникомъ Имперіи, умирающею Императрицею Анною) Принцесса Елисавета, дщерь Петра Великаго и Императрицы Екатерины взошла на Россійскій престолъ.
Умалчивая, какимъ образомъ было учинено возведеніе ея на всероссійский престолъ гренадерскою ротою преображенскаго полку и многія другія обстоятельства, приступая къ показанію ея умоначертанія, яко служащему къ показанію причинъ развратности нравовъ. Сія Государыня изъ женскаго полу въ молодости своей была отмѣнной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра, отъ природы одарена довольнымъ разумомъ, но никакого просвѣщенія не имѣла, такъ что меня увѣрялъ Дмитрій Васильевичь Волковъ, бывшій конференцъ Секретарь, что она не знала, что Великобританія есть островъ; съ природы веселаго нрава и жадно ищущая веселій; чувствовала свою красоту и страстна украшать ее разными украшеніями; лѣнива и недокучлива къ всякому требующему нѣкоего прилежанія дѣлу, такъ что за лѣностью ея иетокмо внутреннія дѣла Государственныя многія иногда лѣты безъ подписала ея лежали; но даже и внѣшнія государственныя дѣла, яко трактаты по нѣскольку мѣсяцевъ, за лѣностью ея подписать имя у нея лежали; роскошна и любострастна, дающая многую повѣренность своимъ любимцамъ, но однако такова, что всегда надъ ними власть монаршу сохраняла.
Хотя она при шествіи своемъ принять всероссійскій престолъ, предъ образомъ Спаса Нерукотвореннаго обѣщалась, что естли взойдетъ на прародительскій престолъ, то во все царствованіе свое повелѣніемъ ея никто смертной казни преданъ небудетъ; однако принявъ престолъ, многихъ изъ вельможъ повелѣла судить: въ чемъ? Въ томъ, что они къ царствующимъ тогда государямъ были привязаны, и что не почитая ее наслѣдницею престола, но опасаясь имя ея родителя и рожденіе ея, давали сходственные съ пользою тѣхъ государей, предосудительные ей совѣты, и иные были осуждены на смерть, приведены къ ешафоту, и хотя освобожденіе отъ казни получили, но были въ ссылки разосланы. Таковъ былъ отличной своимъ разумомъ Генералъ – Адмиралъ ГраФѢ – Остерманъ, который управленіемъ своимъ министерскихъ дѣлъ многія пользы Россіи пріобрѣлъ; таковъ былъ Фельдмаршалъ Графъ Минихъ, многажды победитель надъ Турками и первый изъ европейскихъ вождей, который укротилъ гордость сего вражескаго христіанамъ народа. Сіи и нѣкоторые другіе были за усердіе ихъ къ Императрицѣ Аннѣ и Принцу Іоанну сосланы въ ссылку Но одни-ли они усердны къ нимъ были и вѣрно имъ служили? Вся Россія 14 лѣтъ въ томъ уже преступленіи была, а окружающіе дворъ, послѣдуя изволеніямъ Императрицы Анны и весьма малое уваженіе къ Принцессѣ Елисаветѣ имѣли; слѣдственно и всѣ справедливо должны были опасаться ея мщенія; хотя не казни, но ссылки. Сему единый примѣръ приложу. При восшествіи на престолъ былъ дежурнымъ Генералъ-Адъютантомъ Графъ Петръ Семеновичь Салтыковъ, человѣкъ злой и глупый, имѣлъ свѣденіе о намѣреніяхъ Принцессы Елисаветы, и когда вышеименованный дежурный Генералъ – Адъютантъ былъ арестованный приведенъ предъ вновъ возшедшую Императрицу и палъ предъ ней на колѣни, тогда родственникъ сего Василий Федоров. Салыковъ ему сказалъ, что вотъ теперь ты стоишь на колѣняхъ передъ нею, а вчера и глядѣть бы нехотѣлъ и готовъ бы всякое ей зло сдѣлать. Пораженъ такими словами немогъ ГраФъ Петръ Семеновичь ничего отвѣтствовать. Но милостивое снисхожденіе самой Государыни, запретившей врать Василий Федоровичу, его ободрило. Въ такомъ страхѣ находился весь дворъ, а гдѣ есть страхъ, тутъ иѣсть твердости.
Первый бывшій не весьма любимымъ при дворѣ Принцессы Анны, Князь Никита Юрьевичь Трубецкій вошелъ въ силу.
Человѣкъ умный, честолюбивый, пронырливый, злой и мстительной, бывъ пожалованъ въ Генералъ Прокуроры, льстя новой Императрицѣ и, можеть быть, имѣлъ свои собственные виды, представлялъ о возобновленіи всѣхъ законовъ Петра Великаго. Почитающая память родителя своего Императрица Елисавета на сіе согласилась и всѣ узаконенія Императрицы Анны, который были учинены въ противность указамъ Петра Великаго, о кромѣ о правѣ перворожденія въ наслѣдствѣ, были уничтожены, между коими многіе весьма полезные обрѣтались. Льстя Государю, надлежало льстить и его любимцу, а сей былъ тогда Алексѣй Григорьевичь Разумовской, послѣ бывшій Графомъ. Сей человѣкъ изъ Черкасъ изъ козаковъ былъ ко двору Принцессы Елисаветы привезенъ въ пѣвчіе, учинился ея любовнпкомъ, былъ внутренно человѣкъ добрый, но недальнаго разсудку, склоненъ, какъ и всѣ Черкасы къ пьянству, и такъ сей его страстью старались ему угождать: Степанъ Федоровичь Апраксинъ, человѣкъ такъ – же благодѣтельный и добраго разположенія сердца, но мало знающъ въ вещахъ, пронырлйвъ, роскошенъ, честолюбивъ а потому, хотя и небылъ пьяница, но неотрекался иногда въ излишность сію впадать; и привезенный изъ ссылки ГраФъ Алексѣй Петровичь Бестужевъ, бывшій при Императрицѣ Аннѣ Кабинетъ Министромъ и добрымъ пріятелемъ Бирону, за котораго онъ и въ ссылку былъ сосланъ, человѣкъ умный, чрезъ долгую привычку искусный, въ политическихъ дѣлахъ любитель государственной пользы; но пронырливъ золъ и мстителенъ, сластолюбивъ, роскошенъ и собственно имѣющій страсть къ пьянству Сіи двое, пивъ съ нимъ вмѣстѣ и угождая сей его страсти – сочинешіе партію при дворѣ, противную Кн. Ю. Трубецкому.
Были еще другіе, носящіе милость на себѣ монаршу; сіе суть родственники императрицыны, по ея матери Императрицѣ Екатёринѣ Алексѣевнѣ, и по бабкѣ ея Натальи Кириловнѣ, и оные, первые были Ефимовскіе, Скавронскіе и Гендриковы, о которыхъ о всѣхъ генерально можно сказать, что они были люди глупые и распутные; но умнѣе, или лучше сказать, поживѣе изъ нихъ изъ всѣхъ былъ, но и тотъ былъ недалекъ, Николай Наумовичь Чеглоковъ, за котораго ближняя свойственница Государынина, Марья Симоновна Гендрикова была выдана; и Михалайло Ларіоновичь Воронцовъ, женатый на Аннѣ Карловнѣ Скавронской, двоюродной сестрѣ Императрицы, послѣ пожалованный графомъ и бывшіе канцлеромъ, коего тихой обычай недозволялъ оказывать его разумъ; но по дѣламъ видно, что онъ его имѣлъ, а паче духъ твердости и честности во душѣ его обиталъ яко самыми опытами онъ имѣлъ случай показать. Вторые были Нарышкины, и хотя родъ сей и довольно многочисленъ, ао ближнимъ родствспникомъ своимъ щитала Императрица Александра Львовича Нарышкина, къ которому всегда отличное уважение показывала.
Потомъ были въ особливомъ уваженіи у двора тѣ, которые знали о намѣреніяхъ Императрицы взойти на престолъ, и сіе были, окромѣ Михаила Ларіоновича Воронцова, князь Гессенъ Готбургскій и его супруга Княгиня Катерина Ивановна, и Василій Федоровичь Солтыковъ съ его женою.
Признательность Императрицы простиралась и на тѣхъ, которые у двора ея съ вѣрностыо ей служили а сіе были два брата Александръ и Петръ Ивановичи Шуваловы, котораго втораго жена Мавра Егоровна и любимица Императрицина была, и о сей послѣдней четѣ буду имѣть случай впредь упомянуть; Скворцовъ, Лялинъ, Возжинскій и Чулковъ, изъ которыхъ нѣкоторые и изъ подлости были.
Всѣ сіи разныя награжденія получили, а недостаточные стали обогащены; и какъ не одно рождение, и по долголѣтнимъ службамъ полученные чины стали давать преимущество у двора, то и состоянія смѣшались, и что изъ подлости или изъ незнатныхъ дворянъ произшедшій; обогощенный по пышности дѣлалъ, того знатный, благородный или заслуженный но (не?) награжденный человѣкъ за стыдъ почиталъ не дѣлать. Когда смѣшались состоянія, когда чины начали изъ почтенія выходить, а достатки не стали ровняться; единые, отъ монаршей щедроты получая многое, могли много проживать, а другіе имѣя токмо рожденіе и службу и не большой достатокъ, съ ними восхотели равны быть, тогда естественно роскошъ и сластолюбіе сверху внизъ стало переходить и разорять нижнихъ; а какъ сластолюбие никогда предѣловъ излишностямъ своимъ не полагаетъ, и самые вельможи стали изыскивать умножить оное въ долгахъ своихъ.
Дворъ, подражая или, лучше сказать, угождая Императрицѣ, въ злототканныя одежды облекался, вельможи изыскивали въ одѣяніи – все что есть богатѣе, въ столѣ – все что есть дрогоцѣннѣе, въ питье – все что есть рѣже, въ услугѣ – возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили къ оной пышность въ одѣяніи ихъ. Екипажи возблистали златомъ, дорогія лошади, не столь для нужды удобныя, какъ единственно для виду, учинились нужны для воженія позлащенныхъ каретъ. Домы стали украшаться позолотою, шолковыми обоями во всѣхъ комнатахъ дорогими мебелями, зеркалами, и другими. Все сіе составляло удовольствіе самымъ хозяевамъ, вкусъ умножался, подражаніе роскошнѣйшимъ народамъ возрастало и человѣкъ дѣлался почтителенъ по мѣрѣ великолѣпности его житья и уборовъ.
Очевидный будучи свидѣтель роду житья и сластолюбія тогдашняго времени, я нѣкоторые примѣры потщуся представить. ГраФъ Алексѣй Петровичь Бестужевъ имѣлъ толь великій погребъ, что онъ знатный капиталъ составилъ когда послѣ смерти его былъ проданъ Графомъ Орловымъ; палатки, которыя у него становливались на его загородномъ дворѣ на каменномъ острову, имѣли шелковыя веревки. Степанъ Федоровичь Апраксинъ всегда имѣлъ великій столъ, гардеробъ его изъ многихъ сотъ разныхъ богатыхъ кавтановъ состоялъ, въ походѣ когда онъ камандовалъ россійскою арміею противу Прусскаго короля, всѣ спокойствія, всѣ удовольствія, какія можно было имѣть въ цвѣтущемъ торговлею градѣ, съ самою роскошью, при звукѣ оружій и безпокойствѣ маршей, ему послѣдовали. Палатки его величиною городъ составляли, обозъ его болѣе нежели 500 лошадей отягчалъ, и для его собственнаго употребленія было съ нимъ 50 заводныхъ, богато убранныхъ лошадей. ГраФъ Петръ Борисовичь Шереметевъ, сперва Камеръ-Геръ, а потомъ Генералъ-Аншефѣ и Генералъ-Адъютантъ, богатѣйшій тогда въ Россіи человѣкъ, какъ по родителѣ своемъ Графѣ Борисъ Петровичѣ Шереметевѣ, такъ и по супругѣ своей ГраФинѣ Варварѣ Алексѣевнѣ, урожденной Княжнѣ Черкаской, дочери и наслѣдницѣ Кн. Ан. Мих. Черкаскаго, человека такоже весьма богатова, человѣкъ весьма посредственный разумомъ своимъ, лѣнивъ, незнающъ въ дѣлахъ, и однимъ словомъ таскающій, а не носящій свое имя и гордящійся единымъ своимъ богатствомъ, все въ угодность монархинѣ со всѣмъ возможнымъ великолѣпіемъ жилъ. Одежды его наносили ему тягость оть злата и сребра и блистаніемъ ослѣпляли очи, екипажи его, къ чему онъ и охоты не имѣлъ, окромѣ что лучшаго вкуса были наидрагоцѣннѣйшіе, столъ его великолѣпенъ, услуга многочисленна, и житье его однимъ словомъ было таково, что не однажды случалось, что нечаянно пріѣхавшую къ нему Императрицу съ немалымъ числомъ придворныхъ, онъ въ вечернемъ кушаньи, якобы изготовляясь могъ угощать; а сіе ему достоинствомъ служило и онъ во всякомъ случаѣ у двора, не взирая на разныя перемѣны, въ разсужденіи его и особы былъ особливо уважаемъ. Графъ Ив. Гр. Чернышевъ, сперва камеръ-юнкеръ, а потомъ камеръ-геръ, человѣкъ не толь разумный, коль быстрый, увертливый и праворный и, словомъ, вмѣщающій въ себѣ всѣ нужныя качества придворнаго, многіе примѣры во всякомъ родѣ сластолюбія подалъ. Къ нещастію Россіи, онъ не малое время путешествовалъ въ чужіе край; видѣлъ все что сластолюбіе, роскошъ, при другихъ европейскихъ дворахъ, наипріятнѣйшаго имѣють; онъ все сіе перенялъ, все сіе привезъ въ Россію, и всѣмъ симъ отечество свое снабдать тщился. Одѣянія его были особливаго богатства и вкуса, и ихъ толь много, что онъ единажды вдругъ 12 кавтановъ выписалъ. Столъ его со вкусомъ и изъ дорогихъ вещей содѣланный, обще вкусъ, обоняніе и видъ привлекалъ; екипажи его блистали златомъ и самая ливрея его пажей была шитая серебромъ; вина у него были на столѣ наилучшія и наидорожайшія; и подлинно онъ самъ нѣкоторое пріимущество получалъ, яко человѣкъ, имѣющій вкусъ, особливо всегда былъ уважаемъ у двора, женился на богатой невѣстѣ Ефимовской, подлѣ государыни, и любимый ею, потомъ учинился другомъ Фавориту Ив. Ив. Шувалову, чрезъ него прежде другихъ тогда весьма въ почтеньи находящуюся ленту польскую бѣлаго орла получилъ, а симъ же защищеніемъ чрезъ сенатъ за малую цѣну то есть, неболѣе 90,000 руб. получилъ мѣдные заводы, гдѣ слишкомъ на 100 м. готовой мѣди было, и которые чрезъ нѣсколько лѣтъ приведенные имъ въ разоренье, съ великимъ искомъ на нихъ за 700,000 продалъ обратно коронѣ.
Вкореняющаяся такая роскошъ проникла и въ такія состояніи людей, которыябы по чинамъ и обстоятельствамъ своимъ не имѣли нужду ея употреблять. Князь Борисъ Сергѣевичь Галицинъ, сперва отбѣгающій огь службы поручикъ или капитанъ, а потомъ отставной маіоръ, оную въ Москвѣ колико возможно оказывалъ; богатыя одѣянія его и жены его, ливрея, екипажи, столъ, вины, услуга и прочее, все было великолепно. Таковое роскошное житье привлекло ему нѣкоторый родъ почтенія, но изнуряло его состояніе, какъ и дѣйствительно онъ какъ отъ долговъ приватнымъ людямъ, такъ и отъ долговъ казнѣ разоренный умеръ, и жена его долгое время должна была страдать и претерпѣвать нужду въ платежѣ за безуміе своего мужа, для оплаты нажитыхъ долговъ.
Тако сластолюбіе повсюду вкоренялось, къ разоренію домовъ и къ поврежденію нравовъ. По гдѣ оно наиболѣе оказало вредныхъ своихъ дѣйствій? И гдѣ оно, соединяся съ пышностью и сластолюбіемъ, можно сказать, оказало свою побѣду надъ добрыми нравами? Сіе было въ особѣ Графа Петра – Ив. Шувалова. Имя сего мужа, памятное въ Россіи, не токмо всѣмъ вредомъ, который самъ онъ причинилъ, но и примерами, которые онъ оставилъ къ подражанію. Родъ Шуваловыхъ у насъ никогда въ великихъ чинахъ не бывалъ и отецъ его Шувалова Иванъ Максимычь, въ молодости своей, у брата роднаго моего дѣда Кн. Юрья Фед. Щербатова былъ знакомцемъ. Вошедъ въ службу долговременнымъ продолженіемъ оныя достигъ наконецъ до генералъ-маіорскаго чину, былъ губернаторомъ у города Архангельскаго, откудова отецъ мой его смѣнилъ, а оттуда былъ употребленъ въ губернаторы или въ Ригу или въ Ревель, гдѣ и умеръ. Онъ былъ человѣкъ умной и честной, имѣлъ двухъ сыновей – Александра и Петра Ивановичей, которымъ давъ приличное воспитаніе, опредѣлилъ ихъ на службу ко двору Цессаревны Елисаветы Петровны. Въ царствованіе Импер. Анны Ивановны старались наполнять дворъ сей цессаревны такими людьми, которые бы ни знатности рода, ни богатства неимѣли, и тако сія достигли изъ пажей, даже до камеръ-юнкеровъ.
Петръ Ив. Шуваловъ былъ человѣкъ умный, быстрый, честолюбивый, корыстолюбивый, роскошный, былъ жснатъ на Марфѣ Егоровнѣ Шепелевой, женщинѣ, исполненной многими пороками, а однако любимицѣ Императрицыной; онъ пользуясь напамятованіемъ преждней своей службы, когда бывъ при дворѣ ея яко цессаревны, раздѣлялъ ея утѣсиенія и милостью Императрицы къ женѣ его, съ самаго начала принят престола Имп. Елисаветы Петровны отличную сталъ имѣть силу; вскорѣ былъ пожалованъ въ камеръгеры и разумомъ своимъ, удобнымъ и къ дѣламъ и къ лести, силу свою умножилъ; пожалованъ былъ въ Генералъ Порутчики и присутствовать въ Сенатъ. Тутъ соединяя все что хитрость придворная наитончайшаго имѣетъ, т. е. не токмо лесть, угожденіе монарху, подслуживаніе любовнику Разумовскому, дареніе всѣмъ подлымъ и развратнымъ женщинамъ, который были при Императрацѣ (и которыя единыя были сидѣлыцицы у нея по ночамъ, иныя гладили ея ноги,) къ пышному немного знаменующему краснорѣчію, проникнулъ онъ что доходы Государственные неимѣютъ порядочнаго положенія, а Императрица была роскошна и сластолюбива; тогда какъ Сенать, неимѣя свѣденія о суммахъ, гдѣ какія находятся, всегда жаловался на недостатокъ денегъ, сей всегда говорилъ, что ихъ довольно и находилъ нужныя суммы для удовольствія роскоши Императрицы. Дабы на умножающееся сластолюбіе имѣть довольно денегъ, тогда какъ другіе, взирая на недостатокъ народный, недерзали ничего накладывать, сей, имѣя въ виду свою пышность и собственныя свои пользы, увеличилъ тщаніями своими доходы съ винныхъ откуповъ, а для удовольствія своего корыстолюбія, самъ участникомъ оныхъ учинился. Монополіи старался вводить, и самъ взялъ откупъ табаку, рыбныя ловли на Бѣломъ и Ледяномъ морѣ и лѣса Олонецкіе, за все получая себѣ прибыль. При милосерднѣйшей Государынѣ, учредилъ родъ инквизиціи, изыскующій корчемство, и обагрилъ россійскія области кровію пытанныхъ и сѣченныхъ кнутомъ и пустыни Сибирскія и рудники наполнилъ сосланными въ ссылку и на каторги; такъ что считаютъ до 15,000 человѣкъ, претерпѣвшихъ такое наказаніе. Взирая на торговлю, умножилъ пошлины на товары, безъ разбору, и тЬмъ пріумноженіемъ убытку по цѣнѣ оныхъ, при умноженіи сластолюбія, принужденно многихъ въ раззореніе повлекъ. Умножилъ цѣну на соль, а симъ самымъ приключилъ недостатокъ и болѣзни въ народѣ. Коснувшись до монеты возвышалъ и уменьшалъ ея цѣну, такъ что пятикопѣешники мѣдные привелъ ходить въ грошъ, а бѣдные подданные на капитали мѣдныхъ денегь хотя не вдругъ, по три пятыхъ капиталу своего потеряли; по его предложенію, дѣлана была монета медная по 8 руб. съ пуда, а потомъ передѣлавана по 16 р. съ пуда. Хотя ни одно изъ сихъ дѣйствій небыло учинено безъ тайныхъ прибытковъ себѣ, но еще дошедши до чину Генералъ – Фельдцейхмейстера, и бывъ подкрѣпляемъ родственникомъ своимъ Иваномъ. Ив. Шуваловымъ, котораго ввелъ въ любовники къ любострастной Императрицѣ, тогда какъ повсюдова въ Европѣ умножали артилерію и Россія, имѣя тысячи пушекъ, моглабы токмо ихъ переливъ, снабдить армію и флотъ, онъ множество старыхъ пушекъ въ мѣдную монету передѣлалъ, приписуя себѣ въ честь, что якобы неизвѣстное и погибшее сокровище въ сокровище обрѣтающееся обратилъ. – Немогши скрыть свои желанія корыстолюбія силою и властію своей а пользуясь узаконеніемъ Петра Великаго, чтобы заводы рудокопные отдавать въ приватныя руки, испросилъ себѣ знатные заводы и между протчими лучшій въ Государствѣ Гороблагодатскій, и сіе съ такою безсовѣстностію, что когда сей заводъ, могущій приносить прибыли многія сты тысячь руб. былъ оцѣненъ въ 90,000, то онъ неустыдился о дорогой оцѣнкѣ приносить жалобу Сенату, и получилъ его по новой перецѣнкѣ, гдѣ не справедливость и не польза Государская была соблюдаема, но страхъ его могущества, не съ большимъ за 40 т. руб.; заводъ, при которомъ было приписныхъ до 20 т. душъ, заводъ приносящій послѣ ему до 200 т. руб. и который послѣ взятъ былъ обратно короною за его долги, за 750 т. р. Откупы, монополіи, мздоимство, торговля, самимъ заведенная и грабительствы государственныхъ имѣній немогли однако его жадность и сластолюбіе удовольствовать; учредилъ банкъ, невидимому, могущій бы полезнымъ быть подданнымъ, и оный состоялъ въ мѣдной монетѣ, занимая изъ котораго должно было платить по 200 и черезъ нѣсколько лѣтъ внести капиталъ серебромъ. Но кто симъ банкомъ воспользовался? Онъ самъ взявъ миліонъ, Готъ, взявшій у него на откупъ Олонецкія лѣса и взятыя деньги отдавшій ему. Армяне взявшіе въ монополію Астраханской торгъ, и болыпую часть взятыхъ денегъ отдавшіе ему; Князь Борисъ Сергѣевичь Голицынъ, который толь мало взятьемъ симъ пользовался, что увѣряютъ, якобы въ единое время изъ 20 т., имъ взятыхъ, токмо 4 тысячи въ пользу себѣ употребилъ.
Властолюбіе его равно какъ и корыстолюбіе предѣловъ не имѣло. Недовольствуясь, что онъ былъ Генералъ-Фельдцехмейстеръ, Генералъ-Адъютантъ и Сенаторъ, восхотѣлъ опричную себѣ армію сдѣлать, представление его такъ, какъ и все чиненное имъ, было принято, и онъ сочинилъ армію, состоящую изъ 30,000 пѣхоты, разделенную въ шесть легіоновъ, или полковъ, каждой по 5 т. человѣкъ, которые ни отъ кого кромѣ его независѣли. Является, что въ Россіи рокъ таковыхъ безнужныхъ затѣй есть скоро родиться и еще скорѣе упадать. Армія сія, сочиненная изъ лучшихъ людей Государства, пошла въ походъ противъ Прусскихъ войскъ, много потерпѣла, ничего не сдѣлала, часть ея превращена была въ состояние подъ его начальствомъ Фузильерные полки, а потомъ и совсѣмъ исчезла.
Мало я незабылъ, исчисляя честолюбивыя затѣи сего чудовища, упомянуть о изобрѣтенныхъ имъ, или лучше сказать съ подражанія старинныхъ, и отброшенныхъ голбицъ, который Шуваловскими назывались и коихъ коническая камера чинила, что весьма далеко отдавали, а елипсической каплиберъ, что размѣтисто на близко картечами стрѣляли, и единороговъ, которые и нынѣ есть въ употребленіи, ради легости ихъ. Онъ выдумку свою всему предпочитая, гербы свои на сихъ новыхъ орудіяхъ изобразилъ, гналъ всѣхъ тѣхъ, которые дерзали, о неудобности ихъ, нынѣ доказанной, говорить, яко между прочимъ содержалъ подъ арестомъ Князь Павла Николаевича Щербатова, сказавшаго по пріѣздѣ своемъ изъ арміи, что ихъ дѣйствіе весьма близко, неможетъ быть инако дѣйствительно, какъ на совершенно гладкомъ мѣстѣ; что отдача назадъ голбицъ можетъ самимъ дѣйствующимъ имъ войскамъ вредъ нанести и разстроить ихъ порядокъ; что тягость ихъ неудобна ни къ воженію ни къ постановленію послѣ выстрѣла на прежнее мѣсто, и наконецъ, что достойно смѣху то, что ихъ толь секретными почитаютъ, и съ особливою присягою къ нимъ люди употреблены, которые даже отъ главныхъ начальниковъ, сокрываютъ сей мнимый секреть, съ обидою оныхъ, коимъ ввѣрено начальство арміи, а немогутъ они знать ни секрета ни дѣйствія употребляемыхъ въ ней орудій; а самое сіе разстроиваетъ всю дисциплину въ войскѣ, что введенные въ сіе, таинство, якобы отличные люди отъ другихъ, не по достоинству, но по опричности своей, излишные чины получаютъ, и болѣе другихъ ихъ всемощнымъ начальников уважаемы суть.
Между многихъ таковыхъ развратныхъ его предпріятій, начаты были однако два по его предположеніямъ, то есть – генеральное межеванье и сочиненіе новаго уложенія. Но за неоспоримую истину должно сіе принять, что развратное сердце влечеть за собою развратный разумъ, который во всѣхъ дѣлахъ того чувствителенъ бываетъ. Хотя неможно сказать, что намѣреніе генеральнаго межеванія неполезно было Государству и чтобы межевая инструкція несодержала въ себѣ много хорошихъ узаконеній; во многія въ ней находятся и такія которыя несходственно со справедливостью, но недальновидности его ли самаго, или его окружающихъ, были для собственныхъ ихъ пользъ учинены. А исполненіе еще хуже было. Порочнаго сердца человѣкъ выбиралъ порочныхъ людей, для исправленія разныхъ должностей; тѣ не на пользу общественную, но на свои прибытки взирая также порочныхъ людей ободряли, отчего множество тогдаже произошло злоупотребленій; и не пользою обществу сіе межеваніе учинилось, но учинилось вѣрнымъ способомъ къ нажитку опредѣленныхъ, къ грабежу народа. Сочиненіе уложенья нелучшій успѣхъ имѣло; ибо были къ сему толь полезному дѣлу Государства опредѣлены люди не тѣ, которые глубокою наукою состояніе Государства и древнихъ правъ, сообщенныхъ съ наукою логики и моральной философіи, а равно ихъ долговременными исполненіемъ безпорочно своихъ должностей, могли удостоиться имени законодателей и благотворителей своего отечества. Но Емме человѣкъ ученый, но грубъ и безчеловѣченъ съ природы; Дивовъ, глупый, намѣтливый на законы человѣкъ, но мало смыслящій ихъ разумъ, а къ томуже корыстолюбивый; Ешковъ, добрый, немзоимщикъ и знающій по крайнѣй мѣрѣ не россійскіе законы человѣкъ, но ленивый, праздный и не твердый судья; Козловъ, умный а знающій законы человѣкъ, но токмо предъ тѣмъ вышелъ изъ подъ слѣдствія мздоимствамъ и воровствамъ. Глѣбовъ, угодникъ Гр. Шувалову, умный по наружности человѣкъ, но соединяющій въ себѣ всѣ пороки, которые самъ онъ Петръ Ивановичь имѣлъ. Такіе люди, таково и сочиненіе. Наполнили они свое сочиненіе множество пространными статьями, по которымъ каждый хотѣлъ или свои дѣла рѣшить, или начавши новыя воспользоваться разореніямъ другихъ. Наполнили его неслыханными жестокостями пытокъ и наказаній, такъ что когда по сочиненіи оное было, безъ чтенія Сенатомъ и другихъ Государственныхъ чиновъ, поднесено къ подписанію Государыни, и уже готова была сія добросердечная Государыня нечитая подписать, перебирая листы, вдругъ попала на главу пытокъ, взглянула на нее, ужаснулась тиранству и неподписавъ, велѣла переделывать. Такъ чудеснымъ образомъ, избавилась Россія отъ сего безчеловѣчнаго законодательства.
Но я слишкомъ отдалился отъ моей причины, колико она ни достойна любопытства, и токмо ее продолжилъ для показанія умоначертанія сего именитаго мужа, а развратность вельможи влекла примѣромъ своимъ и развратность на нижнихъ людей. И подлинно, до его правленія, хотя были взятки, были неправосудія и былъ развратъ; но все съ опасеніемъ строгости законовъ, и народъ хотя малое что давая немогъ справедливо жаловаться, что разоренъ есть отъ судей. Но съ возвышеніемъ его, неправосудіе чинилось съ наглостью, законы стали презираться, и мздоимствы стали явныя. Ибо довольно было быть любиму и защищаему имъ, Гр. Шуваловымъ, иль его метресами, иль его любимцами Глѣбовымъ и Яковлевымъ, чтобы не страшася ничего, всякія неправосудія дѣлать и народъ взятками разорять. Самый Сенать, трепетавъ его власти, принужденъ былъ хотѣніямъ его повиноваться, и онъ первый, же правосудіе изъ сего вышняго правительства изгналъ. Чрезъ исканіе Анны Борисовны Графини Апраксиной, дочери Кн. Бор. Васил. Голицына, при Княгинѣ Аленѣ Степановнѣ Куракиной, рѣшено было дѣло между Князя Голицына и Кн. Елены Васил. Урусовой, въ бѣглыхъ крестьянахъ, и хотя она была права, во рѣшеніемъ Сената приведена была въ разореніе; защищалъ онъ, собщася съ Гр. Александромъ Борис. Батурлинымъ, Князей Долгорукихъ, по дѣлу и деревняхъ Анны Яковлевны Шереметевой, дочери именитаго Кн. Якова Фед. Долгорукова, чтобы лишить неправо принадлежащей части Кн. Якова Александровича и сестру его Кн. Марью Алек. Долгорукихъ и тесть мой на сіе голосъ подалъ, то сказано ему было отъ вышеименованаго Батурлина, что естли онъ отъ сего дѣла неотступитъ, они найдуть способъ толико его обнести у Государыни, что можетъ быть онъ свое упрямство и ссылкою заплатить.
Немогу и упустить, чтобы неупомянуть объ единомъ узаконении сего Гр. Петра Ив. Шувалова, учиненномъ для собственнаго его прибытку, и разрушающемъ супружественную связь, которая досего у насъ свято сохранялась. Между прочими вещами связующими супруговъ и, сходственно съ Божіимъ закономъ, подчиняющими женъ мужьямъ своимъ, было узаконеніе, что жена безь воли мужа своего имѣнія продать и заложить немогла, а мужъ всегда долженъ былъ позволеніе свое въ крѣпости подпискою означить. Гр. П. И. Шувалову нужда была купить одну деревню, непомню у какой Графини Головкиной, живущей особливо отъ мужа своего, а потому и немогущей его согласіе имѣть, предложилъ, чтобы сей знакъ покорства женъ уничтожить; по предложенію его яко все сильнаго мужа въ государствѣ былъ учиненъ указъ, онъ деревню купилъ и симъ подалъ поводъ, по своенравіямъ своимъ женамъ отъ мужей отходить, разорять ихъ дѣтей и отошедшимъ разоряться.
Довольно думаю описалъ я разные, клонящіяся по своимъ собственнымъ прибыткамъ предпріятіи Графа Шувалова, наводящія тогда же мнѣ огорченія нетокмо, по самому злу, чинившемуся тогда, но и по подаваемому примѣру, о которомъ я пророчествовалъ, что онъ множество подражателей себѣ найдетъ. Яко и дѣйствительно воспослѣдовало. К. В. (1) показаніемъ, что онъ умножаетъ доходы, хотя то часто со стенаніемъ народа, въ такую силу вошелъ, что владычествуетъ надъ закономъ и Сенатомъ, К. П. (2) нетокмо всю армію по военной Коллегии подъ властью своею имѣетъ, но и особливую опричную себѣ дивизію изъ большей части арміи сочинилъ, и нерегулярпыя всѣ войска въ опричину себѣ прибралъ, стараясь во всѣхъ дѣлахъ толико превзойти Графа Шувалова, колико онъ другихъ превосходить.
(1) Князь Вяземскій.
(2) Квязь Потемкинъ.
Мнѣ должно теперь помянуть о его нравахъ и роскоши. Безпрестанно въ замыслахъ и безпрестанно въ дѣлахъ, не могъ онъ имѣть открытаго дому и роскошь свою великолѣпнымъ затѣямъ показывать. Но былъ сластолюбивъ и роскошенъ въ приватномъ своемъ житьѣ. Домъ его убранъ колико возможно лучше потогдашнему состоянію; столъ его маленькій наполненъ былъ всѣмъ тѣмъ, что есть драгоценнейшее и вкуснѣйшее; десерть его былъ по тогдашнему наивеликолѣпнѣйшій; ибо тогда какъ многіе изъ жившихъ вѣкъ вкусу ананасовъ незнали, а объ аланѣ и неслыхивали, онъ ихъ въ обильствѣ имѣлъ и первый изъ приватныхъ завелъ ананасовую болыпую оранжерею. Вины употребляемые имъ, нетокмо были лучшіе, но недовольствуяся тѣми, которые обыкновенно привозятся и употребляются, дѣлалъ дома вино ананасовое. Екипажъ его былъ блестящъ златомъ, и онъ первый цукъ англійскихъ, тогда весьма дорогихъ, лошадей имѣлъ. Платье его также соответствовало пышности, злато, сребро, кружевы, шитье на немъ блистали и онъ первый по Графѣ Алексѣе Григ. Разумовскомъ имѣлъ бриліантовыя пуговицы, звѣзду, ордена и еполетъ, съ тою только разностію, что его бриліантовые уборы богатѣе были. Въ удоволъствіе своего любострастія всегда имѣлъ многихъ метресъ, которымъ нежалѣя деньги сыпалъ, а дабы тѣло его могло согласоваться съ такою роскошью, принималъ ежедневно горячія лекарства, которыя и смерть его приключили. Однимъ словомъ, хотя онъ тогда имѣлъ болѣе 400,000 рублей доходу, но на его роскошъ, любострастіе и дары окружающимъ Императрицу недоставало, и онъ умеръ имѣя болѣе миліону на себѣ казеннаго долгу.
Примѣры таковые немогли нерозлиться на весь народъ и повсюду роскошь и сластолюбіе умножились. Дамы стали великолѣпно убираться и стыдились неанглійскія мебели имѣть; столы учинились великолѣпны, и повары, которые сперва не за перваго человѣка въ домѣ считались стали великія деньги въ жалованье получать. Такъ что Фуксъ, бывшій поваръ Императрицынъ и служившій ей въ Цесаревнахъ, хотя имѣлъ бригадирскій чинъ, но жалованья получалъ по 800 руб. въ годъ, а уже тогда и приватные стали давать рублей по 500, окромѣ содержанія.
Лимоны и померанцы немогли быть дороги въ Петербургѣ, куда они кораблями привозятся, но въ Москвѣ они были толь рѣдки, что развѣ для больнаго или для особливо великаго стола ихъ покупали, учинились и въ Москвѣ въ изобильствѣ. Вины дорогіе и до того незнаемые не токмо въ знатныхъ домахъ вошли въ употребленіе; но даже и нискіе люди ихъ употреблять начали и за щегольство щитали ихъ разныхъ сортовъ на столъ подавать, даже что многіе подъ тарелки въ званные столы клали записки разнымъ винамъ, дабы каждый могъ попросить какое кому угодно. Пиво английское, до того и совсемъ небывшее въ употребленіи, но введенное въ употребленіе Граф. Анною Карловною Воронцовой, которая его любила, стало нетолько въ знатныхъ столахъ ежедневно употребляться; но даже подлые люди, оставя употребленіе русскаго пива, онымъ стали опиваться. Свѣчи, которыя большею частью долго употреблялись сальныя, а гдѣ въ знатныхъ домахъ и то передъ господами, употребляли вощаныя, но и тѣ изъ желтаго воску, стали вездѣ, да и во множествѣ, употребляться бѣлыя восковыя. Роскошь въ одеждахъ всѣ предѣлы превзошелъ, парчевыя, бархотныя съ золотомъ и серебромъ и шелками, ибо уже галуны за подлое почитали, и тѣ въ толикомъ множествѣ, что часто гардеробъ составлялъ, почти равный капиталъ съ прочимъ достаткомъ, какого придворнаго или щеголя, а и у умѣренныхъ людей онаго всегда великое число было.
Да можно-ли было сему иначе быть, когда самъ Государь прилагалъ все свое тщаніе, къ украшенію своея особы, когда онъ за правило себѣ имѣлъ каждый день новое платье надѣвать, а иногда по два и по три надень, и стыжусь сказать число, но увѣряютъ, что нѣсколько десятковъ тысячь разныхъ платьевъ послѣ нея осталось.
Мундировъ тогда, кто имѣлъ токмо достатокъ, кромѣ должности своей ненашивали и даже запрещено было въ оныхъ танцовать при дворѣ.
Экипажи были умѣреннаго съ прочимъ великолѣпія, уже русскаго дѣла карета въ презрѣніи была, и надлежало имѣть съ заплатою нѣсколькихъ тысячь рублевъ Французскую, и съ точеными стеклами, чтобы шоры и лошади оной соотвѣтствовали и прочее. Однако при всемъ семъ еще очень мало было сервизовъ серебрянныхъ, да и тѣ большая часть жалованный государемъ. Степанъ Федоровичь Апраксинъ, человѣкъ пышной и роскошной, помнится мнѣ, до конца жизни своей, на фаянсѣ ѣдалъ, довольствуясь имѣть чаши серебрянныя, и я слыхалъ отъ Ивана Лукьяновича Талызина, что онъ первый изъ собственныхъ своихъ денегь сдѣлалъ себѣ сервизъ серебренный.
При сластолюбивомъ и роскошномъ Государѣ неудивительно, что роскошь итмѣла такіе успѣхи; но достойно удивленія, что при набожной Государынѣ, касательно до нравовъ, во многомъ божественному закону противуборствія были учинены. – Сіе есть въ разсужденіе храненія святости брака, таинства по исповѣданіи нашея вѣры.
Толь есть истинно, что едыный порокъ и единой проступокъ влечетъ за собою другіе. Мы можемъ положить сіе время началомъ, въ которое жены начали покидать своихъ мужей; не знаю я обстоятельствъ перваго, страннаго разводу; но въ самомъ дѣлѣ онъ былъ таковъ. Иванъ Бутурлинъ, а чей сынъ незнаю, имѣлъ жену Анну Семеновну; съ ней слюбился Степанъ Федоровичь Ушаковъ и она отошедь отъ мужа своего, вышла за своего любовника и, публично содѣявъ любодѣйственный и противный церкви сей бракъ, жили. Потомъ Анна Борисовна ГраФиня Апраксина, рожденная Княжна Галицына, бывшая же въ супружествіе за Графомъ Петромъ Алексѣевичемъ Апраксинымъ, отъ него отошла. Я не вхожу въ причины, чего ради она оставила своего мужа, который подлинно былъ человѣкъ распутнаго житья; но знаю, что разводъ сей нецерковнымъ, но гражданскимъ порядкомъ былъ суженъ. Мужъ ея, якобы за намѣреніе учинить ей какую обиду въ Нѣмецкомъ позорищѣ, былъ посаженъ подъ стражу, и долго содержался, и наконецъ велѣно ей было дать ея указную часть изъ мужня имѣнія, при живомъ мужѣ; а именоваться ей по прежнему Княжною Голицыной. И такъ отложа имя мужа своего, приведши его до посажденія подъ стражу, наслѣдница части его имѣнія учинилась потому токмо праву, что отецъ ея кн. Борись Вас. имѣлъ некоторый случай у двора, а потомъ по разводѣ своемъ она сдѣлалась другомъ Княгини Елены Степановны Куракиной, любовницы Графа Шувалова.
Примѣръ такихъ разводовъ вскорѣ многими другими женами былъ послѣдуемъ, и я токмо двухъ въ царствованіе Имп. Елисаветы Петровны именовалъ, а послѣ ихъ можно сотнями считать.
Еще Петръ Великій, видя, что законъ нашъ запрещаеть Князь Никитъ Ивановичу Репнину вступить въ четвертый бракъ, позволилъ ему имѣть метресу и дѣтей его, подъ именемъ Репнинскихъ, благородными призналъ. Такоже Кн. Ив. Юрьевичь Трубецкой, бывъ плѣненъ Шведами имѣлъ любовницу, сказываютъ благородную женщину, въ Стокголмѣ, которую онъ увѣрилъ, что онъ вдовъ, а отъ нея имѣлъ сына, котораго именовали Бецкимъ, и сей еще при Петрѣ Великомъ почтенъ былъ благороднымъ, и уже былъ въ ОФицерскихъ чинахъ. Такому примѣру послѣдуя, при царствовали Императрицы Елисаветы, в.............Кн. Вас.
Влад. Долгорукова, Рукинъ, на равнѣ съ дворянами былъ производимъ. Алексѣй Даниловичь Татищевъ, нескрывая холопку свою, отнявшую у мужа жену, въ метресахъ содержалъ, и дѣти его дворянство получили. А сему подражая, толико сихъ в.........
дворянъ умножилось, что повсюдова толпами ихъ видно. Лицыны, Рапцовы, и прочіе, которые или дворянство получаютъ, либо послучаю, или за деньги до знатныхь чиновъ доходять, что кажется хотятъ истребить честь законнаго рожденія и не закрытно содержа метрессъ, являются знатные люди насмѣхаться и святостью закона, и моральнымъ правиламъ, и благопристойности. И та ко можно сказать что и сіи злы, толь обыкновенныя въ нынѣшнее время отрыгнули корень свой въ сіе царствованіе.
Такое было расположеніе нравовъ при концѣ сея Императрицы, и она, скончавшись, оставила престолъ свой племяннику своему, сыну старшей своей сестры Анны Петровны, бывшей за Герцогомъ Голштинскимъ, Петру Федоровичу, государю, одаренному добрымъ сердцемъ, естли можетъ оно быть въ человѣкѣ, неимѣющемъ ни разума, ни нравовъ; ибо впрочемъ онъ не токмо имѣлъ разумъ весьма слабый, но яко и помѣшанный, погруженный во все пороки, въ сластолюбие, роскошъ, пьянство и любострастіе. Сей взошедшій на всероссійскій престолъ, къ поврежденнымъ нравамъ бывъ самъ съ излихвой поврежденъ, равно по природному своему расположенію, такъ что и во все время царствованія Императрицы Елисаветы, старались наиболѣе его нравы испортить, не могъ исправленія имъ сдѣлать.
Сей Государь имѣлъ при себѣ главнаго своего любимца – Льва Александ. Нарышкина, человѣка довольно умнаго, но такова ума, который ни къ какому дѣлу стремленія неимѣетъ, трусливъ, жаденъ къ честямъ и корысти, удобенъ ко всякому роскошу, шутливъ, и словомъ по обращеніямъ своимъ и но охотѣ шутить болѣе удобенъ быть придворнымъ шутомъ нежели вельможею. Сей былъ помощникъ всѣхъ его страстей.
Взошедши сей Государь на всероссійскій престолъ, безъ основательнаго разума и безъ знанія во всякихъ дѣлахъ восхотѣлъ поднять вольнымъ обхожденіемъ воинскій чинъ. Всѣ офицеры его Галстинскіе, которыхъ онъ малый корпусъ имѣлъ и Офицеры гвардіи часто имѣли честь быть при его столѣ, куда всегда я дамы приглашались. Какіе сіи были столы?
Тутъ вздорные разговоры съ неумѣреннымъ питьемъ были смѣшаны; тутъ послѣ стола поставленный пуншъ и положенный трубки, продолженія пьянства и дымъ отъ куренія табаку представляли болѣе какой то трактиръ, нежели домъ Государской; коротко одѣтый и громко кричащій оФицеръ выигрывалъ надъ прямо знающимъ свою должность. Похвала Прусскому Королю, тогда токмо преставшему быть нашимъ непріятелемъ, и униженіе храбрости россійскихъ войскъ, состовляли достоинство пріобрести любленіе Государево; и Графъ Захаръ Григорьевачъ Чернышевъ, при бывшей пробѣ Российской и Прусской, взятой въ плѣнъ артилеріи за то что старался доказать и доказалъ, что Россійская артилерія лучше услужена, не получилъ за сіе Андреевской ленты, которыя тогда щедро были раздаваемы.
Имѣлъ Государь любовницу, дурную и глупую Графиню Елисавету Романовну Воронцову; но ею, взошедъ на престолъ, онъ доволенъ не былъ; а вскорѣ всѣ хорошія женщины подъ вожделеніе его были подвергнуты; увѣряютъ, что Александръ Ивановичь Глѣбовъ, тогда бывшій Генералъ – Прокуроръ и имъ пожалованный купно и въ Генералъ-Кригсъ-Комисары, подвелъ падчерицу свою Чеглокову, бывшую послѣ въ супружествѣ за Александромъ Ник. Загряскимъ, и уже помянутая мною выше Княгиня Елена Степановна Куракина была привожёна къ нему на ночь Львомъ Александ. Нарышкинымъ, и я самъ отъ нет го слышалъ, что безстыдство ея было таково, что когда по ночеваніи ночи, онъ ее отвозилъ домой по утру рано; и хотѣлъ для сохраненія чести ея, а болѣе, чтобы неучинилось известно сіе Граф. Елисаветѣ Романовнѣ, закрывши гардины ѣхать, она напротивъ того, открывая гардины, хотѣла всѣмъ показать, что она съ, Государемъ ночь переспала.
Примѣчательна для Россіи сія ночь, какъ разсказывалъ мнѣ Дмитрій Васильевичь Волковъ, тогда бывшій его секретаремъ. Петръ Третій, дабы сокрыть отъ Граф. Елис, Романовны, что онъ въ сію ночь будетъ веселиться съ новопривозною, сказалъ при ней Волкову, что онъ имѣетъ съ нимъ сіе ночь препроводить въ исполненіи извѣстнаго имъ важнаго дѣла въ разсужденіи благоустройства Государства. Ночь пришла, Государь пошелъ веселиться съ Княгинею Куракиною), сказавъ Волкову, чтобы онъ къ завтрему какое знатное узаконеніе написалъ, и былъ запертъ въ пустую комнату съ датскою собакою. Волковъ; не зная ни причины, ни намѣренія Государскаго, незналъ о чемъ начать писать, а писать надобно. Но какъ онъ былъ человѣкъ, догадливый, то вспомнилъ нерѣдкія вытверженія Государю, отъ Графа Романа Ларіоновича Воронцова о вольности дворянства; сѣдши написалъ маниФестъ о семъ. – По утру его изъ заключенія выпустили, и манифестъ былъ Государемъ апробованъ и обнародованъ.
Нетокмо ГосуДарь угождая своему любострастію, тако благородныхъ женщинъ употреблялъ, но и весь дворъ въ такое пришелъ состояніе, что каждый почти имѣлъ незакрытую свою любовницу; а жены не скрываясь ни отъ мужа, ни родственниковъ, любовниковъ себѣ искали. Исчислю-ли я къ стыду тѣхъ женъ, которыя не стыдились впадать въ такія любострастія? Съ презрѣніемъ стыда и благопристойности, иже сочиняетъ единую изъ главнѣйшихъ добродѣтелей женъ. Нѣтъ да сокроются отъ потомства имена ихъ а роды ихъ, да не обезчещутся напамятованіемъ преступленія ихъ матерей и бабокъ; и тако довольствуясь описать какой былъ развратъ, подробно о любострастіяхъ ихъ, ни о именахъ ихъ не помяну; ибо въ самомъ дѣлѣ съ угрызеніемъ сердца моего принуждаю себя и тутъ гдѣ необходимо должно поминать, именуя таковыхъ по причинѣ сочиненія сего, опредѣленнаго сокрыться въ моей Фамиліи.
И тако развратъ въ женскихъ нравахъ, угожденіе государю, всякаго роду роскошь, и пьянство составляло отличительныя и умоначертанія двора, а оттуда они уже нѣкоторые разлилися и на другія состоянія людей, въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны, а другія разливаться начали, когда супруга сего Петра Третьяго, рожденная Принцесса Ангальтъ – Цербская Екатерина Алексѣевна, взошла съ низверженіемъ его, на россійский престолъ. Не рожденная отъ крови нашихъ государей, жена свергнувшая своего мужа возмущеніемъ и вооруженною рукою, въ награду за столь добродѣтельное дѣло корону и скиптръ россійской получила, купно и съ именованіемъ благочестивыя государыни, яко въ церквахъ о нашихъ государяхъ моленіе производится.
Не можно сказать, чтобы она не была качествами достойна править толь великой Имперіей, естли женщина возможетъ поднять сіе иго, и естли однихъ качествъ довольно для сего вышняго сану. Одарена довольной красотою, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системѣ, славолюбива, трудолюбива по славолюбію, бережлива, предъ – пріятельна и нѣкое чтеніе имѣющая. Впрочемъ мораль ея состоить на основаніи новыхъ философовъ, то есть неутвержденная на твердомъ камени закона Божія, а потому какъ на колеблющихся свѣтскихъ главностяхъ есть основана, съ ними обще колебанію подвержена. Напротивъ– же того ея пороки суть: любострастна и совсѣмъ ввѣряющаяся своимь любимцамъ; исполнена пышности во всѣхъ вещахъ, самолюбива до безконечности и немогущая себя принудить къ такимъ дѣламъ, которыя ей могутъ скуку наводить; принимая все на себя, не имѣетъ попеченія о исполненіи, а наконецъ толь перемѣнчива, что рѣдко и одинъ мѣсяцъ одинакая у ней система въ разеужденіи правленія бываеть.
Со всѣмъ тѣмъ вошедши на престолъ и неучиня жестокова мщенія всѣмъ тѣмъ, которые до того ей досождали, имѣла при себѣ любимца своего, который и воспомоществовалъ ей взойти на престолъ, человѣка взросшаго въ трактирахъ и въ неблагопристойныхъ домахъ, ничего не учившагося и ведущаго до того развратную молодаго человѣка жизнь; но сердца и души доброй.
Сей, вошедши на вышнюю степень, до какой подданный можетъ достигнуть, среди кулашныхъ боевъ, борьбы, игры въ карты, охоты и другихъ шумныхъ забавъ, почерпнулъ и утдвердилъ въ сердцѣ своемъ нѣкоторые полезные для государства правила, равно какъ и братья его. Оные состояли никому немстить, отгонять льстецовъ, оставить каждому человѣку и мѣсту непрерывное исполненіе ихъ должностей, нельстить государю, выискивать людей достойныхъ и не производить какъ токмо по заслугамъ, и наконецъ отбѣгать отъ роскоши, которыя правила сей Григорій Григорьевичь (Орловъ), послѣ бывшій графомъ и наконецъ княземъ, до смерти своей сохранялъ. Находя, что карточная азартная игра можетъ другихъ привести въ раззорѣніе, играть въ нее пересталъ; хотя его явные были неприятели ГраФы Никита и Петръ Ивановичи Панины, никогда ни малѣйшаго имъ зла не сдѣлалъ; а напротивъ того въ многихъ случаяхъ имъ дѣлалъ благодѣянія и защищалъ ихъ отъ Гнѣву Государыни.
Изрубившему измѣническимъ образомъ брата его Алексѣя Григорьевича не только простилъ, но и милости сдѣлалъ (Алексей и Федоръ Григоръевичи Орловы славшисъ своей силою Въ Петербургъ толъко одинъ человекъ, кичился силънее ихъ: это былъ Шванвичъ, (отецъ того Шванвича, который присталъ къ Пугачеву и сочинялъ для него немецкіе указы): Онъ могъ сладитъ съ каждымъ изъ нихъ порознъ – но вдвоемъ Орловы брали надъ нимъ верхъ. Разумеется они часто сталкивались другъ съ другомъ; – когда случалосъ что Шванвичу попадалъ одинъ изъ Орловыхъ то онъ билъ множество лъстецовъ, которые тщилисъ обуздатъ его самолюбіе, никогда успіху неиміли, а напротиву того боліе грубостію можно было снискатъ его любовъ, нежели лестъю, никогда въ управленіи непринадлежащаго ему міста невходилъ, а естлибы и случилосъ ему за ново попроситъ, никогда не сердился, ежели ему въ томъ отказывали, никогда не лъстилъ своей Государыні, къ которой неложное усердіе имілъ и говорилъ ей съ нікоторою грубостъю всі истины, но всегда на милосердіе подвигалъ ея сердце, чему и самъ я многожды самовидцемъ бывалъ; старался и любилъ выискиватъ людей достойныхъ, поелику понятіе его могло постигатъ, но не токмо такихъ, которые по единому ихъ достоинству облагодітелъствовалъ, но ни же ближнихъ своихъ любимцевъ, не любилъ инако производитъ какъ по мірі ихъ заслугъ, и первый знакъ его благоволенія былъ заставлятъ съ усердіемъ служитъ отечеству и въ опаснійшія Орлова, когда попадалисъ оба брати, – то они били Шванвича. Чтобы избежатъ такихъ напрасныхъ дракъ они заключили между собой условіе, по которому одинъ Орловъ долженъ былъ уступатъ Шванвичу и где бы ни попался ему повиноватъся безпрекословно, двоеже Орловыхъ берутъ верхъ надъ Шванвичемъ и онъ долженъ покорятъся имъ такъже безпрекословно. Шванвичъ встретилъ однажды ведора Орлова въ Трактиръ и въ силу условія овладелъ билъярдомъ, виномъ и бывшими съ Орловымъ женщинами. Онъ однакожъ недолго полъзовался своей добычей, вскоре пришелъ въ трактиръ къ брату Алексей Орловъ и Шванвичъ долженъ былъ въ свою очередъ уступитъ билъярдъ, вино и женщинъ. Опъянелый Шванвичъ хотілъ было противитъся, но Орловы выталкали его изъ трактира. Взбешенный этимъ, онъ спрятался за воротами и сталъ ждатъ своихъ противниковъ. Когда Алексей Орловъ вышелъ Шванвичъ разрубилъ ему палашемъ щеку и ушелъ. Орловъ упалъ; – ударъ нанесенной нетвердой рукой не былъ смертелень, – и Орловъ отделался продолжителъною болезнью и шрамомъ на щеке. Это было незадолго до 1762 г. Орловы возвысилисъ и могли бы погубитъ Шванвича, – но они не захотели мститъ ему; онъ былъ назначенъ Кронштадтскимъ комендантомъ и стараніями Орлова смягченъ былъ приговоръ надъ его сыномъ, судившемся заучастіе въ Пугачввскимъ бунте) мѣста употреблять яко учинилъ съ Всеволодомъ Алексѣевичемъ Всеволожскимъ, котораго въ пущую въ Москвѣ язву съ собою взялъ и тамъ употребилъ его къ дѣлу; хотя съ молоду развратенъ и роскошенъ былъ, но послѣ никакой роскоши въ домѣ его невидно было; а именно домъ его отличнаго въ убранствѣ ничего не имѣлъ, столъ его не равнялся съ столами, какіе сластолюбы имѣютъ; екипажи его, хотя былъ и охотникъ до лошадей и до бѣгуновъ, ничего чрезвычайнаго не имѣли, и наконецъ, какъ сначала такъ и до конца, никогда ни съ золотомъ, ни съ серебромъ платья не нашивалъ, но всѣ его хорошія качества были затмѣны его любострастіемъ; онъ презрѣлъ что должно ему къ своему Государю и къ двору государскому, учинилъ изъ двора государева домъ разпутства; не было почти ни одной Фрейлины у двора, которая неподвергнута бы была его исканіямъ и коль много было довольно слабыхъ, чтобы на оныя преклониться, и сіе терпимо было Государыней, и наконецъ 13 лѣтнюю двоюродную сестру свою Катерину Николаевну Зиновьеву изнасильничалъ, и хотя послѣ на ней женился, но не прикрылъ тѣмъ порокъ свой, ибо уже всенародно оказалъ свое дѣяніе и въ самой женитьбѣ нарушилъ всѣ священные и гражданскіе законы.
Однако во время его случая, дѣла довольно порядочно шли, и Государыня, подражая простотѣ своего любимца, снисходила къ своимъ подданнымъ, небыло многихъ раздаяній, но было исполненіе должностей и пріятство Государево вмѣсто награжденій служило. – Люди обходами не были обижаемы и самолюбіе Государево истинами любимца укращаемо часто было.
Однако понеже добродѣтели нетоль есть удобны къ подражанію, сколь пороки, мало последовали достойнымъ похвалы его поступкамъ; но женщины видя его и братій его лобострастіе, гордились и старались ихъ любовницами учиниться, и разрушенную уже приличную стыдливость при Петрѣ Третьемъ, долгою привычкою во время случая Орловыхъ, совсѣмъ ее погасили; тѣмъ наипаче, что сей былъ способъ получить и милость отъ Государыни. Не падете, но отлученіе его отъ мѣста любовника, подало случай другимъ его мѣсто у любострастныя Императрицы занять, и можно сказать, что каждый любовникъ, хотя уже и коротко ихъ время было, какимъ нибудь порокомъ за взятые миліоны одолжилъ Россію (о кромѣ Васильчикова, который ни худа ни добра несдѣлалъ) Зоричь ввелъ въ обычай не помѣрно великую игру; Потемкинъ властолюбіе, пышность, подобострастіе ко всѣмъ своимъ хотѣніямъ, обжорливость и слѣдственно роскошъ въ столѣ, лесть, сребролюбіе, захватчивость и можно сказать всѣ другіе, знаемые въ свѣтѣ пороки, которыми или самъ преисполненъ или преисполняетъ окружающихъ, и тако далѣ въ Имперіи. Заводовскій ввелъ въ чины подлыхъ малороссіянъ; Корсаковъ преумножилъ безстыдство любострастія въ женахъ; Ланской жестокосердіе поставилъ быть въ чести; Ермоловъ неуспѣлъ сдѣлать ничего, а Мамоновъ вводить деспотичество въ раздаяніе чиновъ и пристрастіе къ своимъ родственникамъ.
Сама Императрица, яко самолюбивая женщина, нетолько примѣрами своими, но и самымъ ободреніемъ пороковъ является – желаетъ ихъ силу умножить; она славолюбива и пышна, то любитъ лесть и подобострастіе; изъ окружающихъ ее Бецкой, человѣкъ малаго разума, но довольно пронырливъ, чтобъ ее обмануть; зная ея склонность къ славолюбію, многія учрежденія сдѣлалъ, яко сиропитательные домы, дѣвичій монастырь, на новомъ основаніи Кадетской Сухопутный Корпусъ и Академію Художествъ, Ссудную и сиротскую казну, поступая въ томъ яко александрійскій архитекторъ, построющій Фару, на коемъ зданіи на алебастрѣ имя Птоломея царя изобразилъ, давшаго деньги на строеніе, а подъ алебастромъ на мраморѣ свое изваялъ, дабы, когда отъ долготы временъ алебастеръ отпадетъ, единое его имя видно было. Такъ и Бецкой, хотя показывалъ видъ, что все для славы Императрициной дѣлаетъ, но нетокмо во всѣхъ проэктахъ, на разныхъ языкахъ напечатанныхъ, имя его яко перваго основателя является, но ниже оставилъ Монархинѣ и той власти, чтобъ избрать правителей сихъ мѣстъ, а самъ повсюду начальникомъ и деспотомъ былъ до паденiя его кредиту. Дабы закрыть cie всѣ способы были имъ употреблены: ей льстить, повсюду похвалы гремѣли ей, въ рѣчахъ, въ сочиненiяхъ и даже въ представляемыхъ балетахъ на театрѣ, такъ что я самъ единожды слышалъ при представленiи въ Кадетскомъ корпусѣ балета Чесменскаго боя, что она сказала мнѣ: 11 me loue tant, qu’enfin il me gatera. Щастлива бы была естлибы движенiя душевныя послѣдовали симъ рѣчамъ но нѣсть!
Когда cie изрѣкла душа ея пышностью и лестью упивалась. Неменьше Иванъ Перфильевичь Елагинъ употреблялъ старанiй приватно и всенародно ей льстить. Бывъ директоръ Театру, разныя сочиненiя въ честь ея слагаемы были, балеты танцами возвышали ея дѣла, иногда слова возвѣщали пришествiе Россiйскаго Флота въ Морею, иногда бой Чесменскiй былъ похваляемъ, иногда войска съ Poccieю плясали.
Также Кн. А. А. Вяземскiй Генер. Прокуроръ, человѣкъ неблистательнаго ума, но глубокаго разсужденiя, имѣвшiй въ рукахъ своихъ доходы государственные, искуснѣйшiй способъ для лщенiя употребилъ. Притворился быть глупымъ, представлялъ совершенное благоустройство Государства подъ властiю ея, и говоря, что онъ, бывъ глупъ, все едиными ея наставленiями и бывъ побуждаема духомъ ея дѣлаетъ, и иногда премудрость ея нетокмо ровнялъ, но и превышалъ надъ Божiей, а симъ самымъ учинился властитель надъ нею. Безбородко ея секретарь, нынѣ уже ГраФъ, члень иностранной Коллегiи, ГоФмейстеръ, Генералъ Почть Директоръ и все въ разсужденiи правительства, за правило имѣетъ никогда противу ея неговорить, но похваляя исполнять всѣ ея велѣнiя и за cie непомѣрныя награждешя получилъ.
Дошедшая до такой степени лесть при дворѣ, и отъ людей въ дѣла употребленныхъ, начали другими образами льстить. Построитъ-ли кто домъ, на данныя отъ нея отчасти деньги или на наворованные, зоветъ ее на новоселье гдѣ на люминаціи пишетъ: Твоя отъ твоихъ тебѣ приносимая; или подписываетъ на домѣ: щедротами Великія Екатерины, забывая приполнить, но разореніемъ Россіи; или давая праздники ей, дѣлаютъ сады, нечаянныя представленія, декораціи, вездѣ лесть и подобострастіе изъявляющія.
Къ коликому разврату нравовъ женскихъ и всей стыдливости примѣръ ея множества имѣнія любовниковъ, единъ другому часто наслѣдующихъ, а равно почетныхъ и корыстями снабженныхъ, обнародывая черезъ сіе причину ихъ щастія, подалъ другимъ женщинамъ. Видя храмъ сему пороку сооруженный въ сердцѣ Императрицы, едвали за порокъ себѣ щитаютъ ей подражать; но паче мню почитаетъ каждая себѣ въ добродѣтель, что еще столько любовниковъ неперемѣнила.
Хотя при поздыхъ лѣтахъ ей возрасту, хотя сѣдины покрываютъ уже ея голову и время нерушимыми чертами означило старость на челѣ ея, но еще не уменьшается въ ней любострастіе. Уже чувствуетъ она, что тѣхъ пріятностей, каковыя младость имѣетъ, любовники въ ней находить не могутъ, и что ни награжденія, ни сила, ни корысть, не можетъ замѣнить въ нихъ того дѣйствія, которое младость можетъ надъ любовникомъ произвести. Стараясь закрывать ущербъ, лѣтами приключенный, отъ простоты своего одѣянія отстала и хотя въ молодости и не любила златотканныхъ одѣяній, хотя осуждала Императрицу Елисавету Петровну, что довольно великій оставила гардеробъ, чтобъ цѣлое воинство одѣтъ, сама стала ко изобрѣтенію приличныхъ платьевъ и богатому ихъ украшенію, страсть свою оказывать; а симъ не токмо женамъ но и мущинамъ подала случай къ таковомуже роскошу. Я помню, что, вошедъ ко двору въ 1768 году, одинъ былъ у всего двора шитой золотомъ краевой суконной кафтанъ, у Василья Ильича Бибикова; въ 1769 году въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ Императрица разгневалась на Графа Иванъ Григорьевича Чернышева, что онъ въ день рожденія ея въ шитомъ кавтанѣ въ Царское село пріѣхалъ, а въ 1777 году, когда я отсталъ отъ двора, то уже всѣ и въ простые дни златотканныя съ шитьемъ одѣянія носили и почти уже стыдились по одному борту имѣть шитье.
Не можно сказать, чтобы Императрица была прихотлива въ кушаньѣ, но можно сказать, что еще слишкомъ умѣренна; но бывшій ея любовникъ, а оставшись всемогущимъ ея другомъ Кн. Гр. Алек. Потемкинъ, не токмо прихотливъ въ ѣдѣ, но даже и обжорливъ; неосторожность Оберъ-Гофъ-Маршала Кн. Ник. Мих. Голицына приготовить ему какого-то любимаго блюдаповергла его подлогу ругательству оть Потемкина и принудила идти въ отставку, то послѣ сего каждый разсудитъ; наследники Кн. Голицына Григорій Никитичь Орловъ и Кн. вед. Серг. Борятинской неупотребляютъ – ли теперь все свое тщание дабы удовольствовать сего всемогущаго въ Государствѣ обжору и подлинно столъ Государевъ гораздо великолѣпнѣе и лучше нынѣ сталъ; а также дабы угодить сему другу монаршу повсюду стала стараться умножать великолѣпіе въ столахъ, (хотя долею оно довольно было), и отъ вышнихъ до нижнихъ болѣзвь сія роскоши и желаніе лучшими вещами насытиться распространилась.
Общимъ образомъ сказать, что жёны болѣе имѣютъ склонности къ самовластию, нежели мужчины; о сей же съ справедливостью можно увѣрить, что она наипаче въ семъ случаѣ есть изъ женъ жена. Ничто ей не можетъ быть досаднѣе, какъ то, когда докладывая ей по какимъ дѣламъ, въ сопротивленіе воли ея, законы поставляютъ, и тотчасъ отвѣтъ отъ нее вылѣтаетъ; къ развѣ я немогу, невзирая на законы сего учинить. Но ненашли никаго, ктобы осмѣлился отвѣтствовать ей, что можетъ яко деспотъ, но съ поврежденіемъ своей славы и повѣренности народной. Дѣла многія свидѣтельствуютъ ея самовластие: 1. Возвращеніе Марьи Павловнѣ Нарышкиной отъ Талызина деревень, утвержденныхъ купчими и самымъ владѣніемъ. 2. Дѣло дѣтей Кн. Бориса Вас. Голицына о прадѣда ихъ Стрешневскихъ деревняхъ, беззаконно описанныхъ; Сенатомъ-же сіе беззаконіе признано и докладомъ испрашивано было позволеніе ихъ законнымъ наслѣдникамъ возвратить и подпись на докладѣ: быть по сему являлся сдѣлать справедливое удовлетвореніе онымъ, но послѣ изъ комнаты было истолковано, что быть по сему знаменовало: быть въ описи. Акимъ Ив. Апухтинъ докладывалъ ей по Военной Коллегіи объ отставкѣ однаго Генералъ – Маіора, получилъ повелѣніе отставить безъ чина; но какъ онъ зачалъ представлять, что законы точно повелѣваютъ Генералъ – Маіорамъ давать чины при отставкѣ; получилъ въ отвѣтъ, что она превыше законовъ и дать ему не хочетъ сего награжденія. Таковые примѣры видимые въ самомъ Государѣ непобуждаютъ – ли и вельможъ къ подобному же самовластію и къ несправедливостямъ, и стенящая отъ таковыхъ наглостей Россія ежедневные знаки представляетъ, коль есть заразителенъ примѣръ Государской.
Такое расположеніе мыслей и паче въ особѣ преданной своимъ любимцамъ, естественно влечетъ за собой пристрастіе и неправосудіе; многіе могъ бы я примѣры представить одному и другому; но довольно ежели я скажу, что не любя Сахарова, яко человѣка дурныхъ нравовъ (который однако, долгое время бывъ камердинеромъ ея, пользовался ея довѣренностью, хотя не лучше былъ), дѣло его безъ разсмотрѣнія было отдано въ архивъ, якобы дурные правы должно было дѣломъ по деревнямъ наказать, въ каковомъ случаѣ и развратный человѣкъ можетъ имѣть справедливость, и тутъ не нравы и расположеніе судятся, но что кому принадлежитъ исключительно до всего другаго. И дѣло Вахмейстера о беззаконно описанныхъ у дѣда его Лифляндскихъ имѣніяхъ, призванное справедливымъ всѣми департаментами сената, рѣшеніе получило, что оныя таки отданы Генералу Брауну, за которыхъ и остаться. Графъ Романъ Ларіоновичь Воронцовъ, во все время своей жизни призванный мздоимцемъ, былъ опредѣленъ въ намѣстники въ Владаміръ и не преставалъ обыкновенныя свои мздоимства производить; несокрыты оныя были отъ Государя, который токмо двоезнаменующимъ знакомъ, присылкою большаго кошелька его укорилъ. Но какъ онъ уже умеръ и раззореніе народа дошло до крайности, тогда повелѣно слѣдовать его и губернаторской поступокъ; хотя и 7 лѣтъ раззоренье народное продолжалось, а слѣдствіе повелѣно учинить токмо за два года. Таковые примѣры, часто случающіеся, не подаютъ – ли подданнымъ побужденія подобнымъ поступкамъ для пользъ своихъ подражать? Случилось мнѣ читать въ одной книгѣ ясный примѣръ, что тщетно будеть стараться начертить вѣрный кругъ, когда, центръ невѣренъ и колеблющъ, никогда черта круга вѣрно несойдется; и слова Св. Писанія ясно же означающія должность носильниковъ: учителю, исправься самъ.
Можно – ли подумать, чтобы Государь, чинящій великія раздаянія, Государь, къ коему стекаются большей частью, сокровища всего государства, могъ быть корыстолюбивъ? Однако сіе есть; ибо инако я немогу назвать введеніе толь всѣми политическими писателями охуляемаго обычая чины за деньги продавать; а сему есть множество примѣровъ: развратный нравами и корыстолюбивый откупщикъ Лукинъ, давъ 8 тысячь двору, изъ наворованыхъ денегъ и подара его въ народное училище, чинъ капитанскій получилъ; и Прокофій Демидовъ, привоженный подъ висилицу за пашквили, бывшій подъ слѣдствіемъ за битье въ домѣсвоемъ секретаря Юстицъ– Коллегіи, дѣлавшій безпрестанно наглости и проказы, противные всякому благоучрежденнему правленію, за то, что съ обидою дѣтей своихъдавалъденыи въ сиропитательный домъ чинъ генералъ-маіорскій иолучилъ, а за даніе 5 тысясь въ пользу народныхъ школъ, учинено ему всенародно объявленное черезъ газеты благодареніе, якобы Государь не могъ полезныхъ учрежденій завести безъ приниманія денегъ отъ развратныхъ людей, и якобы деньгами могли ему искупаться развратные нравы. Примѣръ сей еще другихъ заразительнѣе учинился. Чины стали всѣ продажны, должности недостойнѣйшимъ стали даваться и кто болѣе за нихъ заплатить, а и тѣ, платя, на народѣ взятками стали сіе восмѣщать.
Купцы, воровствомъ короны обогатившіеся, болыпіе чины получали, яко Логиновъ, бывший откупщикъ, не токмо воръ по откупамъ, но и приличившійся въ воровствѣ коммиссаріатской суммы, чины штатскіе получилъ; Фалѣевъ, въ подрядахъ съ Государемъ взимая вездѣ тройную цѣну не токмо самъ штатскіе чины и дворянство получилъ, но и всѣхъ своихъ прислужниковъ въ штабъ – офицеры и въ Офицеры произвелъ.
Торговля впала въ презрѣніе, недостойные вошли во дворяне, воры и злонравные награждены, развратность ободрена, и все подъ очами и знашемъ Государя; то можно-ли послѣ сего правосудія и безкорыстности отъ нижнихъ судей требовать?
Все царствованіе сей Самодержицы означено дѣяніями, относящимися къ ея славолюбію. Множество учиненныхъ его заведеній, являющихся для пользы народной заведенныхъ, въ самомъ дѣлѣ несуть, какъ токмо знаки ея славолюбія, ибо естлибы дѣйствительно имѣли пользу государственную въ виду, то учиня заведенія, прилагали бы старанія и о успѣхѣ ихъ, недовольствуясь заведеніемъ и увѣреніемъ, что въ потомствѣ она яко основательница оныхъ, вѣчно будетъ почитаться, о успѣхѣ не радили, и видя злоупотребленія ихъ не пресѣкали.
Свидѣтельствуетъ сіе заведеніе сиропитательнаго дому, дѣвичьяго монастыря для воспитанія благородныхъ дѣвицъ, переправленіе кадетскаго корпуса и пр., изъ которыхъ въ первомъ множество малолѣтнихъ померло, а и по нынѣ чрезъ 20 слишкомъ лѣтъ, мало или почти никого ремесленниковъ не вышло; во второмъ ни ученыхъ ни благонравныхъ дѣвицъ не вышло, какъ толико, поелику природа ихъ симъ снабдила; и воспитаніе болѣе состояло играть комедіи, нежели сердце, нравы и разумъ исправлять; изъ третьяго вышли съ малымъ знаніемъ и съ совершеннымъ отвращеніемъ всякаго повиновенія. Зачатыя войны еще сіе свидѣтельствуютъ; по пристрастію возвели на Польской престолъ Понятовскаго, хотѣли ему противъ вольностей Польскихъ прибавить самовластія; взяли въ защищеніе десидентовъ, и вмѣсто, чтобы стараться сихъ, утѣсненныхъ за законъ, въ Россію къ единовернымъ своимъ призывать, ослабить тѣмъ Польшу и усилить Россію, – чрезъ сіе подали причину къ Турецкой войнѣ, счастливой въ дѣйствіяхъ, но болѣе Россіи стоющей, нежели какая прежде бывшая война, послали флотъ въ Грецію, который божескимъ защищеніемъ побѣду одержалъ; но мысль въ сей посылкѣ была единое славолюбіе. Раздѣлили Польшу а тѣмъ усилили Австрійскій и Бранденбурской домы и потеряли у Россіи сильное дѣйствіе ея надъ Польшею, пріобрѣли или лучше сказать похитили Крымъ, страну по разности своего климата служащую границею Россіанамъ. Составили учреждений, которыя нестыдятся законами называть, и содѣланныя наместничества наполня безъ разбору людьми, съ разрушеніемъ всего перваго, ко вреду общества, къ умноженію ябедъ и разоренья народнаго, да и за тѣми надзиранія неимѣютъ, исправляютъ-ли точно, по даннымъ наставлеіямъ. Испекли законы, правами дворянскими и городовыми названные, которые болѣе лишеніе нежели даніе правъ въ себѣ вмѣщаютъ и всеобщее дѣлаютъ отягощеніе народу Таковое необузданное славолюбіе такъже побуждаетъ стремиться къ созиданію неисчетнаго числа и повсюду великихъ зданій, земледѣльцы многою работою стали отъ ихъ земли корыстію отвлекаемы, доходы государственные едва ли достаютъ на такія строенія, которые и построившись въ тягость онымъ своимъ содержаніемъ будутъ; и приватные подражая сей охотѣ, основанной на славолюбіи, чтобъ, чрезъ многія вѣка пребывающія зданія, имя свое сохранить, безумно кинулись въ такія строенія и украшенія ихъ.
Единые отъ избытка, для спокойствія и удовольствія своего въ созиданіи домовъ, огородовыхъ бесѣдахъ многія тысячи полагають; другой изъ пышности, а третій наконецъ, послѣдуя вредному примѣру, тоже сверхъ достатку, своего дѣлаетъ и чтобы неотстать отъ другихъ, а всѣобще находя себѣ спокойствіе и удовольствіе, мало по малу, въ раззоренье сей роскошью приходятъ, тяготятъ себя и государство и часто недостатокъ своихъ доходовъ лихоимствомъ и другими охулительными способами наполняютъ.
Совѣсть моя свидѣтельствуетъ мнѣ, что всѣ коль ни есть червы мои повѣствіи; но они суть непристрастны и единая истина и развратъ, въ которой впали всѣ отечества моего подданные, отъ коего оно стонетъ, принудило меня оныя на бумагу преложить; и тако подовольному описанію нравовъ сея Императрицы, довольно можно расположеніе души и сердца ея видѣть. Дружба чистая никогда невселялась въ сердце ея и она готова лучшаго Своего друга и слугу предать въ угодность любовника своего. Не имѣеть она материнскйхъ чувствъ къ сыну своему, и объ всѣхъ за правило себѣ имъетъ ласкать безмѣрно и уважать человека, пока въ немъ нужда состоитъ, а потомъ по пословицѣ своей, выжатой лимонъ кидать. ПримЬры сему суть: Анна Алексѣевна Матюшкина, всегда и во время гоненія ея бывшая къ ней привязана, наконецъ отброшена стала; ГраФъ Алексѣй Петровичь Бестужевъ, спомоществующій ей, когда она была Великою Княгинею, во всѣхъ ея намѣреніяхъ и претерпѣвшій за нее несчастіе, при концѣ жизни своей, всей ея повѣренности лишился и послѣ смерти его она его бранила; ГраФъ Никита Ивановичь Панинъ, спомоществующій взойти ей на престолъ, при старости отнятія всѣхъ должностей своихъ видѣлъ и, можеть быть, сіе кончину его приключило; Николай Ивановичь Чечеринъ, служившій ей совсѣмъ возможнымъ усердіемъ и носивший ея милость, толико наконецъ оть нее гнанъ былъ, что безвременно животъ свой окончилъ; Князь Александръ Михайловичь Голицынъ, Фельдмаршалъ, безмолвный исполнитель всѣхъ ея велѣній, безъ сожалѣнія отъ нея умеръ, ибо хотя и извѣстна была еще по утру о его смерти, но тотъ день весела на концертъ вышла и давъ время своему веселію, отходя спросила любовника своего Ланскаго, каковъ Кн. Александръ Михайловичь, и получа извѣстіе о смерти его, сдѣлала видъ тогда за плакать, а сіе и показуетъ колико Фальшивое имѣетъ сердце. Графиня Прасковья Александровна, долгое время ея любимица и другъ, наконецъ была отъ двора отогната и въ печали умерла. По сему да судитъ каждый, могутъ-ли частныя чувствовала дружбы возгнѣздиться по такимъ примѣрамъ въ подданныхъ.
Представивъ сію печальную картину, кажется что уже не настоитъ нужды сказывать: имѣетъ – ли она вѣру къ закону Божію; ибо еслибъ сіе имѣла, тобы самый законъ Божий могь исправить ея сердцѣ и направить стопы ея на путь истины. Но несть, упоенна безразсмысленнымъ чтеніемъ новыхъ писателей, законъ христіанскій хотя довольно набожной быть притворяется) ни за что почитаетъ. Коль ни скрываетъ своихъ мыслей, но оное многажды въ бесѣдахъ ея открываются; а дѣянія иначе доказуютъ, многія книги Вольтеровы, разрушающая законъ, по ея велѣнію были переведены, яко: Кандидъ, Принцесса вавилонская и прочія, и Белизеръ Мармонтелевъ, неполагающій никакой разности между добродѣтели язычниковъ и добродѣтели христианской, не токмо обществомъ, по ея велѣніямъ былъ переведенъ, но и сама участницею перевода онаго была; и терпѣніе, или лучше сказать, позволеніе противныхъ закону браковъ, яко Князей Орлова и Голицына на двоюродныхъ ихъ сестрахъ, и Генерала Баура на его падчерицѣ, наиболѣе сіе доказуютъ. И тако можно сказать, что въ царствованіе ея, и сія нерушимая подпора совѣсти и добродѣтели разрушена стала.
Таковыми степенями достигла Россія до разрушенія всѣхъ добрыхъ нравовъ, о каковомъ при самомъ началѣ я помянулъ. Плачевное состояніе, о коемъ токмо должно просить Бога, чтобъ лучшимъ царствованіемъ сіе зло истреблено было. А до сего дойдтить инако не можеть, какъ тогда, когда мы будемъ имѣть Государя искренно привязаннаго къ закону Божію, строгаго наблюдателя правосудія, начавши съ себя умѣреннаго въ пышности царскаго престола, награждающего добродетель и ненавидящаго пороки, показующаго примѣръ трудолюбія и снисхожденія на совѣты умныхъ людей, тверда въ предприятияхъ, но безъ упрямства, мягкосерда и постоянна въ дружбѣ, показующаго собой примѣръ своимъ домашнимъ соглааемъ съ своею супругою, и гонящаго любострастіе, щедра безъ расточительности для своихъ подданныхъ и искавшаго награждать добродѣтели, качества и заслуги безъ всякаго пристрастія, умѣющаго раздѣлить труды; что принадлежить какимъ учрежденнымъ правительствамъ и что Государю на себя взять, и наконецъ могущаго имѣть довольно великодушія и любви къ отечеству, чтобы составить и предать основательныя права Государству, и довольно тверда, чтобы ихъ исполнять.
Тогда изгнанная добродѣтель, оставя пустыни, утвердить средь градовъ и при самомъ дворѣ престолъ свой, правосудіе не покривить свои вѣски ни для мзды ни для сильнаго, мздоимство и робость отъ вельможъ изгонятся, любовь отечества возгнѣздится въ сердца гражданскія, и будуть не пышностью житья и не богатствомъ хвалиться, но безпристраспемъ, заслугами и безкорыстностью. Не будугь помышлять, кто при дворѣ великъ и кто упадаетъ, но имѣя въ предметѣ законы и добродѣтель будутъ почитать ихъ, яко компасомъ, могущимъ довести ихъ и до чиновъ и до достатка.
Дворяне будутъ въ разныхъ должностяхъ съ приличною ревностью званію ихъ; купцы перестануть стараться быть офицерами и дворянами, каждый сократится въ свое состояніе, и торговля, уменьшеніемъ ввоза сластолюбіе побуждающихъ чужеземныхъ товаровъ, а отвозомъ россійскихъ произведеній, процвѣтетъ; искуствы и ремеслы умножатся, дабы внутри Россіи содѣлать нужное къ пышности и великолѣпію нѣкоего числа людей.
Приложение 2 Г. Р. Державин Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина
Отделение II
Воинская Державина служба до открывшегося в империи возмущения.
В помянутом 1762 году в марте месяце прибыл он в Петербург. Представил свой паспорт майору Текутьеву, бывшему тогда при полку дежурным. Сей чиновник был человек добрый, но великий крикун, строгий и взыскательный по службе. Он лишь взглянул на паспорт и увидел, что просрочен, захохотал и закричал: «О, брат! просрочил», – и приказал отвести вестовому на полковой двор. Привели в полковую канцелярию и сделали формальный допрос. Державин, хотя был тогда не более как 18-ти лет, однако нашелся и отвечал, что он не знает, почему присвоил его к себе Преображенский полк, ибо никогда желания его не было служить, по недостатку его, в гвардии, а было объявлено от него желание, чрез г. Веревкина, вступить в артиллерийский или инженерный корпус, из которых о принятии в последний кондуктором и был от него, Веревкина, удостоверен и носил инженерный мундир. По справке в канцелярии известно стало, что по списку с прочими, присланному при сообщении от Ивана Ивановича Шувалова, записан он в Преображенский полк за прилежность и способность к наукам и отпущен для окончания оных на два года. Но паспорт лежал в канцелярии до вступления на престол императора Петра Третьего, по повелению которого велено всем отпускным явиться к их полкам. И как посему он, Державин, в просрочке оказался невинным, то и приказано его причислить в третью роту в рядовые, куды причислен; и как не было у него во всем городе ни одного человека знакомых, то поставлен в казарму с даточными солдатами вместе с тремя женатыми и двумя холостыми... <...>
В рассуждении чего и должен был, хотя и не хотел, выкинуть из головы науки. Однако, как сильную имел к ним склонность, то, не могши упражняться по тесноте комнаты ни в рисовании, ни в музыке, чтоб другим своим компаньонам не наскучить, по ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и марал стихи без всяких правил, которые никому не показывал, что однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов, а паче от их жен; почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревни. Державин, писав просто на крестьянский вкус, чрезвычайно им тем угодил, и как имел притом небольшие деньги, получив от матери в подарок при отъезде своем сто рублей, то и ссужал при их нуждах по рублю и по два; а чрез то пришел во всей роте в такую любовь, что когда Петр Третий объявил гвардии поход в Данию, то и выбрали они его себе артельщиком, препоручив ему все свои артельные деньги и заказку нужных вещей и припасов для похода. Таким образом проводил он свою жизнь между грубых своих сотоварищей... <...>
...поутру, часу пополуночи в 8-м, увидели скачущего из конной гвардии рейтара, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец... <...> Рота тотчас выбежала на плац. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось. Едва успели офицеры запыхаючись прибежать к роте, из которых однако были некоторые равнодушные, будто знали о причине тревоги. Однако все молчали; то рота вся, без всякого от них приказания, с великим устремлением, заряжая ружья, помчалась к полковому двору. На дороге, в переулке, идущем близ полкового двора, встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева, в великой задумчивости ходящего взад и вперед, не говорящего ни слова. Его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал, и рота на несколько минут приостановилась. Но, усмотря, что по Литейной идущая гренадерская, невзирая на воспрещение майора Воейкова, который, будучи верхом и вынув шпагу, бранил и рубил гренадер по ружьям и шапкам, вдруг рыкнув бросилась на него с устремленными штыками, то и нашелся он принужденным скакать от них во всю мочь; а боясь, чтоб не захватили его на Семеновском мосту, повернул вправо и въехал в Фонтанку по груди лошади. Тут гренадеры от него отстали. Таким образом третья рота, как и прочие Преображенского полка, по другим мостам бежали, одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Семеновский и Измайловский уже пришедшими, которые окружили дворец и выходы все заставили своими караулами. Преображенский полк, по подозрению ли, что его любил более других государь, часто обучал сам военной екзерции, а особливо гренадерские роты, которых было две, жалуя их нередко по чарке вина, или по старшинству его учреждения, пред прочею гвардией, поставлен был внутри дворца. Все сие Державина, как молодого человека, весьма удивляло, и он потихоньку шел по следам полка, а пришед во дворец, сыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное ему место. Тут тотчас увидел митрополита новгородского и первенствующего члена св. Синода <Гавриила> с святым крестом в руках, который он всякому рядовому подносил для целования, и сие была присяга в верности службы императрице, которая уже во дворец приехала, будучи препровождена Измайловским полком; ибо из Петергофа привезена в оный была на одноколке графом Алексеем Григорьевичем Орловым, как опосле ему о том сказывали. День был самый ясный, и, побыв в сем дворце часу до третьего или четвертого по полудни, приведены пред вышесказанный деревянный дворец и поставлены от моста вдоль по Мойке. В сие время приходили пред сей дворец многие и армейские полки, примыкали по приведении полковников к присяге, по порядку, к полкам гвардии, занимая места по улицам Морским и прочим, даже до Коломны. А простояв тут часу до восьмого, девятого или десятого, тронулись в поход, обыкновенным церемониальным маршем, повзводно, при барабанном бое, по петергофской дороге в Петергоф. Императрица сама предводительствовала в гвардейском Преображенском мундире на белом коне, держа в правой руке обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова также была в гвардейском мундире. Таким образом маршировали всю ночь. На некотором урочище, не доходя до Стрельной, в полночь имели отдых. Потом двигнулись паки в поход. Поутру очень рано стали подходить к Петергофу, где чрез весь зверинец, по косогору, увидели по разным местам расставленные заряженные пушки с зажженными фитилями, которые, как сказывали после, прикрыты были некоторыми армейскими полками и голстинскими баталионами; то все отдались государыне в плен, не сделав нигде ни единого выстрела. В Петергофе расположены были полки по саду, даны быки и хлеб, где, сварив кашу, и обедали. После обеда часу в 5-м увидели большую четырехместную карету, запряженную больше нежели в шесть лошадей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всем вооружении; а за ними несколько конного конвоя, которые, как после всем известно стало, отвезли отрекшегося императора от правления в Ропшу, местечко, лежащее от Петербурга в 30 верстах к Выборгской стороне. Часу по полудни в седьмом полки из Петергофа тронулись в обратный путь в Петербург; шли всю ночь и часу по полуночи в 12-м прибыли благополучно вслед императрице в Летний деревянный дворец, который был на самом том месте, где ныне Михайловский. Простояв тут часа с два, приведены в полк и распущены по квартирам.
День был самый красный, жаркий; то с непривычки молодой мушкетер еле жив дотащил ноги. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова... <...>
Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру издан был манифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но, с другой, напоминалася воинская дисциплина и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае, впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем мостам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном оложении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8-мь, то есть по самую кончину императора.
По водворении таким образом совершенной тишины объявлен поход гвардии в Москву для коронации ее величества, и в августе месяце Державин по паспорту отпущен был с тем, чтоб явиться к полку в первых числах сентября, когда императрица к Москве приближаться будет. Снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь, потащился потихоньку. <...>
...приехал в Москву и, будучи в мундире Преображенском, на голстинский манер кургузом, с золотыми петлицами, с желтым камзолом и таковыми же штанами сделанном, с прусскою претолстою косою, дугою выгнутою, и пуклями, как грибы подле ушей торчащими, из густой сальной помады слепленными, щеголял пред московскими жителями, которым такой необыкновенный или, лучше, странный наряд казался весьма чудесным... <...>
Из села Петровского (ибо тогда еще подъезжачего подмосковного Петровского дворца построено не было) ездила государыня несколько раз инкогнито в Кремль. Потом всенародно имела свой торжественный въезд сквозь построенные парадом полки гвардейские и армейские, под пушечными с Кремля выстрелами и восклицаниями народа. 22 числа сентября в Успенском соборе, по обрядам благочестивых предков своих, царей и императоров российских, короновалась. Тогда отправлен был обыкновенный народный пир. Выставлены были на Ивановской Красной площади жаренные с начинкою и с живностью быки и пущены из рейнского вина фонтаны. Ввечеру город был иллюминован. Государыня тогда часто присутствовала в Сенате, который был помещен в Кремлевском дворце; проходя в оный, всегда жаловала чиновных к руке, которого счастья, будучи рядовым, и Державин иногда удостоивался, нимало не помышляя, что будет со временем ее статс-секретарь и сенатор. На зиму государыня изволила переехать в Головинский дворец, что был в Немецкой слободе. Тут однажды, стоя в будке позадь дворца в поле на часах, ночью, в случившуюся жестокую стужу и метель, чуть было не замерз; но пришедшая смена от того избавила. На масленице той зимы был тот славный народный маскарад, в котором на устроенном подвижном театре, ездящем по всем улицам, представляемы были разные того времени страсти, или осмехалися в стихах и песнях пьяницы, карточные игроки, подьячие и судьи-взяточники и тому подобные порочные люди, – сочинение знаменитого по уму своему актера Федора Григорьевича Волкова и прочих забавных стихотворцев, как то гг. Сумарокова и Майкова.
Стоял он, Державин, тогда также сперва с даточными солдатами на квартире во флигеле, в доме гг. Киселевых, который был, помнится, на Никитской или Тверской улице. Таковая неприятная жизнь ему наскучила, тем более, что не мог он удовлетворить склонности своей к наукам; а как слышно было тогда, что Иван Иванович Шувалов, бывший главный Московского университета в Казанской гимназии куратор, которому он известен был <...>, то и решился идти к нему и просить, чтоб он его взял с собою в чужие края, дабы чему-нибудь там научиться. Вследствие чего, написав к нему письмо, действительно пошел и подал ему оное лично в прихожей комнате, где многие его бедные люди и челобитчики ожидали, когда он проходил их, дабы ехать во дворец. Он остановился, письмо прочел и сказал, чтоб он побывал к нему в другое время. Но как дошло сие до тетки его по матери двоюродной, Феклы Саввишны Блудовой, жившей тогда в Москве, в своем доме, бывшем на Арбатской улице, женщины по природе умной и благочестивой, но по тогдашнему веку непросвещенной, считающей появившихся тогда в Москве масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют и тому подобные бредни, а Шувалова признавали за их главного начальника, то она ему, как племяннику своему, порученному от матери, и дала страшную нагонку, запрети накрепко ходить к Шувалову, под угрозою написать к матери, буде ее не послушает. А как воспитан он был в страхе божием и родительском, то и было сие для него жестоким поражением, и он уже более не являлся к своему покровителю; но отправлял, как выше явствует, наряду с прочими солдатами, все возложенные низкие должности, а между прочим разносил нередко по офицерам отданные в полк с вечера приказы. <...> В одном из таковых путешествий случился примечательный и в нынешнем времени довольно смешной анекдот. Князь Козловский, живший тогда на Тверской улице, прапорщик третьей роты, известный того времени приятный стихотворец, у посещавшего его, или нарочно приехавшего славного стихотворца Василия Ивановича Майкова, читал сочиненную им какую-то трагедию, и как приходом вестового Державина чтение перервалось, который, отдав приказ, несколько у дверей остановился, желая послушать, то Козловский, приметя, что он не идет вон, сказал ему: «Поди, братец служивый, с богом; что тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь», – и он принужден был выдти.
Наступила весна и лето, и хотя многие, как выше явствует, младшие произведены были, не токмо в капралы, но и в унтер-офицеры по протекциям, а Державин без протектора всегда оставался рядовым; но как стало приближаться восшествие императрицы на престол, 1763 году июня 28-го дня, а в такие торжественные праздники обыкновенно производство по полку нижних чинов бывало, то и решился он прибегнуть под покровительство майора своего, графа Алексея Григорьевича Орлова. Вследствие чего, сочинив к нему письмо, с прописанием наук и службы своей, наименовав при том и обошедших его сверстников, пошел к нему и подал ему письмо, которое прочетши, он сказал: «Хорошо, я рассмотрю». В самом деле и пожалован он в наступивший праздник в капралы.
Тогда отпросился в годовой отпуск к матери в Казань, дабы показаться ей в новом чине. На дороге случилось приключение, ничего, впрочем, не значащее, но, однако, могущее в крайнее ввергнуть его злополучие. Прекрасная, молодая благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим его гимназии директором, господином Веревкиным, который тогда возвращен был паки на прежнее свое место, быв за чем-то в Москве, отправлялась в Казань к своему семейству, сговорилась с ним и еще с одним гвардии же Преображенского полка капралом Аристовым вместе для компании ехать. В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. Натурально, в таковых случаях более оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме, владения г. Всеволожского, перевозчики подали паром; извозчики взвезли повозки и выпрягли лошадей; но первые не захотели перевозить без ряды; а как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он им требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально, красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился в кусты искать перевозчиков и, нашед их, то угрозами, то обещанием заплатить все, что они потребуют, вызвал их кое-как на паром. Но как пришли на оный, то и требовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обиду, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам: «Ребята, не выдавай»,– с словом с сим все перевозчики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующего капрала, который, как ни отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье, приложился и хотел выстрелить; но к счастию, что ружье было новое, пред выездом из Москвы купленное и неодержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький при береге стоявший челнок, сел в него и переправился чрез Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по улице и по дворам, никого не находил; наконец вышел из приказной избы мужик довольно взрачный, осанистый, с большою бородою и, подпираясь посохом, с видом удивления, спросил: «Что ты, барин, так воюешь, разве к басурманам ты заехал? Чего тебе надобно?» Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснение перевозчиков. «Ну что же за беда? разве не можно было другим манером сыекать на них управы? Стыдноста, молодой господин, озорничать, бегать с голым палашом по улице и пужать мир крещеный. Меня не испужаешь, велю схватить да связать и отвезу в город, так и будешь утирать кулаком слезы, но не поворотишь. Барин наш нас не выдаст» (который был тогда обер-прокурором в Сенате и в случае при дворе). Таковым справедливым укором устыдил храбреца мужик. Это был бурмистр того селения. Насилу, кое-как будучи убежден, приказал перевозить за сходную цену все повозки.
Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще видеться; но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой <...> ...сии кратковременные любовные шашни тем и кончились: ибо более никогда уже не видал сего своего предмета.
Приехав из Шацка в оренбургскую деревню, куда приехала и мать его, прожил с нею там оставшееся летнее время; а в исходе сентября отправила она его в Оренбург по некоторым случившимся деревенским делам. <...>
По наступлении срока отправился в Петербург к полку. Таким же образом вел свою жизнь как прежде, упражняяся тихонько от товарищей в чтении книг и кропании стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским и из прочих авторов, как: гг. Ломоносова и Сумарокова. Но более ему других нравился, по легкости слога, помянутый г. Козловский... <...>
В сем промежутке времени едва не случилась с ним незапная страшная смерть. Ходил он по обыкновению в своем звании во все караулы, то в одном из оных в Зимнем каменном дворце, когда он еще внутри не весь был выстроен, и в той половине, где после был придворный театр, а ныне апартаменты вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, наверху в одном из самых вышних ярусов были две двери: одна в покой, в котором был пол, а другая – в другой, в котором был пролом до самых нижних погребов, наполненных каменными обломками; и как по лености не токмо офицеров, но и унтер-офицеров, приказано было ему ночью обойти все притины дозором, то он пошел, взяв фонарщика, или солдата, который нес фонарь, казанского дворянина знакомого себе, по фамилии Потапова. Бегая по многим лестницам, не дожидаясь освещения проходов, пришел, наконец, к вышеописанному месту и хотел стремление свое продолжать далее, но вдруг услышал голос Потапова, далеко на низу лестницы от него отставшего, который кричал: «Постойте, куда вы так бежите?» Он остановился и лишь только осветил фонарь, то и увидел себя на пороге, или на краю самой той пропасти, о которой выше сказано. Один миг – и едва одни кости его остались бы на сем свете. Он перекрестился, воздал благодарение богу за спасение жизни и пошел куда было должно.
В сих годах, то есть в 1765-м и в 1766-м году, были два славные в Петербурге позорища, учрежденные императрицею, сколько для увеселения, столько и для славы народа. Первое, великолепный карусель, разделенный на четыре кадрили: на ассирийскую, турецкую, славянскую и римскую, где дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных конях, в блистательных уборах, показывали свое проворство метанием дротиков и стрельбою в цель из пистолетов. Подвигоположником был украшенный сединами фельдмаршал Миних, возвращенный тогда из ссылки. Другое, преузорочный под Красным Селом лагерь, в котором, как сказывали, около 50 тысяч конных и пеших собрано было войск для маневров пред государынею. Тогда в придворный театр впускаемы были без всякой платы одни классные обоего пола чины и гвардии унтер-офицеры; а низкие люди имели свой народный театр на Коммиссариатской площади, а потом из карусельного здания, на месте, где. ныне Большой театр, на котором играли всякие фарсы и переведенные из Мольера комедии. <...>
Зимою объявлен поход ее величества в Москву. Державин <...> пожалован в фурьеры и командирован, под начальством подпоручика Алексея Ивановича Лутовинова, на ямскую подставу для надзирания за исправностию наряженных с ямов лошадей, изготовленных для шествия императрицы и всего ее двора. <...> Тут первые написал правильные ямбические экзаметры на проезд государыни чрез реку того селения Мохост... <...> В сие время досталось Державину при производстве в полку чрез чин подпрапорщика в каптенармусы, а января первого числа 1767 года – в сержанты... <...> Гвардия возвратилась в Петербург, а Державин на некоторое время отпросился для свидания с матерью и меньшим его братом, учившимся в гимназии при директорстве г. Капица, в Казань, где, и потом в оренбургской деревне, оставшуюся часть лета и осени в семействе своем прожил. Возвращаясь из отпуска, взял с собою и меньшего его брата из гимназии, которая была тогда под ведомством директора г. Каница.
Но, приехав в Москву и имев от матери поручение купить у господ Таптыковых на Вятке небольшую деревнишку душ 30, остановился... <...> И как стоял он тогда у двоюродного своего брата, господина Блудова, который и его двоюродный брат господин подпоручик Максимов, живши в одном с ним доме, завели его сперва в маленькую, а потом и в большую карточную игру, так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги. Тогда он забыл о сроке, хотел проигранные деньги возвратить; но как не мог, то, заняв у него, Блудова, купил деревню на свое имя и ему оную, с присовокуплением материнского имения, хотя не имел на то права, заложил. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния, день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам. Но, благодарение богу, что совесть или, лучше сказать, молитвы матери никогда его до того не допускали, чтоб предался он в наглое воровство или в коварное предательство кого-либо из своих приятелей, как другие делывали. Но когда и случалось быть в сообществе с обманщиками и самому обыгрывать на хитрости, как и его подобным образом обыгрывали, но никогда таковой, да и никакой выигрыш не служил ему впрок; следственно, он и не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде. Когда же не имел денег, то никогда в долг не играл, не занимал оных и не старался какими-либо переворотами отыгрываться или обманами, лжами и пустыми о заплате уверениями доставать деньги; но всегда содержал слово свое свято, соблюдал при всяком случае верность, справедливость и приязнь. Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи при слабом иногда свете полушечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных ставней. Так тогда, да и всегда проводил он несчастливые дни. А как он уже в такой распутной жизни просрочил более полугода, то <...> его благодетель Неклюдов <...> видя, что он за сроком столь долго проживает в Москве и слыша, что замотался, то, опасаясь чтоб не погиб, ибо разжалован бы был по суду в армейские солдаты, сжалился над ним и без всякой его просьбы в ордере между прочими полковыми делами к капитану-поручику московской команды Шишкову приписал, что когда сержант Державин явится, то причислить его к московской команде... <...> Он, став сим средством обеспечным от несчастия, пробыл несколько еще месяцев в Москве, вел жизнь не лучше как и прежде; а поелику жил он в помянутом доме Блудова с сказанным же его родственником Максимовым, то и случилось с ним несколько замечательных происшествий.
Первое. Хаживала к ним в дом в соседстве живущего приходского дьякона дочь, и в один вечер, когда она вышла из своего дома, отец или матерь, подозревая ее быть в гостях у соседей, упросили бутошников, чтоб ее подстерегли, когда от них выйдет. Люди их и Блудова увидели, что бутошники позаугольно кого-то дожидаются, спросили их; они отвечали грубо, то вышла брань, а потом драка; а как с двора сбежалось людей более, нежели подзорщиков было, то первые последних и поколотили. С досады за таковую неудачу и чтоб отмстить, залегли они в крапиве на ограде церковной, чрез которую должна была проходить несчастная грация. Ее подхватили отец и мать, мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина. Довольно сего было для крючков, чтобы прицепиться. На другой день, когда он часу по полудни в первом ехал из вотчинной коллегии, где был по своим делам, в карете четвернею, и лишь приближился только к своим воротам, то вдруг ударили в трещотки, окружили карету бутошники, схватив лошадей под уздцы, и, не объявя ничего, повезли чрез всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с девкою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив однако с неделю, должны были с стыдом выпустить, сообща однако за известие в полковую канцелярию, где таковому безумству и наглости алгвазилов дивились и смеялись. Вот каковы в то время были полиция и судьи!
Второе. Познакомился с ним в трактирах по игре некто, хотя по роду благородный, знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в юстиции за подделку векселей и закладных на весьма большую сумму и подставление по себе в поручительство подложной матери, который имел за собою в замужестве прекрасную иностранку, которая торговала своими прелестями. В нее влюбился некто приезжий пензенский молодой дворянин, слабый по уму, но довольно достаточный по имуществу. Она с ведома, как после открылось, мужа с ним коротко обращалась и его без милости обирала, так что он заложил свое и материнское имение и лишился самых необходимо нужных ему вещей. А как сей дворянин был с Державиным хороший приятель, то и сжалился он на его несчастие. Вследствие чего, будучи в один день в компании с мужем, слегка дал ему почувствовать поведение жены. Муж старался прикрыть ее и оправдать себя своим неведением; и хотя тогда прекратил разговор шутками, но запечатлел на сердце своем на него злобу за такое чистосердечное остережение. Он, спустя некоторое время, позвал его в гости к себе на квартиру жены и под вечер намерен был поколотить, а может быть, и убить; ибо когда Державин вошел в покои, то увидел за ширмами двух сидящих незнакомых, а третьего лежащего на постели офицера, которого раз видел в трактире игравшего несчастно на бильярде; ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуткой и заметил офицеру. Хозяин, приняв гостя сначала ласково, зачал его помалу в разговорах горячить противоречиями и потом привязываться к словам, напоминая прежде слышанные им, относя их к обиде его и жены; но как гость опровергал сильными возражениями свое невинное чистосердечие, то умышленник и начал кивать головой сидящим за ширмами и лежащему на постели, давая им знать, чтоб они начинали свое дело. Против всякого чаяния, лежащий сказал: «Нет, брат, он прав, а ты виноват, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги»; ибо был он молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее и имел подле себя орясину, то хозяин и все прочие соумышленники удивились и опешили. Это был господин землемер, недавно приехавший из Саратова, поручик Петр Алексеевич Гасвицкий, который о того времени сделался Державину другом. <...>
Наконец, кратко сказать, он, проживая в Москве в знакомстве с такового разбора людьми, чрезвычайно наскучил или, лучше сказать, возгнушавшись сам собою, взял у приятеля матери своей 50 руб., который прошен был от нее ссудить в крайней его нужде, бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург. Сие было в марте месяце 1770 года, когда уже начало открываться в Москве моровое поветрие. В Твери удержал было его некто из прежних его приятелей, человек распутной жизни, но кое-как от него отделался, издержав все свои деньжонки. На дороге занял у едущего из Астрахани садового ученика с виноградными к двору лозами 50 руб. и те в новгородском трактире проиграл. Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во все течение своей жизни сберег. Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было; но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от оного, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою чрез 20 почти лет намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. <...> Приехав, как выше сказано, в Петербург с одним рублем, благословением матери, занял на прожиток 80 рублей у Григорья Никифоровича Киселева, давнишнего своего приятеля, казанского помещика, с которым учились вместе в гимназии, служили в полку и гуляли на подставах. <...>
...на занятые у Киселева деньги выиграл сотни две рублей у <...> господина Протасова, заплатил долг и пробавлялся кое-как, имея наиболее обхождение с ним, с Петром Васильевичем Неклюдовым и с капитаном Александром Васильевичем Толстым, у которого тогда и в 10-й роте находился. Сии трое честные и почтенные люди его крайне полюбили за некоторые его способности, что он изрядно рисовал или, лучше сказать, копировал пером с гравированных славнейших мастеров эстампов так искусно, что с печатными не можно было узнать рисованных им картин. Более же всего нравился он им за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. <...>
В 1771 году переведен в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой ее точности и исправности... <...>
...в начале 1772 года, января 1-го дня, произведен гвардии прапорщиком в ту же 16-ю роту, в которой служил фельдфебелем. В самом деле, бедность его великим была препятствием носить звание гвардии офицера с пристойностию; а особливо тогда – более даже, нежели ныне, – предпочитались блеск, и богатства, и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе. Но как бы то ни было, ссудою из полку сукна, позументу и прочих вещей на счет жалованья (ибо тогда из полковой экономической суммы всегда комиссаром запасалось оных довольное количество) обмундировался он; продав сержантский мундир, купил аглинские сапоги и, небольшую заняв сумму, и ветхую каретишку в долг у господ Окуневых, исправился всем нужным. Жил он тогда в маленьких деревянных покойчиках, на Литейной, в доме господина Удолова, хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества; ибо имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, и как был очень к ней привязан, а она не отпускала его от себя уклониться в дурное знакомство, то и исправил он помалу свое поведение, обращался между тем, где случай дозволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно. <...>
Приложение 3 К. К. Рюльер История и анекдоты революции в России в 1762 г.
Я был свидетелем революции, низложившей с российского престола внука Петра Великого, чтобы возвести на оный чужеземку. Я видел, как сия государыня, убежав тайно из дворца, в тот же день овладела жизнию и царством своего мужа. Мне были известны все лица сей ужасной сцены, где в предстоящей опасности развернулись все силы смелости и дарований, и, не принимая никакого личного участия в сем происшествии, путешествуя, чтобы познать различные образы правления, я почитал себя счастливым, что имел пред глазами одно из тех редких происшествий, которые изображают народный характер и возводят дотоле не известных людей. В повествовании моем найдутся некоторые анекдоты, несоответственные важности предмета, но я и не думаю рассказывать одинаковым языком о любовных хитростях молодых женщин и о государственном возмущении. Трагический автор повествует с одинакою важностию о великих происшествиях и живописует натуру во всем ее совершенстве. Мой предмет другого рода, и картина великих происшествий будет снята с подлинной натуры.
Наперед надобно изложить, откуда проистекала та непримиримая ненависть между императором и его супругою, и тогда обнаружится, какими честолюбивыми замыслами достигла сия государыня до самого насильственного престола.
Великая княгиня Екатерина Ангальт-Цербстская, принцесса Августа Софья Фредерика, родилась в Штеттине 21 апреля 1729 г(ода). Отец ее, Христиан Август, князь Ангальт-Цербстский, служил в армии короля прусского генерал-фельдмаршалом и был губернатором Штеттина. По избрании ее в невесты наследнику российского престола Петру Федоровичу она прибыла с матерью своею, княгинею Иоганною, в начале 1744 года в Москву, где тогда находилась императрица Елисавета с двором своим. 28 июня того же года она приняла греко-российскую веру и наречена великою княжною Екатериною Алексеевною, а на другой день обручена со своим женихом. Бракосочетание их совершилось 21 августа 1745 года.
В первые свои годы она жила не в великом изобилии. Ее отец – владелец небольшой земли, генерал в службе короля прусского – жил в крепости, где была она воспитана среди почестей одного гарнизона, и если мать ее являлась иногда с нею ко двору, чтобы обратить некоторое внимание королевской фамилии, то там едва замечали ее в толпе придворных.
Великий князь Петр Федорович, с коим она была в близком родстве, по разным политическим переворотам призван был из Голштинии в Россию, как ближайший наследник престола, и когда принцессы знатнейших европейских домов отказались соединить судьбу свою с наследником столь сильно потрясаемого царства, тогда избрали Екатерину в супружество. Сами родители принудили ее оставить ту религию, в которой она воспитана, чтобы принять греко-российскую, и в условии было сказано, что если государь умрет бездетен от сего брака, то супруга его непременно наследует престолом.
Сама натура, казалось, образовала ее для высочайшей степени. Наружный вид ее предсказывал то, чего от нее ожидать долженствовали, и здесь, может быть, не без удовольствия (не входя в дальнейшие подробности) всякий увидит очертание сей знаменитой женщины.
Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд – все возвещало в ней великий характер. Возвышенная шея, особенно со стороны, образует отличительную красоту, которую она движением головы тщательно обнаруживала. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличительной красоты, черные брови и... прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляет отличительную черту ее физиономии.
Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз суть не иное что, как действие особенного желания нравиться, и очаровательная речь ее ясно открывает опасные ее намерения. Живописец, желая изобразить сей характер, аллегорически представил ее в образе прелестной нимфы, представляющей одной рукою цветочные цепи, а в другой скрывающей позади себя зажженный факел.
Став супругою великого князя на 16-м году возраста, она уже чувствовала, что будет управлять владениями своего мужа. Поверхность, которую она без труда приобрела над ним, служила к тому простым средством, как действие ее прелестей, и честолюбие ее долго сим ограничивалось. Ночи, которые проводили они всегда вместе, казалось, не удовлетворяли их чувствам; всякий день скрывались они от глаз по нескольку часов, и империя ожидала рождения второго наследника, не воображая в себе, что между молодыми супругами сие время было употребляемо единственно на прусскую экзерцицию, или стоя на часах с ружьем на плече.
Долго спустя великая княгиня, рассказывая сии подробности, прибавляла: «Мне казалось, что я годилась для чего-нибудь другого». Но сохраняя в тайне странные удовольствия своего мужа и тем ему угождая, она им управляла, во всяком случае, она тщательно сокрывала сии нелепости и, надеясь царствовать посредством его, боялась, чтобы его не признали недостойным престола.
Подобные забавы не обещали империи наследственной линии, а императрица Елисавета непременно хотела ее иметь для собственной своей безопасности. Она содержала в тюрьме малолетнего несчастливца, известного под именем Иоанна Антоновича, которого на втором году младенчества, свергнув с престола, беспрестанно перевозила из края в край империи, из крепости в крепость, дабы его участники, если таковые были, не могли никогда узнать о месте его заточения. Елисавета тем более достойна хвалы, что даровала ему жизнь; и зная, как легко производится революция в России, она никогда не полагалась на безопасность носимой ею короны. Она не смела ложиться до рассвета, ибо заговор возвел ее самую на престол во время ночи. Она так боялась ночного нападения, что тщательно приказала отыскать во всем государстве человека, который бы имел тончайший сон, и этот человек, который, по счастию, был безобразен, проводил в комнате императрицы все время, в которое она спала. При таком-то страхе оставила она жизнь тому человеку, который был причиною оного. Даже родители были с ним неразлучны, и слух носился, что в темнице своей, к утешению или, может быть, к несчастию, они имели многих детей, опасных совместников, ибо они были старшая отрасль царского дома. Вернейшая против них предосторожность состояла в том, чтобы показать народу ряд других наследников; сего-то и недоставало; уже прошло 8 лет, и хотя природа не лишила великого князя всей чувствительности, но опытные люди неоспоримо доказывали, что нельзя было надеяться от него сей наследственной линии.
Придворный молодой человек, граф Салтыков, прекрасной наружности и недальнего ума, избран был в любовники великой княгини. Великому канцлеру российскому Бестужеву-Рюмину поручено было ее в том предуведомить. Она негодовала, угрожала, ссылаясь на ту статью свадебного договора, которою, за неимением детей, обещан был ей престол. Но когда он внушил ей, что препоручение сие делается со стороны тех, кому она намерена жаловаться, когда он представил, каким опасностям подвергает она империю, если не примет сей предосторожности, какие меры, более или менее пагубные, могут быть приняты против нее самой в намерении предупредить сей опасности, тогда она отвечала: «Я вас понимаю, приводите его сего же вечера».
Как скоро открылась беременность, императрица Елисавета приказала дать молодому россиянину поручение в чужих краях. Великая княгиня плакала и старалась утешить себя новым выбором. Но наследство казалось несомнительным, новые выборы не нравились. За поведением ее присматривали с такою строгостию, которая не согласовалась ни с принятыми нравами, ни с личным поведением Елисаветы. В самом деле, хотя русские дамы недавно появились в обществе, хотя еще в конце прошедшего столетия они жили в заключении и почитаемы были за ничто в домашней жизни, но так как обычай совершенно запирать и приставлять к ним евнухов не был в сей земле в употреблении, отчего происходило, что женщины, заключенные посреди рабов, предавались совершенному разврату. И когда Петр Первый составил в России общества, то он преобразовал наружную суровость нравов, уже весьма развращенных.
Казалось, что последние императрицы нимало не потратили славы своего царствования, избирая довольное число фаворитов из всех состояний своих подданных, даже рабов. В настоящем царствовании юный любимец Разумовский управлял империею, между тем как простой казак граф Алексей Григорьевич Разумовский, коего прежняя должность была играть на фаготе в придворной капелле, достиг до тайного брака с императрицею. Таковой брак нимало не удивителен в той стране, где государи за несколько пред сим лет без разбора соединялись с последними фамилиями своих подданных; но теперь особенная причина не дозволяла сей государыне обнародовать. Елисавета дала себе священный обет оставить корону своему племяннику от старшей сестры, и от хранения сего обета, коего она не забывала при всех своих слабостях, произошло то странное поведение, что она имела явно любовников и втайне мужа. Еще чаще открывались столь большие состояния у людей, не имевших никакой другой заслуги, кроме минутного угождения императрице.
Но, по тайной зависти или по убеждению совести, на которой лежали первые проступки великой княгини, сия последняя находила препятствия при всяком выборе, который она делала. Низкое происхождение (ибо она искала и в сем классе) не скрывало их от ужасной в сей стране ссылки.
Она была в отчаянии, когда судьба привела в Россию кавалера Виллиамса, английского посланника, человека пылкого воображения и пленительного красноречия, который осмеливался ей сказать, что «кротость есть достоинство жертв, ничтожные хитрости и скрытый гнев не стоят ни ее звания, ни ее дарований; поелику большая часть людей слабы, то решительные из них одерживают первенство; разорвав узы принужденности, объявив свободно людей, достойных своей благосклонности, и показав, что она приемлет за личное оскорбление все, что против них предпримут, она будет жить по своей воле». Вследствие сего разговора он представил ей молодого поляка, бывшего в его свите.
Граф Понятовский свел в Польше искренние связи с сим посланником, и так как один был прекрасной наружности, а другой крайне развратен, то связь сия была предметом злословия.
Может быть, такие подробности не относятся до моей истории, но поелику Понятовский сделался королем, то всегда приятно видеть, какие пути ведут к престолу. В родстве по матери с сильнейшею в Польше фамилией, он сопутствовал кавалеру Виллиамсу в Россию, в намерении видеть двор, столь любопытный для двора варшавского, и, будучи известен своею ловкостью, чтобы получить сведения в делах, он исправлял должность секретаря посольства. Сему-то иноземцу, после тайного свидания, где великая княгиня была переодета, изъявила она всю свою благосклонность. Понятовский, съездив на свою родину, вскоре возвратился в качестве министра и тем несколько сблизился со своею любезною. Важность сего звания давала ему полную свободу, а неприкосновенность его особы доставляла его смелости священное покровительство народного права.
Великий князь, сколь ни был жалок, однако не позволил более жене управлять собою и чрез то всего лишился. Предоставленный самому себе, он явился глазам света в настоящем своем виде. Никогда счастие не благоприятствовало столько наследнику престола. С юных лет, обладателем Голштинии, он мог еще выбирать одну из двух соседственных корон. Известно, что герцоги голштинские долгое время были угнетаемы Даниею, где царствовала старшая отрасль их фамилии; сильнейшие державы Севера принимали участие в их вражде; сии герцоги, руководствуясь всегда одною политикою, брали себе в супружество принцесс шведского и российского домов и наконец восходили на тот или на другой престол. Оба сии престола предлагаемы были великому князю Петру, который, соединяя в себе кровь Карла XII и Петра I, в одно и то же время избран был народом на шведский и призван был императрицею, как наследник, на российский престол. Избирая царство по особенной благосклонности, он предоставил шведскую корону своему дяде, так что дом его, занимая ныне все престолы Севера, одолжен ему своею славою; но жестокая игра судьбы, которая, казалось, в продолжение двух веков приготовляла ему славу, произвела его совершенно ее недостойным.
Чтобы судить о его характере, надобно знать, что воспитание его вверено было двоим наставникам редкого достоинства; но их ошибка состояла в том, что они руководствовали его по образцам великим, имея более в виду его породу, нежели дарования. Когда привезли его в Россию, сии наставники, для такого двора слишком строгие, внушили опасение к тому воспитанию, которое продолжали ему давать. Юный князь взят был от них и вверен подлым развратителям, но первые основания, глубоко вкоренившиеся в его сердце, произвели странное соединение добрых намерений, под смешными видами, и нелепых затей, направленных к великим предметам. Воспитанный в ужасах рабства, в любви к равенству, в стремлении к героизму, он страстно привязался к сим благородным идеям, но мешал великое с малым и, подражая героям – своим предкам, по слабости своих дарований, оставался в детской мечтательности. Он утешался низкими должностями солдат, потому что Петр I проходил по всем степеням военной службы, и, следуя сей высокой мысли, столь удивительной в монархе, который успехи своего образования ведет по степеням возвышения, он хвалился в придворных концертах, что служил некогда музыкантом и сделался по достоинству первым скрипачом. Беспредельная страсть к военной службе не оставляла его во всю жизнь; любимое занятие состояло в экзерциции, и чтобы доставить ему это удовольствие, не раздражая российских полков, ему предоставили несчастных голштинеких солдат, которых он был государем. Его наружность, от природы смешная, делалась таковою еще более в искаженном прусском наряде; штиблеты стягивал он всегда столь крепко, что не мог сгибать колен и принужден был садиться и ходить с вытянутыми ногами. Большая, необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое и злобное лицо довольно живой физиономии, которую он еще более безобразил беспрестанным кривлянием для своего удовольствия. Однако он имел несколько живой ум и отличительную способность к шутовству. Один поступок обнаружил его совершенно. Без причины обидел он придворного и как скоро почувствовал свою несправедливость, то в удовлетворение предложил ему дуэль. Неизвестно, какое было намерение придворного, человека искусного и ловкого, но оба они отправились в лес и, направив свои шпаги на десяти шагах один от другого, не сходя с места, стучали большими своими сапогами. Вдруг князь остановился, говоря: «Жаль, если столь храбрые, как мы, переколемся. Поцелуемся». Во взаимных учтивостях они возвращались ко дворцу, как вдруг придворный, приметив много людей, поспешно вскричал: «Ах, ваше высочество, вы ранены в руку. Берегитесь, чтобы не увидели кровь!» – и бросился завязывать оную платком. Великий князь, вообразив, что этот человек почитает его действительно раненым, не уверял его в противном, хвалился своим геройством, терпением и, чтобы доказать свое великодушие, принял его в особенную милость.
Не мудрено, что льстецы легко овладели таким князем. Между придворными девицами скоро нашел он себе фаворитку – Елисавету Романовну Воронцову, во всем себя достойную. Но удивительно, что первый его любимец и адъютант Гудович Андрей Васильич, к которому он питал неизменное чувство дружбы, был достопочтенный молодой человек и прямо ему предан.
Итак, союз супружества, видимо, начал разделяться, когда граф Понятовский в одном загородном доме, идучи прямо к великой княгине, без всякой побудительной причины быть в том месте, попался в руки мужа. Понятовский, министр иностранного двора, в предстоящей опасности противопоставлял права своего звания, и великий князь, видя, что таковое происшествие принесет бесславие обоим дворам, не смел ничего решить сам собою, а приказал посадить его под караул и отправил курьера к управляющему тогда империей любимцу. Великая княгиня, не теряя присутствия духа, пошла к мужу, решительно во всем призналась и представила, сколь неприятно, а может быть, и гибельно будет для него самого разглашать о таком приключении. Она оправдывалась, упрекая его в любви к другой, что было всем известно, и обещалась впредь обходиться с этою девицею со всею внимательностью, в которой она, по гордости своей, до сих пор ей отказывала. Но так как все доходы великого князя употребляемы были на солдат и ему недоставало средств, чтобы увеличить состояние своей любовницы, то она, обращаясь к ней, обещала давать ей ежегодное жалованье. Великий князь, удивляясь влиянию, которого она еще на него не имела, и убеждаемый в то же время просьбами своей любезной, смотрел сквозь пальцы на бегство Понятовского и сам старался загладить стыд, который хотел причинить.
Случай, долженствовавший погубить великую княгиню, доставил ей большую безопасность и способ держать на своем жалованье и самую любовницу своего мужа; она сделалась отважнее на новые замыслы и начала обнаруживать всю нелепость своего мужа столь же тщательно, сколь сперва старалась ее таить. Она совершенно переменила систему, и в будущем, избрав своего сына орудием своего честолюбия, она вознамерилась доставить ему корону и пользоваться правом регентства – начертание благоразумное и в совершенной точности сообразное с законами империи. Но надлежало, чтобы сама Елисавета отрешила своего племянника. Государыня кроткая, нерешительная, суеверная, которая, подписывая однажды мирный договор с иностранным двором, не докончила подписи, потому что шмель сел ей на перо, в племяннике своем она уважала те же права, какими воспользовалась сама. Оставалось одно средство... при кончине ее подменить завещание, – средство, которому бывали примеры и между монархами и по которому Адриан наследовал Траяну.
Между тем как замышляли сию хитрость, переворот в общих делах Европы похитил у великой княгини нужного ей поверенного – великого канцлера Бестужева, которого перемена придворных связей лишила места. Его отдаление влекло за собой и графа Понятовского, которого отозвали к своему королю, и великая княгиня с чувством глубочайшей горести у ног императрицы тщетно умоляла ее, со слезами, возвратить ей графа, на которого сама Елисавета взирала с беспокойною завистью, и начала жить при дворе, как в пустыне.
Таким образом она провела несколько лет, имея известные связи только с молодыми женщинами, которые так же, как и она, любили поляков и были худо приняты при большом дворе за юные свои прелести; она вставала всегда на рассвете и целые дни просиживала за чтением полезных французских книг, часто в уединении и не теряя никогда времени ни за столом, ни за туалетом. В сие-то время положила она основание будущему своему величию. Она признавалась, что уроками всей своей тонкости обязана была одной из своих дам, простой и не замечательной наружности. В сие-то время заготовила она на нужный случай друзей; значительные особы убеждались по тайным с нею связям, что они были бы гораздо важнее во время ее правления; и поелику под завесою злополучной страсти происходили некоторые утешительные свидания, то многим показалось, что при ее дворе они вошли бы в особенную к ней милость. Таково было ее положение, когда скончалась императрица Елисавета 5 января 1762 года).
Оставляя до времени исполнение великих предначертаний, она старалась в сию минуту еще раз получить свою власть кротчайшими средствами.
Министры, духовник, любимец, слуги – все внушали умирающей императрице желание примирить великого князя с женою. Намерение увенчалось успехом, и наследник престола в настоящих хлопотах, казалось, возвратил ей прежнюю свою доверенность. Она убедила его, чтобы не гвардейские полки провозглашали его, говоря, что в сем обыкновении видимо древнее варварство и для нынешних россиян гораздо почтеннее, если новый государь признан будет в Сенате.
(...) Министры были на ее стороне, сенаторы предупреждены. Она сочинила речь, которую ему надлежало произнесть. Но едва скончалась Елисавета, император, в восторге радости, немедленно явился гвардии и, ободренный восклицаниями, деспотически приняв полную власть, опроверг все противополагаемые ему препятствия. Уничтожив навсегда влияние жены, каждый день вооружался против нее новым гневом, почти отвергал своего сына, не признавая его своим наследником, и принудил таким образом Екатерину прибегнуть к посредству своей отважности и друзей.
Петр III начал свое царствование манифестом, в котором полною деспотическою властью дарил российское дворянство правами свободных народов; и как будто в самом деле права народные зависели от подобных пожертвований, сей манифест произвел восторги столь беспредельной радости, что легковерная нация предположила вылить в честь его золотую статую. Но сия свобода, которую на первый раз понимали только по имени и которой права не способен был постановить подобный государь, была не что иное, как минутная мечта. Воля самодержца без всякой формы не переставала быть единственным законом, и народ, неосновательно мечтавший о каком-то благе, но его не понимавший, огорчился, видя себя обманутым.
Художник, долженствовавший вырезывать новые монеты, представил рисунок императору. Сохраняя главные черты его лица, старались их облагородствовать. Лавровая ветвь небрежно украшала длинные локоны распущенных волос. Он, бросив рисунок, вскричал: «Я буду похож на французского короля!» Он хотел непременно видеть себя во всем натуральном безобразии, в солдатской прическе и столь неприличном величию престола образе, что сии монеты сделались предметом посмеяния и, расходясь по всей империи, произвели первый подрыв народного почтения.
В то же время он возвратил из Сибири толпу тех несчастных, которыми в продолжение стольких лет старались населить ее пустыни, и его двор представлял то редкое зрелище, которого, может быть, потомство никогда не увидит.
Там показался Бирон, бывший некогда служитель герцогини курляндской, приехавший с нею в Россию, когда призвали ее на царство, и, как любимец государыни, достигший до ее самовластия; но, восходя столь скромным путем, он управлял железным скипетром и в девять лет своего правления умертвил одиннадцать тысяч человек.
Сие ужасное владычество было в самую блистательную эпоху, ибо все государственные части, чины и должности находились тогда в руках знаменитых иноземцев, которых Петр I избирал во время своих путешествий. Долговременные занятия возвели их на главные места во всех заведениях, и Бирон, такой же иноземец, удерживая их честолюбие под игом строгости, подчинил их власти всю российскую нацию. Насильственно сделавшись обладателем Курляндии, где дворянство за несколько пред сим лет не хотело принять его в свое сословие, он вознамерился сделаться правителем Российской Империи с неограниченною властию. Его возлюбленная, избрав при смерти своим наследником ребенка нескольких недель, говорила ему со слезами: «Бирон, ты пропадешь!» – и не имела духа отказать ему. На сей раз все было предусмотрено. Он незадолго перед сим тирански погубил всех тех ссыльных, которые были для него опасны, дабы, приняв бразды правления, безбедно явить себя милосердным. В жертву народной ненависти приказал он казнить одного из своих приверженцев, заткнув ему рот и обвинив его во всех мерзостях, учиненных в сие царствование. Он хотел присвоить себе корону, но погиб при первом заговоре. Три недели верховной власти стоили ему двадцатилетней ссылки. Он возвратился оттуда под старость лет, не потеряв ни прежней красоты, ни силы, ни черт лица, которые были грубы и суровы. В летние ночи уединенно прогуливался он по улицам города, где он царствовал и где все, что ни встречалось, вопило к нему за кровь брата или друга. Он мечтал еще возвратиться обладателем в свое отечество, и когда Петр III свержен был с престола, Бирон говорил, что снисходительность была важнейшею ошибкою сего государя и что русскими должно повелевать не иначе, как кнутом или топором.
Тут явился низложивший Бирона фельдмаршал Миних, дворянин графства Ольденбургского, бывший поручик инфантерии в армиях Евгения и Мареборуго, и, обоими уважаемый, он сделался простым инженером, когда на досуге зимних квартир попалось ему (несколько) разбитых, изорванных листов негодной французской геометрии; превзошед дарованиями всех отличных людей, с которыми Петр Великий привлек его на свою сторону, он прославился в России проведением канала, соединяющего Петербург с древнею столицею, и известен в Европе победами, одержимыми им над поляками, татарами и турками.
По взятии города Данцига, откуда осажденный им король Станислав успел убежать, Бирон-правитель, упрекая его в сей оплошности, приказал судить его тайным государственным судом.
Миних, оправданный, не забыл сего зла и через 8 лет, когда родители Иоанна предложили ему вступить в заговор против регента Бирона, в ответ взял у них стражу, вошел во дворец и приказал его связать. Звание сие возложил он на мать императора и под именем ее управлял несколько времени империею; но, будучи ненавидим сею высокомерною женщиною, он удалился со славою и жил в уединении и с достоинством. Сие, однако ж, не избавило его от ареста и суда вместе с прежнею министериею, когда получила престол Елисавета; спокойно вошел он на эшафот, где надлежало рубить его на части, и с тем же лицом получил себе прощение. Сосланный в Сибирь и хранимый пред глазами в уединенном домике посреди болота, его угрозы, а иногда одно имя заставляло еще трепетать правителей соседних сторон, и искусство, которому он был обязан первым своим возвышением, сделалось утехою долговременного его уединения. На 82-м году возвратился он из ссылки с редкою в таковых летах бодростию, не зная, что у него был сын, и тридцать три человека его потомства выступили к нему навстречу с распростертыми объятиями; при таком свидании тот, которого не трогали тление, перевороты счастия, к удивлению своему, плакал.
С того времени как Миних связал Бирона, оспаривая у него верховную власть, в первый раз увиделись они в веселой и шумной толпе, окружавшей Петра III, и государь, созвав их, убеждал выпить вместе. Он приказал принести три стакана, и, между тем как он держал свой, ему сказали нечто на ухо; он выслушал, выпил и тотчас побежал куда следовало. Долговременные враги остались один против другого со стаканами в руках, не говоря ни слова, устремив глаза в ту сторону, куда скрылся император, и думая, что он о них забыл, пристально смотрели друг на друга, измеряли себя глазами и, отдав обратно полные стаканы, обратились друг к другу спиною.
Недалеко от них стоял Лесток, низложивший правительницу и возведший на престол Елисавету. Лесток, уроженец ганноверский, обучаясь хирургии в Париже, попал в Бастилию, потом приехал в Россию искать своего счастия и скоро очутился в Сибири. По возвращении из первой ссылки он сделался хирургом великой княгини Елисаветы, которой, представив права ее на трон, в продолжение года ревностно трудился в заговоре, привлек один на свою сторону Швецию и Францию, и, видя его открытым, между тем как Елисавета в столь очевидной опасности не находила другого средства, как отказаться от всех своих предприятий, он нарисовал великую княгиню на карте с обритою головою и себя на колесе, а на другой стороне – ее на престоле, а себя у подножия, украшенного лентою, и, показывая ей ту и другую сторону, сказал: «Сего же вечера одно, или завтра другое». В ту же самую ночь он повел ее во дворец с сотнею старых солдат, которые служили Петру I, ее родителю. Они достигли первой караульни, где ударили тревогу, но Лесток или великая княгиня порвала ножом кожу на барабане – присутствие духа, за честь которого они всегда спорили. Стража, охранявшая комнату бывшего в колыбели императора, остановила Елисавету и приставила к груди штык. Лесток вскричал: «Несчастный, что ты делаешь? Проси помилования у своей императрицы!» – и часовой повергся к ногам. Таким образом возведя на престол великую княгиню, руководимый беспокойным своим гением и затевая всегда новые связи с иностранными державами, он скоро погиб от министров. По возвращении его, когда заговор императрицы Екатерины увенчался успехом, он неутешно сокрушался о том, что в его время была революция без его участия, и со злобною радостью замечал ошибки неопытных заговорщиков.
Таким образом, всякий день являлись замеченные, по крайней мере, по долговременным несчастиям лица, и двор Петра III пополнялся числом людей, одолженных ему более, нежели жизнию; но в то же время возрождались в нем и прежние вражды, и несовместные выгоды. Потеряв все во время несчастия, сии страдальцы требовали возвращения своих имуществ; им показывали огромные магазины, где, по обыкновению сей земли, хранились отобранные у них вещи,– печальные остатки разрушенного благосостояния,– где по порядку времени представлялись обломки сих знаменитых кораблекрушений. В пыли искали они драгоценных своих приборов, бриллиантовых знаков отличия, даров, какими сами цари платили некогда им за верность, и часто после бесполезных исканий они узнавали их у любимцев последнего царствования.
Петр III клонился к своему падению поступками, в основании своем добрыми; они были ему гибельны по его безвременной торопливости и впоследствии совершены с успехом и славою его супругою. Так, например, небесполезно было для блага государства отнять у духовенства несметные богатства, и Екатерина, по смерти его привлекши на свою сторону некоторых главнейших и одарив их особенными пансионами более, нежели чего лишила, без труда выполнила сию опасную новизну. Но Петр III своенравием чистого деспотизма, приказав сие исполнить, возмутил суеверный народ и духовенство, коего главные имущества состояли в крепостных крестьянах, возбуждали их к мятежу и льстили их молитвами и отпущениями грехов.
Доверенность, которую приобрела сия государыня в Европе, и силу в соседственных державах основала она на союзе с королем прусским, и сей самый союз, предмет и цель ее мужа, возбудил против него справедливое негодование. Действительно, в то время как Россия, союзница сильнейших держав, вела с ним кровопролитную и упорную войну, Петр, исполненный глупой страсти к героизму, тайно принял чин полковника в его службе и изменял для него союзным планам. Как скоро сделался он императором, то явно называл его: «Король мой государь!» – и сей герой в роковую минуту, в которую, казалось, никакие силы удивительного его гения не в состоянии были отвратить предстоявшей ему гибели, с сим счастливым переворотом вдруг увидел себя в наилучшем положении, победители его, русские, переходили в его армию, и он в награду почтил императора чином своего генерала. Но русская нация, повинуясь, негодовала, что должна еще проливать кровь, чтобы возвратить свои победы, и, в долговременном навыке питая ненависть к имени прусскому, видела в своем государе союзника своему врагу.
Петр, усугубляя беспрестанно таковые же неудовольствия, прислал в Сенат новые свои законы, известные под именем Кодекса Фридерикова, кои король прусский сочинял для своего государства. Был приказ руководствоваться ими во всей России. Но по невежеству переводчиков или по необразованности русского языка, бедного выражениями в юридических понятиях, ни один сенатор не понимал сего творения, и русские в тщательном опыте сем видели только явное презрение к своим обыкновениям и слепую привязанность к чужеземным правам. В народе, не имевшем благоразумных законов, в народе, у коего узаконенная форма уголовных следствий допускала бить обвиняемого, пока не признается в своем преступлении, и если упорно отрекался, то бить обвинителя, пока не сознается в лжесвидетельстве,– в таком, говорю, народе нельзя сказать, чтоб подобная привязанность не была полезна. Без сомнения обязанность монарха – извлечь его из такого варварства; и поелику столь неосторожно предприняты им планы были, а потом благоразумно выполнены его супругою, то надобно думать, что они были предначертаны с общего согласия в счастливых минутах их супружества. Оставляем политикам труд сравнивать два столь несходные, хотя на одинаких основаниях, правления, замечать, как сия государыня, истребляя все русские обычаи, умела искусно заставить забыть, что она иностранка; и наконец, исследовать, не облегчились ли для его наследницы способы исполнения тех же самых начертаний, которые совсем не удались императору и стоили ему жизни после всех его усилий.
Негодование скоро овладело гвардейскими полками, истинными располагателями престола.
Сии войска, привыкшие с давних лет к покойной службе при дворе, в царствование по наследственному праву женщин, получили приказ следовать за государем на отдаленную войну и, с сожалением оставляя столицу, против воли приготовлялись в поход. Минута, близкая к мятежу и всегда благоприятная тому, кто хочет поднять Е войске знамя бунта. Император вел их в Голштинию, желая воспользоваться могуществом, отмстить обиды, нанесенные предкам его Даниею, и возвратить прежнему своему участку все отнятые у него земли и независимость. Самая лестная цель сего похода долженствовала быть – свидание на пути с королем прусским; место было назначено.
Все опасались, чтобы герой, имевший такую власть над исступленным своим почитателем, не потребовал от него при первом случае новой армии из сотни тысяч русских, и целая Европа, внимательно наблюдая сие происшествие, опасалась революции.
Однако в городе думали только о праздниках. Торжество мира происходило при военных приготовлениях. Неистовая радость наполняла царские чертоги, и так как близок был день отъезда в армию, то двор при прощании своем не пропустил ни одного дня без удовольствий. Праздность, веселость и развлечения составляют свойство русского народа, и хотя кротость последнего царствования сообщила некоторую образованность умам и благопристойность нравам, но двор еще помнил грубое удовольствие, когда праздновалась свадьба шута и козы. Итак, вид и обращение народное представляли шумные пиршества, и полугодичное царствование сие было беспрерывным празднеством. Прелестные женщины разоряли себя английским пивом и, сидя в табачном чаду, не имели позволения отлучаться к себе ни на одну минуту в сутки. Истощив свои силы от движения и бодрствования, они кидались на софы и засыпали среди сих шумных радостей. Комедиантки и танцовщицы, совершенно посторонние, нередко допускались на публичные праздники, и когда придворные дамы посредством любимицы жаловались на сие императору, он отвечал, что между женщинами нет чинов.
В шуму праздников и даже в самом коротком обхождении с русскими он явно обнаруживал к ним свое презрение беспрестанными насмешками. Чудное соединение справедливости и закоренелого зла, величия и глупости видимо было при дворе его. Двое из ближайших к нему любимцев, обещав за деньги ходатайствовать у него, были жестоко биты из собственных его рук; он отнял у них деньги и продолжал обходиться с ними с прежнею милостию. Иностранец доносил ему о некоторых возмутительных словах, он отвечал, что ненавидит доносчиков, и приказал его наказать. За придворными пиршествами следовали ужасные экзерциции, которыми он изнурял солдат. Его страсть к военной тактике не знала никакой меры; он желал, чтобы беспрерывный пушечный гром представлял ему наперед военные действия, и мирная столица уподоблялась осажденному городу. Он приказал однажды сделать залп из ста осадных орудий, и дабы отклонить его от сей забавы, надлежало ему представить, что он разрушил город. Часто, выскочив из-за стола со стаканом в руке, он бросался на колени пред престолом короля прусского и кричал: «Любезный брат, мы покорим с тобою всю вселенную!» Посланника его он принял к себе в особенную милость и хотел, чтобы он до отъезда в поход пользовался при дворе благосклонностию всех молодых женщин. Он запирал его с ними и с обнаженною шпагою становился на караул у дверей; и когда в такое время явился к нему великий государственный канцлер с делами, тогда он сказал ему: «Отдавайте свой отчет принцу Георгу, вы видите, что я солдат». Принц Георг голштинского дома был ему дядя, служивший генерал-лейтенантом у короля прусского; ему-то он иногда говорил публично: «Дядюшка, ты плохой генерал, король выключил тебя из службы». Как ни презрительно было таковое к нему чувство, он поверял, однако, все сему принцу по родственной любви к своей фамилии. В то время, когда уже был лишен престола, он хотел сделать его обладателем, принудив Бирона уступить ему так называемые права свои на герцогство Курляндское, и еще с самого начала своего царствования, некстати повинуясь сему родственному чувствованию, к сожалению всех русских, он вызвал к себе всех принцев и принцесс всего многочисленного дома.
Взоры всех обратились на императрицу, но сия государыня, по-видимому, уединенная и спокойная, не внушала никакого подозрения. Во время похорон покойной императрицы она приобрела любовь народа примерною набожностью и ревностным хранением обрядов греческой церкви, более наружных, нежели нравственных. Она старалась привлечь к себе любовь солдат единственным средством, возможным в ее уединении, разговаривая милостиво с наружными и давая целовать им свою руку. Однажды, проходя темную галерею, караульный отдал ей честь ружьем; она спросила: почему он ее узнал? Он отвечал в русском, несколько восточном вкусе: «Кто тебя не узнает, матушка наша? Ты освещаешь все места, которыми проходишь». Она выслала ему золотую монету, и поверенный ее склонил его в свою партию. Получив обиду от императора, всякий раз, когда надобно ей было явиться при дворе, она, казалось, ожидала крайних жестокостей. Иногда при всех, как будто против ее воли, навертывались у ней слезы, и она, возбуждая всеобщее сожаление, приобрела новое себе средство. Тайные соучастники разглашали о ее бедствиях, и казалось, что она в самом деле оставлена в таком небрежении и в таком недоверии, что лишена всякой силы в хозяйственном распоряжении и будто служители ее повинуются ей только из усердия.
Если судить о ее замыслах по ее бедствиям и оправдывать ее решительность опасными ожиданиями, то надобно спросить: какие именно были против нее намерения ее мужа? Как их точно определить? Такой человек не имел твердого намерения, но поступки его были опасны. Известнее всего то, что он хотел даровать свободу несчастному Иоанну и признать его наследником престола, что в сем намерении он приказал привезти его в ближайшую к Петербургу крепость и посещал его в тюрьме. Он вызвал из чужих стран графа Салтыкова, того... который по мнимой надобности в наследственной линии был избран для императрицы, и принуждал его объявить себя публично отцом великого князя, решившись, казалось, не признавать сего ребенка. Его возлюбленная начинала безмерно горячиться. Во дворце говорили о разводе молодых дам, которые приносили справедливые жалобы на своих мужей. Император точно приказал изготовить двенадцать кроватей, во всем равных, для каких-то двенадцати свадеб, из коих не было в виду ни одной. Уже слышны были одни жалобы, роптание и уловки людей, взаимно друг друга испытывавших.
В уединенных прогулках императрица встречалась задумчивою, но печальною. Проницательный глаз приметил бы на лице ее холодную великость, под которою скрываются великие намерения. В народе пробегали возмутительные слухи, искусно рассеянные для вернейшего его возмущения. Это был отдаленный шум предмета ужасной бури, и публика с беспокойством ожидала решительной перемены от великого переворота, слыша со всех сторон, что погибель императрицы неизбежна, и чувствуя также, что революция приготовлялась. Посреди всеобщего участия в судьбе императрицы ужаснее всего казалось то, что не видно было в ее пользу никакого сборища и не было в виду ни одного защитника; бессилие вельмож, ненадежность всех известных людей не дозволяли ни на ком остановить взоров, между тем как все сие произведено было человеком, досель неизвестным и скрытым от всеобщего внимания.
Григорий Григорьевич Орлов, мужчина стран северных, не весьма знатного происхождения, дворянин, если угодно, потому что имел несколько крепостных крестьян и братьев, служивших солдатами в полках гвардейских, был избран в адъютанты к начальнику артиллерии графу Петру Ивановичу Шувалову, роскошнейшему из вельмож русских. По обыкновению сей земли, генералы имеют во всякое время при себе своих адъютантов; они сидят у них в передней, ездят верхом при карете и составляют домашнее общество. Выгода прекрасной наружности, по которой избран Орлов, скоро была причиною его несчастия. Княгиня Куракина, одна из отличных природных щеголих, темноволосая и белолицая, живая и остроумная красавица, известна была в свете как любовница генерала, а на самом деле его адъютанта. Генерал был столь рассеян, что не ревновал; но надлежало уступить очевидному доказательству; по несчастию, он застал его. Адъютант был выгнан и, верно, был бы сослан навсегда в Сибирь, если бы невидимая рука не спасла его от погибели. Это была великая княгиня. Слух о сем происшествии достиг ушей ее в том уединении, которое она избрала себе еще до кончины императрицы Елисаветы. Что было говорено о сем прекрасном несчастливце, уверяло ее, что он достоин ее покровительства; притом же княгиня Куракина была так известна, что можно всякий раз, завязав глаза, принять в любовники того, который был у нее.
Горничная, женщина ловкая и любимая, Екатерина Ивановна, употреблена была в посредство, приняла все предосторожности, какие предусмотрительная недоверчивость внушить может, и Орлов, любимец прекрасной незнакомки, не зная всего своего счастия, был уже благополучнейший человек в свете. Что ж чувствовал он тогда, когда в блеске публичной церемонии увидел он на троне обожаемую им красоту? Однако же он тем не более стал известен. Вкус, привычка или обдуманный план,– но он жил всегда с солдатами, и хотя по смерти генерала она доставила ему место артиллерийского казначея с чином капитана, но он не переменил образа своей жизни, употребляя свои деньги, чтобы привязать к себе дружбою большое число солдат. Однако он везде следовал за своею любезною, везде был перед ее глазами, и никогда известные сношения не производились с таким искусством и благоразумием. При дворе недоверчивом она жила без подозрения, и только тогда, когда Орлов явился на высшей степени, придворные признались в своей оплошности, припоминали себе условленные знаки и случаи, по которым все долженствовало бы объясниться. Следствием сих поздних замечаний было то, что они давно имели удовольствие понимать друг друга, не открыв ничего своею нескромностью. Таким-то образом жила великая княгиня, между тем как целая Европа удивлялась благородству ее сердца и несколько романтическому постоянству.
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была младшая из трех знаменитых сестер, из коих первая, графиня Бутурлина, прославилась в путешествиях по Европе своею красотою, умом и любезностью, а другая – Елизавета Воронцова, которую великий князь избрал между придворными девицами и фрейлинами. Все они были племянницы нового великого канцлера гр. Воронцова, который, достигнув сей степени тридцатилетнею искательностью, услугами и гибкостью, наслаждался ею в беспорядке и роскоши и не доставлял ничего своим племянницам, кроме своей случайности. Первые две были приняты ко двору, а младшая воспитывалась при нем. Она видела тут всех иностранных министров, но с 15-ти лет желала разговаривать только с республиканскими. Она явно роптала против русского деспотизма и изъявляла желание жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и терпимость вероисповеданий. Страсть ее к славе еще более обнаруживалась; примечательно, что в стране, где белила и румяна были у дам во всеобщем употреблении, где женщина не подойдет без румян под окно просить милостыни, где в самом языке слово красный есть выражение отличной красоты и где в деревенских гостинцах, подносимых своим помещикам, необходимо по порядку долженствовала быть банка белил,– в такой, говорю, стране 15-летняя девица Воронцова отказалась повиноваться навсегда сему обычаю. Однажды, когда князь Дашков, один из отличнейших придворных, забавлял ее разговором в лестных на своем языке выражениях, она подозвала великого канцлера с сими словами: «Дядюшка! Князь Дашков мне делает честь своим предложением и просит моей руки». Собственно говоря, это была правда, и молодой человек, не смея открыть первому в государстве человеку, что сделанное им его племяннице предложение не совсем было такое, на ней женился и отправил ее в Москву за 200 миль; она провела там 2 года в отборном обществе умнейших людей; но сестра ее, любовница великого князя, жила, как солдатка, без всякой пользы для своих родственников, которые посредством ее ласкались управлять великим князем, но по своенравию и ее неосновательности видели ее совершенно неспособною выполнить их намерения. Они вспомнили, что княгиня Дашкова тонкостию и... гибкостию своего ума удобно выполнит их надежды и хитро овладеет другими, употребили все способы, чтобы возвратить ее ко двору, который находился тогда вне города. Молодая княгиня с презрением смотрела на безобразную жизнь своей сестры и всякий день проводила у великой княгини. Обе они чувствовали равное отвращение к деспотизму, который всегда был предметом их разговора, а потому она и думала, что нашла страстно любимые ею чувствования в повелительнице ее отечества. Но как она делала противное тому, чего от нее ожидали, то и была принуждена оставить двор с живейшим негодованием против своих родственников и с пламенною преданностию к великой княгине. Она поселилась в Петербурге, живя скромно и охотнее беседуя с иностранцами, нежели с русскими, занимая пылкие свои дарования высшими науками, видя при первом взгляде, сколь не давали во оных любезные ее соотечественники, и обнаруживая в дружеских своих разговорах, что и страх эшафота не будет ей никогда преградою. Когда сестра ее готовилась взойти на престол, она гнушалась возвышением своей фамилии, которое основалось на погибели ее друга, и если удерживалась от явного роптания, то причиною тому были решительные планы, кои при самом начале она себе предначертала.
Во всеобщем забвении сии-то были две тайные связи, которые императрица про себя сохраняла, и как они друг другу были не известны, то она управляла в одно время двумя партиями и никогда их не соединяла, надеясь одною возмутить гвардию, а другою восстановить вельмож.
Орлов для лучшего успеха продолжал тот же образ жизни. Его первыми соучастниками были братья и искренний его друг Бибиков. Сии пять человек, в чаянии нового счастия или смерти, продали все свое наследство и рассыпались по всем питейным домам. Искусство, с которым императрица умела поставить Орлова хранителем артиллерийской казны, доставило им знатные суммы, которыми они могли удовлетворять все прихоти солдат. Во всеобщем волнении умов нетрудно было дать им одинаковое направление; во всех полках рассеивали они негодование и мятеж, внушали сострадание к императрице и желание жить под ее законами. Чтобы уверить ее в первом опыте, они склонили целые две роты гвардейского Измайловского полка и крестным целованием приняли от них присягу. На всякий случай хотели удостовериться даже и в их полковнике, зная, что по характеру своему он не способен ни изменить заговор, ни сделаться его зачинщиком.
Это был граф Кирилло Григорьевич Разумовский, простой казак, который, живучи в самом низком промысле по брачному состоянию своего брата с покойною императрицею, достиг до такой милости, что для него восстановили ужасное звание гетмана, или верховного малороссийского казачьего предводителя. Сей человек колоссальной красоты, непричастный ни к каким хитростям и изворотам, был любим при дворе за свою сановитость, пользовался милостию императора и народною любовию за то, что в почестях и величии сохранял ту простоту нрава, которая ясно показывала, что он не забывал незнатного своего происхождения; не способный быть зачинщиком, от его присутствия в решительную минуту мог зависеть перевес большинства. Орлов, которого он никогда не видал, осмелился потребовать от него секретного приема, представил глазам его все беспорядки правления и без труда получил обещание, что при первой надобности он представится к услугам императрицы. Разумовский не принял, да от него и не требовали другого обязательства. Орлов уведомил о сем государыню в тайных своих свиданиях, которыми избегали они как злословия казарм, так и самого двора, и поелику она была тогда в припадках беременности, о которой она никому не сказывала, то одна завеса скрыла и любовь ее с ним, и единомыслие.
С другой стороны, императрица поддерживала свою связь с княгиней Дашковой беспрестанными записками, которые сначала были не что иное, как игра юных умов, а потом сделались опасною перепискою. Сия женщина, дав своему мужу поручение, чтобы избавиться труда объяснять ему свои поступки, а может быть, для того, чтоб удалить его от опасностей, которым сама подвергалась, притворилась нездоровою и как бы для употребления вод выехала жить в ближайший к городу сад, где, принимая многочисленные посещения, избавилась всякого подозрения.
Недовольные главы духовенства, и в особенности архиепископ новгородский, при первом слове обещали со стороны своей всякое пособие. Между вельможами искала она прежние происки императрицы и с некоторыми только возобновила их опять.
Один только человек, который по званию своему казался необходим для той и другой партии,– граф Разумовский; но императрица, тайно уверившись в нем, предупредила княгиню, что уже не нужно было ему об этом говорить, что с давнего времени он обещал уже ей свое содействие, когда то будет нужно, что она, зная его слишком твердо, полагается на его обещание и что надобно только уведомить его в решительную минуту. Слова сии, доказывающие и благоразумную осмотрительность, и великодушную доверенность, чистосердечно были приняты доверчивою княгинею и легко отвратили ее от единственного пути, на котором она могла сведать о двояком происке. Но обстоятельство, несовместное с выгодами государыни и княгини, противоположило им непреодолимое препятствие.
Екатерина, обратив в свою пользу оскорбление, которое император сделал ее сыну, не называя его наследником престола, хотела сама оным воспользоваться.
Дядька малолетнего великого князя граф Панин, которого польза, сопряженная с пользою его воспитанника, без труда склоняла его в заговор, хотел, лишив короны императора Петра III, возложить оную по праву наследства на законного наследника и предоставить императрице регентство. Долго и упорно сопротивлялся он всякому другому предложению. Тщетно княгиня Дашкова, в которую он был страстно влюблен, расставляла ему свои сети; она льстила его страсти, но была непоколебима, полагая между прочими причинами по тесной связи, которую имела с ним мать ее, что она была дочь этого любовника. Пиемонтец по имени Одар, хранитель их тайны, убедил сию женщину отложить всякое сомнение и на сих условиях также пожертвовать своим ребенком. Чтобы иметь понятие об этом пиемонтце, довольно привести здесь собственные его слова к одному из его преданных: «Я родился бедным; видя, что ничто так не уважается в свете, как деньги, я хочу их иметь, сего же вечера готов для них зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой».
Панин и княгиня одинаково мыслили насчет своего правления, и если последняя по врожденному чувству ненавидела рабство, то первый, быв 14 лет министром своего двора в Швеции, почерпнул там некоторые республиканские понятия; оба соединились они в намерении исторгнуть свое отечество из рук деспотизма, и императрица, казалось, их ободряла; они сочинили условия, на которых знатнейшие чиновники, отрешив Петра III, при единственном избрании долженствовали возложить корону на его супругу, с ограниченною властью. Таковое предположение завлекло в заговор знатную часть дворянства. Исполнение сего проекта приобретало ежедневно более вероятности, и Екатерина, употреблявшая его средством обольщения, чувствовала, что от нее требуют более, нежели она хочет.
В то же самое время обе партии начинали встречаться. Княгиня, уверенная в расположении знатных, испытывала солдат; Орлов, уверенный в солдатах, испытывал вельмож. Оба, незнаемые друг другу, встретились в казармах и посмотрели друг на друга с беспокойным любопытством. Императрица, которую уведомили они о сей встрече, почитала за нужное соединить обе стороны и имела столько искусства, что, подкрепляя одну другою, она сделалась главным лицом всего действия.
Орлов, наученный ею, обратил на себя внимание княгини, которая, думая, что чувства, ее одушевлявшие, были необходимы в сердце каждого, видела во главе мятежников ревностного патриота. Она никак не подозревала, чтобы он имел свободный доступ к императрице, и с сей минуты Орлов, сделавшись в самом деле единым и настоящим исполнителем предприятия, имел особенную ловкость казаться только сподвижником княгини Дашковой.
Но как скоро открылось перед ним намерение вельмож, он опрокинул все их предположения и клялся не допустить, чтобы они предлагали условия своей монархине. Он сказал, что, поелику императрица дала слово установить права их вольности, они должны ей верить, впрочем, как им угодно, но он предводитель солдат; он и гвардия будут действовать одни, если это нужно, и имеют довольно силы, чтобы сделать ее монархинею.
Тут не забыли и народ, и чтобы поселить дух возмущения, то пропустили слух, будто оное вспыхнуло во всех губерниях; будто монастырские крестьяне сбегались толпами со всех сторон и не повиновались новому указу; будто крымские татары стоят на границе и приготовлялись к нападению, как скоро император выведет все войска из империи для войны, совершенно чуждой для России. Не только сии слухи, смесь истины и лжи, быстро распространялись, как и везде случается, где правление становится ненавистным и где всеобщее негодование жадно хватается за все, что может ему льстить или раздражать; но в России, где не разговаривают о делах публичных, где за сие любопытство иногда наказывают смертью, подобные слухи сами по себе были уже началом бунта, и безрассудная нелепость императора к отъезду истребила из его памяти, что, по древнему обыкновению, должно ехать в Москву и принять корону прежних царей в Соборной церкви, почему явно почти кричали, что позволительно свергнуть с престола государя, который небрежет помазать себя на царство.
В то же время императрица уведомляла министров тех дворов, коих союз нарушил император, что она ненавидит такое вероломство и находится принужденною просить у них денег, в которых начинала она нуждаться. Сии министры, и особенно французский, барон Брейтель, привыкшие с давних лет управлять умами сей нации, в теперешнем переломе общественных дел старались споспешествовать намерениям, в которые увлекали императора враги их государей. Они немедленно воспользовались средством, которое подавал к тому сей заговор; и хотя им предписано было от дворов не принимать особенного участия в сих движениях, однако они деятельно и успешно старались доставить императрице всех своих участников. Напротив, министры, друзья императорские, всячески старались ускорить отъезд его, в угодность ему предавались изнурительным удовольствиям двора, и между тем как им расставляли везде сети, они восхищались успехами своей деятельности, видя проходящие со всех сторон войска, готовый выступить в море флот, императора, усиленного всеми способами своей империи, и уже назначенный день своего отъезда.
И так составилась многочисленная партия и надежные средства, между тем как в минуту наступившей опасности казалось, что у них никакого еще плана нет к сему заговору. Знающие хорошо русскую нацию и прежних заговорщиков уверяют, что такого рода предприятия должны всегда так производиться, и хотя сей народ весьма способен к возмущениям по образу своего правления, по враждебному расположению к тайному и по самому терпенью в наказаниях, по причине непримиримой вражды, гнездящейся во всех фамилиях, и крайней недоверчивости их друг к другу, неблагоразумно было бы собирать тут общество заговорщиков, которые раздробили бы на разные части исполнение одного намерения; притом же привычка видеть, как часто восходят из самых низких состояний на первые степени, давала каждому право на ту же надежду; следственно, было бы опасно указывать на главные лица, которых будущее величие могло бы возбудить в них зависть, а надлежало, уверившись в каждом порознь, подавать им надежду на величайшую милость и не прежде их соединять, как в самую минуту исполнения. Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено и гвардии капитан Пассик лежал бы у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы среди белого дня в виду целой гвардии поразить императора. Сей человек и некто Баскаков, его единомышленник, стерегли его дважды подле пустого и того самого домика, который прежде всего Петр Великий приказал построить на островах, где основал Петербург и который посему русские с почтением сохраняют; это была уединенная прогулка, куда Петр III хаживал иногда по вечерам со своею любезною и где сии безумцы стерегли его из собственного подвига. Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силою, если можно, увезти; будет сопротивляться, заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид, а императрица, которая бы, казалось, не принимала ни малейшего участия в сем заговоре, отдаляя всякое на себя подозрение, долженствовала для виду уступать только просьбе народной и принять по добровольным и единодушным восклицаниям права, ни с какой стороны ей не принадлежащие. Таково было основание ее поведения, следствием которого было то, что она, будучи почти невидима в заговоре, действовала всеми его пружинами и даже после очевидных опытов, в которых она по необходимости себя обнаруживала, старалась направлять умы на прежнюю точку зрения.
Император был в деревне за 12 миль. Императрица, избегая подозрений, если бы осталась в городе во время его отсутствия, удалилась сама в другую. Срок отъезда императора на войну положен был по его возвращении, а императрица назначила в то же время исполнение своего заговора; но сумасбродная ревность того самого капитана Пассика все разрушила. Этот неистовый соучастник, неумеренный в своих выражениях, говорил о злоумышлении пред одним солдатом, которого недавно побил. Сей тотчас донес на него в полковой канцелярии, и 8 июля в 9 часов вечера Пассик был арестован, а к императору отправлен тотчас же курьер.
Без предосторожности пиемонтца Одара, которая втайне была известна только ему и княгине Дашковой, все было бы потеряно.
Близ каждого начальника места находился шпион, который не упускал его из виду. В четверть десятого княгиню уведомили, что Пассик был арестован. Она послала за графом Паниным и предложила в ту же минуту начать исполнение – предложение такое точно, какое настоящие римляне некогда сделали в подобном заговоре: «Надобно взбунтовать вдруг народ и войско и собрать злоумышленников; неожиданность поразит умы, овладеет большею частью оных; император совсем не приготовлен к отражению сего удара; нечаянное нападение изумляет самых отважных, да и что мог противопоставить им сей Дон-Кишот с шайкою развратников? Вещи, невозможные здравому рассуждению, выполняются единственно по отважности, и как сохранить тайну между пораженными ужасом заговорщиками? Верность присяге устоит ли между казнью и наградами? Чего было ожидать? Смерть была неминуема, и смерть постыдная. Не лучше ли было погибнуть за свободу отечества, умоляя его о помощи, погибнуть от ошибки солдат и народа, если они откажутся помогать, но быть достойным и своих предков, и бессмертия?
Римский заговорщик не последовал сему совету и умер от руки палача. Русский думал также, что поспешное открытие испортило бы все дело; если бы и успели взбунтовать весь Петербург, то сие было бы не что иное, как начало междоусобной войны, между тем как у императора в руках военный город, снаряженный флот, 3000 собственных голштинских солдат и все войска, проходившие для соединения с армией; ночь никак не благоприятствовала исполнению, ибо в сие время оные бывают ясны; императрица в отсутствии и не может приехать прежде утра; надлежало подумать о следствиях, и не поздно было бы условиться в исполнении оного на другой день. Так думал граф Панин, по своей медлительности, и лег спать.
Княгиня Дашкова выслушала и ушла. Уже была полночь. Сия 18-летняя женщина одевается в мужское платье, оставляет дом, идет на мост, где собирались обыкновенно заговорщики. Орлов был уже там со своими братьями. Любопытно видеть, как счастие помогло неусыпности. Узнав об аресте Пассика и времени немедленного возмущения, все оцепенели, и когда радость заняла место прежнего удивления, все согласились на сие с восторгом. Один из сих братьев, отличавшийся от других рубцом на лице от удара, полученного на публичной игре, простой солдат, который был бы редкой красоты, если бы не имел столь суровой наружности, и который соединял проворство с силою, отправлен был от княгини с запискою в сих словах: «Приезжай, государыня, время дорого». Другие ж и княгиня приготовлялись во всю ночь с таким искусством, что к приезду императрицы было все уже готово, или если бы какое препятствие остановило ее, то никакой безрассудный шаг не открыл бы их тайны. Они даже предполагали, что предприятие могло быть неудачное, и на сей случай приготовили все к побегу ее в Швецию. Орлов со своим другом зарядили по пистолету и поменялись ими с клятвою не употреблять их ни в какой опасности, но сохранить на случай неудачи, чтобы взаимно поразить друг друга. Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно.
Императрица была за 8 миль в Петергофе и под предлогом, что оставляет императору в полное распоряжение весь дом из опасения помешать ему с его двором, жила в особом павильоне, который, находясь на канале, соединенном с рекою, доставлял при первой тревоге более удобности к побегу в нарочно привязанной под самыми окнами лодке.
Означенный Орлов узнал от своего брата самые потаенные изгибы в саду и павильоне. Он разбудил свою государыню, и, думая присвоить в пользу своей фамилии честь революции, сей солдат имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: «Государыня, не теряйте ни минуты, спешите!» И, не дождавшись ответа, оставил ее, вышел и исчез.
Императрица в неизъяснимом удивлении одевалась и не знала, что начать; но тот же самый человек с быстротою молнии скачет по аллеям парка. «Вот ваша карета!» – сказал он, и императрица, не имея времени одуматься, держась рукою за Екатерину Ивановну, как бы увлеченная, бежала к воротам парка. Она увидела тут карету, которую сей Орлов отыскал на довольно отдаленной даче, где, по старанию княгини Дашковой, за два дня перед сим стояла она на всякий случай в готовности,– для того ли, что по нетерпению гвардии ожидали действия заговора несколько прежде, или для того, чтобы иметь более средств сохранить императрицу от всякой опасности, содержа подставных лошадей до соседственных границ.
Карета отправилась с наемными крестьянами, запряженная в 8 лошадей, которые в сих странах, будучи татарской породы, бегают с удивительною быстротою.
Екатерина сохраняла такое присутствие духа, что во все время своего пути смеялась со своею горничною какому-то беспорядку в своем одеянии.
Издали усмотрели открытую коляску, которая неслась с удивительною быстротою, и как сия дорога вела к императору, то и смотрели на нее с беспокойством. Но это был Орлов, любимец, который, прискакав навстречу своей любезной и крича: «Все готово!» – пустился обратно вперед с тою же быстротою. Таким образом продолжали путь свой к городу. Орлов один в передней коляске, за ним императрица со своею женщиною, а позади Орлов-солдат с товарищем, который его провожал.
Близ города они встретили Мишеля, француза-камердинера, которому императрица оказывала особую милость, храня его тайны и отдавая на воспитание побочных его детей. Он шел к своей должности, с ужасом узнал императрицу между такими проводниками и думал, что ее везут по приказу императора. Она высунула голову и закричала: «Последуй за мною!» – и Мишель с трепещущим сердцем думал, что едет, в Сибирь.
Таким-то образом, чтобы деспотически чувствовать в обширнейшей в мире империи, прибыла Екатерина в восьмом часу утра, по уверению солдата, с наемными кучерами, руководимая любимцем, своею женщиною и парикмахером.
Надлежало переехать через весь город, чтобы явиться в казармах, находящихся с восточной стороны и образующих в сем месте совершенный лагерь. Они приехали прямо к тем двум ротам Измайловского полка, которые уже дали присягу. Солдаты не все выходили из казарм, ибо опасались, чтобы излишнею тревогою не испортить начала. Императрица сошла на дорогу, идущую мимо казарм, и между тем как ее провожатые бежали известить о ее прибытии, она, опираясь на свою горничную, переходила большое пространство, отделяющее казармы от дороги. Ее встретили 30 человек, выходящих в беспорядке и продолжающих надевать кителя и рубашки. При сем зрелище она удивилась, побледнела и ужас, видимо, овладел ею. В ту же минуту, которая представляла ее еще трогательнее, она говорит, что пришла к ним искать своего спасенья, что император приказал убить ее и с сыном и что убийцы, получа сие повеление, уже отправились. Все единогласно поклялись за нее умереть. Прибегают офицеры, толпа увеличивается. Она посылает за полковым священником и приказывает принести распятие. Бледный, трепещущий священник явился с крестом в руке и, не зная сам, что делал, принял от солдат присягу.
Тогда явился граф Разумовский, более преданный ей, нежели императору; с ним приехали: генерал Волхонский и племянник того великого канцлера, который отрешен, между прочим, за особенную преданность свою к сей государыне; граф Шувалов, который в последнее царствование с редким благоразумием пользовался величайшею к нему милостью и которого любили солдаты, воспоминая Елисавету; граф Брюс, премьер-майор гвардии; граф Строганов, которого супруга вместе с графинею Брюс были с императором, обе знаменитые по своей красоте и почитаемые в числе, как говорили, назначенных к разводу. В сем первом собрании некоторые провозгласили императрицу правительницею. Орлов прибег к ним, говоря, что не должно оставлять дело вполовину и подвергаться казни, откладывая его до другого времени, и первого, кто осмелится упомянуть о регентстве, он заколет из собственных рук. Майор Шепелев, на которого полагались, не явился, и первый ордер, данный императрицею, был такой: «Скажите ему, что я не имею в нем надобности и чтобы его посадили под арест». Простые офицеры явились к своим местам и командовали к оружью. Замечательно, что из великого числа субалтерных офицеров, давших свое слово, один только, именем Пушкин, по несчастию или по слабости, не сдержал его. Императрица объехала кругом казарм и пробежала пешком каждый из трех гвардейских полков – стражу, всегда ужасную своим государям, которая, некогда быв составлена Петром I из иностранцев, охраняла его от мятежников, но потом, умноженная числом русских, уже трикратно располагала регентством и короною.
Идучи от Измайловских казарм к Семеновским, предводительствуя тем первым полком, который возмутила она только представлением своих опасностей, солдаты кричали, что, идучи пред ними, она была не без опасности, и составили сами собою баталион-каре. Во всех казармах только два офицера Преображенского полка воспротивились своим солдатам и были арестованы. Проходя мимо полковой тюрьмы, где Пассик-заговорщик содержался, она послала его освободить, и тот, который приготовился перенести все пытки, не открывая тайны, пораженный столь непредвидимою новостью, имел дух не доверять, подозревая в том хитрость, посредством которой по его движениям хотят открыть цель заговора, и не пошел. Когда собрались все три полка, солдаты кричали «ура!», почитали уже все конченным и просили целовать руку императрицы; тогда она, укротив сей восторг, милостиво представила им, что в сию минуту у них есть другое дело. Орлов бежал к артиллерии, войску многочисленному, опасному, которого все почти солдаты носили знаки отличия за кровавые брани против короля прусского. Он воображал, что звание казначея давало ему столько доверенности и они тотчас примутся для него за оружие; но они отказались повиноваться и ожидали приказания от своего генерала.
Это был Вильбуа, французский эмигрант, главнокомандующий артиллериею и инженерами, человек отличной храбрости и редкой честности. Любимый несколько лет Екатериной, он надеялся быть таковым и вперед; посредством его даже во время немилости доставила она Орлову место казначейское, столь полезное своим намерениям. Но Орлов, без сомнения, желая разорвать его связь с императрицею, не включил его в число заговорщиков. Он работал в это время с инженерами, когда один из заговорщиков объявил ему, что императрица, его государыня, приказывает ему явиться к ней в гвардейские караулы. Вильбуа, удивленный таким приказанием, спросил: «Разве император умер?» Посланный, не отвечая ему, повторил те же слова, и Вильбуа, обращаясь к инженерам, сказал: «Всякий человек смертен»,– и последовал за адъютантом.
Вильбуа, до сей минуты ласкавший себя надеждою быть любимым, приехав в казармы и видя императрицу, окруженную сею толпою, со смертельною досадою чувствовал, что столь важный прожект произвели в действо, не сделав ему ни малейшей доверенности. Он обожал свою государыню и, притворно или действительно извиняясь пред нею в затруднениях, которые представлялись ему при ее действии ее предприятия единственно потому, что по несчастью не имел участия в ее тайне, старался чрез то упрекать ее: «Вам бы надлежало предвидеть, государыня»,– прибавил он, но она поспешила прервать его и отвечала ему со всею гордостью: «Я не затем послала за вами, чтобы спросить у вас, что надлежало мне предвидеть, но чтобы узнать, что вы хотите делать». Тогда он бросился на колени, говоря: «Вам повиноваться, государыня»,– и отправился, чтобы вооружить свой полк и открыть императрице все арсеналы.
Из всех известных людей, которые были преданы императору, оставался в городе один только принц Георг голштинский, его дядя. Адъютант уведомил его, что в казармах бунт, он поспешно оделся и тотчас был арестован со всем семейством.
Императрица, окруженная уже десятью тысячами человек, вошла в ту же самую карету и, зная дух своего народа, повела их к Соборной церкви и вышла помолиться. Оттуда поехала она в огромный дворец, который одной стороной стоит над рекой, а другой обращен к обширной площади. Сей дворец, сколь возможно, был окружен солдатами. При концах улиц поставлены были пушки и готовы фитили. Площади и другие места были заняты караулами, и чтобы не допустить ни малейшего сведения императору о происходившем, то поставили отряд солдат на мосту, ведущем при выезде из Петербурга на ту дачу, где был император, но было уже поздно.
В целом городе один иностранец выдумал уведомить императора – это был некто Брессан, урожденный из княжества Монако, но воспитанный по-французски, почему и выдавал себя в России за француза, чтобы иметь лучший прием и покровительство, человек умный и честный, которого император принял к себе в парикмахеры, чтобы возвести его на первые степени счастия, и который, по крайней мере в сем случае, оправдал своею верностию высшую к нему милость. Он послал ловкого лакея в крестьянском платье на деревенской тележке и, не смея полагаться в такую минуту ни на кого из окружавших императора... приказал посланному своему вручить лично ему свою записку. Сей мнимый крестьянин только что проехал, когда заняли солдаты мост.
Один офицер с многочисленным отрядом бросился по повелению императрицы к молодому великому князю, который спал в другом дворце. Сей ребенок, узнав о предстоящих опасностях своей жизни, проснулся, окруженный солдатами, и пришел в ужас, которого впечатление оставалось в нем на долгое время. Дядька его Панин, бывший с ним до сей минуты, успокаивал его, взял на руки во всем ночном платье и принес его таким образом матери.
Она вынесла его на балкон и показала солдатам и народу. Стечение было бесчисленное, и все прочие полки присоединились к гвардии. Восклицания повторялись долгое время, и народ в восторге радости кидал вверх шапки. Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, пронесенные по главным улицам, и никто не знал, чье погребение. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы; а между тем, как внимание народа было все на сем месте, сия церемония скрылась из вида. Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: «Мы хорошо приняли свои меры».
Вероятно, сие явление выдумано, чтобы между чернию и рабами распространить полное понятие о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении и, действуя в одно время на умы и сердца зрителей, произвести всеобщее единодушное провозглашение. И подлинно, из всего множества на месте и по улицам стеснившегося народа едва ли двадцать человек, даже и во дворце, понимали все сие происшествие, как оно было. Народ, солдаты, не зная, жив или нет император и восклицая беспрестанно «ура!» – слово, не имеющее другого смысла, кроме выражения радости, – думали, что провозглашают императором юного великого князя и матери дают регентство. Многие заговорщики, поспешая в первые минуты уведомить друзей своих, писали им ложную сию новость, от чего все были в полной радости, никакая мысль о несправедливости не возмущала народного самодовольствия, и друзья целовались, поздравляя себя взаимно.
Но манифест, розданный по всему городу, скоро объяснил истинное намерение, манифест печатный, который пиемонтец Одар в смертельном страхе хранил уже несколько дней в своей комнате. На другой день, как бы отдыхая на свободе, он говорил: «Наконец я не боюсь быть колесован». В нем заключалось, что императрица Екатерина II, убеждаясь просьбою своих народов, взошла на престол любезного своего отечества, дабы спасти его от погибели, и, укоряя императора, с негодованием восставала против короля прусского и отнятия у духовенства имущества. Так говорила немецкая принцесса, которая подтверждала сей союз и привела к окончанию помянутое отнятие имений.
Все вельможи, узнав поутру о сей новости, торопились во дворец; это было не последнее зрелище, которое представляли их физиономии, изображавшие беспокойство и радость, где суета и улыбка видимы были на бледных и испуганных лицах.
Они услышали во дворце торжественную службу, увидели священников, принимающих присягу в верности, и императрицу, употребляющую все способы обольщения. В присутствии ее был шумный совет о том, что долженствовало быть вперед. Всякий, страшась опасности и стараясь показать себя, предлагал и торопился исполнить. Не почитая нужным никакие предосторожности против города, совершенно возмущенного, и не предвидя никакой опасности оставить позади себя Петербург, скоро положено было, не теряя ни минуты, вести всю армию против императора. Великий шум между солдатами прервал их совещание. В беспрестанной тревоге насчет предстоявшей императрице опасности и ожидая всякую минуту, чтобы мнимые убийцы, посланные к ней и ее сыну, к ней не приехали, они полагали, что она не довольно безопасна в сем обширном дворце, который с одной стороны омывается рекою и, не быв окончен, казался открыт со всех сторон. Они говорили, что не могут ручаться за жизнь ее, и с великим шумом требовали, чтобы перевели ее в старый деревянный дворец, гораздо меньший, который, будучи на небольшом пространстве, могли бы они окружить со всех четырех сторон. И так императрица перешла площадь при самых шумных восклицаниях. Солдатам раздавали пиво и вино; они переоделись в прежний свой наряд, кидая со смехом прусский униформ, в который одел их император и который в их холодном климате оставлял солдата почти полуоткрытым, встречали с громким смехом тех, которые по скорости прибегали в сем платье, и их новые шапки летели из рук в руки, как мячи, делаясь игрою черни.
Один полк явился печальным; это были прекрасные кавалеристы, у которых с детства своего император был полковником и которых по восшествии на престол он тотчас ввел в Петербург и дал им место в гвардейском корпусе. Офицеры отказались идти и были все арестованы, а солдаты, коих недоброхотство было очевидно, были ведены другими из разных полков.
В полдень первое российское духовенство, старцы почтенного вида (известно, сколь маловажные вещи, действуя на воображение, делаются в сии решительные минуты существенной важностию), украшенные сединами, с длинными белыми бородами, в блестящем и приличном одеянии, приняв царские регалии, корону, скипетр и державу со священными книгами, покойным и величественным шествием проходили чрез всю армию, которая с благоговением хранила тогда молчание. Они вошли во дворец, чтобы помазать на царство императрицу, и сей обряд производил в сердцах, не знаю, какое-то впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию и хищению.
Как скоро совершили над нею, она тотчас переоделась в прежний гвардейский мундир, который взяла у молодого офицера такого же роста. После благоговейных обрядов религии следовал военный туалет, где тонкости щегольства возвышали нарядные прелести, где молодая и прекрасная женщина с очаровательной улыбкою принимала от окружавших ее чиновников шляпу, шпагу и особенно ленту первого в государстве ордена, который сложил с себя муж ее, чтобы вместо него носить всегда прусский.
В сем новом наряде она села верхом у крыльца своего дома и вместе с княгинею Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляла войскам, как будто хочет быть их генералом, и веселым и надежным своим видом внушала им доверенность, которую сама от них принимала.
Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять взошла во дворец и обедала у окна, открытого на площадь. Держа стакан в руке, она приветствовала войска, которые отвечали продолжительным криком; потом села опять на лошадь и поехала перед своею армиею.
Весь город был в смятении, и армия взбунтовалась без малейшего беспорядка; после выхода в Петербурге было все совершенно спокойно. В 6 часов появился казачий трехтысячный полк, идучи в недальнем расстоянии, которого посланные императрицы встретили прежде, нежели императорские; вслед за нею проходили через город хорошо вооруженные люди на добрых лошадях и офицеры, отменно учтивые. Шествие сие уподоблялось празднику, который поселял в воображении мысль о благополучии императрицы и ручался за благосостояние народа.
Краткое географическое описание необходимо нужно к уразумению следующих за сим обстоятельств. Нева впадает в море при конце Финского залива и служит ему продолжением. За 12 миль до ее устья на нескольких островах, где широта различных рукавов образует прекраснейший вид, за 60 лет построен Петербург на низком и болотистом месте, но которое по непрочности первых зданий, поспешно строенных, и от частых пожаров покрылось развалинами более 3 футов. Спускаясь по реке, правый берег еще не возделан и покрыт большими лесами, левый же образует холм повсюду одинаковой высоты, до самого того места, где оба берега расходятся на необозримое пространство и заключают между собою беспредельное море. На сем месте на высоте холма в прелестном положении стоит замок Ораниенбаум, который построил знаменитый Меншиков и который в несчастное время сего любимца по конфисковании его имения поступил в казну. Это особенное местопребывание императора в его молодости. Там была построена для учения его маленькая примерная крепость, у которой высота окопов была не более 6 футов, дабы молодому великому князю дать на опыте идею о великих управлениях, и потому сама по себе не способна была ни к какой обороне. В сем же намерении собрали там арсенал, не способный для вооружения войск, бывший не что иное, как кабинет военных редкостей, между коими хранились наилучшие памятники сей империи, знамена, отбитые у шведов и пруссаков. Император любил особенно сей замок и в нем-то жил с тремя тысячами собственного своего войска из герцогства Голштинского.
Против него виден простым глазом в самом устье реки на острове город Кронштадт. Дома построены со времен Петра I и, мало населенные, приходят в ветхость. Надежная и спокойная его пристань находится на стороне острова, обращенной к Ораниенбауму, которая весьма укреплена, а укрепления другой стороны не были докончены; но сей рукав реки, самой по себе опасной, сделался непроходимым по причине набросанных туда огромных камней. В пристани сего-то острова большая часть флота, готовая выступить в Голштинию, хорошо снабженная съестными припасами, амунициею и людьми, находилась под командою самого императора, а другая, под его же командою, была в Ревеле, старинном городе, лежащем далее на том же заливе.
По всей длине холма, идущего по берегу реки между Ораниенбаумом и Петербургом, в приятных рощах построены увеселительные дома русских господ не в дальнем между собою расстоянии. Посреди их находится прекрасный дворец, который построил Петр I по возвращении своем из Франции, надеясь поблизости моря сделать подражание водам версальским, В сем-то месте находилась императрица, и пребывание ее, как из сего видно, было избрано замечательно: между Петербургом, где был заговор, Ораниенбаумом, где был двор, и соседственным берегам Финляндии, где могла бы она найти свое убежище. В сей самый замок, именуемый Петергоф (двор Петра), император долженствовал прибыть в тот самый день, чтобы праздновать день своего ангела – святого Петра. Сей государь был в совершенной беспечности, и когда уведомили его о признаках заговора и об арестовании одного заговорщика, он сказал: «Это дурак». Из Ораниенбаума отправился он и весело продолжал путь свой в большой открытой коляске со своею любезною, с министром прусским, с прекраснейшими женщинами. Всех умы, казалось, были оживлены ожиданиями веселого праздника, но в Петергофе, куда он ехал, были уже в отчаянии. Бегство императрицы было очевидно, тщетно искали ее по садам и рощам. Часовой сказал, что в 4 часа утра он видел двух дам, выходящих из парка. Приезжавшие из Петербурга, не подозревая того, что происходило в казармах при их отъезде, не только не привезли никакой новости, но еще клятвенно уверяли, что там не было никакой перемены. Один из таковых и один из камергеров императрицы отправились пешком по той дороге, по которой надлежало ехать императору. Они встретили его любимца, адъютанта Гудовича, который ехал вперед верхом, и рассудили за благо открыть ему сию новость. Адъютант быстро повернул назад, остановил карету, несмотря, что император кричал: «Что за глупость?» – приблизившись, говорил ему на ухо. Император побледнел и сказал: «Пустите меня вон». Он остановился несколько времени на дороге и с крайнею горячностию расспрашивал адъютанта; но приметив близко ворота в парк, он приказал всем дамам выйти, оставил их среди дороги в удивлении и страхе от такого поступка, которого они не понимали причины, и, сказав только им, чтоб они приходили к нему в замок по аллеям парка, поспешно сел в карету с некоторыми людьми и погнал с удивительною быстротою. Приехав, он бросился в комнату императрицы, заглянул под кровать, открыл шкафы, пробовал своею тростью потолок и панели и, видя свою любезную, которая бежала к нему с теми молодыми дамами, он ей кричал: «Не говорил ли я, что она способна на все!» Все его придворные, признавая в душе своей роковую истину, хранили около него глубокое молчание; не доверяя друг другу, они чувствовали про себя, чего им держаться, или потому, что в сию минуту боялись раздражать государя, приводя его в недоумение. Слуги узнали... от крестьян, встречавшихся в рощах... о том, что происходило в Петербурге.
Иностранец лакей, приехав из города (это был молодой француз, который, судя обо всем по понятиям своей земли, видел начало возмущения и не вообразил тому причину), крайне удивился, нашед Петергоф в таком унынии, и спешил уведомить, что императрица не пропала, она в Петербурге и что праздник св. Петра будет праздновать там великолепно, ибо все войска стоят под ружьем, между тем как император в простоте сего рассказа видел, что царство его миновалось. Пользуясь беспорядком, вошел к нему крестьянин, который, по обычаю страны помолясь и поклонясь, молча подошел к императору, вынул из пазухи записку и вручил ее, поднимая глаза к небу. Это был переодетый слуга, который, по приказу своего господина, не отдал никому сей записки и тщетно старался встретиться в рощах с самим государем. Все в молчании и неизвестности окружили императора, который, пробежав ее глазами, перечитал потом вслух. Она состояла в следующем: «Гвардейские полки взбунтовались; императрица впереди; бьет 9 часов; она идет в Казанскую церковь; кажется, весь народ увлекается сим движением, и верные подданные вашего величества нигде не являются». Император вскричал: «Ну, господа, видите, что я говорил правду?»
Первый чиновник в империи, великий канцлер Воронцов, поговорив о той силе, какую имеет он над умом народа и императрицы, вызвался тотчас ехать в Петербург. И в самом деле, приехав к императрице, он мудро представлял ей все последствия сего предприятия. Она отвечала, показывая на народ и войско: «Причиною тому не я, но целая нация». Великий канцлер отвечал, что он это очень видит, дал присягу и в то же время прибавил, что, будучи не в состоянии последовать за нею в поход и после такого посольства, которое он тотчас сделал, боясь сделаться ей подозрительным, он ее всеподданнейше просит приказать посадить его дома под арест, приставив к нему одного офицера, который бы от него не отходил. Таким образом, каков бы ни был конец происшествия, он остался безопасен с той и другой стороны.
Однако император послал приказ к своим голштинским войскам, чтобы поспешно явились с артиллериею. По всем петербургским дорогам разослали гусаров, чтобы узнавать новости, собирать крестьян в соседственных деревнях и сзывать окрест проходящие полки, если время сие позволит. Он наименовал генералиссимусом того самого камергера императрицы, который шел к нему навстречу, чтобы известить его о побеге. Он приказал послать в Петербург за своим полком, и многие, пользуясь сим случаем, его оставили. Он бегал большими шагами, подобно помешанному, часто просил пить и диктовал против нее два большие манифеста, исполненные ужасных ругательств. Множество придворных занимались перепискою оных, и такое же число гусар развозили сии копии. Наконец в сей крепости он решился оставить свой прусский мундир и ленту и возложил все знаки Российской Империи.
Все придворные прогуливались по садам в уединении и печали, но Миних хотел спасти своего благодетеля. Слава прежних побед доставила ему место при сем мнимо военном дворе, и, по 20-летней ссылке нашед только новую экзерцицию, которая с исступлением занимала целую Европу и в которой младший поручик наверно превзошел бы старого генерала, он до сего времени ни во что не мешался, но в предстоящих опасностях великие таланты воспринимают сами собою всю свою силу, и, без сомнения, спасая императора, он льстил себя надеждою еще раз сделаться обладателем империи; он представил ему и время, и силы императрицы, возвестил, что в несколько часов она явится с 20 000 войска и ужасной артиллериею; доказал, что ни Петергоф, где они находятся, ни окрестности его не могут держаться в оборонительном положении, и присовокупил из опыта, который имеет он о свойстве русского солдата, что слабое сопротивление произведет только то, что они убьют императора и женщин, его окружающих; спасение его и победа состоят в Кронштадте – там находится многочисленный гарнизон и снаряженный флот; все женщины, при нем находящиеся, должны служить ему залогом; все зависит от выигрыша одного дня; народное движение, ночной бунт – все сие должно само собою уничтожиться, а если бы и продолжались, то император мог бы противопоставить силы почти равные и заставить трепетать Петербург.
Сей совет оживил все сердца; даже те, которые помышляли о бегстве, видя некоторую возможность в успехе, решились последовать за императором, чтобы разделить общую с ним участь, если ему удастся, или чтобы снискать удобный случай изменить ему с пользою для себя, если постигнет его несчастие.
Преданный ему генерал был послан в Кронштадт принять над ним начальство, а адъютант его возвратился с известием, что гарнизон пребывает верным своему долгу и решился умереть за императора; его там ожидают и трудятся с величайшею ревностию, дабы приготовиться к обороне. Между тем прибыли его голштинские войска, и уверенность в убежище поселила в нем некоторую беспечность. Он выстроил их в боевой порядок и, предаваясь безумной своей страсти, говорил, что не должен бежать, не видав неприятеля. Приказали подвести к берегу две галеры; но как тщетно старались склонить его к отъезду, то употребили к тому шутов и любимых его слуг. Он называл их трусами и рассматривал, с какою выгодою можно бы употребить некоторые небольшие высоты. Между тем как он терял время на сии пустые распоряжения, узнали от гусар, пойманных со стороны императрицы, которые заехали для розысков, что в Петербурге ей всё покорилось и она предводительствует 20 000 войска. В 8 часов адъютант прискакал стремительно, говоря, что сия армия в боевом порядке была на пути к Петергофу. При сем известии император и весь двор бросились к берегу, заняли две галеры и поспешно отправились: таким образом, ужасный план, предложенный Минихом, был исполнен только от испуга.
Здесь не излишне упомянуть о таком обстоятельстве, которое само по себе ничего бы не значило, если бы не доказывало, с каким примерным хладнокровием можно смотреть на сии ужасные происшествия. Один очевидный свидетель сего бегства, оставшись спокойно на берегу, рассказывал об этом на другой день; у него спросили, почему, когда его государь отправлялся оспаривать свою корону и жизнь, он не захотел за ним следовать. Тогда он отвечал: «В самом деле, я хотел сесть в галеру, но было уже поздно; ветер дул к северу, а со мною не было плаща».
Они плыли к Кронштадту на веслах и парусах; но после ответа адъютанта в сем городе случилась странная перемена. В шумном совете, который посреди самого возмущения поутру был в Петербурге долгое время, не вспомнили о Кронштадте. Молодой офицер из немцев первый упомянул о нем, и одно сие слово доставило ему справедливые награды. Вице-адмирал Талызин вызвался ехать в сей город и не взял никого в свою шлюпку. Он запретил гребцам под опасением жизни сказывать, откуда он. Когда приехали в Кронштадт, то комендант, без приказания коего не велено было никого пропускать, вышел сам к нему навстречу; видя его одного, он позволил ему выйти на берег и спросил о новостях. Талызин отвечал, что он ничего не знает, но, живучи все в деревне, слышал, что в Петербурге неспокойно, а как его место на флоте, то он и приехал сюда прямо. Комендант поверил ему и как скоро от него ушел, то он (Талызин), собрав несколько солдат, приказал им его арестовать и сказал, что император лишен престола, надобно оказать услугу императрице, сдавши ей Кронштадт, за что, верно, получит награду. Они последовали за ним; комендант был арестован, а он, собравши гарнизон и морские войска, сделал к ним воззвание и заставил присягнуть императрице.
Уже показались вдали две императорские галеры. Талызин, по одной отважности властелин города, чувствовал, что одно появление императора обратило бы все к его погибели и что надлежало развлечь умы. Вдруг по приказанию его раздался в городе звук набатного колокола; целый гарнизон с заряженными ружьями вылетел на крепостные валы, и 200 фитилей засверкали над таким же числом пушек. К 10 часам вечера подъезжает императорская галера и приготовляется к высадке. Ей кричат:
– Кто идет?
– Император.
– Нет императора.
При сем ужасном слове он встает, выходит вперед и, сбрасывая свой плащ, дабы показать орден, говорит:
– Это я – познайте меня!
Уже он готов выходить вон, но весь гарнизон, прибежав на помощь к часовым, устремляет против него штыки, а комендант угрожает открыть огонь, если он не удалится. Император упадает в руки окружавших его, а Талызин кричал с пристани обеим галерам:
– Удалитесь! В противном случае по вас будут стрелять из пушек.
И вся сия толпа повторяла: «Галеры прочь! Галеры прочь!» – с таким ожесточением, что капитан, видя себя под тучею пуль, готовых раздробить его, взял трубу и закричал:
– Уедем, уедем! Дайте время отчалить.
А чтобы скорее сие исполнить, приказал рубить канаты.
За трубным криком последовало в городе ужасное молчание, и по отплытии галеры раздался еще ужаснейший крик:
– Да здравствует императрица Екатерина!
Между тем как галера бежала на веслах из всей силы, император в слезах говорил:
– Заговор повсеместный – я это видел с первого дня своего царствования.
Без сил пошел он в свою каюту, куда последовали за ним одна его любезная с отцом своим. Оба судна, отъехав на пушечный выстрел, остановились и, не получая никакого приказа, стояли на одном месте и били по воде веслами. Таким образом провели они целую ночь, которая была тиха. Миних, спокойно стоя на верхней палубе, любовался ее тишиною. (...)
Когда все войска императрицы вышли из города и построились, то было так уже поздно, что в тот день не могли далеко уйти. Сама государыня, утомленная от прошедшей ночи и такого дня, отдыхала несколько часов в одном замке на дороге. Прибыв на сие место, она потребовала некоторых прохлаждений и, делясь частию с простыми офицерами, которые наперерыв ей служили, говорила им: «Что только будет у меня, все охотно разделю с вами».
Все думали, что идут против голштинских войск, которые были выстроены перед Петергофом, но по отплытии императора они получили приказание возвратиться в Ораниенбаум, и Петергоф остался пуст. Однако соседственные крестьяне, которых посылали собирать, явились туда, вооруженные вилами и косами, и, не находя ни войск, ни распоряжений, ожидали в беспорядке, что с ними будет под командою тех самых гусар, которые их привели. Орлов, первый партизан армии, приблизился в 5 часов утра для обозрения, ударил плашмя саблями на сих бедных, крича: «Да здравствует императрица!» – и они бросились бежать, кидая оружие свое и повторяя: «Да здравствует императрица!» И так армия беспрепятственно прошла на другую сторону Петергофа, и императрица самовластно вошла в тот самый дворец, откуда за 24 часа прежде убежала.
Между тем император стоял на воде несколько часов. От столь обширной империи осталось ему только две галеры, бесполезная в Ораниенбауме крепость и несколько иностранного войска, лишенного бодрости, без амуниции и провианта, между флотом (и) готовой поразить его армией, в первом исступлении бунта, и двумя городами, которые от него отложились. Он приказал позвать в свою каюту фельдмаршала Миниха и сказал: «Фельдмаршал! Мне бы надлежало немедленно последовать вашему совету. Вы видели много опасностей. Скажите наконец, что мне делать?» Миних отвечал, что дело еще не проиграно: надлежит, не медля ни одной минуты, направить путь к Ревелю, взять там военный корабль, пуститься в Пруссию, где была его армия, возвратиться в свою империю с 80 000 человек, и клялся, что ближе полутора месяца приведет государство в прежнее повиновение.
Придворные и молодые дамы вошли вместе с Минихом, чтобы изустно слышать, какое еще оставалось средство ко спасению; они говорили, что у гребцов недостанет сил, чтобы везти в Ревель. «Так что же! – возразил Миних. – Мы все будем им помогать». Весь двор содрогнулся от сего предложения, и потому ли, что лесть не оставляла сего несчастного государя, или потому, что он был окружен изменниками (ибо чему приписать такое несогласие их мнений?), ему представили, что он не в такой еще крайности; неприлично столь мощному государю выходить из своих владений на одном судне; невозможно верить, чтобы нация против него взбунтовалась, и, верно, целию сего возмущения имеют, чтобы примирить его с женою.
Петр решился на примирение, и, как человек, желающий даровать прощение, он приказал себя высадить в Ораниенбауме. Слуги со слезами встретили его на берегу. «Дети мои, – сказал он, – теперь мы ничего не значим». Их слезы тронули его до глубины души и сердца. Он узнал от них, что армия императрицы была очень близко, а потому тайно приказал оседлать наилучшую свою лошадь в намерении, переодевшись, уехать один в Польшу, но встревоженная мысль скоро привела его в недоумение, и его любезная, обольщенная надеждою найти убежище, а может быть, в то же время для себя и престол, убедила его послать к императрице просить ее, чтобы она позволила им ехать вместе в герцогство Голштинское. По словам ее, это значило исполнить все желания императрицы, которой ничто так не нужно, как примирение, столь благоприятное ее честолюбию. И когда императорские слуги кричали: «Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя!» – тогда любезная его отвечала им: «Для чего пугаете вы своего государя?!»
Это было последнее решение, и тотчас после единогласного совета, в котором положено, что единственное средство избежать первого ожесточения солдат было то, чтобы не делать им никакого сопротивления, он отдал приказ разрушить все, что могло служить к малейшей обороне, свезти пушки, распустить солдат и положить оружие. При сем зрелище Миних, объятый негодованием, спросил его – ужели он не умеет умереть как император, перед своим войском? «Если вы боитесь, – продолжал он, – сабельного удара, то возьмите в руки распятие – они не осмелятся вам вредить, а я буду командовать в сражении». Император держался своего решения и написал своей супруге, что он оставляет ей Российское государство и просит только позволения удалиться в свое герцогство Голштинское с фрейлиною Воронцовой и адъютантом Гудовичем.
Камергер, которого наименовал он своим генералиссимусом, был послан с сим письмом, и все придворные бросались в первые суда и, поспешно оставляя императора, стремились умножить новый штат.
В ответ императрица послала к нему для подписания отречение следующего содержания:
«Во время кратковременного и самовластного моего царствования в Российской Империи я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени, и управление таковым государством не только самовластное, но какою бы ни было формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно все сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления помянутым государством, не желая так царствовать ни самовластно, ни же под другою какою-либо формою правления, даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи. В удостоверение чего клянусь перед богом и всею вселенною, написав и подписав сие отречение собственною своею рукою».
Чего оставалось бояться от человека, который унизил себя до того, что переписал и подписал такое отречение? Или что надобно подумать о нации, у которой такой человек был еще опасен?
Тот же самый камергер, отвезши сие отречение к императрице, скоро возвратился назад, чтобы обезоружить голштинских солдат, которые с бешенством отдавали свое оружие и были заперты по житницам; наконец он приказал сесть в карету императору, его любезной и любимцу и без всякого сопротивления привез их в Петергоф.
Петр, отдаваясь добровольно в руки своей супруги, был не без надежды. Первые войска, которые он встретил, никогда его не видали; это были те 3000 казаков, которых нечаянный случай привел к сему происшествию. Они хранили глубокое молчание, и невольное чувство, которому он не мог противиться при виде их, не причинило ему никакого беспокойства. Но как скоро увидела его армия, то единогласные крики: «Да здравствует Екатерина!» – раздались со всех сторон, и среди сих-то новых восклицаний, неистово повторяемых, проехав все полки, он лишился памяти. Подъехали к большому подъезду, где при выходе из кареты его любезную подхватили солдаты и оборвали с нее знаки. Любимец его был встречен криком ругательства, на которое он отвечал им с гордостью и укорял их в преступлении. Император вошел один, в жару бешенства. Ему говорят: «Раздевайся!» И как ни один из мятежников не прикасался к нему рукою, то он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: «Теперь я весь в ваших руках». Несколько минут сидел он в рубашке, босиком, на посмеяние солдат. Таким образом Петр был разлучен навсегда со своею любезною и своим любимцем, и через несколько минут все трое были вывезены под крепкими караулами в разные стороны.
Петербург со времени отправления императрицы был в неизвестности и 24 часа не получал никакой новости. По разным слухам, которые пробегали по городу, думали, что при малейших надеждах император найдет еще там своих защитников. Иностранцы были не без страха, зная, что настоящие русские, гнушаясь и новых обычаев, и всего, что приходит к ним из чужих краев, просили иногда у своих государей в награду позволения перебить всех иностранцев; но каков бы ни был конец, они опасались своевольства или ярости солдат.
В 5 часов вечера услышали отдаленный гром пушек; все внимательно прислушивались, скоро по равномерным промежуткам времени различили, что это были торжественные залпы; дождались об окончании дела, и с того времени во всех было одинаковое расположение.
Императрица ночевала в Петергофе, и на другой день поутру прежние ее собеседницы, которые оставили ее в ее бедствиях, молодые дамы, которые везде следовали за императором, придворные, которые, в намерении управлять сим государством в продолжение сих лет, питали в нем ненависть к его супруге, явились к ней все и поверглись к ногам ее.
Большая часть из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженных, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени, говоря: «Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине «орденскую» ленту и драгоценные уборы сестры ее. Миних находился в сей же толпе, она сказала ему:
– Вы хотели против меня сражаться?
– Так, государыня,– отвечал он. – А теперь мой долг сражаться за вас.
Она оказала к нему такое уважение и милость, что, удивляясь дарованиям сей государыни, он скоро предложил ей в следующих потом разговорах все те знания во всех частях сей обширной империи, которые приобрел он в продолжительный век свой в науках на войне, в министерстве и ссылке, потому ли, что он был тронут сим великодушным и неожиданным приемом, или, как полагали, потому, что это было последнее усилие его честолюбия.
В сей самый день она возвратилась в город торжественно, и солдаты при сей радости были содержимы в такой же строгой дисциплине, как и во время возмущения.
Императрица была несколько разгорячена, и встревоженная кровь произвела по ее телу небольшие красноты. Она провела несколько дней в отдохновении. Новый двор ее представлял зрелище, достойное внимания; в нем радость столь великого успеха не препятствовала никому наблюдать все вокруг себя внимательно; тончайшие предосторожности были приняты посреди беспорядка, в котором придворные старались, уже по своей хитрости, взять преимущество над ревностными заговорщиками, гордящимися оказанною услугою, и поелику щедроты государыни не определяли никому надлежащего места, то всякий хотел показаться тем, чем непременно хотелось сделаться. В сии-то первые дни княгиня Дашкова, вошед к императрице, по особенной с нею короткости, к удивлению своему, увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженною ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в сию ногу контузию.
Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость, и скоро, узнав все подробнее, она приняла тон строгого наблюдения. Ее планы вольности, ее усердие участвовать в делах (что известно стало в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора, между тем как Екатерина хотела казаться избранною и, может быть, успела себя в этом уверить); наконец, все не нравилось (Екатерине), и немилость к ней (Дашковой) обнаружилась во дни блистательной славы, которую воздали ей из приличия.
Орлов скоро обратил на себя всеобщее внимание. Между императрицей и сим дотоле неизвестным человеком оказалась та нежная короткость, которая была следствием давнишней связи. Двор был в крайнем удивлении. Вельможи, из которых многие почитали несомненным права свои на сердце государыни, не понимая, как, несмотря даже на его неизвестность, сей соперник скрывался от их проницательности, с жесточайшею досадою видели, что они трудились только для его возвышения. Не знаю почему – по своей дерзости, в намерении заставить молчать своих соперников, или по согласию со своею любезною, дабы оправдать то величие, которое она ему предназначала, он осмелился однажды ей сказать в публичном обеде, что он самовластный повелитель гвардии и что лишит ее престола, стоит только ему захотеть. Все зрители за сие оскорбились, некоторые отвечали с негодованием, но столь жадные служители были худые придворные; они исчезли, и честолюбие Орлова не знало никаких пределов.
Город Москва, столица империи, получил известие о революции таким образом, который причинил много беспокойства. В столь обширном городе заключается настоящая российская нация, между тем как Петербург есть только резиденция двора. Пять полков составляли гарнизон. Губернатор приказал раздать каждому солдату по 20 патронов. Собрал их на большой площади пред старинным царским дворцом в древней крепости, называемой Кремлем, которая построена перед сим за 400 лет и была первою колыбелью российского могущества. Он пригласил туда и народ, который, с одной стороны, встревоженный раздачей патронов, а с другой – увлекаемый любопытством, собрался туда со всех сторон и в таком множестве, какое только могло поместиться в крепости. Тогда губернатор читал во весь голос манифест, в коем императрица объявляла о восшествии своем на престол и об отречении ее мужа; когда он окончил свое чтение, то закричал: «Да здравствует императрица Екатерина II!» Но вся сия толпа и пять полков хранили глубокое молчание. Он возобновил тот же крик – ему ответили тем же молчанием, которое прерывалось только глухим шумом солдат, роптавших между собою за то, что гвардейские полки располагают престолом по всей воле. Губернатор с жаром возбуждал офицеров, его окруживших, соединиться с ним; они закричали в третий раз: «Да здравствует императрица!» – опасаясь быть жертвою раздраженных солдат и народа, и тотчас приказали их распустить.
Уже прошло 6 дней после революции: и сие великое происшествие казалось конченным так, что никакое насилие не оставило неприятных впечатлений. Петр содержался в прекрасном доме, называемом Ропша, в 6 милях от Петербурга. В дороге он спросил карты и состроил из них род крепости, говоря: «Я в жизнь свою более их не увижу». Приехав в сию деревню, он спросил свою скрипку, собаку и негра.
Но солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли были увлечены движением других, и когда всякий вошел в себя и удовольствие располагать короною миновало, то почувствовали угрызения. Матросы, которых не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабачках гвардейцев, что они на пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого. В одну ночь приверженная к императрице толпа солдат взбунтовалась от пустого страха, говоря, что их матушка в опасности. Надлежало ее разбудить, чтобы они ее видели. В следующую ночь новое возмущение, еще опаснее,– одним словом, пока жизнь императора подавала повод к мятежам, то думали, что нельзя ожидать спокойствия.
Один из графов Орловых (ибо с первого дня им дано было сие достоинство), тот самый солдат, известный по находящемуся на лице знаку, который утаил билет княгини Дашковой, и некто по имени Теплов, достигший из нижних чинов по особенному дару губить своих соперников, пришли вместе к несчастному государю и объявили при входе, что они намерены с ним обедать. По обыкновению русскому, перед обедом подали рюмки с водкою, и представленная императору была с ядом. Потому ли, что они спешили доставить свою новость, или ужас злодеяния понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространялось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение – он отказался от другой; они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начинали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю; но как он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, а они избегали всячески, чтобы не нанести ему раны, опасаясь за сие наказания, то и призвали к себе на помощь двух офицеров, которым поручено было его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин, 17-ти лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их первую молодость, им вверили сию стражу. Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора (между тем как Орлов обеими коленями давил ему грудь и запер дыхание), таким образом его задушили, и он испустил дух в руках их.
Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменного веселостию.
Вдруг является тот самый Орлов – растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Войдя в комнату, сверкающие и быстрые глаза его искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на. другое утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью. Наутро, когда узнали, что Петр умер от геморроидальной колики, она показалась, орошенная слезами, и возвестила печаль своим указом.
Тело покойного было привезено в Петербург и выставлено напоказ. Лицо черное, и шея уязвленная. Несмотря на сии ужасные знаки, чтобы усмирить возмущения, которые начинали обнаруживаться, и предупредить, чтобы самозванцы под его именем не потрясли бы некогда империю, его показывали три дня народу в простом наряде голштинского офицера. Его солдаты, получив свободу, но без оружия, мешались в толпе народа и, смотря на своего государя, обнаруживали на лицах своих жалость, презрение, некоторый род стыда и позднего раскаяния.
Скоро их посадили на суда и отправили в свое отечество; но по роковому действию на них жестокой их судьбы буря потопила почти всех сих несчастных. Некоторые спаслись на ближайших скалах к берегу, но были также потоплены тем временем, как кронштадтский губернатор посылал в Петербург спросить, позволено ли будет им помочь.
Императрица спешила отправить всех родственников покойного императора в Голштинию со всею почестию и даже отдала сие герцогство в управление принцу Георгу. Бирон, который уступал сему принцу права свои на герцогство Курляндское, при сем отдалении увидал себя в прежних своих правах; а императрица, желая уничтожить управляющего там принца и имея намерение господствовать там одна, чтобы не встречать препятствий своим планам на Польшу, и не зная, на что употребить такого человека, как Бирон, отправила его царствовать в сие герцогство.
Узнав о революции, Понятовский, почитая ее свободною, хотел перед ней явиться, но благоразумные советы его удержали; он остановился на границах и всякую минуту ожидал позволения приехать в Петербург; со времени своего отъезда он доказывал к ней самую настоящую страсть, которая может служить примером. Сей молодой человек, выехавший из России поспешно, в такой земле, где искусства не усовершенствованы, не мог достать портрета своей любезной, но по его памяти, по его описанию достиг того, что ему написали ее совершенно сходною. Не отнимая у него надежды, она умела всегда держать его в отдалении, и скоро употребила русское оружие, которое всегда желает квартировать в Польше, чтобы доставить ему корону. Она склонила принца Ангальт-Цербстского, своего брата, не служить никакому монарху; но она не принимала его также и в Россию, всячески избегая всего того, что могло напоминать русским, что она иностранка, и через то внушать им опасение подпасть опять под иго немцев. Все государи наперерыв искали ее союза, и один только китайский император, которого обширные области граничат с Россиею, отказался принять ее посольство и дал ответ, что он не ищет с нею ни дружбы, ни коммерции и никакого сообщения.
Первое старание ее было вызвать прежнего канцлера Бестужева, который, гордясь тогда самою ссылкою своею, расставил во многих местах во дворце свои портреты в одеянии несчастного. Она наказала слегка француза Брессана, уведомившего императора, и, оставив ему все его имущество, казалось, удовлетворила ненависти придворных только тем, что отняла у него ленту третьего по империи ордена. Она немедленно дала почувствовать графу Шувалову, что он должен удалиться, и жестоко подшутила, подарив любимцу покойной императрицы старого араба, любимого шута покойного императора. Учредив порядок во всех частях государства, она поехала в Москву для коронования своего в Соборной церкви древних царей. Сия столица встретила ее равнодушно – без удовольствия. Когда она проезжала по улицам, то народ бежал от нее, между тем как сын ее всегда окружен был толпою. Против нее были даже заговоры, пиемонтец Одар был доносчиком. Он изменил прежним друзьям своим, которые, будучи уже недовольны императрицею, устроили ей новые ковы, и в единственную за то награду просил только денег. На все предложения, деланные ему императрицею, чтобы возвести его на высшую степень, он отвечал всегда: «Государыня, дайте мне денег», – и как скоро получил, то и возвратился в свое отечество.
Через полгода она возвратила ко двору того Гудовича, который был так предан императору, и его верность была вознаграждена благосклонным предложением наилучших женщин. Фрейлине Воронцовой, недостойной своей сопернице, она позволила возвратиться в Москву в свое семейство, где нашла она сестру княгиню Дашкову, которой от столь знаменитого предприятия остались в удел только беременность, скрытая досада и горестное познание людей.
Вся обстановка сего царствования, казалось, состояла в руках Орловых. Любимец скоро отрешил от должности главного начальника артиллерии Вильбуа и получил себе его место и полк. Замеченный рубцом на лице остался в одном гвардейском полку с главным надзором над всем корпусом, а третий получил первое место в Сенате. Кровавый переворот окончил жизнь Иоанна, и императрица не опасалась более соперника, кроме собственного сына, против которого она, казалось, себя обеспечила, поверив главное управление делами графу Панину, бывшему всегда его воспитателем. Доверенность, которою пользовался сей министр, противополагалась всегда могуществу Орловых, почему двор разделялся на две партии – остаток двух заговоров, и императрица посреди обеих управляла самовластно с такою славою, что в царствование ее многочисленные народы Европы и Азии покорялись ее власти.
Приложение 4 Иван Андреевич Крылов Урок дочкам
Комедия в одном действии
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Велькаров, дворянин.
Фекла.
Его дочери. Лукерья.
Даша, их горничная.
Василиса, няня.
Лиза, девушка на сенях.
Семен, слуга.
Сидорка, деревенский конторщик.
Слуга.
Действие в деревне Велькарова.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Даша, Семен и потом Лиза.
Семен. Ну, думал ли я, скакав по почте, как угорелый, за 700 верст от Москвы наехать дорогою мою Дашу?
Даша. Ну, чаяла ли я увидеться так скоро с любезным моим Семеном?
Семен. Да как тебя занесло в такую глушь?
Даша. Да тебя куда это нелегкая мчит?
Семен. Как ты здесь?
Даша. Что ты здесь?
Семен. Ведь ты оставалась в Москве?..
Даша. Ведь ты поехал в Петербург?..
Семен. Где ж ты после была?
Даша. Что с тобою сделалось?
Семен. Постой, постой, Даша, постой! Мы эдак ничего не узнаем до завтра; надобно, чтоб сперва из нас один, а там другой рассказал свое похождение, с тех самых пор, как мы с тобой в Москве разочли, что нам, несмотря на то что мы, кажется, люди вольные и промышленные, а нечем жениться, и пустились каждый в свою сторону добывать денег... Мы увидим, кто из нас был проворнее, а потом посмотрим, тянут ли наши кошельки столько, чтоб нам возможно было вступить в почтенное супружеское состояние. Итак, если хочешь, я начну.
Даша. Пожалуй, хоть я сперва тебе расскажу – я в Москве...
Семен. Ты чудеса услышишь – я из Москвы...
Даша. То-то ты удивишься, – я в Москве...
Семен. Постой же, уж я кончу – выехавши из Москвы...
Даша. Да выслушай меня; оставшись в Москве...
Семен. Мне очень хочется подробно...
Даша. Ну вот, так и горю, как на огне, рассказать тебе...
Семен. Тьфу, пропасть! Даша, у тебя во рту не язык, а маятник, не дашь слова выговорить. Ну, рассказывай, коли уж тебе не терпится!
Дaша. Вот еще какой! да, пожалуй, болтай себе, коли охота пришла...
Семен. Ох! зачинай, пожалуйста, я слушаю.
Даша. Сам зачинай... видишь какой!
Семен. Ну, ну! полно гневаться, мой ангел, неужли тебе это слаще, нежели говорить?
Даша. Я не гневаюсь. Говори.
Семен. Ладно, так слушай же обоими ушами; ты ахнешь, как порасскажу я тебе все чудеса...
Лиза (выглядывая из другой комнаты). Даша! Даша! Господа идут с гулянья.
Даша. Ну вот дельно! много мы с тобой узнали.
Семен. Кто ж виноват?
Даша. Послушай, по этой лестнице...
Лиза (показываясь). Даша! господа поворотили на птичий двор.
Даша. Не прогляди ж, как они воротятся.
Лиза. Не бойся, разве это впервой?.. (Уходит.)
Семен (почесывая лоб). Так это не впервой у тебя отводные-то караулы расставлены? Даша, что это значит?
Даша. То, что ты глуп. Мы опять потеряем время попусту: они тотчас воротятся. Ну рассказывай свое похождение!
Семен. Ты знаешь, что я, в Москве принявшись, к Честову, поехал с ним в Петербург. Там любовь и карты выцедили кошелек его до дна, и мы, благодаря им, теперь на самом легком ходу едем в армию бить басурманов. Здесь остановились было переменить лошадей, но барин с дороги несколько занемог и едва ль не останется до завтра. Он лег заснуть, а я, ходя по деревне, увидел тебя под окном и бросился сюда, – вот и все тут!
Даша. Только всего и чудес?
Семен. А разве это не чудо, Дашенька, что меня на всем скаку, сонного, сбрасывало с облучка раз десять, и я еще ни руки, ни ноги себе не вывихнул? Ну-тка, что ты лучше расскажешь?
Даша. После твоего отъезда принялась я к теперешним своим господам Велькаровым, и мы поехали в эту деревню, – вот и все тут!
Семен. Даша! Коли тебя с облучка не сбрасывало, так у тебя чудес-то еще меньше моего. Да обрадуй меня хоть одним чудом! Есть ли у тебя деньги?
Даша. А у тебя?
Семен. В моих карманах хоть выспись – такой простор.
Даша. Ну, Семенушка, и мне не более твоего посчастливилось, – так свадьба наша опять затянулась. Горе, да и все тут, – сколько золотых дней потеряно!
Семен. Эх! Дашенька! дни-то бы ничего, да и ты не изворотлива; ведь люди богатеют же как-нибудь...
Даша. Да неужли-таки твой барин...
Семен. Мой барин? его теперь хоть в жом, так рубля из него не выдавишь. А твои господа?
Даша. О! в городе мои барышни были бы клад; они с утра до вечера разъезжают по модным лавкам, то закупают, другое заказывают; что день, то новая шляпка; что бал, то новое платье; а как меня часто за уборами посылают, то бы мне от них и от мадамов что-нибудь перепало...
Семен. Что-нибудь, шутишь ты, Даша! Да такие барышни для расторопной горничной подлинно клад. Дождись только зимы, и коли будешь умна, так мы будущею же весною домком заживем!
Даша. Ох, Семенушка, то-то и беды, что чуть ли нам здесь не зимовать!
Семен. Как?
Даша. Да так! Видишь ли что? барышни мои были воспитаны у их тетки на последний манер. Отец их со службы приехал, наконец, в Москву и захотел взять к себе дочек – чтоб до замужества ими полюбоваться. Ну, правду сказать, утешили же они старика! Лишь вошли к батюшке, то поставили дом вверх дном; всю его родню и старых знакомых отвадили грубостями и насмешками. Барин не знает языков, а они накликали в дом таких нерусей, между которых бедный старик шатался, как около Вавилонской башни, не понимая ни слова, что говорят и чему хохочут. Вышедши, наконец, из терпения от их проказ и дурачеств, он увез дочек сюда на покаяние, – и отгадай, как вздумал наказать их за все грубости, непочтение и досады, которые в городе от них вытерпел?
Семен. Ахти! никак заставил модниц учиться деревенскому хозяйству?
Даша.Хуже!
Семен. Что ж? посадил за книги да за пяльцы?
Даша.Хуже!
Семен. Тьфу, пропасть! Неужли вздумал изнурять их модную плоть хлебом и водою?
Даша. И того хуже!
Семен. Ах, он варвар! неужли?.. (Делает знак, будто хочет дать пощечину.)
Даша. И это бы легче: а то гораздо хуже.
Семен. Черт же знает, Даша, я уж хуже побой ничего не придумаю!
Даша. Он запретил им говорить по-французски!
Семен хохочет.
Смейся, смейся, а бедные барышни без французского языка, как без хлеба, сохнут. Да этого мало: немилосердный старик сделал в своем доме закон, чтоб здесь никто, даже и гости, иначе не говорили, как по-русски, а так как он в уезде всех богаче и старе, то и немудрено ему поставить на своем.
Семен. Бедные барышни! то-то, чай, натерпелись они русского-то языка!..
Даша. Это еще не конец. Чтоб и между собой не говорили они иначе как по-русски, то приставил к ним старую няню, Василису, которая должна, ходя за ними по пятам, строго это наблюдать; а если заупрямятся, то докладывать ему. Они было сперва этим пошутили, да как няня Василиса доложила, то увидели, что старик до шуток не охотник. И теперь, куда ни пойдут, а няня Василиса с ними; что слово скажут не по-русски, а няня Василиса тут с носом, так что от няни Василисы приходит хоть в петлю.
Семен. Да неужли в них такая страсть к иностранному?
Даша. А вот она какова, что они бы теперь вынули последнюю сережку из ушка, лишь бы только посмотреть на француза.
Семен. Да щедры ли твои барышни? скажи-тка, вот, – как бы тебя спросить – легко ли их разжалобить?
Даша. Легко, только не русскими слезами; в Москве у них иностранцы пропасть денег выманивают.
Семен (в задумчивости). Деньги – палки, палки – деньги, как будто вижу и то и другое! Черт знает как быть; и надежда манит, и страх берет.
Даша. Семен, что ты за горячку несешь?
Семен. Славно! божественно! прекрасно! Даша! жизнь моя!..
Даша. Семен! Семен! С ума ты сошел!
Семен. Послушай, как скоро барышни воротятся...
Лиза (показываясь). Даша, Даша! господа идут, уж на крыльце. (Уходит.)
Даша. Сбеги по этой лестнице.
Семен. Прости, сокровище! прости, жизненок! прости, ангел! ты будешь моя! Жди меня через пять минут! (Убегает.)
Даша. Ну, право, он в уме помешался! (Садится за шитье.)
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Фекла, Лукерья, Даша и няня Василиса, которая становит стул и, на нем сидя, вяжет чулок, вслушиваясь в разговоры барышень.
Фекла. Да отвяжешься ли ты от нас, няня Василиса?
Лукерья. Няня Василиса, да провались ты сквозь землю!
Няня Василиса. С нами Бог, матушки! Вить я господскую волю исполняю. Да и вы, красавицы мои барышни, что вам за прибыль батюшку гневить, – неужли у вас язычок болит говорить по-русски?
Лукерья. Это несносно! сестрица, я выхожу из терпения!
Фекла. Мучительно! убивственно! оторвать нас ото всего, что есть милого, любезного, занимательного, и завезти в деревню, в пустыню...
Лукерья. Будто мы на то воспитаны, чтоб знать, как хлеб сеют?
Даша (особо). Небось для того чтоб знать, как его едят.
Лукерья. Что ты бормочешь, Даша?
Даша. Не угодно ль вам взглянуть на платье?
Фекла (подходя). Сестрица, миленькая, не правда ли, что оно будет очень хорошо?
Лукерья. И, мой ангел! будто оно может быть сносно!.. Мы уж три месяца из Москвы, а там, еще при нас, понемножку стали грудь и спину открывать.
Фекла. Ах, это правда! Ну вот, есть ли способ нам здесь по-людски одеться? В три месяца Бог знает как низко выкройка спустилась. Нет, нет! Даша, поди кинь это платье! Я до Москвы ничего делать себе не намерена.
Даша (уходя, особо). Я приберу его для себя в приданое.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Фекла, Лукерья и няня Василиса.
Лукерья. Eh bien, ma soeur...[5]
Няня Василиса. Матушка Лукерья Ивановна, извольте говорить по-русски: батюшка гневаться будет!
Лукерья. Чтоб тебе оглохнуть, няня Василиса!
Фекла. Я думаю, право, если б мы попались в полон к туркам, и те с нами б поступали вежливее батюшки, и они бы не стали столько принуждать нас русскому языку.
Лукерья. Прекрасно! Божественно! с нашим вкусом, с нашими дарованиями, – зарыть нас живых в деревне; нет, да на что ж мы так воспитаны? к чему потрачено это время и деньги? Боже мой! когда вообразишь теперь молодую девушку в городе, – какая райская жизнь! Поутру, едва успеешь сделать первый туалет, явятся учители – танцевальный, рисовальный, гитарный, клавикордный; от них тотчас узнаешь тысячу прелестных вещей; тут любовное похищение, там от мужа жена ушла; те разводятся, другие мирятся; там свадьба навертывается, другую свадьбу расстроили; тот волочится за той, другая за тем, – ну, словом, ничто не ускользнет, даже до того, что знаешь, кто себе фальшивый зуб вставит, и не увидишь, как время пройдет. Потом пустишься по модным лавкам; там встретишься со всем, что только есть лучшего и любезного в целом городе; подметишь тысячу свиданий; на неделю будет что рассказывать; потом едешь обедать и за столом с подругами ценишь бабушек и тетушек; после домой – и снова займешься туалетом, чтоб ехать куда-нибудь на бал или в собрание, где одного мучишь жестокостью, другому жизнь даешь улыбкою, третьего с ума сводишь равнодушием; для забавы давишь старушкам ноги и толкаешь их под бока; а они-то морщатся, они-то ворчат... ну, умереть надо со смеху! (Хохочет.) Танцуешь как полоумная; и когда случишься в первой паре, то забавляешься досадою девушек, которым иначе не удается танцевать, как в хвосте. Словом, не успеешь опомниться, как уж рассветает и ты полумертвая едешь домой. А здесь, в деревне, в степи, в глуши... Ах! я так зла, что задыхаюсь от бешенства... так зла, так зла, что.. Ah! Si jamais je suis...[6]
Няня Василиса. Матушка Лукерья Ивановна! извольте гневаться по-русски!
Лукерья. Да исчезнешь ли ты от нас, старая колдунья!
Фекла. Не убивственно ли это, миленькая сестрица? Не видать здесь ни одного человеческого лица, кроме русского, не слышать человеческого голоса, кроме русского?.. Ах! я бы истерзалась, я бы умерла с тоски, если б не утешал меня Жако, наш попугай, которого одного во всем доме слушаю я с удовольствием. Милый папенька! как чисто говорит он мне всякий раз: vous etes une sotte[7]. А няня Василиса тут как тут, так что и ему слова по-французски сказать я не могу. Ах, если бы ты чувствовала всю мою печаль! – Ah! Ma chere amie![8]
Няня Василиса. Матушка Фекла Ивановна, извольте печалиться по-русски, – ну, право, батюшка гневаться будет.
Фекла. Надоела, няня Василиса!
Няня Василиса. Ах, мои золотые! ах, мои жемчужные! злодейка ли я? У меня у самой, на вас глядя, сердце надорвалось; да как же быть? – воля барская! вить вы знаете, каково прогневить батюшку! Да неужели, мои красавицы, по-французски говорить слаще? Кабы не боялась барина, так послушала бы вас, чтой-то за наречье?
Фекла. Ты не поверишь, няня Василиса, как на нем все чувствительно, ловко и умно говорится!
Няня Василиса. Кабы да не страх обуял, право бы послушала, как им говорят.
Фекла. Ну да вить ты слышала, как говорит наш попугай Жако?
Няня Василиса. Ох, вы, мои затейницы! А уж как он, окаянный, речисто выговаривает – только я ничего-то не понимаю.
Фекла. Вообрази ж, миленькая няня, что мы в Москве когда съезжаемся, то говорим точно, как Жако!
Няня Василиса. Такое дело, мои красавицы! Ученье свет, а неученье тьма. Да вот погодите, дождетесь своей вольки, как выйдете замуж.
Лукерья. За кого? за здешних женихов? сохрани Бог! мы уж их с дюжину отбоярили добрым порядком; да и с Хопровым и с Таниным, которых теперь нам батюшка прочит, не лучше поступим. Куда он забавен, если думает, что здесь кто-нибудь может быть на наш вкус!
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Велькаров, Фекла, Лукерья и няня Василиса,которая вскоре уходит.
Велькаров (за театр). Скажи: милости-де прошу, дорогие соседушки! Ну что, няня Василиса, не выступили ли дочери из моего приказания?
Няня Василиса. Нет, государь! (Отводя его.) Только, батюшка мой, не погневись на рабу свою и прикажи слово вымолвить.
Велькаров. Говори, говори, что такое? (Видя, что дочери хотят уйти.) Постойте.
Лукерья. Ах!
Фекла (тихо). Helas![9]
Велькаров (няне). Ну, что ты хотела сказать?
Няня Василиса. Не умори ты, государь, барышень-то; вить Господь знает, может быть, их натура не терпит русского языка, – хоть уж не вдруг их приневоливай!
Велькаров. Не бойся, будут живы! поди и продолжай только наблюдать мое приказание.
Няня Василиса. То-то, мой отец, видишь, они такие великатные, я помню, чего стоило, как их и от груди отнимали! (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Велькаров, Лукерья и Фекла.
Велькаров. А вы, сударыни, будьте готовы принять ласково и вежливо двух гостей, Хопрова и Танина, которые через час сюда будут. Вы уж их видели несколько раз; они люди достойные, рассудительные, степенные и притом богаты; словом, это весьма выгодное для вас замужество... Да покиньте хоть на час свое кривлянье, жеманство, мяуканье в разговорах, кусанье и облизывание губ, полусонные глазки, журавлиные шейки – одним словом, всю эту дурь, – и походите хоть немножко на людей!
Лукерья. Я, право, не знаю, сударь, на каких людей хочется вам, чтоб мы походили? С тех пор как тетушка стала нас вывозить, мы сами служим образцом!
Фекла. Кажется, мадам Григри, которая была у тетушки нашею гувернанткою, ничего не упустила для нашего воспитания.
Лукерья. Уж коли тетушка об нас не пеклась, сударь!.. Она выписала мадам Григри прямо из Парижа.
Фекла. Мадам Григри сама признавалась, что ее родные дочери не лучше нашего воспитаны.
Лукерья. А они, сударь, на Лионском театре первые певицы, и весь партер ими не нахвалится.
Фекла. Кажется, мадам Григри всему нас научила.
Лукерья. Мы, кажется, знаем все, что мадам Григри сама знает.
Велькаров (Лукерье). Мое терпенье...
Фекла. Воля ваша, да я готова сейчас на суд, хоть в самый Париж!
Велькаров (Фекле). Знаешь ли ты...
Лукерья. Да сколько раз, сестрица, в магазинах принимали нас за природных француженок!
Велькаров (Лукерье). Добьюсь ли я?..
Фекла. А помнишь ли ты этого пригожего эмигранта, с которым встретились мы в лавке у Дюшеньши, он и верить не хотел, чтоб мы были русские!
Велькаров (Фекле). Позволишь ли ты?..
Лукерья. Да вить до какой глупости, что уверял клятвою, будто видел нас в Париже, в Пале-Ройяль, и неотменно хотел проводить до дому.
Велькаров (Лукерье). Будет ли конец?..
Фекла. Стало, благодаря мадам Григри, наши манеры и наше воспитание не так-то дурны, как...
Велькаров (схватя их обеих за руки). Молчать! молчать! молчать! тысячу раз молчать!.. Вот воспитание, что отцу не дадут слова вымолвить! Чем более я вас слушаю, тем более сожалею, что вверил вас любезной моей сестрице. Стыдно, сударыни, стыдно!.. Девушки, вы уж давно невесты, а еще ни голова ваша, ни сердце не запасено ничем, что бы могло сделать счастие честного человека. Все ваше остроумие в том, чтоб перецыганивать и пересмеивать людей, часто почтеннее себя; вся ваша ловкость, чтоб не уважать ни летами, ни достоинствами человека и делать грубости тем, кто вас старее. В чем ваше знание? Как одеться или, лучше сказать, как раздеться, и над которой бровью поманернее развесить волосы. Какие ваши дарования? Несколько песенок из модных опер, несколько рисунков учителевой работы и неутомимость прыгать и кружиться на балах! А самое-то главное ваше достоинство то, что вы болтаете по-французски? Да только уж что болтаете, того не приведи Бог рассудительному человеку ни на каком языке слышать!
Фекла. В городе, сударь, нас иначе чувствуют; и когда мы ни говорим, то всякий раз около нас кружок собирается.
Лукерья. Уж кузинки ли наши, Маетниковы, не говоруньи, а и тем не досталось при нас слова сказать!
Велькаров. Да, да! смотрите, и при гостях-то уж пощеголяйте таким болтаньем, это бы уж были не первые женишки, которых вы язычком своим отпугали!
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Велькаров, Фекла, Лукерья и слуга.
Слуга. Какой-то француз просит позволения войти.
Велькаров. Спроси кто и зачем?
Слуга уходит.
Лукерья (тихо). Сестрица, душенька, француз!
Фекла (так же). Француз, душенька сестрица, уж хоть бы взглянуть на него! Пойдем-ко!
Велькаров. Француз... кто мне? зачем Бог принес? (Увидя, что дочери хотят идти.) Куда? будьте здесь, еще насмотритесь. (Слуге, который входит.) Ну что?
Слуга (возвращаясь). Его зовут маркиз.
Лукерья (тихо сестре). Сестрица, душенька, маркиз!
Фекла (так же). Маркиз, душенька сестрица! верно, какой-нибудь знатный!
Велькаров. Маркиз! все равно – спроси, зачем и кого ему надобно.
Слуга уходит.
Лукерья. Кабы он у нас погостил!
Фекла. Я чай, какие экипажи! какая пышность! какой вкус!
Велькаров. Ну!
Слуга (входя). Его точно зовут маркизом; по отчеству как, не знаю, а пробирается в Москву пешком.
Обе сестры. Бедный!
Велькаров. А, понимаю, это другое дело; тотчас выйду.
Слуга уходит.
Фекла. Батюшка, неужели не удержите у нас маркиза хоть на несколько дней?
Велькаров. Я русский и дворянин; в гостеприимстве у меня никому нет отказа. Жаль только, что из господ этих многие худо за то платят, – да все равно!
Лукерья. Я надеюсь, что вы позволите нам говорить с ним по-французски. Если маркизу покажется здесь что-нибудь странно, то по крайней мере увидит он, что мы совершенно воспитаны, как должно благородным девицам.
Велькаров. Да, да! Если он по-русски не говорит, то говорите с ним по-французски, я даже этого и требую. Есть случаи, где знание языков употребить и нужно, и полезно. Но русскому с русским, кажется, всего приличнее говорить отечественным языком, которого благодаря истинному просвещению зачинают переставать стыдиться. Василиса!
Василиса входит.
Будь с ними, а я пойду и посмотрю, что за гость!
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Фекла, Лукерья, Даша и няня Василиса.
Лукерья. Сестрица! я чай, мы уроды уродами! Посмотри, что за платье, что за рукавчики... как мы маркизу покажемся?
Фекла. Накинем хоть шали. Даша! Даша!
Даша. Чего изволите?
Лукерья. Принеси мне поскорей пунцовую шаль.
Фекла. А мне мою полосатую.
Даша. Тотчас! (Хочет уйти.)
Лукерья. Даша! постой! Сестрица, полно, носят ли уже в Париже шали?
Фекла. Нет, нет, останемся лучше так. Даша, дай румяна.
Даша исполняет приказание.
Кажется, в Париже румянятся! Нарумянь меня, миленькая сестрица!
Лукерья. А ты между тем растрепи мне хорошенько на голове.
Они услуживают друг другу.
Даша. Что с ними сделалось?
Фекла. Как бы нам его принять?.. Как будто мы ничего не знаем!.. Займемся работой.
Лукерья. Даша! подай нам какую-нибудь работу. Зашпиль мне тут, сестрица... так... немножко более плеча открой.
Даша. Да какую работу, сударыня? Вы никогда ничего не работаете; разве кликнуть людей да втащить наши пяльцы... Ну, право, они одурели!
Лукерья. Ох нет! Ин не надо? Знаешь ли что, сестрица? Сядем, как будто мы что-нибудь читали. (Бросается в кресла.)
Фекла. Ах, это прекрасно!.. Даша, дай нам две книжки. Сестрица, миленькая, надвинь мне хорошенько волосы на левый глаз!
Лукерья. Так?
Фекла. Постой-ка, нет! нет, еще, чтоб я им ничего не видала. Очень хорошо. Даша, что же книги?
Даша. Книги, сударыня? Да разве вы забыли, что у вас только и книг было, что модный журнал, и тот батюшка приказал выбросить; а из его библиотеки книг вы не читаете, да и ключ у него... Няня Василиса, скажи, право, не помешались ли они?
Няня Василиса. И, мать моя! Бог с тобою; они все в одном разуме.
Фекла. Нет, эдак неловко; лучше встанем, сестрица! посмотри-тко, как я присяду. (Приседает низко и степенно.) А! Маркиз! – хорошо так?
Лукерья. Нет, нет, это принужденно-учтиво; надо так, как будто мы век были знакомы! Мы лучше чуть кивнем. (Приседает скоро и кивает головою.) Ах! Маркиз! Вот так.
Даша. Комедию, что ль, они хотят играть? Да что такое сделалось, сударыни? Что за суматоха?
Фекла. К нам приехал из Парижа знатный человек, маркиз!
Лукерья. Он будет у нас гостить. Даша! ты, чай, сроду маркизов не видала?
Фекла. Ах, миленькая сестрица! Если бы он не говорил по-русски!
Лукерья. Фи! Душа моя, какой глупый страх! Он, верно, в Париже весь свой век был в лучших обществах!
Фекла. Когда я воображу, что он из Парижа, что он маркиз, – так сердце бьется, и я в такой радости, в такой радости, je ne saurois exprimer[10].
Няня Василиса. Матушка Фекла Ивановна! Извольте радоваться по-русски!
Лукерья. Добро, няня Василиса, недолго тебе нас мучить: назло тебе наговоримся мы по-французски досыта – нам батюшка позволит.
Няня Василиса. Его господская воля, мои красавицы.
Даша (особо). Что за гость! что за маркиз! (Увидя Семена.) Ах, это негодный Семен! Боже мой, что такое он затеял?
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Фекла, Лукерья, Даша, няня Василиса, Велькаров и Семен во фрачке.
Велькаров. Хоть, кажется, у нас смирно и никаких грабежей не слыхать, но ничего нет невозможного. Мы тотчас дадим знать, куда должно, и все способы будут употреблены сыскать воров и возвратить вам ваши вещи и ваши бумаги. Вы между тем останьтесь у меня, отдохните и потом, коли время не терпит, отправьтесь в ваш путь. Вы не будете раскаиваться, что ко мне зашли. Но помните твердо наше условие: ни слова по-французски.
Даша (особо). Да он ни бельмеса и не знает!
Семен. Милостивый государь, я стану сохранять ваше повеление так свято, как будто б я ни слова не умел по-французски, тем более што, живши прежде время долго в России, я довольно изрядно говорю по-русски, хотя теперь я и прямо из Парижа.
Даша. О плут!
Фекла. Боже мой, сестрица! Он по-русски умеет!
Лукерья. Надо быть нашему несчастию! Я думаю, назло нам, судьба всех французов по-русски переучит!
Велькаров. Оставьте излишние церемонии! мы здесь в деревне. Вот мои дочери? останьтесь пока с ними, а я пойду и прикажу для вас комнату очистить; да только помните: ни слова по-французски!
Семен. Я не выступлю из воли вашей. (Особо.) Хоть бы и хотел, да не могу. (Откланивается очень учтиво Велькарову.)
Фекла (тихо сестре). Сестрица, душенька! видно, в Париже теперь учтивы: присядем пониже.
Приседают очень низко и перекланиваются с Семеном.
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Фекла, Лукерья, Даша, няня Василиса и Семен.
Семен. Милостивия государини, ви видите пред собою утифительного маркиза, которого злополушния нешасия, и нешастния горести, соправшияся наподобие, когда великие туши с приткою молниею несносные для всякого шувствительного серса, которое серса подобно большой шлюпке на морских волнах катается, кидается и бросается из педы на горе, из горя на нешасие, из нешасия на погибель, из погибели... ошень, ошень жалко, сударини, што не могу я вам этого рассказать по-французски.
Фекла. Ах, маркиз! мы просим у вас прощения за батюшку.
Лукерья. Извините нас, если вы видите в нем еще остаток варварского века!
Фекла. Он для того не позволяет говорить по-французски, что воспитан на старинный манер.
Лукерья. И по-французски не знает!
Семен. Не снает! Боже мой! это ужасно, непростительно, не благородно! Так и ви, сударини, говорите только по-русски?
Фекла. Ах, нет, нет! мы клянемся вам, что до самого приезда сюда иначе не говорили мы, как по-французски, даже до того, что по-русски худо знаем. О! мадам Григри за этим очень смотрела!
Лукерья. Не в похвалу себе скажу, маркиз, только я, право, двух строк по-русски без двадцати ошибок не напишу; зато по-французски...
Семен. Это похвально, ошень похвально! и я жалею, што ви имеете такого батюшку, который...
Лукерья. Если бы чувствовали, как нам стыдно, что он так странен!
Семен. Не знать по-французски, я вообразить этого не могу! я бы умер!
Лукерья. Нам, право, даже совестно перед вами, что мы его дочери!
Фекла (приседая). Ах, маркиз, извините нас в этом!
Семен. Нишего, судариня, нишего, я охотно верю, што ви этому не виновати; но позвольте мне хотя по-русски пересказать вам свои обстоятельства; я имею надежду, што ваша щедрость и ваше добре серее...
Фекла. Мы жадно хотим их слушать. Даша! подвинь креслы маркизу.
Даша исполняет приказание.
Семен (садясь). Милостивия государини, всякому, конешно, странно будет видеть знатного шеловека, каков я, пешком; видеть, што знатный шеловек, каков я, имеет крайную нужду в деньгах; но когда вы узнаете мои обстоятельства...
Фекла. Так вы недавно из Франции? Я думаю, там хорошо, как в раю; не правда ли, маркиз, что когда вы сравните ее с нашею варварскою землею?..
Семен. Какое зравнение, сударини! какое зравнение! Слези из меня текут всякий раз, когда вспомню о Франции! Я вам скажу только одну безделису, но любопитно видеть, точно любопитно, совершенно любопитно, – поверите ли ви, што там все большие города вистроени на больших дорогах?
Лукерья. Ах, Боже мой!
Фекла. Ах, сестрица! как это должно быть весело!
Семен. Я вам после подробнее об этом расскажу, а теперь позвольте мне о моих обстоятельствах...
Лукерья. Сестрица, маркизу низко. Даша! подай лучше стул.
Даша исполняет приказание.
Семен (пересаживаясь с поклоном). Мне ошень приятно видеть ваше мягкое серее, сударини, и я надеюсь, што мои обстоятельства...
Лукерья. А особливо против нашего; здесь, право, не знаешь, когда сутки кончатся; а там, маркиз, не правда ли?
Семен. Это правда ваша. Там зутки по крайней мере шестью шасами короше, нежели в России.
Фекла. Вы чудеса нам рассказываете!
Семен. О ето еше безделиса; но позвольте, штоб теперь изъяснил я вам мои жалкие обстоятельства!
Лукерья. Как это приятно, что, живши там, можно получать несравненно скорее, нежели здесь, все новые романы и песенки; скажите, маркиз, кого там теперь более читают?
Семен. Фи! фи! как это неблагородно! Ми все, кто познатнее, никого не читаем.
Фекла. Ну вот, сестрица, а батюшка вечно гневается, что мы мало сидим за книгами. Видишь ли, что и в Париже по-французски только говорят, а не читают.
Семен. Мало ли есть прекрасных упрашнений, кроме книг, для молодого, знатного шеловека. Например: можно нишего не делать, можно гулять, можно петь, можно играть комедию. Я вам после обо всем расскажу; теперь позвольте представить вам мои жалкие обстоятельства...
Лукерья. Сестрица, маркизу жестко! Даша, подай подушку!
Даша (исполняя приказание). Усядется ли мой маркиз?
Семен (пересаживаясь). Покорно благодарствую, сударини! Ви не поверите, как приятно иметь дело с простими душами, как ваши; но согласитесь, ради Бога, изъяснит вам мои обстоятельства! Выслушайте меня!
Фекла. Мы слушаем, маркиз.
Семен. Нешасия мои такови, што, слушая их, можно утонуть в слезах.
Лукерья. Бедный маркиз!
Семен. Мои жалкие приклюшения достойны...
Даша. Несчастный маркиз! Ах! ах!
Семен. Ах, Боже мой! дозвольте только, штоб я изъяснил вам...
Лукерья. Злополучный маркиз! Ах! ах!
Семен. Если ви сжалитесь?..
Фекла. Ах, сестрица! ах, Даша! какая жалость! Ах! ах! ах!
Семен. Если вы хотя несколько имеете шеловешества...
Лукерья. Ах, Даша! ах, сестрица, можно ль не терзаться? хи! хи!
Даша. Ах, сударыня, подлинно жалко! ох! ох! ох! (Все плачут около маркиза.)
Няня Василиса (которая все глядела на них, вдруг плачет навзрыд). О! о! хо! хо! хо! согрешила я, окаянная, по грехам моим меня Бог наказывает!
Лукерья. Ну ты что развылась, няня Василиса?
Няня Василиса (со слезами). Так, золотые мои, глядела на вас, глядела, индо меня горе разобрало; я вспомнила про внука Егорку, которого за пьянство в рекруты отдали; ну такой же был статный, как его милость!
Фекла. Куда ты глупа, няня Василиса!
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
Фекла, Лукерья, Даша, няня Василиса и Сидорка (несет платье).
Сидорка. Петровна! какой у нас француз, который по-русски говорит?
Няня Василиса (указывает на Семена). Вот он, мой батюшка!
Лукерья. Неуч! да говори вежливее!
Фекла. Извините его, маркиз! Куда ты глуп, Сидорка! ну простительно ли говорить так грубо: француз! француз! не мог ты сказать учтивее?
Сидорка. Виноват, сударыня, я не знал, что это бранное слово; только, воля ваша, барин не в брань изволил его сказать, а, напротив того, он хочет уже показывать, как чудо, француза, который по-русски говорит почти так чисто, как наш брат крещеный, и для того прислал к нему с своего плеча новую пару платья, да 200 рублей денег, и велел, чтоб он неотменно теперь же оделся.
Даша (особо). Помоги, любовь, моему маркизу!
Семен (особо). Ура! маркиз! (Сидорке.) Скажи, мой друг, своему господину, што маркиз его благодарит.
Лукерья. Ах Боже мой! что это значит? право, батюшка выходит из благопристойности! взгляните, маркиз, что за кафтан: я думаю, на нем одних галунов полпуда! Поди, поди вон с платьем!
Семен. Полпуда! нет, нет, надобно иногда угождать старим людям.
Фекла. Нет, маркиз, коли в батюшке нет человечества, так по крайней мере мы жить умеем... Поди, Сидорка, вон с платьем! Оно вас задавит!
Семен. Нет, нет, постой, слуга!.. О мучительницы, они грабят меня.
Лукерья. Вы шутите, маркиз! Это бы было убийство!
Фекла. Это грех, беззаконие!.. Поди, Сидорка, вон!
Семен (схватя за платье). Позвольте мне, сударыня, этот грех на себя взять! (Берет платье.)
Даша. И подлинно, сударыни, неровно батюшка прогневается! Войдите, маркиз, в эту боковую комнату, вы тут можете одеться.
Лукерья. Право, нам стыдно, маркиз!
Семен. Вы увидите, сударини, што я во всяком кафтане тот же я. (Сидорке.) Пойдем, слуга! Голубчик кафтанчик, чуть было нас не разлучили!
ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
Фекла, Лукерья, Даша и няня Василиса.
Лукерья (вслед Семену). Какой ум! Какая острота!
Фекла. Какое благородство, какая чувствительность!
Даша (особо). Благодаря маркизству.
Лукерья. Как видна ловкость во всяком пальчике маркиза!
Фекла. В каждом суставчике приметно что-то необыкновенное, привлекательное.
Даша (особо). Куда все это денется, как узнают, что он Семен?
Фекла. Приметила ль ты, как он был в креслах: ну, можно ли свободнее лежать у себя в постели? Ах, наши молодые люди долго на него походить не будут, все еще отзываются они чем-то русским.
Лукерья. Чему ж дивиться, сестрица, коли батюшки да матушки сами изволят впутываться в воспитание! Они, конечно, все перепортят! Посмотри на многих из тех молодых людей, которых воспитание совершенно поверено было гувернерам: похожи ли они на русских?
Фекла. Ну! воля твоя, сестрица, я нашего маркиза между тысячи русских узнаю; манеры не те, ухватки не те, взгляд не тот, а притом как несчастлив! Ах! я чуть не изорвалась с тоски, слушая его приключения!
Лукерья. Веришь ли, сестрица, душенька, как он меня тронул, что я, сквозь слез, ничего не могла расслушать!
Фекла. Ну как же не мучительно, когда видишь, что есть такие достойные люди, и сравнить с ними здешних необразованных животных!
Лукерья. А особливо таких, как наши любезные женишки, Хопров и Танин!
Фекла. Куда это умно, ты, сестрица, будешь майоршею, а я асессоршею!
Лукерья. Майорша, асессорша! Фи! Гадость! Нет, нет, как изволит батюшка, я лучше в девках останусь!
Фекла. Я, миленькая сестрица, хоть в девках и не останусь, только уж, воля его, ни майоршею, ни асессоршею быть, право, не намерена.
Лукерья. Ах, для чего мы не рождены во Франции! Я бы, может быть, была маркизша!
Фекла. А я виконтесса! Куда, чай, это весело, миленькая сестрица! Побыл бы хоть неделю маркизшею или виконтессою, пускай бы после хоть век в девках сидеть!..
Даша. Куда это они подбираются?
Лукерья. Сестрица! мне пришла в голову прекрасная мысль!
Фекла (робко). Уж не та ли, что и мне, миленькая сестрица?
Лукерья. Верно, я по глазам узнаю, но это нас не поссорит, мой ангел; конечно, природа не даром дала нам тонкие чувства и тонкий ум.
Даша (особо). Где тонко, тут и рвется.
Фекла. Может быть, судьба и подлинно одну из нас готовила быть маркизшею.
Лукерья. Пойдем ко мне в комнату, ты увидишь, что я сделаю. Даша, останься здесь и скажи маркизу, что мы тотчас выйдем! (Отходя.)
Фекла. Ma chere amie, il faut d’abord...[11]
Няня Василиса. Матушка Фекла Ивановна, извольте говорить по-русски!
Лукерья. Сгинешь ли ты когда-нибудь от наших глаз, няня Василиса?
Даша. Право, у барышень моих что-нибудь непутевое на уме! Ну, дорогой Семен, затеял ты дело: посмотрим, каково-то концы сведешь!
ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
Даша, потом Семен, разряженный в Велькарова кафтан и распудренный, и Сидорка.
Семен. Ну да, приятель, ты и в расходную свою книгу запишешь, что 200 рублей изволил принять маркиз, то есть я. Скажи, девушка, где твои барышни?
Даша. Тотчас выйдут, маркиз! Они просят, чтоб вы их подождали.
Сидорка. Ну да коли маркиз то чин, так как же прозванье-то ваше? вить мне надо толком записать и показать барину, а он и так ворчит, что я не умею порядком в расход занести.
Семен. Мое прозвание! прозвание... Послушай, девушка! (Тихо.) Даша, не помнишь ли ты какого-нибудь французского прозвания? Злодей мучит меня уже час, а на ветер сказать боюсь, чтоб старику себя не оболтать.
Даша. Хоть убей, прямо, ни одного не помню! Смотри, Семен, не напутай на себя!
Сидорка. Так, уже ничего не видя, и к девкам нашим изволит подлипать! Что ж, сударь, мусье маркиз, как ваше прозвание?
Семен. Прозвание? стало, это надобно? (Тихо.) Дай Бог памяти! Даша, да помоги!
Даша. Будто я знакома с маркизами? Кроме похождения Глаголь, которого 3-й том у меня в сундуке валяется, я ни одного маркиза не знаю.
Семен. Славно! чего этого лучше? (Громко.) Так ты, миленькая девушка, будешь чинить мои маншети?
Сидорка (особо). Вот дурака нашел! чинить манжеты! Мне, сударь, право, некогда; скажите, как вас зовут?
Семен (гордо). Меня как зовут? Изволь, мой друг: меня зовут маркиз Глаголь!
Сидорка. Маркиз Глаголь!
Даша. С ума ты сошел!
Семен (Даше). Коль есть печатный маркиз Глаголь, для чего не быть живому? Да, да, маркиз Глаголь, не забудь, приятель, и запиши, что деньги изволил полушить маркиз Глаголь.
Сидорка. Маркиз Глаголь! слушаю! Глаголь... Право, чудно... Маркиз Глаголь!.. Ахти, мои батюшки, ну ни дать ни взять, будто из русской азбуки!
ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
Даша и Семен, хохочут.
Даша. Ну, мой бесценный маркиз Глаголь!
Семен. Ну, моя маркизша!
Даша. Не свербит ли у маркиза спина?
Семен. Смелым Бог владеет, королева моя! Нет... да полюбуйся-ка. (Расхаживает.) Посмотри-кась! Какова выступка? каков вид? Чем не барин? Чем не маркиз? Что, каково меня одели?
Даша. Прекрасно! только каково-то тебя раздевать будут.
Семен. Пустого ты боишься.
Даша. Надобно быть твоему бесстыдству и дерзости, чтоб назваться французом, не зная ни слова по-французски.
Семен. Ничего, ничего; барышни твои точно таковы, как мне надобно; им бы хоть уж имя не русское, далее они не смотрят. Что до старика, то я знал наперед с твоих же слов, что он запретит мне говорить по-французски, как скоро услышит, что я по-русски говорю; а без него надежда моя на премудрую няню Василису. Видишь ли, как я дело-то со всех сторон кругло расчел!
Даша. Это правда, только я все что-то боюсь!
Семен. Вздор, посмотри-ко! 200 рублей уж тут, и комедия почти к концу; еще бы столько же, или на столько же хоть выманить от красавиц, то к вечеру сложу маркизство, с барином своим распрощаюсь, чин чином, и завтра ж летим в Москву! Я уж придумал, как и делу быть: открою или цырульню, или лавочку с пудрой, помадой и духами.
Даша (приседая важно). Не позабудьте, маркиз, одной безделицы, прежде нежели изволите отправиться в Москву открыть лавочку.
Семен (с комическою важностью). Что, душа моя?
Даша (приседая важно). Со мной здесь же обвенчаться; а то вы, знатные, иногда очень забывчивы.
Семен (с комическою важностью). Я надеюсь, что вы мне об этом припомните!
Даша (приседая). Не премину, конечно, маркиз! Тс! идут. А, это барышни! Боже мой, и без няни Василисы! пропал ты...
Семен. Худо, Даша!
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
Фекла, Лукерья, Даша и Семен.
Лукерья. Дашенька, поди на крыльцо и стереги, как скоро приедут Хопров и Танин, прелестные наши женишки, отдай им эти письма; а мы здесь поговорим с маркизом.
Фекла. Не прогляди же их!
Даша. Как! вы без няни Василисы?
Лукерья (хохочет). Мы ее заперли в нашей комнате. Поди отсель.
Даша. Я, право, боюсь...
Лукерья. Ох, поди же!
Даша. Если батюшка...
Фекла. Ну, что ты привязалась, как няня Василиса! Поди, коли говорят!
Даша. Беды, совсем беды! Поскорей побежать его выручить.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ
Фекла, Лукерья и Семен.
Семен (особо). Ну, до меня дело доходит! Попытаемся как-нибудь отыграться. (Им.) Как ви прекрасни, сударини! верите ли, што, глядя на вас, я забываю мои нешасия; здесь я стал совсем иной шеловек. Смотря на вас, не могу я быть сериозен, – это волшебство! настоящее волшебство! Я думал, што я буду плакать, а вы делаете, што я не могу не смеяться.
Лукерья. Ecoutez, cher marquis...[12]
Семен. Боже мой! што вы хотите делать? Я дал батюшке вашему слово не говорить по-франсузски.
Фекла. II ne saura pas[13].
Семен. Невозможно! невозможно! никак невозможно! услишат.
Лукерья. Mais de grace...[14]
Семен (убегая от них на другую сторону театра). По-русски, по-русски, ради Бога, по-русски! О няня Василиса!
Фекла (гоняясь за ним). Je vous en prie...[15]
Лукерья. Je vous supplie...[16]
Семен (убегая). Ни одного слова, ни полслова, ни шетверть слова. (Особо.) Совершенная беда!
Лукерья (гоняясь). Barbare![17]
Семен (убегая). Не слишу!
Фекла (гоняясь). Не понимаю!
Лукерья (гоняясь). Impitoyable![18]
Семен (убегая). Не разумею.
Фекла. Ingrat![19]
Семен (убегая). Напрасно! напрасно! – О няня Василиса!
Лукерья (гоняясь). Cruel![20]
Семен (убегая, и, выбившись из сил, падает в кресла). Не могу, совершенно не могу!
Лукерья (придерживая его). Ah! Vous parle-rez...[21]
Фекла (так же). Ah! le petit tratire![22]
Семен (барахтаясь). Не понимаю, не разумею, не чувствую! (Особо.) Ах! где ты, няня Василиса?
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ
Лукерья, Фекла, Семен и няня Василиса.
Няня Василиса (входя). А! А! Красавицы мои барышни!
Они бросаются от Семена.
Семен. Уф! отдыхаю!
Няня Василиса. Затейницы! затейницы! что это вы надо мной спроказничали: вить я индо охрипнула кричавши!
Лукерья. Чтобы тебе охрипнуть еще не кричавши, няня Василиса!
ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ
Прежние, Велькаров и Даша.
Даша. Я божусь вам, сударь, что я не знала ни намерения барышень, ни того, что на письме написано; они сами это скажут.
Велькаров. Бесстыдные! безумные! долго ли вам мучить меня своими дурачествами? Что значат и письма, которые взял я у ней (указывает на Дашу) и в которых вы изволите так грубо Хопрову и Танину запрещать ездить ко мне в дом?
Лукерья. Воля ваша, батюшка, мы не хотим, чтоб они и надежду имели на нас жениться.
Фекла. Ах, не унижайте нас!
Велькаров. Что, что вы, сумасшедшие! да они благородные, молодые и достойные люди.
Лукерья. Ах, сударь, если б они были люди, они бы хоть немножко походили на маркиза.
Велькаров. Это что еще?
Фекла (на коленях). Не будьте так жестоки, не заглушайте в нас благородных чувств; и если уж одна из нас должна носить русское имя, то позвольте хотя другой надеяться лучшего счастия.
Лукерья (на коленях). Не будьте неумолимы! ужели для вас не привлекательно иметь родню в самом Париже?
Велькаров. Встаньте, встаньте! Боже мой, какое мученье! вас точно надо запереть. (Особо.) Мой дорогой гость успел вскружить им голову. Я вас проучу!
ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Фекла, Лукерья, Велькаров, Даша, Семен, няня Василиса и Сидорка.
Сидорка. Деньги, сударь, в расход занес. (Семену.) Маркиз Глаголь, ваша комната готова.
Велькаров. Маркиз Глаголь!
Фекла. Опомнись, Сидорка!
Лукерья. Вот наши русские порядочного имя не могут затвердить.
Сидорка. Да помилуйте, я ль ему дал имя? Его милость давеча приказал и в книгу себя занести так. Даша, вить при тебе?
Даша (в смущении). Я? Когда? Давеча? Я что-то не помню!
Велькаров (особо). Ба, и Даша в замешательстве! Тут, верно, есть обман! Так вас называют маркиз Глаголь?
Семен. Милостивый государь, я удивляюсь, што это вас удивляет.
Велькаров. Господин маркиз Глаголь, ты плут!
Семен. Я не смею спорить с вашей почтенной фигурой.
Лукерья. Батюшка, можно ли так обижать знатного человека!
Фекла. Помилуйте, вы обесславите себя по всей Франции.
Велькаров. Мы посмотрим его на первом опыте. Господин маркиз, я позволяю или, лучше сказать, я требую, чтоб ты дочерям моим при мне рассказал по-французски жалкое приключение, как тебя в лесу ограбили.
Даша (особо). Прощай, маркизство!
Лукерья. Ах, какое счастие!
Семен. Милостивый государь!..
Велькаров. Посмотри-ко, ты уже чище по-русски стал выговаривать, скоренько научился!
Семен. Милостивый государь...
Фекла. Ах! говорите, говорите, маркиз!
Велькаров. Ну, говори ж, маркиз Глаголь!
Семен (на коленях). Ах, сударь!
Велькаров. Полно, полно! не стыдно ль знатному человеку так унижаться! Изволь рассказывать, пусть дочери мои послушают французского языка.
Няня Василиса (подходя к Семену). Уже, мой батюшка, позволь и мне послушать, куды давно хотелось.
Семен. Ах! простите кающегося грешника. Я, сударь... ах! я не маркиз, я, сударь... ах! я и не француз, а просто вольный человек, служу у господина, который, проездом в армию, остановился в вашей деревне, и зовут меня Сенькой!
Лукерья. Бездельник! и ты мог...
Семен. Виноват, сударь, страстная любовь сделала меня маркизом.
Даша (на коленях). Простите нас, сударь!
Велькаров. А ты, Даша, тут же?
Семен. Ах, сударь, мы уже давно любим друг друга, и нам не на что жениться. Не могши ничего достать с русским именем, употребил я невинную хитрость и назвался маркизом; но я, право, не участник в отказе, который барышни сделали своим женихам.
Велькаров. Нет, нет, твоя спина дорого мне за это заплатит! Вот, госпожи дочки, следствие вашего ослепления ко всему, что только иностранное! Кто меня уверит, чтоб и в городе, в ваших прелестных обществах, не было маркизов такого же покрою, от которых вы набираетесь и ума, и правил?
Семен. Милостивый государь, простите нас!
Даша. Сжальтесь над верными любовниками!
Велькаров (особо). Однако, право, мне и досадна и смешна выдумка этого плута. Господин маркиз Глаголь, ты бы стоил доброго увещания, но я прощаю тебя за то, что сегодняшним примером дал ты моим дочкам урок. Сидорка, разочтись с ней; ужо и на дорогу прикажу вам дать.
Даша. Ах, сударь, вы нас оживили!
Семен. Уф, как гора с плеч свалилась! Пойдем, Даша! И другу и недругу закажу маркизом называться! (Уходит с Дашей; за ними Сидорка.)
Велькаров. А вы, сударыни, я вас научу грубить добрым людям, я выгоню из вас желание сделаться маркизшами! Два года, три года, десять лет останусь здесь, в деревне, пока не бросите вы все вздоры, которыми набила вам голову ваша любезная мадам Григри; пока не отвыкнете восхищаться всем, что только носит нерусское имя, пока не научитесь скромности, вежливости и кротости, о которых, видно, мадам Григри вам совсем не толковала, и пока в глупом своем чванстве не перестанете морщиться от русского языка! Няня Василиса! поди, не отходи от них! (Уходит.)
Няня Василиса (вслед). Слушаю, государь!
Лукерья (отходя). Ah! ma soeur![23]
Фекла (отходя). Ah! quelle leeon![24]
Няня Василиса (отходя за ними). Матушки барышни, извольте кручиниться по-русски!
Приложение 5 Письмо самозванки к графу Орлову-Чесменскому
Поступок, который принцесса Елизавета всея России совершает, только предуведомляет Вас, граф, что ныне дело идет о том, к какой партии Вы решитесь держаться в текущих делах. Завещание, составленное покойной Императрицей Елизаветой в пользу своей дочери, прекрасно сохранилось и (находится) в хороших руках; и князь Разумовский, командующий частью нашего населения под именем Пугачева, пользуясь славой благодаря преданности, которую питает вся русская нация к законным наследникам славной памяти покойной Императрицы, делает то, что мы воодушевлены храбростью в поисках средств разбить свои оковы.
Известно, что принцесса Елизавета была отослана в Сибирь; все остальные злокозни, которые ее преследовали, известны всему народу. И вот она вне опасности, вне тех рук, что так часто посягали на ее жизнь. Она поддерживаема и опирается на многих государей. Она пишет Вам это все только для того, чтобы уведомить Вас, что честь и слава – все предписывает Вам помочь принцессе, которая умоляет о законных правах. Кроме этого непременного долга, который побуждает ее так действовать, она должна еще считаться со склонностью своего сердца и с просьбой своих друзей, которые, естественно, должны томиться при таких неблагоприятных обстоятельствах, каковые имеет настоящая война, которая разгорается изо дня на день.
Если бы даже когда и состоялся мир, то это был бы только прерванный сон. Итак, следует узнать, желаете ли Вы держаться наших интересов или нет. Если Вы желаете их, то вот поведение, которого Вы должны будете держаться, граф! Вы начнете с обнародования манифеста, который будет заключать приложенные при сем параграфы. Если нет, то мы не будем сожалеть о том, что посвятили Вас в наши замыслы, и это докажет Вам, что мы желаем иметь Вас на нашей стороне.
Ваш прямой характер и справедливый ум внушают это желание, которое основано на прямодушии – и это может только Вам льстить, так как те умы не лживы, которые ищут средств, чтобы дать восторжествовать невинности; только друзья истины ее поддерживают; кроме того, у нее есть оружие посильнее меча, что только и остается открыть. Мы заключили союз с Высокой Портой; мы не станем ни говорить, ни даже объяснять всего, потому что можем громко объявить перед лицом всего мира, что у нас отняли и присвоили себе нашу Империю, желая заставить нас умереть постыдною смертию, но Провидение, вечно справедливое, чудесно избавило нас от нечестивых рук, которые полагали пресечь нить нашего существования.
Не будет лишним предупредить Вас, что все, что бы ни предприняли против нас, не возымеет никакого действия, ибо мы уже в Турецкой империи и идем под охраной Великого Султана. Мы узнаем от народной молвы о Вашем поведении, которого Вы будете держаться в этом деле.
Вот главные причины, которые склоняют нас в Вашу пользу, граф. За вами выбор той партии, к которой вы пожелаете примкнуть. Если Вы склоняетесь на нашу сторону, то судите сами, какую важную услугу Вы оказали бы нам. Мы никогда не совершили бы этого шага, если бы не были уполномочены главными друзьями покойной Императрицы Елизаветы. Нас даже обязует сделать это закон и несчастие нации, которая нам принадлежит. Эти причины слишком вески, чтобы отказаться подать быструю помощь в бедствиях, губящих нашу Империю со времени смерти Императрицы Елизаветы Первой. Рассудите, граф, что мы не обязаны писать Вам так откровенно, как мы это делаем, но мы этим взываем к Вашему здравому смыслу и справедливому суждению, если мотивы, побуждающие нас действовать, более чем достаточны и законны, чтобы склонить умы, которым нужно исполнять свой долг не только по отношению к своей родине, но и по отношению к самим себе.
Следовательно, это им надо поддержать законную наследницу в ее правах, долженствующих принести счастие тысячам стенающих людей. Мы заранее уверены в исходе наших предприятий, которые неизбежны в их исполнении и очевидны в своем успехе. Когда окончится подготовительная работа, нам останется только показаться. Мы искали возможности приехать в Ливорно, нам помешали в этом, хотя мы весьма уверены в Вашей честности, знаки которой Вы оказывали нам при представлявшихся несколько раз удобных случаях, и они заставили нас судить о превосходстве Вашего сердца.
Подумайте, рассудите! если Вы полагаете, что наше присутствие в Ливорно будет необходимо для обоюдных переговоров, то дайте Ваш ответ через то лицо, которое передаст Вам это. Это лицо не знает ни от кого, ни откуда посылается это письмо, следовательно, будьте с ним скрытны и, во избежание любопытства, адресуйте ответ г. Флотирону, имя нашего секретаря. В главных параграфах завещания покойной Императрицы Елизаветы, сделанного в пользу ее единственной дочери, никоим образом не упоминается о ее брате. Причины слишком длинны для того, чтобы их излагать письменно.
Достаточно будет сказать, что он командует народами, которые всегда были за своих государей и государынь. Они решились поддержать принцессу Елизавету Вторую в самодержавной власти, какую имели все ее предшественники. Время коротко и дорого; даже надлежит мигом покончить со всеми делами, иначе весь народ будет истреблен от недостатка средств. Наше чувствительное и сострадательное сердце не может видеть столько несчастий зараз. Вовсе не корона всей России заставляет нас действовать: мы это доказали всеми фактами в нашей жизни.
Это только дело, достойное крови, которая течет в наших венах, мы это докажем еще лучше впоследствии. Мы полагаемся на Ваше справедливое суждение, граф! Если Вы думаете, что сможете распространить содержание этого маленького манифеста, то прибавить к нему или исключить из него что – в Вашем распоряжении. Но прежде, чем Вы сделаете этот шаг, обдумайте хорошенько и сумейте хорошо изучить умы. Если Вы полагаете, что сделаете хорошо, переменив Ваше местопребывание, то Вам лучше знать положение вещей, которые могут препятствовать выполнению наших действующих замыслов. Все то, в чем мы можем Вас уверить, это то, что в каких обстоятельствах Вы ни находились бы, мы заступимся за Вас и обещаем Вам навсегда быть Вашей защитой и поддержкой. Нам не надо говорить Вам о благодарности: она так сладостна для чувствительных душ, что не допускает середины между чувствительностью и чуткостью – чувства, которые мы просим Вас считать навсегда искренними.
Приложение 6 Всеподданнейшие донесения графа Орлова-Чесменского
Всемилостивейшая Государыня!
Два наимилостивейшие писания Вашего Императорского Величества имел счастье получить: первое июля от 28 числа, второе августа от 13 числа, и Сарского Села. Принося рабскую мою благодарность за столь великие милости Вашего Величества, я прошу при том не взыскать, что я умедлил моим нижайшим донесением. Причины же, удерживающие меня, были худое состояние моего здоровья и в силу повелениев Вашего Императорского Величества скорые отправления в Архипелаг, с повелениями, чтоб скорее флот возвращался из принадлежащих Оттоманской Порте мест, и через то б исполнить с поспешностью волю Вашего Величества.
Последние репорты, полученные мною из Архипелага, осмеливаюсь при сем поднести, из которых все происходящие военные действия усмотреть соизволите по день получения известия о мире.
И з сим благополучным миром, яко мать всея России, имею счастье Ваше Императорское Величество поздравить, да дарует Господь, да продлится Ваш век и милосердое царствование Вашего Величества, о чем все верные рабы Ваши и прямые дети отечества непрестанно должны Бога молить. Угодно было Вашему Величеству дать мне знать, как все Министры чужестранные получили вести о мире. Я нимало не сомневаюсь, как Вы сами изволите писать, что Аглицкой и Датской чрезвычайно были ради, а прочие разные виды на себе имели. По моему мнению, Аглицкий народ прямо нас любит, да и собственные их интересы до оного ведут; чем более мы разоряемся и чем беднее становимся, тем самим они много по положению своему теряют своих выгод; и они надеются, что во время нужды и мы им помощь большую сделать можем против их неприятелей, а при том и незавидно, что без помощи и посредства других сделался мир. Датчина же по бессилию и невыгодному своему состояни(ю), кроме Бога и Вашего Величества, ни на ково своей нужды не полагают. Французам же очень прискорбно, что яд их, испускаемый против нас, по всей их возможности, не взял такового действа, как им желалось.
Позвольте сказать, что стыд и срам обратился на главу их; они ж теперь, конечно, станут стараться, чтоб и они в Черное море получили дозволение торговать. Досадно чрезвычайно Цесарцам, што они не могли предвидеть так скорого мира, а то б, конечно, стараться стали показать, что эта услуга ими сделана для нас, а в самом деле ни мало они нам добра не желают, што легко приметить можно во всем их Государстве. Прусскому уже не удастся теперь прибирать более к себе земель по его желанию, и так ему помеха велика в мутной воде рыбу ловить. И как оба последние народа несказанно желали видеть нас в расслаблени(и) и всеми мерами под прикрытиями разными старались до онова довесть, то и не без прискорбности им о их неудаче. Шпанец следует во всем Французу, хотя часто от него и обманут бывал. Швед же подущаем и поджигаем был со многих сторон, но не имел смелости, а теперь горюет, что время упустил. Желательно, Всемилостивейшая Государыня, чтоб искоренен был Пугачев, а лучше б тово, если б пойман был живой, чтоб изыскать через него сущую правду. Я все еще в подозрени(и), не замешались ли тут Французы, о чем я в бытность мою докладывал, а теперь меня еще более подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица.
Если етакая в свете или нет, я не знаю, а буде есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею да в воду. Сие ж писмо при сем прилагаю, из которого ясно увидит изволите желание. Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародования; а может быть и то, что и меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается к особе Вашего Величества; я ж на оное ни чего не отвечал, чтоб через то не утвердить более, что есть такой человек на свете, и не подать о себе подозрения. Еще известие пришло из Архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парос и живет в нем более четырех месяцев на Аглицком судне, плотя с лишком по тысяче пиастров в месяц корабельщику, и сказывает, что дожидается меня; только за верное еще не знаю. От меня ж послан нарошно верный Офицер, и ему приказано с оною женщиною переговорить, и буде найдет што ни будь сумнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из за того звал бы для точного переговора сюда в Ливорну. И мое мнение, буде найдется таковая сумасшедшая, тогда, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт; и на оное буду ожидать повеления: каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейши исполнять буду. Есть еще известие, что во всей Карамани великие замешательства и между собою частые побоища у Турков.
При сем осмелюсь письмо приложить от владетеля народов Друзских, Принца Ниозефа, который, помощью врученных от Вашего Императорского Величества мне войск, получил старинный свой город Барут, и его доверенность столь велика, что он, прося протекции, приложил белую бумагу, подписав свое имя. Мною же теперь приказано их уверить, что и оне в генеральном пункте в мирном договоре включены, что всем прощается и все забывается, что б кто ни сделал.
Тож в силу повеления Вашего Императорского Величества приказано между Греками слух распустить, что для них покровительство Вашего Величества выгодно, а впредь еще выгоднее будет. Некоторые фамилии разоренные из Сербских народов присылали ко мне депутатов просить милости и покровительства Вашего Императорского Величества. Депутаты мною обратно отпущены, и что к ним от меня было писано для рассмотрения, при сем прилагаю копии; а на таковой случай не угодно ль будет повелеть оставить несколько фрегатов здеся, и в силу трактата, забрав оные фамилии, послать их сквозь Дарданели через Черное море, для поселения в доставшихся в Крыму крепостях, а со временем возможно будет ими и гарнизон заменить. Все ж оное отдаю на всемилостивейшее благоволение и Монаршую волю, и буду ожидать Высочайшего Вашего повеления. И повергая себя ко священным стопам Вашим, пребуду навсегда с искреннею моею рабскою преданностью
Вашего Императорского Величества всепотданнейший раб
Граф Алексей Орлов.
Пиза, 1774 года, Сентября 27 дня.
Всемилостивейшая Государыня!
Милостивое собственноручное повеление Вашего Императорского Величества, к наставлению моему служащее, ноября от 12 дня, через курьера Миллера имел счастье получить, в котором угодно было предписать о поимке всклепавшей на себя имя, по которому я стану стараться со всевозможным попечением волю Вашего Императорского Величества исполнить, и все силы употреблю, чтоб оную достать обманом, буде в Рагузах оная находится, и когда первое не удастся, тогда употреблю силу к оному, как Ваше Императорское Величество мне предписать изволили.
От меня вскоре после отправления моего курьера к Двору Вашего Величества послан был человек для разведывания об оном деле, и тому уже более двух месяцев никакого известия об нем не имею, и я сомневаюсь об нем, либо умер он, или где-нибудь задержан, что не может о себе известия дать; а человек был надежный и доказан был многими опытами в его верности. А теперь еще отправлено от меня двое, один офицер, а другой славянин, венецианский подданный, и ни чего им в откровенности от меня не сказано, а показал им мое любопытство, что я желаю знать о пребывании давно мне знакомой женщины. А офицеру приказано, буде может, и в службу войтить к ней, или к Князю Радзивилу волонтером, чего для от меня и абшить ему дан, чтоб можно было лучше ему прикрыться; и что по оному происходить будет, не упущу я доносить обстоятельно Вашему Императорскому Величеству. А случилось мне распрашивать одного майора, который послан был от меня в Черную Гору и проезжал Рагузы, и дни два в оных останавливался; и он там видел Князя Радзивила и сказывал, что она еще в Рагузах, где как Радзивилу, так и оной женщине великую честь отдавали, и звали его, чтоб он шел на поклон, но оный, услыша такое всклепанное имя, поопасся идти к злодейке, сказав при том, что эта женщина плутовка и обманщица, а сам старался из оных мест уехать, чтоб не подвергнуть себя опасности. А если слабое мое здоровье дозволит на кораблях ехать, то я не упущу сам туда отправиться, чтоб таковую злодейку постараться всячески достать.
Ваше Величество изволите упоминать: не оная ль женщина переехала в Парос, на что имею честь донести, что от меня послан был нарочно для исследования в Парос Подполковник и Кавалер Граф Воинович со своим фрегатом, чтоб в точности узнать, кто оная такова и какую нужду до меня имела, что так долго дожидалась меня; чего для дано было ему от меня уверение, чтоб оная могла во всем ему открыться, и наставление, как с нею поступать. По приезде своем нашел оную еще в Паросе и много раз с нею разговаривал о сем деле; а восемь дней как он сюда возвратился и меня репортовал. Оная женщина купеческая жена из Константинополя, знаема была прежним и нынешним Султаном по дозволенному ей входу в Сераль к Султаншам для продажи всяких французских мелочей; и оная прислана была точно для меня, чтоб каким-нибудь образом меня обольстить и стараться всячески подкупать, чтоб я неверным сделался Вашему Императорскому Величеству. И оная женщина осталась в Паросе, издержав много денег на счет впредь будущей своей удачи; теперь в отчаян(ь)и находится. И она желала сюда в Италию ехать, но Граф Воинович, по приказу моему, от оного старался отвратить, в чем ему и удалось. И вышеписанная торговка часто употреблялась и от Министров, чтоб успевать в пользу по делам их в Серали.
Свойство же оной женщины описано, что оная очень заносчивого и вздорного нрава, и во все дела с превеликою охотою мешается и всех собою хочет устрашать, объявляя при том, что она со всеми и Европейскими Державами в переписке.
Пред недавнем временем приехала сюда из Пароса вдовствующая Принцеса со своими детьми и просить покровительства Вашего Императорского Величества и чтоб ей дозволено было жить в Роси(и), в каком либо месте; имя ей Роксандра Гика; первое ее замужество было за Господарем Воложским, а во втором замужестве была за Молдавским, и показывает, что муж ее в 1776-(67?) году окормлен Турками; фамилия же ее состоит в трех сыновьях и трех дочерях и одной племяннице.
И все вышеписанное предая на Монаршую волю Вашего Величества, буду ожидать повеления, отправлять ли вышеписанную Княгиню в Россию или отказать. И тако повергая себя ко священным стопам Вашим, со всеглубочайшею моею рабскою преданностию, Вашего Императорского Величества, Всемилостивейшей моей Государыни,
всепотданнейши(й) раб Граф Алексей Орлов.
1774 года. Декабря 23 дня. Из Пизы.
Всемилостивейшая Государыня!
По запечатаньи всех моих донесений Вашему Императорскому Величеству получил я известие от посланного мною офицера для разведывания о самозванке, что оная больше не находится в Рагузах, и многие обстоятельства уверили его, что оная поехала вместе с Князем Радзивиллом в Венецию; и он, ни мало не мешкая, поехал за ними в след, но по приезде его в Венецию нашел только одного Радзивилла, а она туда и не приезжала, и об нем разно говорят: одни будто он намерен ехать во Францию, а другие уверяют, что возвращается в отечество. А об ней оной офицер разведал, что она поехала в Неаполь. А на другой день оного известия получил я из Неаполя письмо от Аглицкого Министра Хамельтона, что там одна женщина была, которая просила у него паспорта для проезда в Рим, что он для услуги ее и сделал; а из Риму получил от нее письмо, где она себя Принцесою называет. Я ж все оные письма в оригинале, как мною получены, на рассмотрение Вашему Императорскому Величеству при сем посылаю. А от меня нарошной того же дня послан в Рим штата моего Генерал-Адъютант Иван Кристенек, чтоб об ней в точности наведаться и стараться познакомиться с нею; при том чтоб он обещал, что она во всем на меня может положиться, и буде уговорить, чтоб привез ее ко мне с собою. А Министру Аглицкому я отвечал, что ето надобно быть самой сумасбродной и безумной женщине, однако ж притом дал ему знать мое любопытство, чтоб я желал видеть ее, а при том просил его, чтоб присоветовал он ехать ей ко мне. А между тем и Кавалер Дику (так!) приказал писать к верным людям, которых он в Риме знает, чтоб и они советовали ей приехать сюда, где она от меня всякой помощи надеяться может.
И што впредь будет происходить, о том не упущу доносить Вашему Императорскому Величеству, и все силы употреблю, чтоб оную достать, а по последней мере сведому быть о ее пребываньи. Я ж, повергая себя ко освященным Вашим стопам, пребуду навсегда Вашего Императорского Величества, Всемилостивейшей моей
Государыни
всепотданнейший раб
Граф Алексей Орлов.
1775 года, января 5 (16) дня.
Из Пизы.
Всемилостивейшая Государыня!
Угодно было Вашему Императорскому Величеству повелеть доставить называемую Принцесу Елизавету, которая находилась в Рагузах. Я со всеподданническою моею рабскою должностью, чтоб повеленьи Вашего Величества исполнить, употребил всевозможные мои силы и старанья, и счастливым теперь зделался, что мог я оную злодейку захватить со всею ее свитою на корабли, которая теперь со всеми с ними содержится под арестом на кораблях, и рассажены по разным кораблям. При ней сперва была свита до шестидесяти человек; посчастливелось мне оную уговорить, что она за нужно нашла свою свиту распустить, а теперь захвачена она сама, камармедхем ее, два дворянина Польских и несколько слуг, которых имена при сем осмеливаюсь приложить. А для оного дела и на посылки употреблен был штата моего Генерал-Адъютант Иван Кристенек, которого с оным моим донесением к Императорскому Величеству посылаю, и осмелюсь его рекомендовать и могу Ваше Величество как верный раб уверить, что оной Кристенек поступал со всею возможною точностию по моим повелениям и умел удачно свою роль сыграть. Другой же употреблен к оному делу был Франц Вольф; хотя он и не сделал многого, однако ж по данной мне власти от Вашего Императорского Величества я ево наградил чином капитанским за показанное им усердие и ревность в Высочайшей службе Вашего Императорского Величества. А из других кто к оному делу употреблен был, тех не оставлю деньгами наградить. Признаюсь, Всемилостивейшая Государыня, что я теперь находясь вне отечества, в здешних местах, опасаться должен, чтоб не быть от сообщников сей злодейки застрелену или окармлену. Я ж ее провез сам на корабли на своей шлюпке и с ее кавалерами, и препоручил над нею смотрение Контр-Адмиралу Грейгу, с тем повелением, чтоб он всевозможное попечение имел о ее здоровье, и приставлен один лекарь; берегся б, чтоб оная при стоян(ь)и в портах не ушла б; тож чтоб и ни каково б писмеца никому б не передала.
Равно велено смотреть и на других судах за ее свитою. Во услужен(ь)и же оставлена ее девка у ней камердинер; все ж письма и бумаги, которые у нее находились, при сем на рассмотрение Вашего Императорского Величества посылаю, с надписанием номеров. Я надеюсь, что найдутся тут несколько Польских писем о Конфедераци(и), противной Вашему Императорскому Величеству, из которых ясно изволите увидеть и имена их, кто они таковы. Контр-Адмиралу ж Грейгу приказано от меня и по приезде его в Кронштадт никому оной женщины не вручать без особливого именного Указа Вашего Императорского Величества.
Оная ж женщина росту небольшого, тела очень сухова, лицом ни бела, ни черна, а глаза имеет большие и открытые, цветом темнокарие и косы, брови темно-русые, а на лице есть и веснушки; говорит хорошо по французски, по немецки, немного по итальянски, разумеет по английски: думать надобно, что и польский язык знает, только ни как не отзывается: уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит.
Я все оное от нее самой слышал: сказывала о себе, что она и воспитана в Перси(и), и там очень великую партию имеет; из Роси(и) ж унесена она в малолетстве одним Попом и несколькими бабами; в одно время была окармлена, но скоро могли ей помощь подать рвотными. Из Перси(и) же ехала через Татарские места около Волги, была и в Петебурге, а там через Ригу и Кенигсберг в Подстаме была и говорила с Королем Прусским, сказавшись о себе, кто оная такова; знакома очень между Князьями Имперскими, а особливо с Триерским и с Князем Голштейн-Лимбургским; была во Франции, говорила с Министрами, дав мало о себе знать.
Венский Двор в подозрени(и) имеет, на Шведской и Прусской очень надеется; вся Конфедерация ей очень известна и все начальники оной. Намерена была ехать отсель в Константинополь прямо к Султану, и уже один от ее самой верной человек туда послан, прежде нежели она сюда приехала; по объявлению ее в разговорах, родом этот человек персиянин и знает восемь или девять языков разных, говорит оными всеми очень чисто.
Я ж моего собственного заключения об ней прямо Вашему Императорскому Величеству донести ни как не могу, по тому что не мог узнать в точности, кто оная действительно; свойство ж оная имеет довольно отважное и своею смелостию много хвалится: этим то самым мне и удалось ее завести куда я желал. Она ж ко мне казалась быть благосклонною, чево для и я старался казаться перед нею быть очень страстен; наконец я ее уверил, что я бы с охотою и женился на ней, и в доказательство хоть сего дня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, Всемилостивейшая Государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достичь бы до того, чтобы волю Вашего Величества исполнить. Но она сказала мне, что теперь не время, по тому что она еще несчастлива, а когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым. Мне в оное время и бывшая моя невеста Шмитша (так!), могу теперь похвастать, что имел невест богатых. Извините меня Всемилостивейшая Государыня, что я так осмеливаюсь писать.
Я почитаю за должность все Вам доносить, так как пред Богом, и мыслей моих не таить.
Прошу и того мне не причесть в вину, буде я по обстоятельству дела принужден буду, для спасения моей жизни, и команду оставя, уехать в Россию и упасть ко священным стопам Вашего Императорского Величества, препоручая мою команду одному из Генералов по мне младшему, какой здесь на лицо будет. Да я должен буду и своих в оном случае обманывать и никому предстоящей мне опасности не показывать. Я всего больше опасаюсь Езуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам, и она из Пизы уже писала во многие места о моей к ней преданности, и я пренужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет, а если захотят и в Роси(и) мне недоброходствовать, то могут по этому придратся ко мне, когда захотят.
Я несколько сомнения имею на одного из наших вояжиров, а легко может быть, что я и ошибаюсь; только видел многие французские письма без подписи имя, а рука кажется мне быть знакомая.
При сем прилагаю полученное мною одно письмо из под аресту, тож каковое она писала и Контр-Адмиралу Грейгу, на рассмотрение. А она и по се время еше верит, что не я ее арестовал, а секрет наш наружу вышел. Тож у нее есть и моей руки писмо на немецком языке, только без подписания имени моего, и что я постараюсь уйти из под караула, а после могу и ее спасти. Теперь не имею времени обо всем обстоятельно донести за краткость времени, а может о многом доложить Генерал-Адъютант моего штата. Он за нею ездил в Рим, и с нею он для виду арествован был на одни сутки на корабле. Флот под командою Грейковою, состоящей в пяти кораблях и одном фрегате, сейчас под парусами, о чем от меня дано знать в Англию к Министру, чтоб оной, по прибыти(и) в порт английский, был всем от него снабжаем. Флоту ж велено как возможно поспешать к своим водам. Всемилостивейшая Государыня, прошу не взыскать, что я вчерне мое доношение к Вашему Императорскому Величеству посылаю, опасаясь чтоб в точности дела не проведали и не захватили б где ни буть курьера моего и со всеми бумагами. Я ж, повергая себя ко освященным стопам Вашего Императорского Величества,
Всемилостивейшей моей Государыни,
всепотданнейши(й) раб
Граф Алексей Орлов.
1775 года. Февраля 14 (25) дня. Из Ливорны.
Всемилостивейшая Государыня!
Наимилостивейшее письмо Вашего Императорского Величества из Москвы от 22 марта имел счастье получить с курьером Гревенсом, в котором Всемилостивейшая Госурыня оказывать изволите матернюю Вашу милость ко мне за малые мои службы. Желал бы я, Всемилостивейшая Государыня, чтоб усердию моему, которое я ко освященной Вашего Императорского Величества особе имею, соответствовали мои душевные и телесные силы; тогда б я счел себя счастливым и достойным тех милостей, каковые Ваше Величество щедро на меня изливаете, а теперь оные принимаю яко недостойной, а из единова Вашего великодушия и особливой милости ко мне.
Сей час получил рапорт от Контр-Адмирала Грейга апреля от 18 дня, что он под парусами недалеко от Копенгагена находится со всею своею эскадрою, все благополучно и ненамерен заходить ни в какие места чужестранные, буде чрезвычайная нужда оного не потребует; он и от английских берегов с поспешностью принужден был прочь итить по притчине находящейся у него женщины под арестом. Многие из Лондона и других мест съехались, чтобы ее видеть, и хотели к нему на корабль ехать, а она была во все время спокойна до самой Англии, в чаяни(и) што я туда приеду; а как меня не видала тут и письма не имела, пришла во отчаяние, узнав свою гибель, и в великое бешенство, а потом упала в обморок и лежала в беспамятстве четверть часа, так что и жизни ее отчаялись; а как опамятовалась, то сперва хотела броситься на английские шлюпки, а как и тово не удалось, то намерение положила зарезаться, или в воду броситься, а от меня приказано всеми образами ее остерегать от оного и как можно беречь. Я же надеюсь, Всемилостивейшая Государыня, что эскадра теперь должна уже быть в Кронштадте, и Контр-Адмирал жалуется ко мне, что он трудной этой комиси(и) на роду своем не имел. Воложская кня(г)иня Роксандра Гика и с фамилиею своею отправлена в Петербург; во время бытности ее здесь и на дорогу для оной издержано тысяча и до пяти сот червонцев. Пожалованное милостивое одобрение Кавалеру Дику мною получено, что и я себе за знак особливого Вашего Монаршего благоволения к себе приемлю. Я ж имею счастье поздравить Ваше Императорское Величество, как есмь верноподданой Ваш раб, с разменою ратификаци(и) и что Атаманская Порта в силу мирного договора все исполняет. Я ж пребываю со всеглыбочайше рабскою и непоколебимою преданностию Вашего Императорского Величества,
Всемилостивейшей моей Государыни,
всепотданнейши(й) раб
Граф Алексей Орлов.
1775 года. Мая 11 (22) дня. Из Пизы.
Рескрипт адмиралу Грейгу
Господин Контр-Адмирал Грейг, с благополучным Вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа уведомилась, поздравляю, и весьма вестию сею обрадовалась. Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеления от меня посланы Г-ну Фельдмаршалу Князю Голицыну в С.Петербург и он сих вояжиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что службы ваши во всегдашней моей памяти и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства.
Екатерина.
Мая 16 числа, 1775 г. Из села Коломенского,в семи верстах от Москвы
Иллюстрации
Императрица Екатерина II. Художник Л. Ревон. 19 в.
Великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Художник И. Ф. Грот. 1755 г.
Екатерина Великая. Художник Ф. С. Рокотов. 18 в.
Граф Г. А. Орлов. Художник Ф. С. Рокотов. 1763 г.
Княгиня Е. Р. Дашкова. Неизвестный художник. 18 в.
Князь А. В. Суворов. Неизвестный художник. 19 в.
Переход Суворова через Альпы в 1799 г. Художник В. И. Суриков. 1899 г.
Граф А. М. Дмитриев-Мамонов. Художник Н. И. Аргунов. 1812 г.
Флигель-адъютант императрицы Екатерины II А. Д. Ланской. Художник Д. Г. Левицкий. 1780 г.
Княжна Тараканова. Художник К. Д. Флавицкий. 1864 г.
Чесменский бой 25–26 июня 1770 г. Художник И. К. Айвазовский. 1848 г.
Императрица Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке. Художник В. Л. Боровиковский. 1794 г.
П. А. Румянцев-Задунайский. Художник Д. Левицкий
Адмирал Ф. Ф. Ушаков. Неизвестный художник. Начало 19 в.
Кираса, украшенная медальоном с вензелем Екатерины Великой, и палаш кирасирский солдатский. Середина 18 в.
Устав воинский. Россия. Санкт-Петербург. 1737 г.
Устав воинский. Россия. Санкт-Петербург. 1737 г.
Медаль «Поборнику православия». 1771 г.
Ствол однофунтовой пушки. Россия, Санкт-Петербург. 1776 г.
Палаш русский офицерский. Россия. Тула. Середина 18 в.
Палаш русский офицерский. Россия. Тула. Середина 18 в.
Сабля казачья. Россия. 18 в.
Примечания
1
То есть попросту «влюбленный».
(обратно)2
Экзекутор не имел никакого отношения к «экзекуциям». Это был чиновник, заведовавший хозяйственной частью учреждения и наблюдавший за порядком в нем. По своим полномочиям превосходил простого «завхоза».
(обратно)3
Это уже прогресс нравов!
(обратно)4
«Товарищ» – старинный польский воинский чин – либо прапорщик, либо рядовой из шляхтичей.
(обратно)5
Ну что, сестра... (фр.)
(обратно)6
Ах! Если когда-нибудь мне придется... (фр.)
(обратно)7
Вы дура (фр.).
(обратно)8
Ах! Мой дорогой друг! (фр.)
(обратно)9
Увы! (фр.)
(обратно)10
Я не могу выразить (фр.).
(обратно)11
Дорогой друг, надо сперва... (фр.)
(обратно)12
Послушайте, дорогой маркиз.
(обратно)13
Он не узнает (фр.).
(обратно)14
Пожалуйста... (фр.)
(обратно)15
Я вас прошу... (фр.)
(обратно)16
Я вас умоляю... (фр.)
(обратно)17
Жестокий! (фр.)
(обратно)18
Неумолимый! (фр.)
(обратно)19
Неблагодарный! (фр.)
(обратно)20
Жестокий! (фр.)
(обратно)21
Ах! Вы будете говорить... (фр.)
(обратно)22
Ах! Изменник! (фр.)
(обратно)23
Ах! сестра! (фр.)
(обратно)24
Ах! какой урок! (фр.)
(обратно)
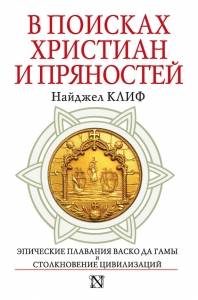




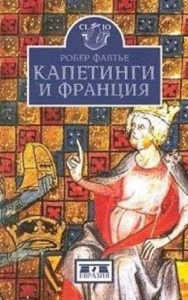
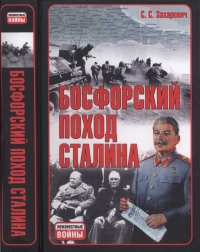
Комментарии к книге «Екатерина II: алмазная Золушка», Александр Бушков
Всего 0 комментариев