Артур Брайант Эпоха рыцарства в истории Англии
СЭР АРТУР УИНН МОРГАН БРАЙАНТ (1899-1985): ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ
«Он являлся писателем, который более чем кто-либо другой, кого бы я знал, применял свое историческое воображение и знание с целью критики наиболее острых по значимости современных тенденций, и объединял это с правдивым взглядом и творческой мощью. Его работы – это мост не только между прошлым и настоящим, но между государственным деятелем и художником. Только сила и стиль его книг легко могли бы поднять его над простыми смертными, но мысль, стоящая за ними, заставляет помнить о нем, как о самой Англии».
X. Дж. Мессингем, «Воспоминания» [1]«Некоторые являются великими историками, некоторые – великими писателями, и лишь очень немногие, подобно Гиббону, успешно выступают в обоих качествах. И одним из них является сэр Артур».
Дж. Фостер [2]Российская историческая наука всегда проявляла большой интерес к истории Англии. Такие имена, как В. В. Виноградов, Д. М. Петрушевский, А. Н. Косминский, вошли в мировую историческую науку. Можно говорить о том, что история Англии изучена достаточно хорошо: особенно период средневековья благодаря работам Е. В. Гутновой, А. Н. Косминского, М. А. Барга и многих других. Однако совершенно неожиданным при более подробном рассмотрении является отсутствие общих работ по периоду средневековья, которые могли бы составить единое представление об истории Англии данного периода[3]. Именно сегодня недостаток работ такого плана становится особенно ощутимым. В свое время была предпринята попытка компенсировать данный недостаток переводными исследованиями: социальная история Тревельяна и история Англии Мортона[4] тому примеры. Особенно широко переводческая деятельность развернулась в наше время, чему благоприятствует как политический климат эпохи, так и технические и иного рода возможности. Тем не менее существует определенная боязнь переводить работы общего характера, приоритет остается за специальной, в том числе биографической, литературой. Боязнь эта связана с постыдным (в нашей стране) обвинением историка в популизме и сложившимся негативным отношением к научно-популярной литературе. Почему-то считается, что если работа посвящена большому периоду истории, то она неизменно поверхностна и не может быть одновременно написана на высоком научном уровне и адекватно излагать исторический процесс. Работы Артура. Брайанта демонстрируют обратное. К сожалению, отечественный читатель не знаком с его творчеством, творчеством одного из крупнейших историков Англии. Впрочем, о нем мало знают даже специалисты-англоведы. Ни в одном отечественном справочнике не упоминается о человеке, написавшем более 30 работ, преемнике Честертона, наследнике Гиббона и Маколея, еще при жизни ставшего классиком. Более того, ничего не говорится о нем в специальном справочнике, посвященном британским историкам, вышедшем в 1980 году[5]. Лишь К. Б. Виноградов в своем очерке британской историографии упоминает о нем на 63-й странице, как об ученике Тревельяна[6], хотя на самом деле с Тревельяном их связывала близкая дружба на протяжении более полувека. Сегодня, мы надеемся, это упущение будет исправлено с выходом данной книги, которая, являясь, несомненно, лучшим его произведением, дает возможность отечественному читателю (как специалисту-историку, так и любому, интересующемуся историей) увидеть историю Англии глазами англичанина и обогатить свое понимание уникальности развития этой страны.
* * *
Артур Брайант родился 18 февраля 1899 года в приходе Дерзингем, принадлежащем к королевскому имению Сендрингем. Его отец Френсис Брайант (1859-1938) в тот момент являлся чиновником секретариата принца Уэльского и сопровождал последнего практически во всех поездках. «По рождению, – написал Брайан о себе, – я принадлежу к тому же веку, что и Маколей, мистер Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Это кое-что значит»[7]. Спустя более чем через пятьдесят лет после своего рождения, он все еще определял себя как позднего викторианца, появившегося на свет «в эпоху двухколесных кебов и котелков» и сохранившим викторианский дух до конца. Поскольку его отец служил Короне, то Артур с малых лет находился в атмосфере английского двора, знал его изнутри, и очень рано стал относиться к монархам, как к обычным людям, несущим бремя чрезвычайной ответственности. Когда в 1901 году умерла королева Виктория и на престол вступил Эдуард VII, Френсис Брайант сопровождал короля в его официальную резиденцию – Бэкингемский дворец – где ему также была выделена официальная резиденция – Ридженси Хаус, находившаяся в дворцовом парке. Почти четыре года Артур был единственным ребенком в семье, которому уделялось все внимание, пока в 1903 году не появился на свет его брат, Филипп (1903-1960), ставший священником и капелланом Харроу. Артур глубоко любил и уважал своих родителей, хотя, как и в любой другой семье, принадлежавшей к околоаристократическим кругам и всячески подражавшей им, детям уделялось часто лишь формальное и декларированное внимание. О своем отце Брайант писал: «Это был человек исключительно методичный и честный, всегда державший свое слово и всегда руководствовавшийся неизменными и непоколебимыми правилами, основанными на работе. За исключением выходных его день никогда не менялся – завтрак, затем холодная ванная и зарядка – в восемь и ни минутой позже; короткая прогулка в Сент-Джеймском или Грин-парке с моей няней, моим братом и мною перед тем как пересечь дворцовую площадку и попасть к себе в офис: маленькая прямая фигурка, одетая в обязательную высокую шляпу и сюртук, соответствовавший его профессии...»[8] Его мать была гораздо моложе отца и посвящала большую часть своего времени, как это и было положено женщине ее положения, благотворительности, участию в различных комитетах и «ведению домашнего хозяйства». «Раз в неделю, по ее „домашним” дням, я обычно спускался, чтобы вести запинающиеся и вынужденные разговоры с ее посетителями, или, иногда, когда она была в одиночестве и мне было позволено сбежать из детской, я изображал бурную помощь в приведении в порядок счетов различных школ, подкармливанию которых... она посвящала большую часть своего времени и таланта...»
Очень часто в биографии историков принято включать стандартную фразу: «с детства был окружен книгами», «много читал» и т. д. Артур был окружен книгами, но для будущего историка читал немного и лишь то, что было ему как ребенку интересно. Среди таких книжек были «История Англии» для детей, «Всемирная история» Мэри Синдж, включавшая поэтические названия и простые и краткие описания исторических событий, Киплинг, «Война на полуострове» Нэпира и «История Европы» Элисона[9]. Однако самым интересным чтением был еженедельник «Иллюстрированные лондонские новости», поскольку по всей газете были размещены великолепные картинки из лондонской жизни. Из этих книг Артуру, конечно же, больше всего нравились описания войн и полководцев. Он все время огорчал своего младшего брата, темперамент которого был менее воинственным и более мирным. Филипп устраивал игрушечные королевские покои, а Артур все время рушил кропотливо поддерживаемый порядок. К школьному возрасту Артур был абсолютно уверен, что он хочет стать военным. «На земле, возможно, и существовали вещи, более привлекательные, чем батальон пехотинцев в красных мундирах, марширующий по одной из лондонских улиц в рассветных сумерках, или эскадрон улан – весь в голубом и пурпурном, блистающий серебром, – но мои мальчишеские глаза не замечали этих вещей. То, что было хорошо для того, чтобы охранять короля Англии и оказать ему и (с вежливой сдержанностью) его гостям честь, было достаточным для меня. В то время я считал, что знаю мундиры всех полков британской армии. Серое бесчестье хаки – вестника постыдного пацифизма – все еще витало в непредсказуемом будущем...»
В школе Артура считали беспокойным ребенком, хотя хулиганом он не был, зато был капитаном школьной футбольной команды. Практически на всех уроках он создавал планы глобального завоевания, чертил схемы и карты, воображая себя новым Цезарем или Наполеоном. В возрасте 12 лет Артур был отдан в одну из самых престижных аристократических школ Англии – Гарроу. Гарроу относился к разряду так называемых «public schools», однако значение «общественный» вряд ли можно понимать буквально. Школы эти получили свое развитие в конце XVII века, когда стало развиваться светское образование и доступ к этому образованию получили прежде всего дети из аристократических семей. Хорошее образование считалось необходимым компонентом политического опыта и политической карьеры. Известно, что Джон Локк посвятил свой знаменитый «Трактат о воспитании» воспитанию именно джентльмена, которому в будущем предстояло управлять страной. В этом смысле public schools создавали необходимую среду для воспитания будущих политических деятелей. Уинстон Черчилль учился в Гарроу, когда он стал премьером, многие посты в его кабинете заняли его друзья со школьной скамьи. Поэтому выбор школы не был случайным. Родители Брайанта следовали традиционной модели воспитания джентльмена, принятой в английской аристократической и околоаристократической среде, и именно таким образом они проявляли заботу о будущем ребенка. Брайант позже напишет об историческом значении такого рода школ: «Их историческая функция, как я ее вижу, заключалась в том, чтобы заставить рожденных в тепличных условиях рано прочувствовать, что такое непогода и буря, с которыми простые люди вынуждены сталкиваться в своем незащищенном существовании каждый день. В мире, где неравенство любого сорта кажется неискоренимым, даже если это неравенство между комиссаром и бравым партийцем, должно быть что-то, что заставляло бы отпрысков привилегированных семей узнать, что значит получить под зад ногой, еще до того, как моральное состояние будет менее уязвимым...»
Действительно, Гарроу, так же, как Итон, Винчестер и Вестминстер, три другие аристократические школы, совершенно не был похож на частные пансионы, академии и другие школы для богатых американского или французского образца. В школе соблюдалась жесткая дисциплина и иерархия, титулы и любые другие знаки социального отличия оставлялись за порогом школы. Ученики Гарроу не были просто равными, они в этой школе были последними: преподаватели (в основном священники) относились к ним как к одноклеточным существам, из которых еще предстояло создать сложный мыслящий организм. К тому же в таких школах существовала жесткая дедовщина и принцип силы: драки между мальчиками были неискоренимы, увечьями потом гордились, а сильнейший становился чем-то вроде тирана или диктатора, которому остальные беспрекословно подчинялись[10]. Программа обучения в Гарроу оставалась классической даже в начале XX века: кроме общеобразовательных предметов, знание которых считалось обязательным, то есть истории, географии, литературы, латынь занимала центральное место среди иностранных языков, хотя ими и не пренебрегали (французский и немецкий считались необходимыми), совсем недавно (с 60-х гг. XIX века) были введены математика и биология (которая традиционно именовалась естественной историей). Артур не испытывал, как он позже вспоминал, особого счастья от пребывания в Гарроу: «Возвращение с каникул было всегда кошмаром, который до сих пор иногда мучает меня по ночам», и все же он любил свою школу больше, чем занятия в Оксфордском университете, где был гораздо счастливее. Артур объяснял свое состояние следующим образом: «Теперь я вижу, что мое несчастное состояние в школе было обусловлено не тем, что меня задирали, ибо меня не задирали, и даже не тем, что я скучал по дому, а тоска моя была значительна, хотя только временами болезненна, но существованием определенной сухости и отсутствием цвета и света и неразрывно связанного с ними вдохновения, что довлело над школой тогда и, возможно, довлеет до сих пор, и что неизменно сопровождает жизнь школы...» Однако две традиции Брайант любил: конец семестра в школе Гарроу и матч по крикету Гарроу-Итон. Конец семестра всегда отмечался в Гарроу фестивалем песен: мальчики исполняли как старые традиционные песни школы, так и новые, сочиненные особо талантливыми учениками. Брайант почти до самой своей смерти бывал на фестивале каждый год. Черчилль посетил этот фестиваль зимой 1941 года, когда Англия вместе с Европой и СССР переживала самые трудные дни. Вместе с мальчиками и многими другими выпускниками Гарроу (среди которых был и Брайант) он исполнил старую песню:
Вот в чем урок:
Никогда, никогда, никогда Совершая великие дела Или обычной жизнью живя Не пренебрегай честью и здравым смыслом.Видимо, Черчилль, как и многие другие выпускники этой школы, сохранили в себе эти простые истины, которые заучивались посредством песен и оставались навсегда.
Ежегодный матч по крикету между командами Гарроу и Итона являлся (и является до сих пор) одним из самых знаменательных событий для всей Англии. Во-первых, это своего рода инициация для мальчиков, особенно для тех, которым больше всего доставалось в течение учебного года. С другой стороны, матч этот демонстрировал родителям результаты пребывания их отпрысков в школах: победа той или иной команды воспринималась не только как личный триумф, но и как дело национальной важности. Брайант принял участие в таком матче в лето накануне Первой Мировой войны. Весь британский истеблишмент или аристократия, если использовать традиционно европейское название, которое прекрасно выражает суть британской элиты, находился на этом матче. Горделивые дамы в немыслимых туалетах и шляпах со страусиными перьями, окруженные респектабельными джентльменами в безукоризненных сюртуках и котелках, отбросив всякие приличия, болели за своих детей, бесновались при каждом прибавлении очков. Родители Брайанта были очень горды своим сыном, когда команда Гарроу победила.
1915/16 учебный год был выпускным для Артура Брайанта, однако все выпускники мечтали о фронте. Брайант также рвался на передовую. Учителя характеризовали его как тихого и ничем не выдающегося ученика, который не высказывал никакой особой заинтересованности в каких-либо предметах. Но решающей была встреча Брайанта с Джорджем Таунсендом Уорнером, который преподавал историю на последнем курсе. Уорнер был отличным историком и не менее выдающимся педагогом, который сумел привить Брайанту не просто интерес к замечательным событиям прошлого, но серьезную рефлексию на настоящее посредством прошлого. Брайант был не первым, кто попался в сети Уорнеровского таланта: первым был Джордж М. Тревельян, великий английский социальный историк и впоследствии близкий друг Брайанта. В первом семестре Уорнер мало замечал Артура, но после первого же написанного им эссе, стал проявлять больше интереса. В конце года речь зашла о продолжении занятий в Кембриджском университете (ибо сам Уорнер был Кембриджским выпускником). Перед Брайантом возникла дилемма: в его намерения входило поступить на военное отделение Гарроу, затем пройти годовое обучение в Сандхурсте (самом лучшем военном колледже страны) и затем отправиться на фронт. С другой стороны, Кембридж давал возможность поступить в летную школу и отправиться на войну сразу же по достижении 18 лет. Поэтому Брайант внял совету Уорнера и поступил в Кембридж. По возвращении с летних каникул Брайант узнал, что Джордж Таунсенд Уорнер умер, что было для него огромным ударом, но это лишь укрепило в нем принятое решение. Зимой 1916 года он был принят в Пемброк Колледж Кембриджского университета, а следующим летом поступил в летные войска, получив параллельно премию школы Св. Хейлера на написание своей дипломной работы и стипендию школы Гарроу для особо одаренных учеников.
Обучение в летной школе разочаровало прежде всего инструкторов Брайанта: его инструктор так боялся выпускать его в небо, что перед зачетным вылетом попросил несколько раз повторить как надо взлетать, садиться, управлять самолетом во время полета и как делать петлю. Брайант чуть не убил себя во время своего первого вылета, забыв, что штурвал следует тянуть на себя, а не поворачивать, как при ведении автомобиля. С другой стороны, и сам Брайант был разочарован, так как он считал, что если умеет хорошо читать карты, то ему будет чем заняться. Но выяснилось, что военная служба совершенно не предполагает работу с картами. В результате, когда Брайант отправился на фронт, его детская мечта стать военным сошла на нет. Но чувство долга у него было слишком сильным, как, впрочем, у любого патриота. Когда Брайант впервые увидел поле боя во Франции (в 1918 году), в нем, наверное, проснулось чувство исторического восприятия, заложенное Уорнером: «Передо мной лежала Голгофа, а на ней – черепа мертвецов. История была здесь. Я был всего лишь юнцом, недавно из Англии, и стоял на краю той великой эпохи, в которую втиснулся опыт многих столетий. Я явился немым свидетелем настоящего героизма, в котором я так и не принял участия. Поле битвы было все еще обнаженным: ни человек, ни природа не сделали ничего, чтобы лишить его всего этого ужаса и мертвечины. Здесь бок о бок лежали смелость и терпение, отчаяние и боль страданий, их мрачные очертания прятались под покровом ночи...» Брайант так и не участвовал в боевых действиях, но впечатление от войны оказало на него глубокое влияние, которое он пронес вплоть до второй великой войны – Второй Мировой.
Брайант вернулся в Англию через два месяца после перемирия в 1919 году среди тысяч других молодых людей, которые жаждали оказаться дома и не подозревали, что теперь им будет гораздо сложнее вливаться в мирную жизнь. Проблема потерянного поколения хорошо артикулирована в немецкой и французской литературе. О такого рода проблемах в Британии мы знаем мало. Тем не менее английские юноши мало чем отличались от французских или немецких. Их психика также была сломана войной, социализация также представляла большие проблемы. Однако положение англичан было осложнено тем, что они вернулись в мирное общество, мало затронутое войной и разрухой, тогда как их континентальные собратья вместе со своим обществом поднимали страну после войны. От британских юношей требовали быть такими же, как до войны, чего они уже не могли, от них требовали быть гражданскими в гражданском обществе. Артур особенно глубоко почувствовал это при встрече с отцом. Война научила его быть самостоятельным, и именно тогда он начал свою жизнь, оставив родительский дом, и, поступив в Оксфорд, отказался от продолжения военной карьеры, что также было последствием полученного им опыта. Брайант поступил именно на историческое отделение, впервые четко определив свой интерес к истории, на сей раз выношенный и обдуманный интерес. Однако Брайант намеревался быть практиком, а не посвятить себя научной работе. Поэтому, проведя два с половиной года в Квинс Колледже на специальном курсе для бывших военнослужащих и закончив его с отличием, он продолжать обучение не стал, о чем сильно сожалел его тютор Р. X. Ходкин[11], специалист по англосаксам.
Именно во время обучения в Оксфорде другая идея Брайанта, вынесенная им из своего военного опыта, нашла обоснование. Это была очень неопределенная мысль о том, что каждый должен что-то внести в улучшение человечества в целом. Особенно остро он почувствовал это, столкнувшись с реальностью за стенами университета: «Нет ничего исключительного в том, что чувствительный юноша сильно пугается того, что он находит в реальном мире. Это случается все время: возможно, с каждым из нас. Мир полон несправедливости, уродливости и жестокости, и таким он был всегда. Вполне естественно, что благородные и пылкие молодые люди, распираемые оптимистическим чувством того, каким должен быть мир, оказываются устрашенными и возмущенными тем, каким он часто оказывается...» Взгляды Брайанта сильно расходились с позицией его отца, который был в это время возведен в рыцарское достоинство, и как-то потом пожаловался королю, что он боится, что в его доме завелся своего рода большевик! Брайант избрал карьеру учителя. Хотя, как и всякий выпускник Оксфорда из хорошей семьи, он имел на выбор достаточное количество приличных мест, но отказался как от поста редактора английской родословной книги «Пэрства» Берка, места в министерстве иностранных дел, помощника одного из колониальных губернаторов, так и от поста главы аристократической школы Винчестер. Вместо этого он подал прошение в школу Лондонского провинциального совета взять его учителем, что для человека его положения было немного необычным и нетрадиционным. Его друзья по Оксфорду и Гарроу, а он регулярно проводил с ними время (обычно два или три раза в неделю) в клубе в Ноттиг Дейле[12], хотя и не осудили его решения, но были несколько удивлены эксцентричностью поведения Брайанта.
А. Брайант стал хорошим и популярным учителем. Кроме того, он добровольно работал в детской библиотеке в Сомрес Таун (это были лондонские трущобы), которая находилась в доме, где жил Диккенс и носила его имя. Здесь он читал детям стихи, а также приглашал детских поэтов на поэтические вечера (его вечера посетили Мейзфилд и У. Деламэр)[13]. Брайант активно принимал участие в пропаганде учительства, сотрудничая с либеральной газетой Дейли Ньюз. В 1922 году его пригласили на конференцию под названием «Новые идеалы в образовании», во время которой своими докладами и репликами он привлек внимание молодого, динамичного и прогрессивного директора комитета по образованию графства Кембридж Генри Морриса. В то время Моррис занимался реформой сельского образования, и он предложил Артуру Брайанту стать принципалом (директором) Школы Искусств, Ремесел и Технологий[14] в Кембридже. Так Брайант стал самым молодым директором колледжа в Англии – ему тогда было 24 года. Его основной задачей стало найти баланс между техническими и гуманитарными дисциплинами, чтобы получаемое образование гармонично развивало личность ребенка. «В то время, – писал Брайант, – между гуманитариями и технарями лежала пропасть. Те, кто был на стороне гуманитарных наук, являлись преданными учениками Уильяма Морриса[15]. Они носили длинные волосы и верили в печатные машинки. Их оппоненты были страстными защитниками любых механизмов, исключительно точны и изобиловали вощенными усами. Я не принадлежал ни к кому из них». Именно тогда он смог применять свои воззрения на практике, поскольку в его руках находилась определенная власть. Убеждение в необходимости хорошего образования Брайант пронес через всю свою жизнь. Даже его академические работы были написаны с целью просветить своих соотечественников в области реальности и идеалов своего собственного исторического наследия. «Дело обучения молодежи, возможно, является имеющим наиболее важные последствия из всех дел, которых касаются руки человека... Главная цель образования, кажется мне, должна быть в том, чтобы заставить ребенка понять, тем или иным способом, его часть и цель в безбрежной и бестолковой драме человеческого существования».
С 1923 по 1925 гг. Брайант полностью посвятил себя образовательной реформе. Его вкладом в нее было преобразование традиционной гуманитарной школы в главный технический колледж Восточной Англии. И ему это удалось. К 1925 году этот колледж действительно стал одним из важнейших технических учебных заведений страны. Помимо профессиональной и общественной деятельности, Артур, конечно же, не забывал и о развлечениях и ухаживаниях. В те времена, по воспоминаниям его первой жены, он был высоким брюнетом, красивым и исключительно обаятельным, за что и нравился противоположному полу. Но Брайант был воспитан в строгой викторианской манере, а это означало, что «если ты чувствуешь так сильно, что желаешь поцеловать девушку, то ты должен на ней жениться». Плоды воспитания дали о себе знать, и в возрасте 25 лет он женился на Сильвии Шейкерли, дочери чеширского джентльмена сэра Уолтера Шейкерли. Познакомились они на рауте в доме ее отца. «Сильвия была красива, как дрезденская фарфоровая статуэтка, я протанцевал с ней весь вечер, затем мы оказались в саду под луной, я поцеловал ее и внезапно мы обнаружили себя помолвленными!», – так Брайант впоследствии пересказал историю своего ухаживания своему секретарю Памеле Стрит, которая написала о нем книгу[16]. Помолвка, однако, не была принята на ура обеими семьями. В то время как Шейкерли, старая дворянская семья, не доверяли своему прогрессивному и энергичному, да еще к тому же и молодому зятю (средний возраст вступления в первый брак в Англии был намного выше – около 28-30 лет), то Брайанты, не без оснований, считали, что их сын еще не готов к семейной жизни. Они поженились в конце лета 1924 года, и в качестве приданого Сильвия Шейкерли Брайант среди всего прочего преподнесла своему мужу совершенно не нужные, на ее взгляд, бумаги, архив семьи Шейкерли. Когда Брайант впервые просмотрел бумаги, они захватили его – здесь были судебные дела, записи, письма, различного рода лицензии и сертификаты, королевские ордонансы и т. д. почти за пять столетий, касающиеся жизни Чешира. Теперь все свое свободное время Брайант посвящал чтению этих манускриптов. Они-то и напомнили ему, что он историк, заговорив с ним, как живые люди. Именно благодаря этому архиву появился Артур Брайант – историк.
В 1925 году Брайанту было предложено стать выездным лектором Оксфордского университета, в чью задачу входило читать лекции студентам Центральной Англии на местах. Он согласился, так как соскучился по преподавательской работе. К тому же в тот момент он решил, что хочет стать юристом, а лекторская работа давала возможность обеспечить себе существование и готовиться к вступительным экзаменам в один из королевских иннов. Брайант преподавал несколько предметов: английская история и литература, исторические биографии, шекспировская драма и, наконец, наиболее популярный предмет, краеведение или местную историю. Брайант был одним из первых, кто действительно осознал необходимость преподавания и изучения локальной истории или краеведения. На практике Брайант всегда начинал свою лекцию с краткой истории того места, в котором жили его студенты, и заканчивал его значением для истории страны в целом. К тому же он был автором нескольких исторических мистерий, которые студенты с удовольствием инсценировали для местных жителей, мистерии эти представляли, как правило, историю родного края, своей деревни или городка. При этом Брайант чаще всего избирал местом действия рынок или ярмарку, церковное празднество или паломничество, эпизод, который был наиболее характерен для данного места и представлял живую историю народа, а не статичную галерею так называемых «выдающихся персон». Архив Шейкерли очень помог ему в этом. Разбирая, читая и переводя бумаги, Брайант видел жизнь такой, какой она была в конце средних веков и начале нового времени. Постепенно он стал собирать проработанные материалы и публиковать их в специальных журналах[17]. В 1929 году его школьный приятель, работавший рецензентом для издательства Лонгманс, и находившийся под большим впечатлением от проделанной им работы по архиву Шейкерли, убедил руководство издательства поручить Брайанту написать биографию английского короля Карла II, вместо того, чтобы перепечатывать скучную и стандартную биографию Осмунда Эри[18]. Заинтригованный этой идеей, Брайант предложил издательству написать небольшое эссе о бегстве Карла после битвы при Вустере, чтобы те могли оценить его возможности. В ноябре его эссе было одобрено, и последующие два года Брайант был полностью занят работой над биографией Карла II.
1929 год был поворотным для Брайанта – именно тогда стало ясно, что история является его профессией и делом его жизни. Опять же, у него было огромное количество возможностей избрать другую карьеру. Именно в этом году он сдал экзамены в юридический колледж и даже год отучился в нем. С 1927 года он принимал активное участие в деятельности консервативной партии Великобритании, был советником Института по Образованию консервативной партии и под патронажем председателя партии Джона Бьюкена издал свою первую книгу «Дух консерватизма»[19]. С другой стороны, работа над историческими драмами принесла ему успех как драматургу и режиссеру: предложений о постановках поступало все больше и больше. И, наконец, он мог остаться и работать на образование, приняв пост советника Юридического Колледжа Бонара. Тем не менее он выбрал Карла II и вместе с ним историю.
Работа заняла два года упорного академического труда, в конце 1931 года книга была готова и представляла из себя огромный фолиант, который сам Брайант сократил в три раза после повторной редактуры. Первым читателем этой книги стал профессор Уоллес Ноутстейн, один из самых крупных авторитетов по истории Англии XVII века[20]. К нему Брайант попал через профессора новой истории Университетского Колледжа Джона Нила, работавшего в тот момент над биографией Елизаветы Тюдор. Ноутстейн рекомендовал Брайанту еще сократить книгу: убрать первые 9 глав, описывавшие детские и юношеские годы короля. Вместо этого он показал как можно было бы описать все необходимые события детства Карла через последующее включение их в повествование его жизни после бегства из Англии. Ноутстейн был первым учителем Брайанта в смысле серьезной академической работы над книгой. Брайант всегда ценил это и отмечал, что, пожалуй, это был самый мудрый совет в его профессиональной деятельности. Книга появилась в 1932 году и была отмечена Книжным Обществом Лондона как так называемый «октябрьский выбор», то есть лучшая книга месяца, хотя Брайант был сильно удивлен, что научная биография исторического персонажа может вообще продаваться тиражом больше чем несколько тысяч экземпляров. Книжное Общество действительно с подозрением относилось к научной литературе, его задачей был поиск бестселлеров, наиболее популярных книг. Общество считало (и было весьма недалеко от истины), что научные работы пишутся для академического престижа, а не для широкой публики. Книга Брайанта изменила это отношение. В свои 32 года Брайант приобрел некоторую известность в академических и литературных кругах как молодой талантливый историк.
Во время работы над биографией Карла выработались и те принципы исторического исследования, которые он в целом сохранил до конца при написании всех остальных книг. Сначала он читал все материалы, печатные и архивные, по исследуемой теме и делал из них необходимые выписки. Затем размещал эти выписки в хронологическом порядке, чтобы четче представлять себе картину. Только после этого он проводил аналитическую работу по выработке своего собственного представления о предмете исследования. После этого шел процесс отбора материала для книги, ибо было совершенно очевидно, что абсолютно все факты включить невозможно. После отбора материала наступала третья стадия, самая сложная, это написание работы, и основной целью здесь для него являлась задача сделать историю «читабельной» для остальных людей, как специалистов, так и широкой публики. Надо отметить, что практически все его книги именно «читабельны» и не просто представляют собой историческое исследование, но и доставляют удовольствие от чтения, которого так часто не хватает при работе с академическими изданиями. Свои взгляды Брайант предельно четко изложил в небольшой биографии крупнейшего английского историка Дж. Б. Маколея[21]. Во время работы над очерком Брайант очень близко сошелся с Джорджем М. Тревельяном[22], который приходился Маколею внучатым племянником, и который унаследовал все архивы историка. Тревельян сразу же оценил Брайанта как историка, и их вплоть до самой смерти связала тесная и творческая дружба. Однако он сразу же стал беспокоиться о здоровье молодого человека, который может просто сгореть на работе: «Вы должны научиться говорить „НЕТ”, чтобы хоть немного отдыхать и сохранить здоровье для культивирования ваших талантов, для написания истории», – писал Тревельян Брайанту в сентябре 1932 года и позже добавил: «Не убейте себя на работе!»[23]
В том же 1932 году он получил предложение от издательства Кембриджского университета написать биографию Самюэля Пипса, автора известного дневника, который на протяжении десяти лет каждый день фиксировал события не только своей жизни, но и события страны, ценнейшего источника по истории Англии 1659-1669 гг. Поскольку во время работы над биографией Карла он проделал огромное исследование и собрал много материала, он принял предложение, и вплоть до 1939 года, за исключением нескольких небольших исследований[24], был занят работой над биографией Пипса. Таким образом, первый том биографии («Создание человека»[25]) был издан в 1933 году и посвящался ранним годам жизни Пипса и времени написания дневника. Десмонд Макарти назвал эту книгу настолько интересной, что она даже соперничала с дневником. Второй том появился в 1935 году («Годы опасности»[26]), третий («Спаситель флота»[27]) – в 1938 году. Брайант намеревался написать исключительно научную биографию, поскольку был несколько обескуражен популярностью биографии Карла II и серьезно считал, что причиной этого был недостаток академичности. Однако все три тома биографии Самюэля Пипса также стали почти бестселлерами, хорошо продавались и высоко были оценены специалистами.
В 1936 году случилось другое жизненно важное для Брайанта событие: он стал преемником Гилберта Кита Честертона на посту журналиста для колонки «Наш Блокнот» в еженедельнике «Иллюстрированные лондонские новости». В 1937 г. его пригласили в «Наблюдатель» («Observer»). Для многих историков журналистика представлялось презренным делом, для Брайанта – это была возможность объяснить настоящее прошлым. Работа для этих газет, как отмечал сам Брайант, помогала хранить форму и давала еженедельные упражнения для ума и пера. Брайант был очень горд тем, что явился преемником Честертона – блестящего писателя и публициста – тем более что сам Честертон высоко ценил его литературные способности. До начала 80-х гг., практически до последних лет жизни Брайанта, в обеих газетах еженедельно появлялись его заметки.
Кроме научной и исследовательской работы, Артур Брайант вел активную общественную жизнь. Будучи членом консервативной партии, он принимал участие в политических акциях и заседаниях партии, был близко знаком со Стенли Болдуином («единственным премьером, который лично приготовил мне ванную») и Невиллом Чемберленом. Уважение к Болдуину было настолько велико, что когда ему предложили написать его биографию, он без колебаний согласился. На фоне политических пертурбаций он остро чувствовал приближение войны, и хотя и был пламенным патриотом, но участие в Первой Мировой войне, пожалуй, научило его быть пацифистом. Его позиция оказалась весьма двоякой. Лидеры консервативной партии настолько доверяли ему, что именно Брайанту была поручена поездка в Германию с целью выяснения реальных перспектив войны. Брайант провел в Германии почти месяц, встречаясь с нацистскими лидерами и убеждая их в том, что война с Британией будет неизбежна, если те будут продолжать свою настоящую политику. Однако Брайанту стало совершенно ясно, что война действительно неизбежна. Вернувшись в Англию, это было первое, что он сказал премьер-министру. И несмотря на то, что он совершил эту поездку с благословения консервативной партии, премьер-министра и лидеров государства, во многих кругах он оказался на положении изгоя, ибо, по своему собственному утверждению, он был как «страстным защитником очень непопулярной тогда идеи перевооружения – в чем я оказался прав – и не менее непопулярной идеи умиротворения, хотя здесь я и ошибался». После возвращения из Германии он написал книгу, в которой попытался объяснить, почему германский народ, несмотря на свое поражение и последующие страдания, отдал свою жизнь в руки «фанатичной банды политиков», как он именовал нацистское руководство[28]. Книга была также очень непопулярна в обществе, и даже теперь ее достаточно трудно найти в библиотеках Англии. Сохранился, пожалуй, один экземпляр в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде. В ней, в частности, Брайант написал: «Британцы, ничего не зная о том, что пришлось выстрадать Германии после войны, так и не смогли понять причины и социальные последствия нацистской революции... Они ревностно осудили идею, которая апеллирует к силе как средству решения международных споров. Благодаря своей длительной и ограниченной погруженности в свои собственные дела они так и не осознали тот факт, что разоруженной Германии не было предложено других средств решения такого рода проблем. Они наивно полагали, что эти дела к всеобщему удовлетворению будет решать Лига Наций...» Книга носила исключительно критический характер, критический по отношению к британскому обществу. Этого было достаточно.
В 1940 г. Брайант оказался в исключительно трудном положении: вдобавок к неприятию обществом его оставила жена, от которой он получил развод. Тем не менее присутствия духа он не потерял. В самом начале войны он опубликовал следующую книгу, скорее, памфлет, под названием «Британия, вставай!», в котором он высказал свое отношение к современному положению Британии и свои мысли по поводу необходимых реформ. Появившаяся вслед за ним «Английская сага» вернула Брайанту популярность и уважение. В этой работе Брайант показал генезис современного состояния Британии, объяснил особенности британского духа. Книга будоражила и поднимала на борьбу. Член парламента от социалистов У. Дж. Браун написал ему: «Еще несколько недель назад я не прочел бы и строчки, написанной Вами, но теперь я хотел бы написать Вам о Саге;...это самая выдающаяся книга нашего времени и нашего поколения. Она должна возвещать об английском возрождении, о котором взывали не социализм, или любой другой „изм“, но сердца наших людей. Она отражает не только столетнюю историю, но и духовную эволюцию бесчисленного количества немых душ. Я сам родился в трущобах – мой отец был токарем – и подобно тысячам бедняков я реагировал на несправедливость и глупость капитализма, бросившись в объятья социализма. Подобно тысячам других сейчас я выступаю и против него... Ваша книга пришла, как луч света в мое темное царство, и дала мне новый взгляд на жизнь...»[29] Книга тронула и генерала Пейджета[30], главнокомандующего внутренних войск, до такой степени, что он захотел повстречаться с ее автором. Такая встреча состоялась в начале 1942 года, с этого момента Пейджет и Брайант стали друзьями и не расставались до смерти. Брайанту было предложено читать лекции для вооруженных сил Британии, находящихся на передовой. Брайант принял это с честью. Ему приходилось путешествовать в Багдад и многие другие места, где находились английские войска. Он читал лекции по истории, но в особенности по истории армии, флота, исторической тактики и стратегии. В процессе лекторской деятельности, Брайант стал осуществлять давно задуманную им трилогию – историю Англии в период наполеоновских войн – которая явилась бы прологом к «Английской Саге». Первый том «Годы страданий», охватывающий историю Англии с 90-х гг. XVIII века до Трафальгарской битвы, был опубликован в 1942 году; второй, посвященный времени от Трафальгара до 1814 года, – «Годы победы» в 1944-м; и третий том, рассказывающий о последних двух годах борьбы с Наполеоном, – «Эпоха элегантности» – в 1950 году[31]. Эта трилогия была важна прежде всего не тем, что Брайант взывал к патриотизму англичан, но тем, что, проведя историческую параллель между наполеоновскими войнами и Второй мировой войной, он вселял оптимизм и надежду. Хотя историчность такой параллели кажется весьма спорной. В частности, сравнивая Гитлера и Наполеона, он писал: «...ибо в крайнем случае, проверенные любыми моральными критериями, люди подобно Наполеону и Гитлеру являются маньяками. И именно британцы, со всеми своими недостатками, впервые применили эти критерии... Питт и Нельсон, Мур и Веллингтон были не менее храбрыми и не менее выносливыми чем Наполеон. То же можно сказать и об их преемниках. Подобно своим сегодняшним потомкам, они черпали свое вдохновение не из культа Разума или Расы или любви к Славе и Завоеванию, но из глубокого внутреннего чувства личной ответственности, которое и было объединяющей силой их свободолюбивой земли... Чтобы понять, почему Англия победила Наполеона, надо изучать Водсворта. В час нужды она ожидала от каждого из своих сынов исполнения долга. Не только Наполеон нарвался на этот камень. И мы вновь увидели это в бушующих водах мирового беспорядка 1940 года...»[32]
В конце войны Артур Брайант получил почетную степень в университетах Эдинбурга и Сент-Эндрюс вместе со многими выдающимися военными. Он также был награжден Орденом «Британской империи» 2-й степени. При вручении награды маршал Монтгомери сказал: «...На страницах своей истории... он ясно показал нам как наши национальные качества и характер, представленные в армии, позволили нам снова и снова выстоять против орд наших врагов. Он писал для обычных людей и соединил идеалы и достижения армии с жизнью нации. Ни один другой писатель так и не смог до такой степени поднять престиж и статус армии в глазах людей и заставить армию существовать как часть нашего национального и имперского наследия...»
После окончания войны Брайант продолжил чтение лекций военнослужащим, а также работал на Совет по Армейскому Образованию. В 1945 году он был избран председателем правления библиотеки госпиталя Красного Креста и Св. Иоанна, которая распространяла книги по всем госпиталям страны. На этом посту он находился последующие 25 лет. И хотя Брайант продолжал принимать активное участие в общественной жизни, надо отметить, что теперь она все же отошла для него на второй план. Возможно, начинал сказываться и возраст. Он оставался членом Юбилейного Фонда короля Георга, был президентом Английской Ассоциации в 1946 году, в 1949 году стал председателем правления Общества Писателей, затем он входил в число советников по архитектуре Вестминстерского аббатства, был попечителем Фонда Охраны Церквей, имеющих историческое значение, Фонда Английского Фолка и вице-президентом Королевского Литературного Фонда. К тому же он был патриотичен до бесстыдства, не скрывая своих чувств. Его называли тори старой либеральной закалки. В одной из американских критических статей о нем можно было прочесть следующее: «Герой сэра Артура представляет собой не отдельного человека или целую группу, не класс и не народ, не даже систему, но просто Англию саму по себе. Его любовь к Англии черчилевского толка, и его произведения излучают ее черчилевскими лучами. Больше чем простая совокупность своих частей, Англия представляется ее автору чем-то более великим, чем люди, события, системы и страдания, которые он описывает. Это великолепный идеал. Он совсем не ослеплен дефектами, которые этот идеал портят: но, прежде всего, недостатки, которые он признает и которые превозносит как нечто основное и существенное для человеческого духа, вот что воплощает этот идеал»[33]. Он очень много работал. Леди Маунтбаттен[34] писала ему в 1956 году: «Как Вам удается довести до конца все начатое Вами при условии отсутствия перерывов и нескончаемых рабочих часов, мне трудно представить, но я сильно надеюсь, что небольшой отдых уже близко...»[35]
В конце 40-х Брайант решил отдохнуть и полностью сосредоточился на исследовательской работе. В следующие пятнадцать лет он написал четыре своих самых главных книги, посвященные различным периодам английской истории. Памятуя о заслугах Брайанта во время войны, ему было предложено написать биографию маршала сэра Алана Брука, или лорда Аланбрука. Брайант с радостью взялся за эту работу, поскольку знал Брука и относился к нему с большим уважением. Первое, с чего Брайант начал работу, были дневники Аланбрука, которые маршал вел во время войны. Собственно, несмотря на все остальные материалы, которые Брайанту удалось изучить, он так и остановился на дневниках и сделал то, что некогда ему довелось сделать с биографией Самюэля Пипса, – написал биографию, используя дневниковые записки Аланбрука. Однако книга получилась гораздо шире: через события, описанные в дневнике, Брайант изложил историю Второй мировой войны с британской точки зрения. «На повороте событий» вышла в 1957 году, в 1959 году было опубликовано продолжение «Триумф на Западе»[36]. Обе книги вызвали огромный резонанс в обществе. Помимо положительных рецензий и признания этих книг классикой военной истории, появились и разгромные рецензии, обвинявшие Брайанта в том, что значение Черчилля было сильно принижено. Действительно, здесь можно было найти и критику действий премьер-министра в те годы, но это совершенно не означало, как указывали газетные статьи (например, Экспресс), что книга представляет собой поверхностное и субъективное обозрение событий. Продажи книг в Британии и Америке были исключительно высокими. Сам Аланбрук, принимавший непосредственное участие в подготовке обоих изданий, был сильно удивлен успехом и очень доволен конечным результатом работы.
В начале 50-х гг. Брайант решил написать популярную историю Англии и очень быстро обнаружил, что вне его специализации, то есть истории Англии конца XVII – начала XIX вв., он знает о своей стране сравнительно мало, не считая знаний, полученных в университете. В результате в начале 50-х годов Брайант полностью погрузился в изучение древней и средневековой истории Британии, со всем рвением неофита. В конце концов книги, вышедшие из-под его пера, привлекли внимание не только широкой публики, но специалистов-историков. Две работы: «Создатели государства» (1954) и «Эпоха рыцарства» (1963), объединенные общим заглавием «Рассказ об Англии», стали бестселлерами среди английского студенчества и профессуры. За книгу «Создатели государства» Брайант был возведен в рыцарское достоинство. Не многим историкам выпадала такая честь. Это заставило его продолжить свои исследования, и в 1967 году появилась новая книга «Фундамент средневековья»[37], в которой он показал эволюцию государственных учреждений средневековой Англии и их значение для последующего развития страны.
Брайант приближался к своему семидесятилетию и чувствовал, что необходимо написать что-либо биографического свойства, в 1969 году появилась книга «Лев и единорог»[38], представлявшая собой нечто вроде автобиографии, собранной со страниц Иллюстрированных лондонских новостей. Именно эта книга давала живое представление не только о человеке, написавшем ее, но и об эпохе, в которой жил этот человек. И все же большую часть книги Брайант посвятил себе, а вместе с собой и сельской Англии. Брайант, несмотря на то, что был рожден в Лондоне, отчаянно любил сельские просторы родной страны, и как только у него появилась возможность завести собственный дом, он жил в деревне, выбирая своей резиденцией в основном старинные маноры, постройки XVI-XVIII века. До войны он прожил более двадцати лет в называемом им Белом доме, в местечке Ист Клайдон, графстве Бэкингем. В конце войны он, однако, был вынужден переместиться в более просторный и современный дом под названием Репсгейт, представлявший собой манор конца XVII века и находившийся в сердце средневековой Англии в Костволдсе. Еще во время войны ему довелось посетить симпозиум «Возвращение к хлебопашеству», на котором он даже сделал доклад о необходимости замены механистической концепции общества органической и отношения к человеку как потребителю и посреднику отношением к нему как к производителю и ремесленнику. Тогда же он сблизился со многими передовыми фермерами и проникся идеей необходимости органического возделывания почв. Такое его поведение легко укладывалось в его всегдашнюю идею об улучшении общества. В 1948 году он приобрел 80 акров изрытой снарядами земли на Дорсетском побережье – манор Смедмор в Пербеке. Здесь последующие восемь лет он занимался сельским хозяйством, и к началу 50-х годов ему удалось сделать свой манор одним из самых доходных в Англии, к тому же оно являло собой и образцовый пример «органической» организации хозяйственной деятельности манора. Однако в 1955 году в связи с падежом скота наступил кризис и последующее банкротство, и он вынужден был продать его (что далось ему очень тяжело) и вместе с женой (они поженились в конце 1941 года, она, кстати, являлась дочерью наследственного правителя государства Саравак, расположенного на острове Борнео) перебрались в манор Уинком, расположенный на границе графств Дорсет и Уилтшир. Здесь он продолжил свои занятия сельским хозяйством, но в 1963 году из-за бездорожья он вынужден был продать и Уинком (ему тогда было 64 года и путешествия давались уже с трудом) и переселиться обратно в Бэкингем в дом времен королевы Анны под названием Саус Павильон. Эпопея маноров достаточно важна для жизни и творчества Брайанта, ибо она демонстрирует его умение приложить все усилия для того, чтобы на практике испытать то, о чем он писал. Исторические дома, в которых он жил, создавали атмосферу обстановки, о которой он писал. Занятия земледелием позволили разбираться в проблемах сельскохозяйственной жизни отдельного хозяйства не хуже любого фермера – поэтому его экскурсы в экономическую жизнь страны представляли собой не только описание движения абстрактных экономических показателей, но реальную картину экономических проблем и исторических способов их решения. Живя в деревне, Брайанту очень сложно было почувствовать прогресс, ибо деревня (пусть даже если она находилась всего в 50 милях от Лондона) очень долго оставалась в Англии в законсервированном состоянии и позволяла погрузиться в настоящую деревенскую жизнь XVIII-XIX веков. Брайант прекрасно понимал это и жертвовал близостью к университетам и библиотекам, светским кругам и сообществу историков (которые любят, чтобы человек был всегда на глазах, а если нет, быстро забывают его), ради возможности единения с Историей.
В 1971 году вышла еще одна из его великолепных книг «Великий герцог»[39], посвященная Веллингтону. Особенно при работе над Веллингтоном было заметно его умение чувствовать историю и своего героя. Как отмечает его секретарь, Памела Стрит, «когда А. Б. писал о Веллингтоне, он был им; когда писал о ранних завоевателях своей страны, он был ранним завоевателем, пытающимся в небольшой рыбачьей лодке пересечь Ла-Манш»[40]. Дж. М. Тревельян написал об этой книге: «Это действительно великая книга, настолько живая, что совсем не кажется историей, но обладает способностью немедленно заставить человека чувствовать, что он присутствует при этих событиях... Финальное впечатление, когда читаешь описание битвы при Ватерлоо, ошеломляет...»[41] Ту же самую историю можно было наблюдать при подготовке всех его книг, особенно при написании истории стрелковой бригады английской армии, вышедшей в 1972 году под названием «Зеленые куртки»[42]. Эту книгу Брайант написал в качестве критики современной ему ситуации американизации английского общества, его главной задачей было показать, что английские культура и менталитет ценны сами по себе и многое дали миру, как имеют и огромный потенциал дать еще. А. Дж. Дикенс, директор Института Исторических исследований и автор книги «Английская реформация»[43] писал Брайанту сразу же после публикации книги: «В этом мрачном (но не окончательно безнадежном) состоянии нашего развития как нации Ваша книга напоминает нам о тех ценностях, в которых было воспитано наше поколение... Книга эта вышла в нужное время: спасибо Вашей способности воссоздавать прошлое и жизненной сути ваших работ, ее, безусловно, будут читать, и она сослужит большую, если не неоценимую службу. Когда мы обретем уверенность и обнаружим нашу новую роль в мире, она, безусловно, предъявит продолжение тех ценностей, которые Вы так великолепно прививаете своими книгами»[44]. Брайант на самом деле был сильно обеспокоен состоянием английского общества, потерей веры, патриотизма и стандартов общечеловеческой морали. Действительно, конец 60-70 годов были нелегкими не только для Англии. Рушилась обычная картина ценностей. Трансформировались многие понятия морали. Молодое поколение привносило свои коррективы и боролось за право жить в новом и построенном ими самими мире. Отголосок студенческих движений затронул и Англию, хотя здесь не было революционности французских или американских студентов. Прежде всего они потеряли веру в будущее и не видели цели своего существования. Для общества этого времени существовало только сегодня, но не было ни завтра, ни вчера. В 1973 году Брайант написал: «Сегодня наиболее важной вещью в этой стране, несомненно, является сохранение характера и здоровья ее народа... Характер значит гораздо больше теорий... Мы не сможем ничего достичь, не имея храбрости, веры и трудолюбия... Любовь к своей стране и гордость за нее является необходимым основанием процветания любой страны...Я убежден, что любое общество, которое перестало ценить и придерживаться этих старомодных добродетелей, обречено в будущем на гибель через внутреннюю слабость или разрушение извне другими более реалистичными обществами... Я продолжаю превозносить их, хотя многим они и кажутся абсурдными, неприятными и даже отвратительными...»[45]
В 1973 году Брайант опубликовал, пожалуй, основной труд своей жизни, куда вошли практически все его исторические труды и который стал для него венцом карьеры историка, – «Тысяча лет Британской монархии»[46]. Книга была посвящена королеве Англии, хотя и не отличалась восхвалением британской королевской семьи. Брайант показал в ней сложную картину эволюции института монархии на Британских островах и его значение в истории страны. Надо отметить, что Брайант совсем не был роялистом, хотя и был воспитан в непосредственной близости от короны. И тем не менее прежде всего он был историком и ему, пожалуй, удалось показать особенности и уникальность монархии в Британии, а также объяснить, почему она до сих пор существует.
К своему восьмидесятилетнему юбилею в 1979 году сэр Артур Брайант мог быть полностью удовлетворен своими достижениями: более тридцати монографий, не считая мелких эссе и памфлетов, известность. Единственное, чего не было у Брайанта, – это детей, несмотря на два счастливых брака (последний брак был расторгнут в 1976 году). Тем не менее, хотя Брайант и тяжело переживал этот факт, он оставался весьма энергичным, много читал, но при этом никогда не просматривал разделы в газетах о рождениях, браках и смертях, хотя газет читал много, не смотрел телевизор (у него его и не было), предпочитал слушать радио. Известность его была настолько широка, что даже таксисты читали его книги. В 1980 году Брайант к тому же объявил о помолвке с вдовой 10-го герцога Мальборо. Правда, брак так и не состоялся, но факт этот уже сам по себе показателен.
Артур Брайант скончался 22 января 1985 года, не дожив месяца до своего восьмидесятишестилетнего дня рожденья. Перед смертью он писал: «Для того, чьей задачей является изучение кратких фактов недолговечной жизни человечества, кто мыслит понятиями не только конкретного поколения или индивида, но истории в целом, из всего бесконечного движения человеческой расы – и хотя это звучит несколько негуманно – кажется не очень важным, погиб ли человек в битве молодым или умер стариком. В любом случае человек умирает так скоро, и его тело возвращается к земле. До тех пор пока человек глубоко и постоянно не задумывается о смерти, он вообще не может реалистично думать о жизни... Самая великая из функций смерти в бесконечном сознании человечества заключается в том, что она объединяет для него, так, как ничто и никто не может объединить, даже любовь, все разнообразие и огромность космоса, время и место. Она делает его гражданином всех миров и всех эпох... Великолепно было бы оставить это самое великое из будущих событий на осознание отдельному человеческому духу как приключение, которое, когда оно придет, воспринималось бы как должное с храбростью и верой в качестве охранников... Только в своей собственной тишине человек может услышать музыку сфер...»
* * *
Книга, предлагаемая на суд читателей, посвящена истории Англии с 1272 по 1381 гг., одному из самых сложных и решающих столетий английской истории. Брайант потратил на нее десять лет, настолько важным он считал этот период для британской истории. И хотя Брайант получил рыцарское достоинство за другую книгу «Создатели государства», сам для себя он видел «Эпоху рыцарства» своей лучшей книгой. Трудно с ним не согласиться. «Создатели государства» были встречены медиевистами достаточно холодно. Многие считали (как и считают до сих пор), что не-специалист не может создать ничего приличного на тему, которой он не посвятил всю свою жизнь. Хотя Брайант неоднократно доказал, что он является в высшей степени профессиональным историком, тем не менее обвинение в популизме, брошенное некоторыми учеными, обидело его. Популизм заключался прежде всего в его блестящем литературном стиле и умении рассказать историю, сделать ее живой и интересной, даже если дело касалось таких «скучных» тем, как манориальная система XII века или сельскохозяйственное производство XIII века. В ответ на данные обвинения профессор средневековой истории Ливерпульского университета Джеффри Барраклу[47] написал, что «знакомая нам критика „популярной“ истории, заключающаяся в том, что она всегда на одно поколение отстает от современного знания, в данном случае не может быть применима никоим образом, ибо эта книга основана на результатах современного исторического знания». Профессор Дэвид Дуглас, основной авторитет по истории норманнского периода в Англии и автор известной биографии «Вильгельма Завоевателя»[48], еще в период работы над книгой предсказывал, что «если остальные фрагменты являются такого же высокого качества, как и то, что я прочел, то у нас будет лучшая популярная история страны». И наконец, дуайен английских медиевистов, профессор Оксфордского университета Вивиан Гелбрайт[49] написал Брайанту: «Еще не один брат-историк позавидует красоте и простоте вашего письма. Вы достигли своей цели как никто другой в книгах такого рода, которые я могу вспомнить»[50].
«Эпоху рыцарства» ожидали с нетерпением. Когда появился пятисотстраничный труд, он сразу был признан лучшей книгой как самого Брайанта, так и британской исторической науки 1963 года. «Эпоха рыцарства» имела дело с довольно небольшим периодом времени, но весьма насыщенным событиями: эволюция парламента, реформа законодательной системы, появление юристов как профессии, захват Уэльса, шотландские войны за независимость, первый период Столетней войны, Черную Смерть, крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера 1381 года, а также историю церкви, архитектуры, поэзии, образования и рождение английского языка. Впервые на таком уровне была изложена интегративная история Англии, которая могла дать единое представление о том, что происходило в этом XIV веке. Сами британские медиевисты признавали это. Безусловно, медиевистика в Британии имела очень высокий уровень, но она приветствовала работу Брайанта, потому что существовал определенный недостаток общих работ, за написание которых не брались специалисты, боясь оказаться популистами и потерять свой научный престиж. С другой стороны, вряд ли можно было найти «лучшее перо» в Англии. Сам Брайант очень серьезно отнесся к своей работе. Он проводил дни напролет не только в библиотеках, архивах, путешествуя по стране, читая частные архивы, находящиеся в епископских диоцезах и простых церквях, аристократических имениях и городских корпорациях, он также много времени проводил за консультациями с историками-специалистами по каждому периоду: сэром Морисом Поуиком, Мей МакКисак, Д. Дугласом, А. С. Мейерсом (которому, кстати, и посвящена книга) и т. д.
Конечно, книга сама по себе представляет весьма отличную от представлений в советской историографии картину развития Англии в XIV веке, которая, как это ни странно, до сих пор воспроизводится в учебниках, общих научных изданиях и даже, правда, уже иногда, в специальной литературе. Особенно отличается описание и анализ восстания Уота Тайлера. Интересен тот факт, что отечественные исследователи, так же, как и Брайант, пользовались одной и той же литературой, книгой Хилтона и Фагая[51], теми же хрониками и документами, но как по-разному выглядят интерпретации. С другой стороны, в книге Брайанта можно найти то, чему никогда не уделялось внимания в отечественной английской медиевистике: английской культуре и ее тесной связи с исторической реальностью этого периода. В частности, тяжелую жизнь английского народа Брайант дает по поэме Уильяма Ленгленда «Видение о Петре Пахаре», самом значительном и интересном источнике по истории XIV века, тогда как наши медиевисты традиционно используют Чосера (выходца из аристократических кругов), чьи Кентерберийские рассказы, при всей их знаменитости, ироничности и похабности, очень однобоко представляют социальное развитие английского общества того периода. И все это при условии, что перевод текста этой поэмы на русский сделан Д. М. Петрушевским[52] и является доступным для современных историков.
Значение книги Брайанта трудно переоценить. Профессор Кембриджского университета Дэвид Ноулз[53] писал об этой книге: «Покрыв более века на более чем пятистах страницах, мы двигаемся многим быстрее, чем авторы Оксфордской истории Англии, и, изучив на таком уровне этот очень сложный и противоречивый период, мы подвергаемся опасности любого вида, настолько большой, что критичный читатель может вспомнить работы такого же плана, написанные сэром Морисом Поуиком и Мей МакКисак. Не пытаясь сравнить вещи, не подлежащие сравнению, честно будет сказать, что сэр Артур достиг своей цели, так же, как они достигли своих, и не просто как читатель, а как историк, занимающийся другим периодом, я могу сказать, что с его страниц можно получить более ясную и более легко представляемую картину эпохи, чем из авторов, только что отмеченных мною, хотя они также великолепны и уникальны в своем роде».
ВСТУПЛЕНИЕ БАШНЯ ПАМЯТИ
I
Когда десять лет назад публикацией «Создателей государства» я завершил первую часть «Истории Англии», то надеялся, что следующая заполнит пробел между эпохами де Монфора и Шекспира. Но, начав сводить воедино огромное количество материала, необходимого для понимания этих трех с половиной столетий, я понял, что хочу слишком многого и, дабы мое произведение представляло собой нечто более значимое, чем простое перечисление имен, дат и обобщений, мне потребуется гораздо больше времени.
«Эпоха рыцарства» (так я назвал эту книгу) посвящена сравнительно краткому периоду, известному под названием высокое средневековье. В эту богатую событиями, созидательную эпоху происходило становление парламента, появилось сословие профессиональных юристов, проводились законодательные реформы Эдуарда I – «английского Юстиниана» – и были заложены основы английской государственности. Именно в это время король пытался ввести в англосаксонской и кельтской Британии единый закон в рамках единой монархии. Несмотря на героическое сопротивление Уэльса, попытка эта была достаточно успешной, но она потерпела поражение в Шотландии в результате легендарной войны за независимость, обеспечившей, к счастью для человечества, независимость шотландского народа. Это было время, по выражению Фруассара, артуровского рыцарства и основания Ордена Подвязки, когда Англия боролась со своим гигантским соседом, Францией, за наследное герцогство Плантагенетов – Аквитанию: состязание, в котором благодаря своей национальной сплоченности и развитию нового вооружения англичане победили и, пока возмездие не настигло их, подчинили своей алчной и высокомерной воле богатейшее королевство Европы. Более столетия, с 1294 года вплоть до бракосочетания Ричарда II и французской принцессы, Англия почти постоянно находилась в состоянии войны либо с Францией, либо с Шотландией, либо с Кастилией, а временами со всеми ними одновременно.
В эту эпоху успехи постоянно сменялись катастрофами: тяжелейшее поражение при Бэннокберне и блистательная победа при Креси. А вслед за этим триумфом Англия была раздавлена несчастьем, сравнимым сегодня только с последствиями ядерной воины. Возвращавшаяся три раза на протяжении жизни одного поколения Черная Смерть унесла с собой половину английского населения. Урон же, нанесенный церковному престижу, косвенно привел к тому обращению к священному писанию и индивидуальной совести, которое под именем лоллардства явилось предвестником реформации. Подрыв экономики, и так ослабленной военными налогами и стремительной экспансией капиталистического богатства, стал причиной взрыва классового сознания рабочих, а также крестьянского восстания, отличавшегося невиданной доселе жестокостью, но и близкого к успеху более чем когда-либо в нашей истории.
Из шести королей Англии XIII-XIV вв. двое были лишены трона и убиты, двое потерпели поражение в гражданской войне, и только один избежал военного диктата со стороны своих подданных. В то же время началось строительство готических «перпендикулярных»[54] соборов и церквей: знаменитых нефов Винчестера и Кентербери, витражей Креси и монастырей в Глостере, а также крыши Вестминстер-холла; появился единый английский язык, получившие свое выражение в поэзии Ленгленда и Чосера; были основаны судебные корпорации – инны и колледжи Оксфорда и Кембриджа, первые корпорации Сити и школа Уильяма Викенгемского в Винчестере.
В период между вступлением на престол Эдуарда I и свержением Ричарда II Англия стала парламентской монархией, каковой остается и до сих пор. Британия внесла очень важный вклад в историю человечества, так как использовала конституционные средства, чтобы примирить центральную власть с личной свободой каждого подданного и их правом протестовать и требовать реформы управления. Именно это позже позволило ей как лидирующей морской державе протестантской Европы нанести поражение таким крупным авторитарным государствам, как Испания и Франция, упрочить свое положение на море, позже расширив свои границы до Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, и превратиться из мировой торговой империи, созданной купцами и чиновниками, в Британское Содружество, этот уникальный, хотя и непрочный в наши дни союз, который все еще держится расплывчатой концепцией межрасового братства.
Создание парламента, включившего в себя три неизменных компонента – Корону, Лордов и Общины, делает эти полторы сотни лет жизненно важными для понимания всей последующей истории. В то время население государства завоевывало методом проб и ошибок свои права, ставшие основой законов и институтов, до сих пор определяющих жизнь свободных людей. На раннем этапе этой борьбы преимущественно крупные лорды и церковнослужители обладали личными свободами и правом сопротивляться деспотической власти, постепенно рыцари графств и осторожные городские бюргеры стали принимать участие в этом процессе. Из конфликта между расширяющимися полномочиями центрального управления и средневековой традицией феодальной и религиозной свободы родилось первое согласие между порядком и свободой. Когда дважды за сорок пять лет в результате успешной революции король-тиран был лишен трона, а парламент признавал его наследника, победители в обоих случаях были достаточно мудрыми, чтобы сохранить сильное королевское правление. Эта комбинация в виде уважения к центральной власти, но с учетом индивидуальных прав и свобод остается политической доминантой в английской истории.
Так как все это очень важно, я решил посвятить свою третью книгу, «Островные королевства», истории XV-XVI вв., один из которых Шекспир сделал темой своих исторических пьес, а в другом он жил – в период, который, несмотря на открытие нового, океанического мира, реформацию и три смены династии, был тесно связан с предыдущим, как теперь это очевидно историкам. Не ломая историческую преемственность, вряд ли можно отделить эпоху, когда была основана таверна Фальстафа в Истчипе, и эпоху, в которую автор вывел эту таверну из своего опыта. Когда мы наблюдаем великолепные сцены в «Кабаньей голове» и видим жирного рыцаря, члена суда присяжных, сидящего в Коствольдском саду с судьями Сайленсом и Шеллоу, мы живем одновременно и в царствование Генриха IV и Елизаветы, первого Ланкастера и последней Тюдор.
Продолжением стали книги «Свобода и море» и «Государство океана». Труднее всего мне здесь, как и в предыдущей книге, было создать всеобщую космополитическую, хотя и несовершенную, картину развивающегося государства во всех его разнообразных проявлениях: политике, законодательстве, управлении, религии, сельском хозяйстве, торговле, войне, общественной жизни, искусстве и литературе, и не в виде отдельных, не сообщающихся между собой рассказов, а как живое целое в контексте уходящего времени. Я пытался без скуки и назидательности одновременно изложить факты и объяснить, как, не выходя за рамки данного периода, мы стали тем, кто мы есть.
В наше время специализированной и концентрированной науки человек должен обладать большим самомнением, чтобы пытаться охватить национальную историю во всех ее аспектах. В связи с тем, что огромные трудности несет в себе проблема систематизации и изложения, такая попытка редко предпринимается. Есть и другая причина. Краткость и обобщенность, с одной стороны, и неправильный подбор фактов, с другой, легко могут привести к сильному упрощению и искажению. Я хорошо сознаю все несовершенства работы, цель которой – изложить такой объем знаний, с которым не справиться человеческому уму. Тем не менее если моя работа и несет в себе хоть какую-то ценность, то она заключена в самой попытке, хотя и несовершенной. Ибо если простому читателю надо понять историю своей страны, то кто-то должен попытаться это осуществить, или истина пройдет незамеченной. Именно поэтому я хотел назвать свою книгу «Башня памяти». Пока те, кто ответствен за политику страны (при парламентской демократии – перед избирателями), не поднимутся на эту башню, они не смогут увидеть дорогу, по которой пришли, и понять неотвратимую судьбу своей державы.
II
Для начала проследим развитие Англии до эпохи Плантагенетов. Государство являлось частью, хотя и достаточно изолированной, Западной Европы; его король и знать были того же происхождения и говорили на том же языке, что и французы по другую сторону Ла-Манша. Англию следует рассматривать в рамках этого мира, который был одновременно и больше и меньше, чем наш. Меньше, потому что границами его являлись побережья Атлантического океана и Средиземного моря в Северной Африке и Малой Азии, больше, потому что даже на путешествие от Лондона до Йорка требовалось пять или шесть дней, а в Рим и Авиньон много недель. За любым горизонтом прятались тайна и романтика; человек из соседнего города был иноземцем, если не врагом, а житель соседней страны – почти что пришельцем из другого мира. Каждое из сотен маленьких королевств, княжеств и свободных городов Европы имело свои собственные законы и обычаи, хотя многие были связаны между собой феодальными союзами своих правителей, и все принадлежали к наднациональному государству, над которым господствовала Церковь.
Когда Эдуард I наследовал престол, самым крупным королевством была Франция. Она составляла две трети от ее современного размера, и границы ее определялись Роной, Соной, Нижним Маасом и Ли. Французский король управлял всего лишь половиной королевства, ибо правители окружавших его фьефов Фландрии, Шампани, французской Бургундии и Гаскони, приносили своему государю только частичный оммаж. Гасконь же принадлежала королю Англии, поскольку он являлся еще и герцогом Аквитании.
На юге Пиренеев, на Иберийском полуострове, располагались небольшие королевства крестоносцев – горная Наварра, выжженная солнцем Кастилия и Леон, восходящая средиземноморская держава Арагон, расширившаяся позднее за счет Каталонии и Валенсии, а на Атлантическом побережье появилось отвоеванное королевство Португалия. До появления феодального рыцарства, давшего христианскому миру новые силы для борьбы с исламом, эти королевства являли собой только группу крошечных горных государств, едва влачивших нищенское существование в условиях северных гор; теперь же вместе они отбросили мавров обратно почти в самую Африку, оставив под знаком полумесяца только Гранаду, недоступный горный халифат. На восточной границе Франции находилось рыхлое промежуточное государственное образование, которое появилось между родовыми землями франков и германцев в результате деления империи Карла Великого на три части. На севере этого коридора, где Рейн впадал в Северное море, находились Брабант и Геннегау (Эно), чьи процветающие за счет ткачества города, вкупе с соседними французскими фьефами Фландрией и Артуа, обеспечивали рынки Англии заказами на сырье. Далее на юге располагались герцогства Люксембург и Лотарингия, «королевство» Бургундия или Франш Конте, альпийская Савойя и Прованс.
Вдоль Альп лежала Ломбардская долина и так называемое королевство Италия, самый богатый, населенный и развитый регион в Европе. Ни германскому императору, ни папе римскому, притязавшим на господство в Европе, не удалось создать здесь единого политического образования – блага, которого этому полуострову так и не было дано познать на протяжении почти тысячи лет, за исключением короткого периода норманнского правления на юге Сицилии. В тени своих стен города северной Италии в коммерческом, гражданском и культурном отношении были гораздо более развиты, чем любое другое государство. Непрестанно соперничая и объединяясь друг с другом с целью получения контроля над окружающей территорией, они завоевали полную независимость, сохраняя армии, которые, хотя и были равны друг другу по силе, в совокупности оказались достойными противниками феодальных наемников, посланных против них германским императором. Некоторые из них, такие, как крупная производительница тканей и оплот банковского капитала республика Флоренция, глава Тосканской Лиги, традиционно принимали сторону папы; другие, такие, как Милан, часто союзничали с императорами. При этом, хотя соперничающие фракции постоянно боролись друг с другом внутри стен города, они сражались за свои собственные интересы, но не за интересы папы или императора, и именно Ломбардская Лига под руководством Милана, являвшаяся нечто большим, нежели какая-то единичная сила, сломила власть Гогенштауфенов.
К северу, вдоль верхнего течения Рейна, располагалась Германия, во главе которой, так же, как и во главе северной Италии, номинально находились наследники Карла Великого. И хотя правители крупных германских государств все еще по традиции избирались императорами и «королями Римлян», с момента падения Гогенштауфенов императорский титул потерял свое прежнее значение. В теории «римский» император являлся светским владыкой христианского мира, поэтому его имперская мантия служила поводом для ожесточенных раздоров между соперничавшими за престиж князьями. Но власть в Германии, состоявшей из более чем трехсот фьефов, теперь принадлежала крупным княжеским семьям – Виттельсбахам Баварским, Вельфам Брауншвейгским, Веттинам Саксонским, наследным правителям Бранденбурга, Пфальца и Богемии, и крупным рейнским церковникам – архиепископам Кельнским, Майнцким и Трирским, которым в надежде на ответную помощь в борьбе со своими светскими соперниками императоры из рода Гогенштауфенов даровали огромные земли. Пользуясь отсутствием централизованной власти, «свободные» города добились не только независимости, но, организовывая лиги для взаимной поддержки, и могущества, сравнимого с властью любого князя. Совсем недавно возникла Ганза или Ганзейская Лига, в которую вошли порты Любека, Висби, Ростока и Гамбурга, для защиты торговли в Балтийском и Северном морях, которая пыталась установить в обоих морях свою монополию. Эти германские торговцы были известны в Англии как купцы, передвигающиеся в восточном направлении, и их гильдхол или фактория в Лондоне являлась центром расширяющейся торговли лесом, мехами, тканями, вяленой рыбой, рейнским вином и судостроительными материалами и источником зависти и ревности неспокойных городских ремесленников.
Далеко на востоке, в землях язычников-пруссов, где обосновались рыцари-крестоносцы Тевтонского Ордена, купцы и крестьяне-поселенцы из Швабии и Саксонии продвигались все глубже в балтийские сосновые леса, польские и литовские равнины. Другие колонисты из Баварии и долины Дуная, оттеснив венгров, уже создали новую имперскую провинцию, Австрийскую марку или Остмарк. Вдоль этой постепенно расширяющейся границы находились скудно населенные земли северных викингов, равнины польских славян, и на юге Карпат, мадьярской Венгрии, где под влиянием христианства жестокие кочевые обычаи прошлого уступали место землепашеству и феодальной организации общества. Далее на востоке простирались земли Новгородской республики и полу варварских русских княжеств, которых христианский мир, подобно государствам южно-балканских славян, причислял к Византийской греческой православной (ортодоксальной) церкви. Здесь, рядом с Босфором, с трудом поддерживая баланс между турками-мусульманами Малой Азии и жадными венецианскими торговцами с Запада (теперь находившимися во владении Греции и греческих островов) все еще правили потомки восточно-римских императоров, проживавшие в столице, которую только что отобрали у мародерствующих крестоносцев, и хранившие древнюю культуру, самую цивилизованную и роскошную из когда-либо известных франкам и тевтонам.
Именно такими были границы мира для англичанина XIII века. За этот темный горизонт, где рисковые торговцы обменивались товарами на пыльных пустых дорогах, ведущих к Самарканду, не проникал еще ни один западный человек, кроме случайного монаха какого-нибудь нищенствующего ордена, желавшего принять мученичество, или венецианского купца, настолько алчного, что никакие пустыни Востока не могли его испугать[55]. За этим отдаленным горизонтом весь остальной мир полувеком ранее подвергся нашествию ужасных кочевников, татар или монгол Золотой орды Чингисхана, на время завоевавших всю южную и центральную Россию, Польшу, Венгрию, Силезию, а также азиатский Туркестан и крупный Аббасидский халифат Багдада. С тех пор, хотя Россия все еще платила им дань золотом и рабами, они отступили в восточные степи и осели частично в Китае, чью древнюю цивилизацию захватили их ханы, где постепенно смягчали свои нравы. На Западе о них ходили самые фантастические слухи: о поголовном переходе в христианство и союзе против фанатичных мусульман, которые, укрепившись вдоль восточного и южного побережий Средиземного моря, на протяжении семи веков преграждали христианам доступ на Восток.
* * *
Этот мир средневековой Европы был более грубым и жестоким, чем наш, хотя некоторые формы насилия, привычные для нас, были ему незнакомы. Многим он походил на мир феодальной и племенной Африки до пришествия современной цивилизации. Можно было встретить мужчин с отрубленными руками, языками и ушами в наказание за проступки; в темницах в собственных нечистотах гноили или морили голодом пленников; преступникам, пойманным на месте преступления, тут же отрубали голову, даже несмотря на то, что в Англии на казни должен был присутствовать королевский чиновник для придания законности действиям. Такие наказания отвечали жестоким нравам толпы; за один год Эдуард I вынужден был даровать прощение 450 убийцам[56]. При этом на границе этого жестокого мира находились ад и рай, и именно они делали мир для людей захватывающим и значимым. Большинство вещей, которые они создали и которыми жили, не дошли до нашего времени. Но те, что сохранились, свидетельствовали о силе и постоянстве их главнейших убеждений: о глубоком и неизменном чувстве величия и бессмертия Господа. И сегодня их огромные соборы, построенные с помощью простых орудий и «детской» техники, возвышаются над городами современной Британии; в Солсбери нет ничего, что могло бы сравниться с башней и шпилем, который Ричард Фарлейский построил во времена Черной Смерти или с хорами и нефом, которые его предшественники возвели веком ранее. Глупости, легковерия, алчности и самодовольства в эпоху веры было не меньше, чем в другие времена; сыны человеческие не меняются. Это было славное время для тех, кто удачлив, но только до тех пор, пока фортуна не покидала их, и скверное для тех, кого удача обошла стороной. При этом, когда мы бросаем обвинения против средневековых людей, нужно помнить, что в ту эпоху было то, чего нет у нас. Встаньте у западной стены Уэлса или Линкольна или под Илийской башней и задумайтесь. Затем посмотрите на нагромождение бетонных коробок, стекла и балок, возведенных сегодня с одной-единственной целью, самой преходящей из вещей, и задумайтесь снова.
III
Я нахожусь в неоплатном долгу перед теми, чьи исследования сделали возможным появление этой книги. Как и в своей предыдущей работе, я стою на плечах гигантов. Я не медиевист, но мне повезло, что Англия в этом столетии так богата крупными историками средневековья. Все, что появилось на этих страницах, это только малая толика того, что они своими исследованиями и книгами сделали доступным нашему знанию. Это лишь вершина айсберга, которая появляется над водой, чтобы утаить необъятную остальную часть, ее поддерживающую.
Я также глубоко признателен своим друзьям; тем, кто великодушно делал копии и переписывал бесчисленные выдержки из сотен разных источников, которые должны были быть собраны еще до начала написания книги: моему секретарю и издателю; Уиндему Кеттон-Кремеру и Бертраму Бруку, которые читали гранки книги, и лорду Годдарду, который корректировал главы, связанные с законами и юриспруденцией. Но прежде всего я в неоплатном долгу, который вряд ли смогу вернуть, перед теми, кто критиковал мою книгу на всех этапах ее написания и переписывания, перед Милтон Уолдмен и доктором Э. Р. Мейерсом, кому из чувства благодарности и посвящается эта книга.
Уинком
Август 1963 года
Глава I ВЕЛИКИЙ КОРОЛЬ
Скакун резвился вороной
Герб серебрился расписной
И кудри черные волной
Струились на броне стальной -
Так ехал в Камелот...
И сбруя на его коне
Пылала в солнечном огне
Как звезд плеяда в вышине
Над островом Шелот
Седло под рыцарем лихим
Мерцало жемчугом морским
Забрало и перо над ним
Сияли пламенем одним
Теннисон (Леди Шелот) [57]Законы Англии... с тех пор, как они были одобрены с согласия тех, кто их использует, и подкреплены клятвой королей... не могут быть изменены или уничтожены без общего согласия всех тех, чьим советом и согласием они были провозглашены.
БрактонВторого августа 1274 года крестоносец Эдуард Вестминстерский высадился в Дувре. Он не был в Англии более четырех лет и уже около половины этого срока был ее королем. У его ног лежало богатое, хорошо организованное государство, которым его родственники из анжуйской династии правили уже в течение ста двадцати лет, а его норманнские и английские предки – около четырех веков.
Как все сельские просторы Европы, английское королевство было усеяно замками, церквами и монастырями, а также маленькими городами, обнесенными стенами. Вместе они символизировали мощь трех классов, управлявших христианским миром. Два из них – древние и крепко упрочившиеся, третий – новый и неуверенный в своих силах. Графы, бароны и рыцари, епископы, аббаты и монахи были ведущими фигурами на шахматной доске власти, и далеко от них по положению, но отнюдь не по богатству, отстояли купцы-горожане торговых полугородов-полудеревень, выраставших в тени замков и аббатств. Из цитаделей королевские констебли и шерифы, а также более крупные феодальные лорды – главные держатели короны, следили за соблюдением мира и государственного закона, выполнение которого вменялось королевским судьям. Замки, с их насыпями и внутренними башнями, обширными зелеными дворами, обнесенными куртинами, рвами, опускными решетками и барбаканами, колодцами[58], амбарами и темницами, были основной силой, которую могла одолеть лишь армия с катапультами и стенобитными орудиями, способная долгое время продержаться на открытой местности. В залах, продуваемых всеми ветрами, с устланными камышом полами и крошечными каменными уборными, в грязи и великолепии жили франкоговорящие лорды. Их тренированные боевые кони, кованые доспехи и умение сражаться верхом, унаследованное от предков, позволили им на протяжении двух веков безраздельно править местным населением.
Однако в Англии такое господство могло осуществляться только в сообществе с короной, силой, с которой ни граф, ни барон не могли соперничать без опасных для себя последствий. Три гражданские войны велись отцом, дедом и прадедом Эдуарда, чтобы доказать это. В силу этого обстоятельства, а также из-за своего географического положения, Английское королевство не было похоже на континентальные государства. Со времен победы Эдуарда над де Монфором, произошедшей в день рождения его отца, большинство главных замков Англии удерживались короной или ее подчиненными. Когда новый король высадился на землю своего королевства, над ним возвышался Дувр, королевские ворота Англии, со стенами толщиной в двадцать футов, окруженный двумя линиями крепостных валов и с огромным прямоугольным донжоном, построенным первым Плантагенетом. В сорока милях к северо-востоку, по дороге к столице, расположился Рочестер, охранявший путь в Медуэй, где шестьдесят лет назад восставшие бароны после утверждения Великой Хартии вольностей преградили путь королю Иоанну. За Римской стеной Лондона высилась башня Вильгельма Завоевателя, доминировавшая над крытыми соломой и красной черепицей домами и бурной рекой. Далее, в тридцати милях вверх по Темзе, охраняя еще один перекресток, на возвышении стоял укрепленный Виндзор, где родились дети Эдуарда, за ним простирались заливные луга Раннимеда. Там, где река вытекала из среднеанглийских лесов, лежали Уоллингфорд и Оксфорд.
Далее, посреди овечьих пастбищ и меловых холмов запада, высились другие королевские башни – Ньюбери в Кеннетской долине, Мальборо и Олд Сарум на Плейне, крепости долины Северна и Динского леса. Вдоль берега Ла-Манша, защищая его якорные стоянки и устья рек, стояли Пивенси, Порчестер, Керисбрук и Корф, а на глухом кельтском юго-западе – Экзетер, Тремартон и Рестормель.
К северу от Лондона высились цитадели, охранявшие «королевский мир»[59] в восточных и среднеанглийских графствах – в сердце сельскохозяйственного благополучия страны, на лесистых землях, где раньше находились старые англосаксонские поселения. Колчестер и Фрамлингем, Беркхемстед и Нортгемптон, Линкольн и Ньюарк играли и могли бы вновь сыграть решающую роль в защите государства от бунтов и вторжений. Контроль крепостей со стороны короны был условием, необходимым для осуществления правосудия. Никто не понимал этого лучше, чем король; он управлял посредством предписаний, направляемых замкам. Восемь лет назад бароны, сделав Кенильворт своей базой, сумели затянуть мятеж на много месяцев. С тех пор, хотя башни местных лордов возвышались во всех частях этих земель, штандарты, развевавшиеся над этими шедеврами военно-инженерного искусства, принадлежали королю и его родственникам.
Только далеко на севере и на западе, на границе с Шотландией и Уэльсом, неприступные замки все еще были в руках феодальной знати. Там находились опорные пункты правителя – епископа Даремского и воинственных лордов Пеннинских долин, крупных марок Клана, Осуэстри, Брекона, Рэднора и Монтгомери, Глэморгана и пфальцграфства Пемброка. Клэры в Кардифе, Керфиллы и Мортимеры в Вигморе и Ладлоу до сих пор могли бы выстоять против королевской армии за стенами своих замков. Однако опасность, грозящая со стороны валлийских племен, заставляла короля и знать сплотиться воедино, и поэтому от короны не требовалось никаких объединительных санкций. Англичанам приходилось или держаться вместе или же видеть свои владения разграбленными, а людей убитыми.
Однако власть в Англии держалась не только на башнях и копьях. Как и все государства романского Запада, королевство управлялась идеалом, символом которого был Крест, выражением – справедливость, а доверенным лицом – церковь. Эта международная организация, распоряжавшаяся по своему собственному усмотрению почти третьей частью богатств королевства, хранила верность не королю или феодальному лорду, но наместнику Христа, папе и епископу Римскому. Власть в королевстве Эдуарда, как и в любом западном государстве, была двойственной. Люди являлись подданными своего короля и вассалами или сервами своего феодального лорда, но также они все были паствой Святой Церкви и повиновались прелатам и священникам. Величественные каменные монастыри и соборы, прорезающие горизонт своими башнями и шпилями; приходские церкви, крыши и колокольни которых вырастали над деревнями и городами, были такой же неотъемлемой частью пейзажа, как города и замки короля и его приближенных. На пути домой перед царственным крестоносцем лежали раки святых и мучеников, которые он так часто посещал со своим отцом, и которым, как любой принц той эпохи, он с удовольствием дарил реликвии и сосуды из золота и серебра, жемчуг, статуи и распятия, превосходно вышитые изделия. Под сирийским небом Эдуард, должно быть, часто вспоминал серые камни и прохладные зеленые дворики, колокольный звон и песнопения, величественную монашескую жизнь, протекавшую в местах успокоения св. Томаса в Кентербери, короля Св. Эдмунда в Бери, и того английского короля в Вестминстере, в честь которого Эдуард получил свое имя.
В Англии существовало около семисот монастырей, кафедральных соборов и женских обителей, а также несчетное количество мелких соборов, монашеских братств, церковных общин и часовен. Некоторые из монастырей были так богаты, что их аббаты заседали вместе с графами и баронами в королевских советах и парламентах, так же, как и епископы, представители белого духовенства, чьи огромные кафедральные соборы[60] соперничали с монастырскими соборами их собратьев – прелатов монастырей. Наконец, взору Эдуарда представали Кентербери, Вестминстер и Сент-Олбанс. Островные монастыри Или и Питерборо, Кройленда и Торни возвышались над бесконечными заболоченными пространствами. Со всех концов Британии толпы пилигримов стекались к крупным аббатствам восточной Англии: Нориджа, Колчестера и Бери, помеченным четырьмя крестами – знаком королевского иммунитета (туда не смели входить даже королевские судьи), на далекий песчаный край Норфолка, близ Северного моря, к месту поклонения Уолсингемской Богоматери, где находилась знаменитая копия дома святого семейства в Назарете (построенная после видения, коего удостоилась богатая саксонская вдова). На юго-западе лежали Рамси и Шербурн; женский монастырь рядом с Эйвоном в Эймсбери, где королева Элеанора, мать Эдуарда, приняла постриг; на вершине холма стояло аббатство Шефтсбери с мощами Эдуарда Мученика, прославившееся целым рядом аббатис, происходивших из благородных семей. Вдали, где листва Пенселвудского леса тонет в болотах Сомерсета, вырос великолепный новый собор Уэльса. Его красивый западный фасад блистал расписанными и позолоченными статуями английских королей и святых. В соседней долине Авалона, под часто посещаемой паломниками скалистой вершиной, находилось самое святое место Англии – Гластонбери. Здесь, как утверждала легенда, Иосиф Аримафейский посадил свой цветущий посох, давший первые ростки британского христианства. Рассказывали, что здесь собирались рыцари Круглого Стола короля Артура, и здесь же восемьдесят лет тому назад монахи нашли останки Артура и его жены Гвиневеры. Дальше на севере в Малмсбери и Глостере находились четыре епархии[61], а за ними – золотые аббатства долины Северна и Уэльская граница. И совсем далеко на севере, за Линкольном и Керкстедом, лесными аббатствами Раффорда и Ньюстеда, громоздились одинокие цистерцианские обители Йоркширских пустошей – Риво, Биланд, Фонтен, Жерво – монастырские церкви Йорка и Рипона и великая бенедектинская святыня – мощи Св. Кутберта в Дареме.
* * *
Будущему королю пришлось сражаться за символ веры, который хранили столь дорогие ему места, охранять и выкупать землю «Outre mer» или Святую Землю. Туда четыре года назад Эдуард отправился в крестовый поход вслед за своим святым дядей, Людовиком Французским, и, командуя армией христианского мира, выиграл благодаря победе над сарацинами в Яффе десятилетнее перемирие и передышку для христианских крепостей в Сирии. Когда он вернулся, ему было тридцать пять лет. Будучи на голову выше своих собратьев[62], Эдуард представлял собой величественное зрелище – идеал средневекового короля. Его прозвали Длинноногим, за необычайно высокий рост, когда он стоял в стременах. Подвиги короля на рыцарских поединках, в борьбе, соколиной охоте и охоте на крупного зверя прославлялись во всем христианском мире. История его юношеской дуэли с атаманом разбойников, Адамом Гудронским, в лесистом ущелье Элтона[63], а также победа на великом турнире или «маленькой войне» в Шалоне, по дороге домой из крестового похода, стали национальными легендами. На своем коне «Фероне, черном как ворон» король мог, как говорили, преодолеть любое препятствие.
Под восточным солнцем волосы Эдуарда, в юности льняные, как у всех Плантагенетов, потемнели, а кожа стала бронзовой. Он отличался превосходным здоровьем, энергией и хорошим чувством юмора. «Никогда, – писал современник, – короля не видели печальным, кроме тех дней, когда смерть настигала людей, дорогих его сердцу». Круглое лицо, кудрявые волосы, большие выразительные глаза – кроткие, как у голубя, когда он доволен, и пылающие гневом, как у льва, когда зол, – маленький властный рот, превосходные зубы, не испортившиеся с возрастом, широкий лоб и крючковатый нос: весь его облик свидетельствовал о способности управлять обществом воинов. Прямой, широкоплечий, с гибкими, мускулистыми конечностями, Эдуард обладал всеми чертами, которыми восхищались его современники.
От отца он унаследовал прищуренный левый глаз и легкое заикание. Однако когда Эдуард приходил в возбуждение, заикание пропадало, и он говорил с такой силой, что мог растрогать людей до слез. Воин с младых ногтей, он прочел немного книг, но умел писать по-французски и, что более вероятно, на латыни, а также переписывался со своим кастильским шурином по-испански. Его мастерство разрешать споры было так же знаменито, как и отвага в бою, и он замечательно играл в шахматы – утонченную восточную игру, привезенную крестоносцами, что доказывает многогранность этого средневекового короля. Эдуард любил музыку и стихосложение, великолепные здания и скульптуру, живопись и иллюстрированные манускрипты. В его домашних счетах упоминаются английские трубачи, уэльские арфисты и немецкие скрипачи, которых он держал у себя на службе. Именно уэльский арфист находился при Эдуарде, когда на него напал убийца-ассасин в Акре, а во время своей последней кампании против Брюса умирающий король остановился на обочине, чтобы послушать шотландских женщин, поющих песни своей родины.
Несмотря на всю его деспотичность, в Эдуарде было что-то благородное и великодушное; «великим духом» («animus magnificus») он представлялся уроженцу Сомерсета, Николасу Тревету, состоявшему у него на службе. В молодости его укоряли за неистовый, невыносимый характер – наследие, которое, как говорили, анжуйский род получил от дьявола. Однако Эдуард быстро отходил и скоро прощал; «король, внушающий страх гордецам, но добрый с кроткими этой земли». «Извините, – воскликнул он однажды, – почему бы мне не сделать этого и для собаки, если она ищет моей милости!» Суровый опыт раннего участия в гражданской войне научил Эдуарда понимать точку зрения другого и быть терпеливым и склонным к компромиссу. Он знал, как работать с людьми различных взглядов и делать их своими друзьями, что было не доступно его отцу.
Этими благородными чертами, в противовес вспыльчивости Плантагенетов, Эдуард обязан идеальному браку. Элеонора Кастильская была правнучкой кастильского короля, который привел армии крестоносцев северной Испании к великой победе при Лас Навас де Толоса. Ее отец вернул в лоно церкви Кордову, Севилью и Кадис; сводный брат, Альфонсо Мудрый – покровитель мавританской и еврейской культуры – был одним из первых математиков и астрономов того времени. Дочь крестоносца, Элеонора, сопровождала своего мужа в Акре, где ее нежная забота спасла ему жизнь, когда ассасин ударил его отравленным кинжалом[64]. Любовь Эдуарда к этой благородной, величественной женщине, с длинными темными волосами и спокойными готическими чертами лица (которые мы до сих пор можем лицезреть на ее скульптурном изображении в Вестминстерском аббатстве) стала путеводной звездой его жизни. Их обручили в Бургосе, когда ему исполнилось всего пятнадцать, а она была еще ребенком. Элеонора привила королю мирный нрав, которого Эдуарду так не хватало. Их двор был спокойным и благопристойным местом, свободным от зла и грубости.
За царственной внешностью Эдуарда скрывались грубые манеры военного, которыми славился первый Плантагенет. Эдуард также предпочитал одеваться в простой солдатской манере, носить «робу» и отделанный мехом «collobium» (плащ), который носили плебеи, простые купцы и рыцари, «пренебрегая пурпурным или бледно-красным цветом». «Неужели я мог бы сделать больше в королевской мантии, нежели в этом простом кафтане?» – однажды спросил он. Он любил быть на короткой ноге со своими солдатами и простыми подчиненными, подшучивать над ними и смеяться над их грубыми шутками. Однажды он отдал своего коня прачке, при условии, что она выиграет на нем скачки.
Трудолюбивый и методичный, этот франкоговорящий король с английским именем приучил себя к аккуратному ведению дел. Он не любил расточительности и экстравагантности. При маленьком, стесненном в средствах дворе своего отца он терпел унижения, которые сопровождали принца, едва сводящего концы с концами, что убедило его избегать таких примеров. Кроме того, в крестовом походе Эдуард увеличил долги короны, обильно занимая деньги у итальянских банкиров, которые, обойдя запрет христианам заниматься ростовщичеством, сменили евреев-ростовщиков в христианском мире. Вернувшись в Англию, он направил всю силу своего расчетливого ума на усиление своих финансовых прав и максимальное увеличение любой ренты, дохода или службы, которые получала Корона. Ведь он знал, что только с помощью строгой экономии правитель XIII века мог получить, не жертвуя собственной свободой, все, что было необходимо для повышения своего престижа и удовлетворения чувства собственного достоинства: замки, коней и оружие, искусно вышитые вещи и гобелены, драгоценности и скульптуры, пиры и турниры, роскошные пожертвования святым местам, церквам и монастырям.
Первой заботой Эдуарда было стать хозяином в собственном доме. Не опасаясь феодальной знати, он, в отличие от отца и деда, не пытался противопоставить себя ей. Большинство из магнатов[65] были его возраста или моложе, сражались под его командованием против валлийцев и де Монфора, или же принимали участие в сирийской кампании. В жилах четырех из одиннадцати графов текла королевская кровь: это его брат, Эдмунд «Горбун» граф Ланкастера, Дерби и Лестера; кузен Эдмунд граф Корнуолла – сын последнего короля Римлян – управлявший юго-западными землями от Экзетера до Ленде Энда; его зять Джон Бретонский граф Ричмонда; и дядя Вильгельм де Валенс граф Пемброка. Из семи других только Джон де Уоррен, граф Суррея и Суссекса, был старше Эдуарда. Несколькими годами ранее Уоррен фигурировал в драматическом эпизоде, когда его слуги напали и ранили противников своего господина в Вестминстер-холле. Эдуард преследовал Уоррена до замка в Рейгете, угрожал осадой и заставил его предстать перед судьями своего отца, которые взыскали с того огромную сумму в 10000 марок (что сейчас составляет примерно четверть миллиона) за нанесение оскорбления королевскому общественному порядку. Однако несмотря на то, что Уоррен был яростным защитником своих феодальных прав и обладал вспыльчивым характером, он не питал злобы к своему новому сюзерену, на стороне которого сражался при Льюисе и Ившеме. Близкими друзьями Эдуарда также были Вильгельм Бошам, граф Уорика, Генрих де Ласи младший, граф Линкольна и Солсбери, Роберт де Вер, граф Оксфорда, чьи поместья, благодаря парадоксальной феодальной системе Англии, находились главным образом в Эссексе. Самым могущественным из всех был тридцатилетний маркграф, Гилберт де Клэр, граф Глостера, который поставлял на службу короне более 450 рыцарей, владелец двадцати двух английских графств и «хозяин земли Моргана» в южном Уэльсе, где у него было собственное казначейство, большая государственная печать, суды, канцлер и шерифы. Этот надменный, импульсивный, рыжий воин, правнук Вильгельма Маршала, дважды переходил из одного лагеря в другой во время гражданских войн. Но Эдуард знал, как обращаться с ним, и именно Гилберт де Клэр первым объявил о вступлении на престол нового короля и поздравил его с возвращением в свое королевство.
Только два молодых графа, Роджер Биго, граф Норфолка, наследный маршал[66], и Хамфри де Боэн, граф Херефорда, констебль, держались в стороне от королевского окружения. Они одни хранили древние баронские традиции независимости и, от случая к случаю, вставали в оппозицию короне. Остальные графские роды либо пресеклись, либо находились в состоянии неопределенности. Самый великий из них, Честер, был в руках короля после смерти последнего представителя династии Гуго Авраншского в 1237 году [67].
Эдуард чувствовал себя как дома в этой компании баронов. Их вместе почитали, они вместе росли, соперничали, боролись. Несмотря на свой деловой склад ума, он прежде всего был продуктом рыцарского, аристократического общества. Более всего король был счастлив на рыцарском турнире, на охоте в лесах или с соколом в долинах рек, пируя в замке или в охотничьем домике, слушая менестрелей и арфистов, певших романтические баллады о сражениях, куртуазной любви, которые с возвращением цивилизации стали основной «пищей» грубых воинов-феодалов, завоевавших старые римские или легендарные земли западной Европы. Эдуард любил легенды о короле Артуре и его рыцарях, которые аристократия Англии и Франции переняла у кельтских бардов Бретани, Уэльса и Корнуолла. Сам он считал, что происходит от Брута Троянского[68] и других легендарных паладинов древности. Вместе с Гилбертом Глостерским Эдуард учредил Круглые Столы по образцу артуровых, за которыми, по особым случаям, лорды королевства, красные и помятые после турниров, сидели на пирах, подражая обычаям Камелота.
Хотя Эдуард был на равной ноге со своими графами, гостил в их замках и вместе с ними участвовал в турнирах, охотах и пирах, у него не было среди них фаворитов. Его близкими друзьями были люди знатного происхождения, но не обладавшие большой властью. Именно им Эдуард научился доверять еще в дни своей опасной юности. Они происходили из разных мест, от Рейна до Ирландского пролива: это, например, бургундец Отто де Грансон, Жоффруа де Женевиль из Вокулера в Шампани, Роберт Тибтот или Типтофт, который удержал во время гражданской войны Бристоль для Эдуарда и был свидетелем при составлении его завещания в Акре; Томас де Клэр – брат графа Глостера, – который вместе с ним спасался бегством из Херефорда перед битвой при Ившеме. Король назначал их сенешалями и констеблями в своих английских, французских, уэльских и ирландских владениях, в судебные комиссии и в посольства при иностранных дворах. И в Совете и на поле битвы один или несколько из его друзей всегда были рядом с королем.
Еще более важную роль в управлении королевством играли крупные клерки или клирики государственных учреждений, родом из королевской семьи или придворной знати. К канцелярии и казначейству, уже существовавших во времена англосаксов и нормандцев, анжуйские короли прибавили «Гардероб», или управление королевским имуществом, который в течение века развился из королевской гардеробной в важный финансовый и административный орган. Хотя некоторые из чиновников, особенно старого казначейства, были назначены на наследственные должности, функции которых они исполняли в качестве заместителей, ответственность перед обществом, традиции и полуколлегиальное устройство учреждений обусловили их личную преданность короне. Как и раньше, большинство из них были церковнослужителями, но некоторые принадлежали к приобретающему вес энергичному классу рыцарей графств. В своих комнатах в Вестминстере или в повозках, следующих за вечно находящимся в разъездах двором, заваленных чернилами и зеленым воском, бирками[69], свитками и казначейскими сундуками, эти люди являлись профессиональными гражданскими чиновниками, готовыми исполнять свои обязанности даже в отсутствие короля или во время гражданских войн. Опыт и государственное мышление сделали их силой, приносящей стабильность Английскому государству, а также неизменными хранителями его административных традиций – более сильных в то время в Британии, нежели в других западных странах.
Эдуард использовал этих бюрократов в полную силу. Благодаря проницательности и смелости, которых так недоставало его отцу, король не боялся доверять им, и его было трудно ввести в заблуждение. Во главе бюрократического аппарата стоял канцлер Роберт Бернелл, который со времен Ившема был секретарем Эдуарда. Этот гениальный администратор и законовед, младший сын шропширского рыцаря, не чуждался земных благ и, волею своего господина, стал крупным землевладельцем[70]. Но его преданность интересам короны никогда не ставилась под сомнение. Его хитрость и не всегда щепетильные методы ведения дел полностью отвечали требованиям главы рыцарства, хорошо усвоившего, что прежде всего королю необходимо тщательно контролировать доходы. По возвращении в свое королевство Эдуард назначил Роберта канцлером вместо старого советника своего отца Уолтера де Мертона. Он также даровал канцлеру епископство Батское и Уэлское, и, в пику папе Римскому, намеревался сделать его архиепископом.
Осыпанный королевскими милостями, Бернелл был только одним из многочисленных клерков короны. Как и его прадед, Эдуард учредил целый институт чиновников, полностью зависящих от его расположения и покорных его воле. Они занимали посты хранителей и ревизоров, казначеев и секретарей, судей, податных чиновников и комиссаров, временных советников в условиях постоянно расширяющихся дел государства, чьими северными пределами были горы Чевиот Хилс, а южными – Пиренеи. Имена более чем сотни чиновников занесены в официальные списки: это такие люди, как Джон Керкби, архидьякон Ковентри, важный судебный чиновник и барон казначейства, которого Эдуард назначил своим казначеем; Уильям Лаутский, личный казначей, а потом и хранитель «гардероба», который заслужил доверие короля еще в юности, когда тот в качестве заместителя своего отца управлял Гасконью; Энтони Бек, его секретарь; Джон Ленгтон, который сменил Бернелла на посту канцлера, и еще более важный его тезка, Уолтер Ленгтон, скромный клерк управления королевских имуществ, ставший казначеем и главным советником Эдуарда в последние годы жизни короля. Несколько из таких придворных чиновников начали свою карьеру, закончив Оксфорд и Кембридж[71]; многие изучали гражданское и каноническое право; почти все они были священниками. Однако их интересы в большей мере были светскими, чем религиозными, и они стали предтечами нового класса и новой профессии. В спорах между Церковью и Кесарем они выбирали сторону Кесаря, потому что именно он платил им и обеспечивал повышение по службе. Несколько человек получили епископский сан, включая Бернелла, Керкби, обоих Ленгтонов и двух братьев из знатного рода Беков Ирсбийских, один из которых, Томас, получил диоцез Св. Давида, а второй, Энтони, крупное Даремское епископство. Энтони, известный воин и охотник, построил Элтемский дворец и восстановил зал Даремского замка, где, хоть сам и слыл аскетом, жил в роскоши, разительно отличавшейся от скромности основателя епископата, св. Кутберта.
* * *
Из той же среды – клириков и мирян – происходили юристы, служившие королю в качестве судей или тяжбщиков, в качестве адвокатов или барристеров. С усложнением правовой процедуры королевские судьи перестали быть просто временными представителями, уполномоченными от баронского или епископского суда расследовать частные дела во дворце своего сюзерена. Теперь они стали постоянными королевскими чиновниками. Они до сих пор выполняли множество функций – слушали судебные разбирательства, занимались чисткой тюрем графства на выездных сессиях суда, выступали в качестве присяжных заседателей, надзирали за сбором субсидий и заседали в королевском совете. Некоторые выполняли священнические обязанности, как, например, Джон ле Бретон или Бриттон, епископ Херефордский, который, как считают, написал сокращенное изложение трактата Брактона об английских законах; или же столь незаменимый для Эдуарда Мартин Литлбернский и Ральф де Хенгем, уроженец Норфолка, каноник собора Св. Павла и архидьякон Вустерский, который начал свою официальную карьеру в должности клерка одного из судей Генриха III, а затем стал главным судьей в Суде Общих тяжб и Суде Королевской Скамьи, оставив после себя два важных трактата о процедуре и судебных прениях. Другие были мирянами, рыцарями, местной знатью, или знатоками законов, которые практиковали в качестве юристов в судах, прежде чем сами стали судьями. Из пятнадцати членов Суда королевской скамьи, назначенных во время царствования Эдуарда, семеро были церковнослужителями, а восемь – мирянами, в том числе оба главных судьи, выполнявших свои обязанности в последние годы жизни короля.
Затем следовали атторнеи[72], которые представляли своих клиентов, выполняя данные им приказы[73] и ведя дела по доверенности, а также искусные ораторы, поверенные в делах и барристеры[74] высшего ранга – наследники профессиональных защитников Божьего суда – которые составляли, читали и вели дела, таким образом избавляя просителей от промахов, которые так легко могли допустить несведущие в судебных делах[75]. Ибо правила подачи судебного иска королевским судьям были жестко регламентированы; а юридический язык, разновидность ломаного французского, перемешанного с латинским, предназначенный обеспечивать предельную ясность закона, был фактически недоступен мирянам для понимания. В то время, когда Эдуард вступил на престол, общее право – право королевских судов, общее для всей страны, – разрабатывалось уже более века. Опираясь в теории на древний корпус неписаного обычного местного права, на которое оно наложилось, постепенно вытеснив его, это право было детищем первого Плантагенета и сведущих юристов, которым он, его сыновья и внук вверили свои судейские полномочия. Их целью было привести в порядок жизнь государства после анархии гражданской войны и подчинить юрисдикции центрального королевского суда все серьезные преступления: насилие и лишение фригольда, являвшегося формой достатка, от которого зависела политическая организация феодального государства. Профессиональные юристы осуществляли это на практике, возлагая на представителей каждого графства, округа и прихода ответственность за доставку подозреваемых преступников на выездные сессии суда к королевским судьям, а также предлагая лишенным собственности возмещение ущерба более надежное, справедливое и быстрое, чем то, которое они могли бы получить в местных судах графства или же под частной юрисдикцией феодального общества. Вытесняя старые методы Божьего суда, испытания огнем и водой и компургации (снятия с себя обвинения путем принесения клятвы), более разумным и гуманным способом – допросом соседей, проводимым под надзором профессиональных юристов, новые законы позволили по-новому открывать истину. Вся законодательная практика была коренным образом изменена посредством власти короля, отдавшего приказ своим шерифам собирать присяжных заседателей из числа местных фригольдеров, чтобы они отвечали в соответствии со своей корпоративной правоспособностью на вопросы права или факта, предложенные им в суде королевскими судьями.
В Англии, единственной среди феодальных королевств Европы, стало установленным законом то, что ни один человек не должен отвечать перед своим фригольдером без королевского на то предписания, и ни один процесс, затрагивающий проблемы свободного владения землей, соответственно тоже не мог бы быть начат без него. Любой лишенный своего имущества или не допускавшийся к своей земле фригольдер мог купить у клерков канцелярии приказ, адресованный шерифу[76] его графства, побуждавший того призвать человека, лишившего истца наследства, дабы тот предстал перед лицом закона. Число таких приказов[77] – novel disseisin[78], mort d'ancestor[79], darrein presentment[80] – постоянно увеличивалось, чтобы надлежащим образом охватить все мыслимые вопросы, связанные с распоряжением свободной землей. Формы подачи исков и процедуры искомых индивидуальных средств судебной защиты должны были, вплоть до мельчайших деталей формулировки, подвергнуться тщательному контролю со стороны как истца, так и ответчика. Насколько это было важно, можно увидеть из защиты, построенной от имени епископа Личфилдского по предписанию darrein presentment, затрагивающего право «представления на приход» Чеширской церкви. Из-за пропущенных слов «который мертв», иск не мог быть удовлетворен, если бы не «некий Джон Уэттенхольский, который находился среди судей. Он заявил, что граф Ранульф[81] предоставил им реестр настоящих предписаний. В этом списке не было и нет таких слов, они до сих пор не использовались в Чеширском суде. Потому как если слова были вставлены в предписание, то, согласно обычаям, из-за дополнения все предписание должно быть аннулировано»[82].
Казначейство усиливало фискальные права короля, Суд королевской скамьи разбирал дела короны и заслушивал апелляции других судов, Суд общих тяжб постоянно заседал в Вестминстер-холле, разбирая, с помощью местных судей из графств, споры между владельцами свободных земель. За ними, подчиняясь королевским приказам, следовали местные суды, образованные по старому образцу и осуществлявшие обычное право в графстве. Самым главным из них был суд графства, который собирался под председательством шерифа раз в месяц на юге и каждые шесть недель на диком севере. Он проходил в некоем священном месте в соответствии с давним обычаем, уходящим корнями в те дни, когда графство было почти независимой провинцией. Его посещали не только истцы и ответчики, но, лично или через посредника, все те, кто держал землю на праве фригольда в графстве, так как они были обязаны присутствовать на нем. Ибо именно на основе англосаксонских и датских законов, давно усвоенных в Англии франкоговорящими королями и лордами, всем свободным людям надлежало «по свидетельству графства» разделить ответственность за отправление правосудия в том графстве, где находились их земли.
При этом огромном стечении соседей, состоятельных людей, собиравшихся под открытым небом или, гораздо чаще, в красивых новых залах разбирательств (такой, например, построил в своем герцогстве в Лостуитиле один из кузенов Эдуарда, Эдмунд Корнуоллский), где зачитывались королевские ордонансы и статуты, чиновники и бейлифы приводились к присяге, проводились дознания об оспариваемых правах, и выездные судьи делали заявления, касавшиеся дел короны, переданных в суд. По ходатайству придворных в судьи выбирались те, кто в соответствии с королевскими требованиями должен был «вести судопроизводство графства» в судах в Вестминстере или в парламенте, а коронеры[83] должны были независимо от шерифа сохранить записи обо всех преступлениях и инцидентах, затрагивающих права короны, а также вести следствие по внезапным смертям, кораблекрушениям и присвоении найденных богатств. Приговор об объявлении вне закона также выносился в суде графства; это касалось тех, кто четырежды уклонился от явки в суд по уголовному обвинению. Хотя работа суда графства постепенно вытеснялась королевскими судами, он до сих пор был компетентен в делах, когда обвиняемый предпочитал подвергнуться старому методу компургации. Иногда также, если ни одна, ни другая сторона не хотела довериться суду присяжных, земельная тяжба могла оставаться в суде графства, и тогда ее разрешали два профессиональных защитника, боровшихся маленькими, рогатыми киркомотыгами до тех пор, пока один или другой не сдастся как «трус»[84].
За судом шерифа следовал сотенный суд[85], собиравшийся раз в три недели бейлифом, которому шериф или владелец юрисдикции сотни передавал на откуп доходы с него. Однако бейлиф, будучи королевским чиновником, нес ответственность перед шерифом или, в особых случаях, непосредственно перед Короной. Суд обычно собирался под открытым небом, истцы – держатели фригольда – сидели на скамьях вокруг стола во главе с бейлифом и его клерком. Суд занимался незначительными делами: исками, касающимися повинностей, связанных с держанием земли, арестами движимого имущества и небольшими долгами, жалобами на увечье скота, личными оскорблениями и ссорами, не доходившими до уровня уголовных. Более серьезные преступления, такие, как воровство или убийство, автоматически передавались шерифом или коронером в королевские суды. Наиболее распространенным преступлением было посягательство – преступление, в котором часто было легче уличить соседа в суде сотни, чем затевать его при жестких ограничениях канцелярского приказа. Сомнительно, например, мог ли Роберт Кайт получить компенсацию в Вестминстере от Стефена Винтера, против которого он возбудил дело в суде округа Мильтон за то, что тот пришел в его сад, сломал ограду и украл его розы «вопреки миру»; или Джон Малкин, который, уверенный в своей правоте, выдвинул обвинение против Мод атте Хайд и ее сына за то, что они колотили его свинью и науськивали на нее своих собак до тех пор, пока те не откусили свинье хвост[86]. Были и другие прошения, касающиеся устных договоров и клеветы, которые королевские суды не могли удовлетворить, но по которым сельские жители могли возбуждать дела в окружных судах.
Дважды в год, на Пасху и Михайлов день, шериф посещал каждую сотню графства – в некоторых крупных графствах, таких, как Норфолк или Йоркшир, было до двенадцати таких округов – чтобы «держать смотр» или уголовный суд. Каждый владелец земли в округе должен был посещать такие суды, в противном случае он подвергался штрафу (исключение после выхода Мальборосского Статута составляли магнаты, как миряне, так и церковники). При объезде или «законном собрании» крестьяне-вилланы, так же, как и свободные люди, играли существенную роль. По англосаксонскому закону, каждый мирянин, не имеющий земли (а она могла быть конфискована за уголовное преступление), должен был принадлежать к десятку – группе соседей, объединенных круговой порукой. Перед ежегодным «смотром» круговой поруки шерифом, как это называлось, бейлиф проверял списки десятков каждой деревни своего округа, вычеркивая имена умерших с прошлой ревизии и приводя к присяге каждого мальчика, достигшего двенадцатилетнего возраста и, таким образом, ставшего в глазах закона дееспособным гражданином. Положив руку на Библию, мальчик должен был обещать соблюдать порядок, избегать воровства и не помогать ворам. «Я буду соблюдать закон, – клялся он, – хранить верность нашему господину королю и его наследникам, подчиняться главе моего десятка, да поможет мне Бог и святые». Затем каждый гражданин платил свою «десятковую деньгу», которая шла на различные судебные взносы и ассизные ренты[87], а также в судебные доходы сотни. В южных и западных графствах она чаще всего принадлежала какому-либо частному лицу, чьему предку или предшественнику это по титулу было гарантировано короной[88].
При объезде шерифа каждый населенный пункт был представлен главным магистратом и еще четырьмя людьми, которые отвечали перед шерифом за каждую оплошность, допущенную ими в общественных обязанностях, например, если не удалось поднять тревогу, когда произошло преступление, или требовалось арестовать подозрительных людей, которые «ходят по ночам и спят днем», а также за такие преступления, как порча главной королевской дороги или казнь вора, пойманного с поличным, без ведома бейлифа или коронера. Также они отвечали за уплату любых штрафов, наложенных на город за нарушения королевских положений о выпечке хлеба и варке эля. Еще им приходилось сообщать двенадцати фригольдерам обо всех преступлениях, совершенных в деревне. Деревня отвечала за незначительные нарушения общественного порядка, как, например, стирка белья в колодцах и загрязнение питьевой воды. Более серьезные происшествия жюри представляло на рассмотрение королевским судьям в следующий приезд. Когда это случалось, простые представители деревни под присягой отвечали на вопросы, заданные им главными должностными лицами короля. Таким образом, в XIII веке цепь закона протянулась от монарха к крестьянину.
Как и его знаменитый прадед, Генрих II, Эдуард отнесся к своим обязанностям очень серьезно. Еще мальчиком он изучал право под руководством Гуго Гиффарда, одного из судей его отца. Когда король неторопливо возвращался домой из крестового похода, он получил степень в школе права в Падуе, а также захватил из Италии в качестве советчика (вероятно, по вопросам церковного или канонического права) выдающегося юриста Франциска Аккур-ского, затем предоставив ему должность в своем совете и устроив в Оксфорд с назначением пенсии. Примером для юного Эдуарда был его дядя, великий французский король Людовик Святой, любивший сиживать под дубом в Венсе-не и вершить правосудие над своими подданными. Его идеалом, так же, как и для всей той эпохи, был искусно уравновешенный баланс между противоречивыми притязаниями, баланс, при котором право каждого человека по отношению к королевскому могло быть установлено, взвешено и проведено в жизнь. Для средневекового сознания, в памяти которого еще не изгладились воспоминания о темных веках варварства, правосудие было величайшим земным благом, отображением божественного порядка в несовершенном мире. Оно не имело ничего общего с равенством, концепцией в то время неизвестной. Суть его была выражена в юридическом трактате под названием «Зерцало судей», написанном, как считается, лондонским торговцем рыбой, занимавшим пост городского казначея. В нем говорится, что «народу следует держаться от греха подальше и жить в спокойствии и принимать право согласно традиции и святому Закону Божию». Целью было общество, в котором каждому человеку закон предлагал мирный способ наслаждаться своими особыми правами. Закон был механизмом, предоставляемым короной для гарантии человеку такой возможности.
Восприятие правосудия у Эдуарда было гораздо более ограниченным и менее альтруистичным, чем у Людовика Святого. Он твердо решил осуществлять правосудие по отношению ко всем, но на самом деле вершил его только в интересах короны. Христианское общество для английского короля держалось прежде всего на феодальной власти – праве, которое должно осуществляться справедливо и твердо и по возможности расширенно. Долг правителя перед Богом и народом, полагал он, – отстоять свои королевские привилегии. Он всегда ссылался на свою коронационную клятву, когда от него требовали поступиться частью своих прав, существующих в действительности или только воображаемых, утверждая, что хранит их для своего народа. Словно подтверждая афоризм своего подданного, Эндрю Хорна, что «закон требует правосудия, а не силы», Эдуард рассматривал его как борьбу, как в старом Божьем суде, когда человек оправдывался, используя каждую уловку. Он сознавал всю суровость такой игры. В хитросплетениях закона, как и на войне, он всегда был на высоте. Его суды были утверждены не только для того, чтобы свершалось правосудие, но и чтобы твердой рукой управлять королевством. Хотя после одной-двух ранних попыток он отказался от мысли о том, чтобы сделать судей представителями своей власти, для этой цели он содержал специальных адвокатов – приставов, чтобы те «просили за короля»; самыми первыми из известных королевских приставов были Вильгельм Джильгемский и Гилберт Торнтонский. Они и его атторней, Ричард де Бретвиль – предтеча современного главного атторнея, – постоянно вели очень много дел. «О, Боже, – написал один из клерков на обратной стороне свитка, где были зафиксировано огромное количество дел, исполняемых атторнеем, – сжалься над Бретвилем!»
Пока Эдуард твердо держался своих собственных постановлений. Он использовал их в личных целях, хотя и уважал их. Его любимый девиз гласил: «Держи слово». И хотя король строго защищал свои официальные права, судьи не боялись отстаивать свою точку зрения по его закону, нежели по его воле. Показателен случай с Главным судьей Хенгемом. В присутствии короля он ополчился на двух своих коллег, поддержавших королевский приказ о вызове в суд, в котором не было точно сформулировано обвинение против ответчицы – одной графини, закоренелой склочницы. «Закон велит, – провозгласил он, – чтобы ни один человек не был застигнут врасплох в королевском суде. Если бы вы поступили по-своему, эта леди могла бы ответить в суде, что ее не предупредили приказом, в чем ее обвиняют. Следовательно, ее необходимо предупредить специальным предписанием, включив в него статьи, по которым ей придется ответить, и это будет по закону нашей земли». Хотя планы короля таким образом были расстроены, он принял протест Главного судьи, добавив: «Я не могу поспорить с вашими доводами, но, клянусь кровью Христовой, вы не выйдете отсюда до тех пор, пока не предоставите мне хороший приказ»[89].
И король, и его подданные все больше и больше считались с законом, что сделало правосудие более доступным в Англии, чем в какой-либо другой стране. Если Эдуард твердо решил добиться своего, то решил найти легальное оправдание этому. Использование неприкрытого насилия, прекрасно устраивавшее варваров, его не привлекало. Правосудие основывалось на христианской вере; и именно потому, что христианство осуждало насилие и кровопролитие, жестокие воины франкского запада пришли к новому праву с его бескровными процессами официальной словесной битвы, вместо решения мечом и пикой. По стандартам своей эпохи Эдуард был истинно христианским королем – справедливым и рыцарственным паладином христианского мира.
* * *
Стремление к правосудию для всех и упрочению своих королевских прав побудило Эдуарда после возвращения в свое королевство к реформам. В воскресенье, 19 августа 1274 года, его короновали в церкви Вестминстерского аббатства со всеми традиционными обрядами христианского королевства. Он поклялся «соблюдать и укреплять законы древних времен, дарованные справедливыми и благочестивыми королями английскому народу» и служить справедливости и правосудию. На следующий день, когда источник в Чипсайде бил вином, а на улицах, устланных коврами, разбрасывались щедрые дары, Эдуард принял оммаж у магнатов королевства, включая короля Шотландии. Когда крупный вассал прибывал в Вестминстер-холл, чтобы преклонить колени перед новым королем, сопровождавшие его рыцари, следовавшие позади него, спешивались и отпускали своих коней на попечение простого народа. На коронационном пиру, длившемся пятнадцать дней, было съедено 400 быков и столько же овец, свиней и диких кабанов, а также двадцать тысяч птиц.
Задолго до окончания пиршества король покинул столицу. Он провел месяц в Виндзоре, проследовав через Суррей, и, после посещения Лондона в октябре, отправился в путешествие по наиболее густонаселенным регионам своего королевства. Его сопровождали судьи, поверенные и атторнеи Королевской скамьи, чтобы рассмотреть местные тяжбы и петиции. Той же зимой он посетил Норгемптон, где пробыл десять дней, Лутон, Фозерингхей, Уорик, Сильверстон и Бракли. Оттуда по пути к Рингвуду и Бьюли он заехал в Вудсток, Мальборо, Эймсбери и Кларендон, а на обратном пути к Кавершему и Эйлсбери – в Бери Сент-Эдмундс и Левенгем. Где бы он ни останавливался, его суд рассматривал дела. Казалось, везде его встречали с энтузиазмом, и Эдуарда тронул радушный прием его подданных.
Короля также взволновали жалобы своего народа. Во время отсутствия Эдуарда королевство управлялось из рук вон плохо. В средневековом государстве без полицейской силы и со слабо развитой исполнительной службой, когда большинство деревень находились в нескольких днях пути от столицы, а зимой были почти полностью отрезаны от центра, коррупция казалась неизбежной. Это, в первую очередь, заставило короля в своем совете издавать новые указы и приказы, кроме того, ему надо было заставлять выполнять их даже своих собственных чиновников. Самое большее, что он мог попытаться сделать, – излечить совершаемые злоупотребления правосудием. А злоупотреблений было много. Шериф и его подчиненные брали взятки, занимались вымогательством, отказывались исполнять приказы или продавали их за чрезмерную цену. И хотя страна, казалось, оправилась после долгих лет баронских раздоров, это было только внешне. Во время гражданской войны множество земель было насильно захвачено. «Когда король Генрих был в тюрьме, – говорилось, – ввиду того, что правитель и глава закона в заключении, сам закон был в заключении»[90]. Защита, данная первым Плантагенетом владельцам земли против лишения собственности, ловко искажалась адвокатами, которые умели сделать уклончивый документ, легализирующий право на собственность человека, насильственно овладевшего имуществом другого. Между соседями, лордами и держателями широко росло возмущение, способствовавшее беспорядку в эпоху, когда люди были скоры на гнев и расправу.
Каждый, начиная с трудолюбивого скромного крестьянина и заканчивая экстравагантным, вечно задолжавшим бароном, казалось, пытался расширить свои права за чей-нибудь счет, воспользовавшись хитросплетениями закона. Если благодаря сильной линии английских королей закон и его утонченная система предписаний заняли место меча, то они использовались с его безжалостностью. Законы были такими расплывчатыми, существовало так много путей, когда человек мог использовать нечестные способы для достижения собственных целей, что возникло нечто, напоминающее легальную гражданскую войну. Лорды огораживали общинные земли, а простые люди ночью разрушали ограды, держатели пользовались отсутствием или несовершеннолетием хозяев, чтобы лишить их повинностей и услуг, лорды использовали опись скота и движимого имущества держателей в обеспечение долга, что часто приводило к разорению последних без права обратиться в суд. Так, член суда Уилтширской сотни Чока докладывал королевским судьям на выездной сессии, что «Ричард, граф Глостера, отец ныне здравствующего графа», главный держатель от короны манора и охотничьих угодий Кранбурна, самовольно засадил лесом просеку Четл и Ферндич и всю землю до города Шефтсбери, до истока реки Наддер, поместив там семерых лесничих, арестовавших людей за преступления «против растений и животных», заставил их явиться в суд в Кранбурне, держал в заключении, пока те не заплатили штраф, мучительно наказал их. Они утверждали, что он взимал cheminage[91]– обычную пошлину за проезд через лес – с людей графства, везущих лес и продукцию на рынок в Солсбери, а его лесничие, «выйдя за пределы охотничьих угодий на десять миль, к большому убытку всего графства», завладели возом хвороста, принадлежащим священнику из Бишопстона, и вьючной лошадью с мальчиком, следующей к воде в той местности, «злонамеренно обвинив священника в краже растений из леса, пока тот не дал им полмарки за собственное спокойствие»[92]. Сообщается о другом случае, когда они набросились на человека в деревне Мартин и, обвинив его в уголовном преступлении, увезли в Кранбурн «и там повесили его без всякого повода, лишь по собственной воле», после чего конфисковали лошадей, быков и серебро его соседей, живших на земле жертвы.
Вскоре после начала своей поездки Эдуард отрядил комиссаров, чтобы разузнать о злоупотреблениях и незаконных захватах, в особенности тех, что затрагивали королевские права и государственные доходы, имевших место во время отсутствия короля. На протяжении зимы они объезжали графства и под присягой брали показания у присяжных каждой сотни, бурга и свободного города. Добытые ими у присяжных сведения, записанные на полосках пергамента из тюленьей кожи, получили название свитки «старьевщика», поскольку висели на них, подобно тряпью старьевщика. Комиссары в изобилии предоставили информацию о противозаконных действиях землевладельцев, шерифов и бейлифов, а также о посягательстве на права короны. Они составляли списки королевских владений, подсчитывали количество его поместий, ценность его «ферм» и рентных доходов, отмечали частные «свободы» или юрисдикции, препятствовавшие беспристрастному правосудию или оспаривавшие его власть, случаи взяточничества чиновников с целью сокрытия уголовных преступлений, притеснения невинных и растраты общественных денег.
В не менее чем девятнадцати графствах Эдуард счел необходимым снять шерифов с занимаемой должности за вымогательства и различные злоупотребления. Власть шерифов была поистине велика, чем они успешно пользовались. Назначенный казначейством и обязанный отвечать перед ним за все пошлины и налоги, что взимались в графстве, шериф также отвечал за всех подозреваемых и заключенных и под страхом сурового наказания должен был доставлять их на суд. В его замке в главном городе графства, где находились канцелярия и архивы, а во дворе стоял целый ряд деревянных клеток для преступников, была чрезвычайно глубокая и зловонная тюрьма, в которой он по своему усмотрению мог держать любого человека. Судебные процессы против королевских чиновников двигались медленно и неясно, к тому же дорого обходились, и, если не вмешивался сам король, обычно редко завершались успешно для пострадавших от их произвола. Угрозами шериф легко мог заставить зажиточных людей платить большие суммы, чтобы избежать заключения в тюрьму, где они могли подвергнуть опасности жизнь и здоровье. Среди обвинений, выдвинутых против шерифов и их подчиненных в ходе зимней ревизии, было и то, что они предъявляли обвинения людям более одного раза за одно и то же преступление, брали взятки, чтобы освободить их, а затем вновь арестовать; препятствовали или не принимали иски, тем самым нарушая право тяжущихся сторон, потворствовали уголовным преступлениям и позволяли людям, обвиненным в них, совершать новые. Шерифов также обвиняли в том, что они скрывали «approvers» [93] – мошенников, которые жили за счет доносов на сообщников или мнимых сообщников – для «завлечения» честных людей для того, чтобы они могли вытянуть штрафы из них. В некоторых случаях чиновников обвиняли даже в использовании пыток.
Обвинения такого рода выдвигались и против бейлифов и бедлей[94] сотен, которые, живя на доходы от правосудия далеко от центрального контроля, испытывали вполне объяснимое искушение использовать закон в личных целях. Одной из их любимых уловок было составлять списки присяжных, а затем брать с них взятки, называемые штрафами, чтобы освободить своих жертв от длительного и дорогостоящего путешествия. С белыми жезлами – символами королевских чиновников – и помпезными грозными манерами, многие бейлифы были настоящими тиранами. Например, один из них «велел всем свободным держателям Хатфилда, числом восемьдесят или более, предстать перед королевскими судьями в Уолтем Кросс, чтобы поприветствовать их на выездной сессии суда, и когда те пришли, сказал им: „Теперь вы знаете, что могут сделать бейлифы государя“, и это было все, что он сделал[95].
Осуществленное в разгар зимы и законченное за невероятно короткие сроки – всего четыре месяца – «изыскание старьевщиков» («Ragman quest») стало выдающимся событием в государственной жизни страны, вторым в средневековых английских анналах после книги Страшного Суда Вильгельма Завоевателя. По огромному числу свитков с висящими печатями, до сих пор сохранившихся в Архиве Государственных актов, можно проследить всю работу членов комиссии, когда они по два-три человека путешествовали по стране, записывая свидетельские показания присяжных. «Мы приказали нашим шерифам, – гласят слова их послания, – предстать перед вами в назначенный день в назначенном месте, в котором им будет предписано, а много хороших и законопослушных людей из их округов могут подтвердить достоверность вышеизложенного»[96]. Клерки записали ответы присяжных, затем вновь прочитали, запечатали и представили королю как точный отчет о работе правового аппарата на низшем уровне и о злоупотреблениях, с которыми Эдуарду придется бороться, чтобы восстановить правосудие и порядок. В некоторых случаях предпринимались попытки угрозами помешать работе членов комиссии. Один йоркширский бейлиф, Гильберт Клифтонский из вапентека[97] Стейнклифф зашел так далеко, что угрожал самим членам комиссии. В отчете говорится: «Он использовал самые гнусные слова против Уильяма де Чаттертона, судьи, которому предписывалось провести дознания, потому что последний велел присяжным округи без страха говорить всю правду... Гильберт сказал, что если бы он присутствовал, когда было сделано это объявление, то он бы стащил судью за ноги, и, прежде чем закончился год, судья мечтал бы лучше лишиться всех своих земель, нежели быть комиссаром»[98].
Весной 1275 года, как только отчеты членов комиссии были систематизированы чиновниками канцелярии и королевскими судьями, Эдуард созвал свой первый парламент, или великий совет, и государственный суд. Это была официальная выездная сессия суда или следствие, ведущееся по всему королевству. На нее были созваны магнаты, как миряне, так и церковнослужители, – главные держатели: графы и бароны, архиепископы, епископы и аббаты – и, через шерифов, по четыре избираемых рыцаря-представителя, «рассудительных в применении закона», из судов каждого графства и по четыре купца или горожанина из городского собрания или городского суда каждого крупного города. Они должны были явиться невооруженными, и, находясь под покровительством короля, во время парламентской сессии были ограждены от обычных правовых процессов. «И потому что выборы должны быть свободными, – начинается предписание шерифам, – король приказывает под страхом крупного штрафа, ни силой оружия, ни злобой, ни угрозами не чинить препятствия осуществлению свободных выборов»[99].
Узнав благодаря проведенному дознанию, что неладно в королевстве, Эдуард решился на крупные перемены. Для этого ему были необходимы свидетельства и поддержка подданных. Король, желавший оставить древние традиции нетронутыми, не нуждался в одобрении народа; но тот, кто стремился к подлинному правосудию и реформам, не мог обойтись без него. В эпоху Средних веков существовавшие законы рассматривались как божественные и неизменные, а значит, никто не мог изменить их по собственной воле. Хотя в праве короля было действовать, приказывать и судить, древние законы оставались общественным достоянием, которые ему надлежало беречь и проводить в жизнь [100]. Королевские указы часто имели силу закона лишь до тех пор, пока король сам мог следить за их выполнением. Если указы противоречили обычаю, после смерти короля ими могли пренебрегать или вовсе забыть. Даже в Англии, где полномочия местных властей были гораздо более строго подчинены государству, чем на континенте, королевское слово было законом только в период его жизни. И хотя первое время после смерти Генриха III право престолонаследия не подвергалось сомнению, концепция непрерывной суверенности, принявшая форму идеи бессмертности короны, внедрялась в умы людей.
Если общество должно было развиваться, власть, ассоциировавшаяся с короной даже более прочно, чем с жизнью короля, нуждалась в том, чтобы запечатлеть одобрение важных изменений закона народом. В эпоху изолированных и локализованных сообществ тенденция к застыванию традиций была камнем преткновения на пути короля-реформатора. «Nolumus leges Angliae mutari» – «Мы не желаем, чтобы законы Англии менялись» – ответили бароны Генриха III на Мертонском совете на заявление епископа Гросстеста о более гуманном отношении к детям, родившимся вне законного брака.
Эдуард не мог переступить через эту традиционную косность просто изобретая многочисленные предписания и директивы своим судьям, как это делал его прадед, Генрих И. Человек весьма практичный, он искал другие пути достижения своих целей. Помочь ему в этом могли сессии парламентов magnum consilium – большой совет и суд королевских чиновников и судей, главных держателей, прелатов и магнатов, – которые его отец под давлением собирал для «беседы и угощения» и которым, в последние годы жизни, он все чаще направлял огромное количество петиций и апелляций, адресованных короне, от тех, кто не мог добиться правосудия в обычных судах[101]. Вышедшие из официальных заседаний англо-нормандской Королевской Курии, собиравшейся на Пасху, Вознесение и Рождество, а также, видимо, из еще более ранних англосаксонских витанов или собраний «мудрых людей», эти собрания стали называть парламентами в честь подобных национальных собраний при французском дворе, проводимых дядей Эдуарда, Людовиком Французским. Но в Англии эти парламенты, тесно связанные с более регулярными судами, в которые они часто направляли петиции, стали явлением гораздо более характерным и общим, чем их двойники в других странах Европы. Причиной этого частично стала финансовая расточительность Генриха III и ставшая результатом этого необходимость совещания со своими подданными, частично – передача королевских полномочий уважаемым людям регионов, например, рыцарям графств, которые время от времени собирались на его парламенты, чтобы под присягой отвечать на вопросы. Во время гражданской войны, когда Англией от королевского имени правил де Монфор, он даже призвал на один парламент представителей купеческой общины или привилегированных городов. И после Ившема Эдуард, в качестве наместника своего отца, продолжал созывать рыцарей и представителей бургов, когда помощь местных общин по каким-то особым причинам казалась целесообразной.
Ордонанс или решение, данное королем, скрепленное печатью и публично засвидетельствованное и одобренное парламентом высшего совета и суда страны, могло, таким образом, получить больше поддержки, чем простое обязательство. И в последние годы жизни Генриха III, когда сначала бароны-реформаторы, а затем молодой Эдуард управляли страной, королевские постановления, выпущенные в ходе работы парламента, не просто определяли границы закона и выносили решение на высшем уровне, но, отвечая нуждам эволюционирующего общества, реформировали его. В Оксфордских провизиях 1258 года бароны постановили, что парламенты должны «добросовестно давать советы королю относительно управления королевством... и исправить и возмещать все то, что они найдут нужным возмещать и исправлять»[102]. Под угрозой банкротства и гражданской войны большой совет государства частично взял на себя законодательную власть. Попытка де Монфора сделать такую власть независимой от короны потерпела неудачу, так как в это время в монархическом государстве она была обречена на провал. Но в Мальборосском Статуте 1267 года Эдуард, от имени своего отца, узаконил баронские реформы последнего десятилетия официальным государственным актом короны, выпущенным в парламенте под большой печатью и зарегистрированным в письменной форме, как постоянная государственная запись. Таким образом он придал королевским решениям, разрешившим разногласия гражданской войны, прочную законность, которую, несмотря на не вызывающее возражений королевское право утверждать закон ордонансами, они вряд ли смогли получить каким-либо иным образом. С этого времени на такие статуты, как их стали называть, ссылались в королевских судах. Как Великая Хартия они стали частью жизни народа.
Когда после своих длительных, напряженных и неохотно предпринятых поездок магнаты и уполномоченные местных общин встретились с королем и его советом в Вестминстере, им был преподнесен документ, набросанный королевскими судьями на французском – языке рыцарства, – и зачитан им канцлером Бернеллом. Его целью было определить границы, очистить и там, где необходимо, реформировать закон. «Так как, – говорится в преамбуле, – наш господин король имеет большое рвение и желание улучшить состояние своего королевства в тех делах, в которых требуется улучшение для общей пользы святой церкви и королевства, и так как святая церковь находилась в плохом состоянии, и прелаты и духовные лица этой страны терпели много обид и с народом обходились иначе, чем это следовало, и мир плохо поддерживался, и законы не выполнялись, как следовало, и преступники карались слабее, чем положено, благодаря чему народ не боялся нарушать законы, – король установил и издал вышеуказанные постановления, которые он считает необходимыми и полезными для всего королевства»[103].
Пятьдесят одна статья этого королевского постановления в парламенте охватывает все сферы жизни государства. В них простым, почти разговорным языком изложены официальные меры против тех крупных злоупотреблений, которые королевские уполномоченные выявили во время своей зимней ревизии. Как и Великая Хартия, они начинаются устранением злоупотреблений против Церкви – что касалось каждого. Указ запрещал лордам злоупотреблять церковным радушием: без приглашения вставать на постой со своими слугами в домах, принадлежащих церкви, забирать силой зерно, рыбу в прудах или охотиться в ее парках без разрешения. Не позволялись различные формы продажности и притеснения, широко практикуемые шерифами, неправедными судьями и бейлифами, налагаемые взыскания на тюремщиков, охранявших преступников, делавших непомерные деньги на заключенных. Также были ограничены права владельцев береговой полосы на грузы кораблей, потерпевших крушение на их землях[104] – знак растущей важности коммерции – и совершенно отменили их в случае, когда корабли терпели крушение на земле, принадлежащей короне.
Даже более важны были провизии, защищавшие права владельцев и арендаторов земель – главного источника средств к существованию большинства англичан. Не менее тринадцати статей связано с мерами, доступными людям в спорах о собственности. Статут пытался восстановить в правах тех, кто во время гражданской войны был насильно лишен собственности, и предотвратить получение легальных прав на собственность хитростью вступивших во владение ею. По настоянию судей ассизов, постоянно сталкивавшихся с одной и той же проблемой, новый закон был непреклонен по отношению к тем, кто провозглашал обязательства и повинности, на которые не имел права, арестовывал скот до тех пор, пока жертвы, опасаясь полного краха, не уступали несправедливым требованиям[105]. Шерифов направляли, даже когда дело касалось личных привилегий, привести в исполнение приказ о возвращении владения движимой вещью – законный ответ на принудительную опись имущества в возмещение долга, которым захваченное имущество возвращалось владельцу в ожидании судебного разбирательства. Им были даны полномочия призвать местных жителей выступать против тех, кто игнорировал такие приказы и сравнять с землей их пастбища и замки.
Целью этого реформаторского кодекса было сохранить, хотя и ценою больших изменений в обычном праве, права обеих сторон – лордов и держателей – против тех, кто воспользовался преимуществом смутного времени, захватив что-либо нечестным путем. Дети, находившиеся во власти опекунов, таким образом, были защищены от тех, кто отчуждал их имущество; а также были зафиксированы весьма разумные суммы для феодальных платежей и повинностей на каждом уровне земельной иерархии. Так, «помощь», которая могла быть взыскана с рыцарского держания, когда лорд посвящал в рыцари своего старшего сына или выдавал замуж свою старшую дочь, теперь определялась 20 шиллингами (примерно 50 фунтов по современным меркам). Такие платежи, как было установлено, должны были собираться только тогда, когда сын лорда достиг возраста 15 лет, а дочь – семи. Идеал защиты специальными средствами истинных прав каждого человека в соответствии с его статусом пронизывал все нововведения. Выработанный практикующими судьями, он отражал уже зафиксированное в английском праве предпочтение конкретных мер абстрактным принципам.
Копии акта – «новых правил и статутов... предписанных для блага государства и облегчения жизни народа», известные как первый Вестминстерский статут – были разосланы, подобно Великой Хартии Вольностей, всем шерифам. Он был оглашен в судах каждого графства, сотни, города, бурга, и всем судьям, шерифам и бейлифам было приказано проводить его в жизнь[106]. Это было первое звено в длинной цепи парламентских статутов, введенных Эдуардом в большом совете в присутствии собравшихся магнатов и представителей народа. Такие статуты как изменяли общее и обычное право, так и становились его частью. Они получали свою силу не только от устно передаваемого обычая, но и из письменных документов, выпущенных с королевской печатью и сохраненных в свитках или регистрах парламента, которому до конца своего царствования Эдуард приказал собираться в Вестминстере. Переписываемые адвокатами в свои руководства, ставшие неотъемлемой частью оснащения любого практикующего юриста, они цитировались в судах и принимались судьями как подтверждение закона.
* * *
Парламент, который Эдуард собрал в Вестминстере весною 1275 года, был призван не только для того, чтобы одобрить предложения короля по реформированию законодательного процесса. Он был созван и для утверждения нового вида залога. С изменениями в земельной и экономической структуре страны большинство старых феодальных источников дохода приходило в упадок, а король, поддерживая растущие финансовые потребности государства, нуждался в новых и дополнительных платежах. Он вернулся из крестового похода, глубоко увязнув в долгах, и вынужден был занять под высокие проценты денег у североитальянских купцов-банкиров. Частично он желал их выплатить, что и заставляло его так внимательно изучить права и требования короны по отношению к своим держателям и должникам.
Шестьюдесятью годами ранее Великая Хартия запретила сбор дополнительных платежей с земли без согласия собрания магнатов, которых всегда было трудно заставить раскошелиться. В поисках нового дохода корона вынуждена была все больше обращаться к налогу на движимое или личное имущество, которое не имело такой неприкосновенности как земля в глазах правящего класса. Его главным обладателем в налоговом отношении являлись купцы городов, которые владели хартией, мастера, производящие обивочные ткани, и экспортеры шерсти, которые на протяжении последнего столетия создавали с помощью своих стад новую форму народного благосостояния.
По закону, король не был обязан совещаться с купцами по поводу обложения налогом их товаров. С незапамятных времен феодальные лорды облагали поборами города и рынки своих владений; именно с этой целью они их и основывали. Но времена изменились, и купцы больше не являлись беспомощными, полусвободными вилланами, какими они были до того, как феодальная знать Европы благодаря крестовым походам познакомилась с роскошью Востока. В то время как Генрих III настаивал на своем праве облагать их налогом по собственному волеизъявлению, почему они и вынуждены были перейти в стан мятежников, Эдуард уговаривал торговцев столицы и юго-восточных портов, осознавая их власть, проистекавшую благодаря контролю над наличностью и кредитом. Он видел, что свободно заключенные соглашения, по которым купеческая община брала на себя ответственность за свои налоги, вероятнее всего, оказались бы более ценными для короны и в элементарных административных условиях того времени обеспечили бы более верный доход, чем любое силовое принуждение.
Именно это заставило Эдуарда последовать за революционным прецедентом де Монфора и призвать в свой первый парламент прокторов или представителей всех городов, бургов и «купеческих поселений». Король не приглашал их принять участие в спорах по поводу новых земельных законов – дел, которые не касались их, – но позволил им даровать ему долю увеличивающихся торговых доходов, которые его сильное правление и мудрая внешняя политика помогали создать. Он уже извлек выгоду из переговоров, которые вел по их просьбе незадолго до своего возвращения в Англию, со своим старым боевым товарищем по крестовому походу, графом Гаем де Дампьером, о том, чтобы положить конец трехлетнему эмбарго на экспорт шерсти во Фландрию – основной рынок сбыта сырья. В обмен на установленную пошлину в половину марки или 6 шиллингов 8 пенсов за каждый мешок экспортируемой шерсти и 13 шиллингов 4 пенса на каждый ласт[107] кожи, он теперь предлагал отказаться от королевской прерогативы прямого налогообложения торговой деятельности. Этот жест был одновременно далеко идущим, мнимым и великодушным. «Великая и древняя таможенная пошлина, – как стали называть этот налог, – дарованная по просьбе купцов» и одобренная магнатами, стала источником постоянного таможенного дохода короны[108]. С тех пор он занял свое место в налоговой системе вместе с более старым «корабельным сбором» на импорт вина, помимо феодальных платежей и повинностей, рент с королевских поместий – теперь сильно сократившихся за счет пожаловании предыдущих суверенов – «фирм»[109] шерифов графств и поступлений от судебных разбирательств.
В том же году, на втором парламенте, созванном в Вестминстере на день Св. Михаила и состоявшем из рыцарей графств, так же, как и из феодальных и церковных магнатов, король получил «помощь», заключавшуюся во взимании пятнадцатой части от всего движимого имущества светских лиц. Под руководством Эдуарда стала оформляться новая идея – идея представительства, то есть права тех, кто присутствует, брать на себя обязательства отсутствующих и принимать решения большинством голосов, – это концепция, которая в Англии была впервые введена францисканцами на своих местных ассамблеях[110]. В приказах к шерифам король настаивал на том, что избранные рыцари и горожане должны иметь полную власть поверенного лица, взявшего на себя обязанности своих собратьев исполнить «все, что бы ни было предписано общим советом». Нуждаясь в сотрудничестве со своими подданными, он искал для этого любые средства. Статут Districciones Scaccarii, ограничивавший его королевское право накладывать арест на имущество своих держателей в обеспечение долга, возможно, стал частью сделки между Эдуардом и его лордами. Он также в 1276 году подтвердил Великую хартию Вольностей и лесную Хартию своего отца. Другой королевской уступкой был пожалованный в это же время статут о евреях, ордонанс, имевший своей целью предотвратить получение евреями более половины товаров и имущества своего должника и ограничивающий процентную ставку, теперь они могли взимать только 42 процента в три года. Ненавистные меры, благодаря которым предки Эдуарда получали для казначейства запрещенные доходы от ростовщичества, больше не являлись обязательными, ибо корона, которая до сих пор защищала их, обнаружила, что может получить более верный кредит от итальянских банкиров-купцов. В угоду правоверному островному народу эти когда-то привилегированные, а теперь беспомощные чужеземцы были вынуждены носить отличительный желтый знак на одежде.
Перечень дел английского короля показывает, как много своего времени он посвящал государственным спорам между советниками и представителями народа. Весь май и июнь 1275 года он находился в Вестминстерском дворце – обычном месте собраний, – а затем снова был там в октябре и ноябре. Часть мая и июнь, а также октябрь и ноябрь следующего года он провел там же. Между этими заседаниями парламента, за исключением случайного недолгого пребывания в Виндзоре, двор постоянно путешествовал. Ему приходилось так поступать, и чтобы прокормить себя, используя королевские маноры, и чтобы донести королевский закон и мир до каждого уголка страны, куда путешествие из столицы могло занимать неделю и даже больше времени. Тейм, Оксфорд и Вудсток, Кенилворт, Личфилд, Бертон-на-Тренте, Маклсфилд, Честер и Беркенхед и многие другие отдаленные местечки были посещены двором осенью 1275 года. Той же зимой король останавливался в Рединге и Мальборо, в Уимберне, Джиллингеме, Уоргеме и Кенфорде, в новом цистерианском аббатстве в Биндоне, лежащем посреди Фромских лугов, в Саутгемптоне, Винчестере и Котсволдсе. Следующей зимой он объехал всю южную Англию от Ярмута до Вустера[111]. Неудобство таких путешествий, особенно пересечение утопающих в грязи дорог и рек без мостов, должно быть, было чрезвычайно велико. Поэтому они сглаживались охотой, в том числе соколиной (в Инглвуде в Стаффордширском лесу Эдуард и его спутники как-то убили за день две сотни оленей) и посещениями монастырей, мощей и святых мест. Устраивались также и случайные турниры, подобно великолепному турниру в Чипсайде осенью 1276 года; такого съезда молодых лордов и рыцарей еще никогда не видели в Англии. Но настоящей целью всех этих королевских путешествий являлось установление порядка и объединение королевства. Несмотря на грязь, туман, дождь и снег, этот высокий величественный король, окруженный рыцарями и воинами, судьями и клерками, церемониймейстерами и пажами, оруженосцами, шорниками, кузнецами и шатерничими, объезжал свое королевство, неся образ королевской власти разобщенному сельскому люду.
Глава II ЗАВОЕВАНИЕ УЭЛЬСА
Древний и надменный народ, гордый своим оружием.
МильтонПогибни, лютый царь! – ты смертных стал отравой,
Да трепет, срам твои постигнут знамена,
Которые, гордясь победою кровавой,
Ручаясь воздухом, подъялись как стена.
Ни светлая броня, ниже твой щит блестящий,
От ужасов ночных тебя не оградят;
Внутри тебя вопит глас громкий и разящий,
Что Камбрия тебя в слезах клеймит стократ.
Томас Грей [112]Хотя в Англии быстрый осознанный рост государственности способствовал объединительной политике ее короля, на Британском острове (Альбионе, как его называли) оставались места, на которые не распространялись ни королевская власть, ни закон. Право своих предков, наследников античной Римской империи, на верховную власть над всеми правителями Британии, на которую некогда претендовала династия Вессекса, английские короли так и не реализовали на практике, но никто и не думал всерьез оспорить это право. Однако Эдуард придавал гораздо больше внимания этому притязанию, чем кто-либо из его непосредственных предшественников. Он никогда не разделял желаний отца и деда возвратить себе нормандские и анжуйские вотчины в Северной Франции, хоть и был наполовину французом. За исключением Гаскони, Эдуард жаждал установить свое господство только над Британскими островами. Воспитанный в утонченных традициях легендарного короля Артура и его рыцарей, которых почитали за защитников Британии и римского запада, король считал себя его наследником.
Однако настоящие потомки воинов Артура воспринимали Эдуарда совсем по-иному. Для кельтов западной Британии он был просто королем саксов, которые убивали и грабили их прародителей. Он был сеньором вооруженных французских всадников, которые, научив саксов дисциплине, воздвигли так много английских аванпостов в долинах центрального и южного Уэльса. Для свирепых племен, живших за Северном, каменные замки нормандцев были столь же чужими, как и лагеря римских легионеров тысячелетие назад.
При этом кельтам было чуждо осознание общих интересов, которое нормандские короли и Плантагенеты пробудили в своих английских подданных. Население уэльских и шотландских нагорий до сих пор хранило преданность племенам и их вождям. В низинах Шотландии англо-нормандские бароны, институты и династия способных князей создали в последнее столетие зародыш феодального королевства на незавоеванном полуострове, покрытом торфяными болотами и горными цепями, который римляне называли Каледонией. Наследники пиратских князей, вторгшихся в ее западные пределы из Ирландии, исконных пиктских вождей и мелких кельтских «королей» некогда романизированного юго-запада, преемники короля скотов Кеннета Мак-Альпина дали имя всему этому дикому, пропитанному туманами региону, а вместе с ним и начало сплоченности, прежде неизвестной. За последующие пятьдесят лет они захватили даже поселения викингов в Сазерленде и Западные острова, упрочив свое господство. В период их правления почти полностью прекратились набеги на фермы и монастыри северной Англии. Они вели дружественную политику со своими родственниками и номинальными сюзеренами Плантагенетами и, прикрываясь своим великодушным нейтралитетом, навязали порядок беспокойным племенам земель и островов далекого севера и запада.
В Уэльсе все было по-другому. Разделенные по племенному и династическому признаку и расположенные гораздо ближе к сердцу англо-нормандской военной мощи, его южные и центральные долины были колонизированы вскоре после завоевания нормандскими авантюристами, которые подчинили валлийцев владычеству королей Англии, хотя и не прямому. От верхних областей Северна в Поуис до древних княжеств Дехеубарт и Морганви вдоль Бристольского канала крупнейшие маркграфы – Клэры и Мортимеры, Боэны и Фитцаланы, Браозы, Чеуорты и Гиффарды – правили огнем и мечом, либо с королевского позволения, либо своим умом. С помощью своих замков и рыцарей они господствовали в долинах этих земель, оставляя голые горы, покрытые вереском, кочующим кельтским племенам, занимающимся овцеводством.
Ибо они глубоко проникли только в долины. Вокруг же, как и тысячу лет назад, текла древняя жизнь горной Камбрии – жизнь пастухов и воинов. Горцы жили набегами, разводили овец и крупный рогатый скот. Летом они пасли свои стада на пастбищах на холмах или hafod, зимой – в долинах или hendre. Эта скудно населенная местность была настолько дикой, что паломничество к Св. Давиду по своему риску и трудности приравнивалось набожными англичанами к паломничеству в Иерусалим. Редкие маленькие города ради собственной безопасности жались к замкам маркграфов; церкви, приземистые и аскетичные, занимавшие тактически выигрышные места, напоминали форты. Мелкие племенные «короли» или brenins[113]проводили лето, нападая друг на друга и на саксов, а долгими зимними днями наслаждались балладами бардов, ностальгически воспевавших старые славные времена под аккомпанемент арф. На белых лошадях, с золотыми ожерельями на шеях, окруженные отрядами юных воинов и гордые воспоминаниями о древних победах, они считали «позором умереть в собственной постели и честью пасть на поле битвы». Каждую весну члены клана собирались и шли по затерянным в заоблачной высоте тропам над долинами, чтобы внезапно напасть на поселения вражеских племен или на обособленные английские фермы, как повелось с древнейших времен.
Маркграфы долгое время позволяли валлийцам вести такой древний образ жизни, полный войн и раздоров, не позволявший им объединяться против английских наместников. Только когда власть в Англии была слабой или королевство переживало период раздробленности, валлийцы предпринимали согласованные попытки выгнать англо-нормандских лордов из страны. Но вне своих каменных стен маркграфам редко удавалось взять верх над племенами с холмов. На грабежи и поджоги они нередко отвечали тем же, и так как их собственные фермы тоже были заманчивой добычей для других, все это воспринималось философски. В свою очередь, маркграфы слились с туземной жизнью Уэльса[114]. Они заключали браки с дочерьми местных вождей и нередко вставали на их сторону в племенных стычках. Неудобства, связанные с набегами и сезонными войнами, с лихвой искупались свободой, которой маркграфы наслаждались вдали от изъезженной судьями Англии, творя свой собственный, а не королевский закон. Такой независимостью не пользовался больше ни один лорд в островном владении Эдуарда. Ни одно предписание не вторгалось в их свободы, и ни один призыв не простирался в их суды. Маркграфы содержали собственные армии, чтобы совершать набеги на земли соседей и охранять свои собственные, так же, как Плантагенеты в прошлом сделали феодализм политической смирительной рубашкой для своего воинственного класса.
Точно так же прижились и стали частью жизни Уэльса цистерцианские монахи и их монастыри. Одиночество и аскетизм цистерцианцев напоминали примитивным жителям холмов жизнь их собственных ранних евангелистов. Для валлийцев ХШ века, говорили, аббат-цистерцианец казался Св. Давидом или Св. Тейло, вернувшимся с небес на землю[115]. Несмотря на свою принадлежность к латинской церкви, на храмы, которые строили для них маркграфы и валлийские князья, цистерцианские монастыри в Уэльсе были гораздо ближе к кельтской, чем романской культуре, все более приспосабливаясь к традиционному образу жизни кельтов, для которых личное благочестие и преданность своему племени имели большее значение, чем догма и единообразие международного порядка. Как маленькие Лантвит и Лланкарфан веками были в тени Рима, так Тинтерн и Мергем, Абби Дор и Страта Флорида, Аберконуэй и Балле Крукис в новую эпоху стали творцами церковного великолепия Рима. Пока они формировали центры местной культуры и учености, они также помогали Уэльсу приобщиться к миру христианства и платить за это мирным сосуществованием с более спокойными соседями.
Если бы не случай, вливание Уэльса в англо-нормандское королевство могло бы произойти с наименьшим принуждением, как, например, было с кельтским Корнуоллом. В 1237 году, со смертью последнего наследного графа, корона утратила величайшее из владычеств маркграфов – палатинат Честера, чьей исторической функцией было охранять равнины Чешира и Шропшира от набегов со стороны Сноудонских холмов. Несмотря на официально узаконенное автономное существование, управление Честером перешло в руки королевских чиновников, которые, будучи воспитанными в строгих традициях казначейства и общего права, питали отвращение к освященным временем кимрским обычаям, таким, как кража скота и кровавые междоусобицы. А напротив них, через маленькие поросшие лесом холмы, неопределенного владычества, лежало княжество Гвинед, последнее из древних независимых «королевств» Уэльса, единственное место, где охраняемый обрывами Сноудонии существовал королевский суд Уэльса, корпус валлийского закона, осуществляемого местными судьями, и очаг настроений не только племенных, но и народных.
Веком ранее, после гражданских войн Стефана и Матильды, другое полунезависимое валлийское княжество расцвело на южных берегах Кардиганского залива под управлением Риса ап Груффита, князя древнего рода Тьюдур или Тюдор. Захватив Кардиганский замок у маркграфа Роджера де Клэра, он удерживал его, то противодействуя, то раболепствуя перед Генрихом II, чье превосходство он признавал и чьим наместником себя провозгласил. В 1176 году, на рождественском пиру, он созвал первый зарегистрированный eisteddfod[116], в котором представители каждого региона Уэльса оспаривали право на корону бардов в музыке и поэзии[117].
После смерти Риса его владение распалось, и главенство над местными вождями перешло к наследникам его противника с севера, Оуэна князя Гвинеда. Внук Оуэна, Ллевелин ап Иуорт – Ллевелин Великий, как его называли барды, – воспользовался трудностями короля Иоанна, чтобы захватить территорию маркграфа в верховьях рек Ди и Северна, а позже, став на сторону своих собратьев – главных держателей в Англии, добился уступок у короны. По его настоянию в Великую Хартию вольностей были включены еще три статьи. Одно время он даже захватил Шрусбери и контролировал две трети валлийских земель, вызвав прилив национальной гордости в своих соплеменниках. Однако, сознавая их неисправимую склонность к сепаратизму, он не делал попыток щеголять своей властью и, распределив свои завоевания между мелкими вождями, пожелал царствовать над сердцами своих валлийцев, нежели над их землями. Осознав силу воссоединенной Англии, он принес оммаж за Гвинед молодому королю Генриху III и прожил остаток своих дней в мире и спокойствии[118].
Внук князя, Ллевелин ап Груффит, после многих превратностей судьбы, стал лордом Гвинеда. Он также воспользовался раздорами в Англии, чтобы утвердить свой сюзеренитет над валлийскими вождями Поуиса, захватить оплот Мортимера в Буилте в верховьях реки Уай, опустошить со своими свирепыми копьеносцами кантрефы[119] Перфетвлада, как назывались феодальные поместья короны в спорных прибрежных землях между Честером и Гвинедом. Но, вступив в очень близкие союзнические отношения с де Монфором, он послужил союзу графа королевской крови Честера, принца Эдуарда с другими маркграфами. После свержения де Монфора они заставили Ллевелина заключить мир с королем Генрихом, который в обмен на оммаж и военную службу признал его власть над Гвинедом и выбранный им самим титул князя или пендрагона Уэльса. С тех пор господство Англии опять приобрело вес, и маркграфы, решив предотвратить дальнейшие набеги с севера, строили новые, еще более укрепленные замки, такие, как могущественный Карфилли, который Гилберт де Клэр, рыжий граф Глостера, воздвиг возле Кардиффа в последние годы правления Генриха.
Князь Гвинеда и английский король, однако, были старыми противниками. Ллевелин, чей отец был убит при попытке бегства из Тауэра, наслаждался своим триумфом над англичанами, когда Эдуард был еще зеленым неопытным юношей. Он возмущался тем, что Эдуард имел верховную власть, и считал себя сюзереном всех местных валлийских вождей, чью преданность он всегда стремился обернуть в свою пользу. Еще более яростно он возмущался любым официальным контролем со стороны Вестминстера, Честера или Шрусбери не только над его родными скалистыми пространствами Сноудонии и Англзи – где по географическим причинам его никогда и не было, – но над спорными пограничными землями в марках.
Эдуард не собирался лишать Ллевелина того, что по закону ему принадлежало. Но он был феодальным королем, воспитанным в традициях сильных феодальных прав и обязанностей. Он считал князя Гвинеда валлийским эквивалентом англо-нормандского графа. По древним законам и священному договору, заключенному после баронских войн, Ллевелин должен был принести ему оммаж и быть верным вассалом. И в английском варианте феодализма всякая власть феодального лорда под юрисдикцией короны влекла за собой подчинение Общему праву, за исключением случаев, когда были гарантированы четко оговоренные свободы. У Эдуарда поперек горла встало притязание князя не просто на феодальные свободы, какими обладали его предшественники или маркграфы, но на полностью самостоятельное правление, как в Шотландском королевстве, которое под номинальным сюзеренитетом английских королей было независимым с незапамятных времен.
Но Ллевелин стремился стать властелином не только Гвинеда, но и всего Уэльса. Вскормленный песнями бардов и глубоко убежденный в праве своих соотечественников на государственность, он выразил свое требование в письме Эдуарду в 1273 году, после того как королевские власти не позволили ему построить замок на его собственной земле в марках возле Монтгомери. «Мы уверены, – писал он, – что предписание вышло без Вашего ведома, ведь если бы Вы находились в королевстве, оно бы не вышло, так как Ваше Величество хорошо знает, что права нашего княжества полностью независимы от прав вашего королевства... и... что мы и наши предки имели право в пределах наших границ строить замки и форты, создавать рынки без чьего-либо разрешения или уведомления о работах. Мы умоляем Вас не слушать злых советов тех, кто старается настроить Вас против нас»[120].
Это была неизбежная реакция валлийского вождя на попытку централизованного контроля: реакция, которая должна была пробудить раздражение короля-реформатора, имевшего страсть к законодательным дефинициям и законодательному единству. Оба хотели чего-то нового: Ллевелин – господства над независимыми валлийцами, Эдуард – управления сплоченной страной. Естественно, встревоженный строительством замков маркграфов, угрожавших его власти, Ллевелин пожелал видеть не только Гвинед, но и свои новые фьефы в марках, под охраной собственных замков. Но теперь нормой английского закона стало то, что право вассала на строительство военной крепости должно быть разрешено королем.
Вскоре после коронации Эдуарда, которую Ллевелин не смог почтить своим вниманием, возникли новые разногласия. Брат последнего, Давид, замышляя заговор с целью свергнуть Ллевелина с престола, прибыл в Англию вместе с крупными валлийскими вождями спорной границы марки Поуиса. Вместо того чтобы отослать их обратно к Ллевелину, дабы тот наказал злоумышленников, королевские чиновники, утверждая, что дело должно быть расследовано по закону, позволили им укрыться в Шрусбери. Для Ллевелина казалось очевидным, что Эдуард потворствовал этой измене, чтобы мятежники могли строить против него козни на земле Англии. Пока их не препроводили обратно в земли Уэльса, князь решительно вел разговоры о том, стоит ли приносить оммаж господину, который так гнусно предал своего собственного вассала.
Английский король же держался х завидным самообладанием. Единственный из его главных держателей Ллевелин отказался принести оммаж при вступлении Эдуарда на трон. По феодальному праву подобное неповиновение каралось конфискацией фьефа. Прождав еще год, после того как князь проигнорировал и дальнейшие вызовы в Вестминстер, Эдуард предложил ему встретиться в Честере, гарантировав безопасность. Для этой цели, а также для совершения поездки к реке Ди, Ллевелин собрал собственный парламент из своих вассалов, чтобы те одобрили его отказ. Он объявил, что, прежде чем встретится с королем, Эдуард должен предоставить ему в качестве заложников своего старшего сына, канцлера Бернелла и маркграфа Глостера.
Даже это требование не вывело Эдуарда из себя. Расходы на уэльскую кампанию казались ему слишком обременительными, к тому же он был занят реформами в королевстве. Поэтому единственным выходом для него было выяснить отношения с Ллевелином. Трижды он требовал от валлийского князя принести оммаж: в Вестминстере в ноябре 1275 года, в 1276 году в Винчестере на новый год и на Пасху снова в Вестминстере. Это характеризует привычку короля ставить точку над i: он отныне предлагал места для встреч не на валлийской границе, но в самом сердце Англии.
Это вызвало еще большее негодование Ллевелина. Он вновь отказался от встречи, настаивая на условиях, на которые не мог согласиться ни один король. Князь обратился к папе за правосудием, обвиняя короля в укрывательстве валлийских изменников, и, чтобы подчеркнуть разрыв между ними, послал во Францию за дочерью Симона де Монфора, с которой десятью годами ранее, когда они подняли мятеж против короны, заключил брачный договор. Это было уже двойное оскорбление феодального закона, не только потому, что Элеонора де Монфор была дочерью предателя, но и потому, что, принадлежа королевскому дому, она не могла выйти замуж без позволения короля. Случайно корабль, на котором она со своим братом плыла в Уэльс, был перехвачен в Бристольском канале, и Элеонора стала пленницей Эдуарда. С этого времени ее освобождение стало еще одним условием Ллевелина для принесения оммажа.
В парламенте на пасху 1276 года прелаты попросили у короля разрешения в последний раз обратиться к упрямому валлийцу. К Ллевелину послали ученого монаха, и лето прошло в бесплодных переговорах. Когда новый парламент собрался в ноябре, ни его члены, ни сам Эдуард не были настроены на диалог. Они согласились, что неповиновение валлийца должно быть наказано, и что королю следует «обращаться с ним как с бунтовщиком и нарушителем общественного спокойствия». Маркграфам было приказано находиться в состоянии войны, и феодальное войско собралось, чтобы встретиться в Вустере в середине лета 1277 года. Архиепископ Кентерберийский – глава епархии, в которую входил Уэльс[121], – также послал предупреждение Ллевелину, угрожая отлучить его от церкви за неподчинение.
Ллевелин отреагировал на отлучение так же, как и на приказы короля. Англичане никогда не завоевывали Гвинед ни до, ни после завоевания нормандцами, поэтому для храбрых полуварварских вождей было естественным рассматривать эту землю непокоренной. Ее правитель не рисковал, отвергая собственного господина. Он был князем гор и горных племен, презиравшим английское войско. Его предшественники отстояли свою землю от притязаний Генриха Плантагенета, короля Иоанна, а позже и молодого Эдуарда. Ллевелин всегда мог укрыться в неприступных горах, чтобы нападать из засады на захватчиков, с трудом пробирающихся по лесным теснинам, или, скрывшись в туманах среди обрывов, измотать их, вынудив к отступлению. Вдохновленный пророчествами легендарного Мерлина, он даже мечтал выдворить их из Британии и, подобно своим романским предкам, править всем островом. Победы его деда, да и самого Ллевелина во время баронских войн, внушили его живому, восторженному уму, что под его командованием кимры могут сделать то же самое, что в свое время удалось нескольким тысячам нормандских рыцарей.
Хотя они никогда не могли удержаться от стычек друг с другом, валлийцы были превосходными воинами. Война была их основным занятием и формой воспитания. По валлийскому обычаю шесть недель каждого лета они проводили в набегах и, пока хватало сил, были готовы явиться на службу по первому зову вождя. В отличие от англичан, они не зависели от сельского хозяйства и сбора урожая, так как привыкли жить в тяжелых условиях и путешествовать налегке. Пищей валлийцам служили сыворотка и сыр от горных коз, им не нужна была система продовольственного снабжения. Именно одно из племен в горах на юге создало новое, наводящее ужас оружие: длинный лук Гвента, «сделанный из дикого вяза, неотполированный, тугой и неуклюжий»[122], стрелы которого летели дальше, чем из арбалета, и способны были пронзить насквозь кольчугу, латные штаны и седло рыцаря, пригвоздив его к лошади. Внезапно устремляясь под звуки боевого рога вниз в горную долину или по склону холма, вооруженные дротиками или мечами валлийцы приводили в замешательство всех, кроме самых смелых. Встречая сопротивление, они, однако, быстро теряли все свое мужество, но быстро восстанавливались после поражения и вновь били своих победителей. Приземистые, закутанные в алые пледы, с мускулистыми голыми ногами, способные жить под открытым небом в самый разгар зимы, воины казались невосприимчивыми к холоду, как и скалы, окружавшие их, когда они лежали в засаде. Нехоженые места, туманный климат, снег и ливни делали почти невозможной любую продолжительную кампанию против них. Одна за другой карательные экспедиции английских рыцарей заканчивались тем, что они возвращались истощенными, лишившись лошадей и с пустыми руками после нескольких месяцев, проведенных в этой бесплодной земле.
«Горестна та война, и тяжело ее вести Ибо когда везде лето, в Уэльсе – зима», –с горечью писал англо-нормандский поэт.
Однако Ллевелин забыл, что времена изменились. В правление нового короля Англия больше не была раздроблена, как в дни де Монфора. Все ее усилия теперь были направлены на то, чтобы подчинить Гвинед; запись суда Королевской скамьи гласила: «Шериф не возвратил ни одного приказа, ибо господин король был вместе с армией в Уэльсе, и судьи не рассматривали дела». И Эдуард уже не был тем желторотым юнцом, который боролся с валлийцами двадцать лет назад. Он стал прославленным полководцем, которому доводилось стоять во главе армии всего христианского мира и соперничать со своим знаменитым дедом – Ричардом Львиное Сердце. В отличие от дилетанта отца, Эдуард был настоящим профессионалом.
Его приготовления к грядущей кампании не оставляли валлийцам ни единого шанса на победу. Зимой и весной 1277 года, когда маркграфы перешли в наступление против сторонников Ллевелина в Поуисленде и Кардиганшире, Эдуард собрал английскую армию не только самую многочисленную со времен Завоевателя, но и отлично экипированную. Во Францию отправились посредники для покупки огромных боевых коней[123], которые могли бы понадобиться в качестве запасных для всадников из придворной гвардии. Благодаря феодальному призыву почти тысяча тяжеловооруженных всадников пришли на помощь маркграфам пограничных земель Уэльса. Но большую часть армии Эдуарда составляла пехота. Воины прибыли из Чешира, Ланкашира и Дербишира, Ратленда, Шропшира и Вустершира, Раднора и Брекона. Одни были мобилизованы военными комиссарами из ополчения или posse comitatus, другие были добровольцами, рекрутированными по контракту ветеранами, сражавшимися под командованием Эдуарда еще во времена баронских войн или участвовавших в крестовом походе, как, например, Реджиналд де Грей и Отто де Грансон, нортумберлендцы Джон де Вескп и Роберт Тибтот, которых за преданную службу король позже назначил юстициариями Южного Уэльса. Всего около 15 тысяч пехотинцев были собраны вместе, и более половины из них являлись валлийцами. К ним Эдуард добавил небольшое число профессиональных арбалетчиков, в основном гасконцев, и лучников из Маклсфилдского леса.
Правда, эта армия не имела надлежащего опыта, поскольку со времен Ившема прошло двенадцать лет и лишь немногие юные англичане, жившие за пределами марок, принимали участие в военных кампаниях. Но ими командовал человек, который был величайшим военным организатором эпохи, прекрасно знавшим, что необходимо для боевых действий на бесплодной земле. Ему потребовалось время, так как для успеха надо было иметь под рукой в полной готовности все, что необходимо. Эдуард поставил перед собой задачу, которую никто до него не мог решить: не просто загнать валлийцев в горы, что было сравнительно легко, но удерживать их там до изнурения, пока те не сдадутся. До сих пор такое происходило с теми, кто смел вторгнуться в пределы Сноудонии: полностью истощенные они прекращали борьбу. На этот раз, организовав серьезную систему продовольственного снабжения и подготовив обозы, Эдуард намеревался проделать то же самое с защитниками.
Задолго до того, как он был готов атаковать, стали очевидными две вещи. Первая – возрастающая сила Англии под его руководством, вторая – разобщенность валлийцев. Когда Пейн де Чеворт, хозяин Кидуэлли и хранитель королевского «снаряжения» на юго-западе, двинулся против союзников Ллевелина в Кардиганшире, а Роджер Мортимер и маркграфы – против его вассалов в центральном Уэльсе от истоков реки Ди до истоков Уска, Таффа и Тауви, тысячи «сочувствующих» валлийцев присоединились к англичанам. К лету 1277 года все завоевания Ллевелина за пределами княжества были утрачены. Остался только центр – не завоеванный Гвинед.
В начале июля король принял командование над войском в Вустере. Сопровождаемый наследным констеблем, графом Херефорда, маршалом графом Норфолка и братом Ллевелина Давидом, Эдуард проследовал по Северну и Ди к Чеширу, где, чтобы испросить благословения для задуманного, он заложил фундамент нового цистерцианского аббатства в Вейл-Ройа[124]. Он намеревался двигаться поэтапно вдоль побережья от Чешира до Флинта, Рудлана и устья Конвея, по расчищенным участкам леса – на длину полета стрелы – по которым его рыцари, их боевые кони и обоз могли двигаться в безопасности. На каждом участке, где армии предстояло сделать привал, чтобы объединиться перед следующим этапом, король собирался построить замок на берегу или поблизости. Для этого он нанял за обычное вознаграждение – а когда требовалось и силой – тысячи мастеров и чернорабочих, привлеченных из всех графств западной Англии: лесорубов и плотников, каменщиков, угольщиков, каменотесов, кузнецов, обжигальщиков извести, подсобных рабочих, которых посменно охраняли лучники[125].
Но королевским козырем было господство на море. Эдуард двигался вдоль берега, сопровождаемый флотом, который защищал его с фланга и подвозил провизию. Он намеревался не углубляться в высокие горы, где преимущество наверняка досталось бы защитникам, но отрезать князя Гвинеда от богатого острова-житницы Англзи, от зерна, столь необходимого валлийцам и их стадам во время зимы. По условиям своей феодальной службы портовые города Кент и Суссекс должны были снабжать корону во время войны кораблями и матросами за свой собственный счет в течение пятнадцати дней. Взяв их команды на денежное довольствие, Эдуард гарантировал себе оружие, компенсировавшее ему все географические преимущества противника. К тому времени, когда он был готов к наступлению, король располагал на Ди двадцатью семью океанскими кораблями, включая один из Саутгемптона и один из Бордо, вместе с посыльными судами и маленьким речным судном под командованием Стефена Пенстерского, наместника Пяти Портов[126].
Наступление из Честера началось в середине июля. Король всюду успевал, надзирая за транспортом и организуя смены солдат и рабочих, когда те неуклонно двигались вперед, прокладывая путь через густо поросшие лесом холмы. К 26 июля он был во Флинте, где столетие назад его прадед, Генрих II, попал в засаду и потерял все, за исключением собственной жизни, пытаясь захватить Гвинед. Три недели спустя Эдуард подошел к Рудлану, устроив там штаб 20 августа. 29 он достиг устья Конвея в местечке Деганви.
Теперь настал момент, к которому король так долго готовился. Используя флот для того, чтобы переправить экспедиционные войска в Англзи под руководством лорда де Весси и Отто де Грансона, он вторгся на остров в тот самый миг, когда урожай был приготовлен для отправки Ллевелину, и тем самым лишил его запасов провизии на зиму. Поступив таким образом, он также угрожал в дальнейшем высадиться в тылу неприступных позиций врага на западном берегу Конвея в Пенмаенмавр. Через два месяца Эдуард получил полное преимущество над валлийцами, использовав искусную тактику.
Ллевелин понимал, что он полностью разгромлен. Он не стал ждать конца, а сразу же капитулировал и сдался на милость победителя. По Конвейскому договору, заключенному 9 ноября 1277 года, он вернул четыре кантрефа Пефетвлада, согласился со старой границей Гвине да на Конвее и отказался от всех претензий на сюзеренитет в марках. Он также дал согласие оставить королю заложников за свое поведение, заплатить компенсацию за войну и арендную плату за Англзи. На следующий день он присягнул на верность королю в новом замке в Рудлане.
Эдуард получил то, чего добивался, – признание его власти и закона. Он сразу же простил валлийцу компенсацию и арендную плату и в последующий год отпустил заложников. На рождественском пиру в Вестминстере, где Ллевелин вновь принес ему оммаж, король в знак полного примирения поцеловал его. Десять месяцев спустя, удовлетворенный его послушанием, Эдуард позволил князю жениться на Элеоноре де Монфор и лично председательствовал на свадебном пиру.
* * *
После преодоления одного препятствия, мешающего работе по объединению королевства, Эдуард обратился к другим. Как и прежде, он искал поддержку своим мероприятиям, приняв «совет и согласие» от своих главных советников. По дороге домой из Уэльса он собрал парламент в Глостере, чтобы урегулировать частные иммунитеты и юрисдикции, а также вторжения в королевские права, выявленные в ходе «рейда тряпичников». Чтобы удостовериться в том, что преамбула называла «усовершенствованием администрации и правосудия в королевстве, как того требует благо народа и обязанности короля», Глостерский статут собрал всех владельцев иммунитетов. Они должны были явиться перед его судьями, чтобы указать, на каком основании – quo warranto – они обладают данным иммунитетом. Те же, кто не явился, лишались своих юрисдикции, до тех пор пока они не докажут свои права на них. Эдуард не собирался лишать подданных их земель и законных судов, ведь для этого следовало бы отвергнуть феодальные нормы, в которые он, как и все остальные, сохранял незыблемую веру. Но он твердо решил не допускать существования каких-либо судебных иммунитетов, которые не были четко определены или законно подкреплены и которые не были в конечном счете подотчетны короне. Так, он спрашивал, по какому праву епископ Нориджа предъявлял требования на рынок в местечке Кроссмаркет в Линне, «который принадлежал королю и его короне и был отчужден без разрешения и воли на то короля или его предшественника», а также на каком основании он содержал тюрьму в том же городе.
Насколько исчерпывающими и широко распространенными были дела quo warranto, – рассматривавшие не только крупные, но и мелкие нарушения юридических прав короны, – можно узнать из предписания, посланного несколькими годами позже констеблю Бристольского замка. «Для королевской надобности, по праву и древней привилегии короля, должно предоставить по два морских угря с каждой лодки, доставившей на продажу свежих угрей в королевский город Бристоль, по восемь хеков с каждой лодки, доставившей свежих хеков, по восемь пикш с каждого судна, доставившего свежую пикшу, по восемь камбал с судна, доставившего свежих камбал, и по четыре ската с каждого судна, доставившего свежих скатов. А если кто забудет свою верность королю и воздержится от выплат... господин наш король назначил возлюбленных и верных Ральфа Хенгемского и Николаса Степлтонского задавать под присягой вопросы честным и законопослушным людям Бристоля, дабы узнать правду о тех, кто лишил короля сколько и какого рода рыбы и каким образом»[127].
Такие расследования королевских судей держали всех в напряжении в последующие несколько лет. Один возмущенный магнат, граф Суррея де Уорен, требовавший некоторых иммунитетов для своего титула, говорят, обнажил свой старый заржавевший меч в суде, восклицая: «Вот мое основание! Мои предки прибыли вместе с Вильгельмом Бастардом и завоевали эти земли этим мечом. С его [меча] же помощью я защищу земли от всех захватчиков!» Именно это волновало короля, он не столько пытался лишить могущественных подданных их привилегий, сколько удержать их от желания прибегнуть к иным основаниям, вместо королевского разрешения. При этом его юристы насаждали свои требования слишком жестко, говоря, что время никогда не может повернуться против короны и никакой обычай, каким бы древним он ни был, не может использоваться без хартии его подтверждающей. Пажи при дворе, сыновья аристократов, чьи права находились под таким тщательным рассмотрением короны, выразили чувства своих отцов в песне:
«Король хочет получить наше золото, Королева хотела бы владеть нашими землями, И quo warranto Заставит нас всех это сделать» [128] .* * *
Эдуарду предстояло расколоть куда более крепкий орешек, чем частные юрисдикции его лордов. В то время когда верили, что только Церковь стоит между человечеством и проклятием, защита ее привилегий была делом каждого. Люди относились к ней так, как сейчас патриоты относятся к своей стране. За прошедшее столетие Церковь достигла пика своего могущества. Претендуя на всю «полноту власти» над земными правителями, папы уничтожили своих соперников, германских императоров «Священной Римской империи», оставив им только призрачную власть над тевтонским севером. Они непосредственно управляли частью Италии и оказывали сильное влияние на остальные территории Апеннинского полуострова – самую богатую и густо населенную область Европы. Арагонское, Английское, Сицилийское, Португальское, Венгерское и Болгарское королевства были их номинальными фьефами и платили дань. Даже патриарх Греческой православной церкви признал сюзеренитет Ватикана в обмен на то, что папа удержал французского короля Сицилии от нового штурма Константинополя. «Господь даровал Петру, – провозгласил великий папа Иннокентий III, – власть не только над церковью, но и над всем миром».
Тогда как светская власть Рима росла, его духовное влияние клонилось к упадку. Империя цезарей оказалась опасным наследством. Пытаясь захватить ее, папство утратило куда более обширную империю человеческих сердец. Пока церковь довольствовалась властью над душами людей, ее господство расширялось, но как только она устремилась за их телами, оно начало сокращаться. Выход Ватикана на политическую арену сделал Церковь вместо судьи соперником князей. Церковь так часто использовала оружие религии в мирских интересах, что эффект от его воздействия притупился, а репутация духовенства оказалась запятнанной.
Из-за опрометчивых отлучений своих политических противников Святой престол сузил и обесценил концепцию Церкви как вселенского братства, зиждившегося на принципах любви и служения Христу. Великая евангелическая организация, которая научила невежественные готские племена правлению, основанному на мире и справедливости, теперь, в погоне за преходящими и – по ее собственной непреложной оценке – тривиальными ценностями разделила королевства Запада, вместо того, чтобы объединить их. Армии и чернь, которые она использовала, чтобы проводить свою светскую политику, провоцировали войны и восстания в итальянских городах и способствовали раздробленности Германии. Ее банкиры и юристы, взимающие пошлины с церковных доходов каждого государства, стали главными сборщиками налогов в Европе. Даже всеобщий благоговейный трепет, который внушал престол Святого Петра, не мог остановить растущую волну негодования, вызванного тем, что деньги национальных церквей шли на оплату нужд расточительного папского двора и его часто безответственных и отсутствующих представителей. В одно время семь английских аббатств, включая Крайст Чеч и Кентербери, были отлучены папой за долги; двадцать восемь из пятидесяти пребенд Солсбери находились в руках сторонних людей, только трое из них постоянно проживали там.
Эдуард был благочестивым и набожным государем – крестоносцем, другом Святого престола, покровителем монастырей и церквей. Он любил совершать паломничества и часто принимал участие в религиозных шествиях и службах. По возвращении из Уэльса он сразу же отправился на освящение перестроенного Нориджского собора, а также помогал переносить останки короля Артура и его королевы в новую усыпальницу перед высоким алтарем Гластонбери. Когда во время этих церемоний его судьи посягнули на права аббатства, попытавшись держать суд в его пределах, король сразу же приказал суду переместиться в менее благословенные земли и передать полномочия аббату, отдав на милосердное правосудие Церкви заключенного, совершившего непростительный грех: нарушившего «королевский мир», подняв нож на его телохранителя.
Однако Эдуард не допустил бы диктата священников и не позволил им вмешиваться в свои собственные правовые дела. Будучи помазанником Божьим, сыном и племянником двух наиболее благочестивых государей эпохи, он считал себя официальным защитником Церкви в Англии. В 1278 году, спустя год после валлийской войны, Роберт Килуордби, монах-доминиканец и ученый, последние шесть лет занимавший пост архиепископа Кентерберийского, отказался от своего престола ради кардинальской мантии. Чтобы сблизить управление Церковью и государством, Эдуард использовал королевскую прерогативу и приказал кентерберийским монахам избрать вместо него канцлера Бернелла (ранее такая попытка, когда он еще был принцем, не удалась). Однако вокруг Бернелла, хотя тогда и бывшего епископом Батским, но человека из плоти и крови, разразился скандал, так как у него была семья. Несмотря на то, что он был одаренным государственным деятелем и юристом, для папы это было уже чересчур. Вместо канцлера Рим выбрал оксфордского монаха по имени Джон Печем[129], провинциала францисканцев в Англии, который преподавал теологию в папском университете в Риме.
Так как архиепископ был его главным советником по правовым вопросам и богатейшим из вассалов[130], Эдуард выразил свое несогласие. «Король и совет считают, – писал он, – тем самым может быть нанесен ущерб ему и Церкви, покровителем и защитником которой он является, особенно если такому примеру последуют остальные английские церкви». Однако, выразив свой протест, он принял вмешательство папы благосклонно. Эдуард был горд признанием английского епископата, ведь Печем слыл известным теологом и считался чуть ли не святым. Вместо того чтобы отвергнуть его кандидатуру, как его отец отверг Ленгтона, король приветствовал монаха по его прибытии со всеми почестями и изо всех сил старался добиться его дружбы.
Как и Ленгтон, новый архиепископ родился в семье бедного землевладельца и не принадлежал военной англо-французской аристократии. Он получил образование в Льюисе, в одной из грамматических школ, открытых монахами по всей Европе, где смышленых мальчиков учили думать и рассуждать на латыни. В Оксфорде Печем присоединился к миноритам и был учеником францисканцев, прославивших университет математическими и научными штудиями. Здесь, а также в еще более прославленном парижском университете, где его называли «братом Иоанном, англичанином», он снискал европейскую известность как комментатор Библии и автор философских и научных трактатов[131]. Однажды он даже вступил в диспут с величайшим доминиканским ученым, Фомой Аквинским, защищая ортодоксальную веру от еретических тенденций, в которых францисканцы, с недоверием относящиеся к чистому интеллекту, обвиняли своих доминиканских собратьев.
Однако хотя Печем и показал себя способным администратором, до Ленгтона ему было далеко. Будучи в первую очередь ученым, стремящимся к совершенству, он был наиболее счастлив на кафедре или с пером в руке, предпочитая жизнь созерцательную, от которой, приняв сан архиепископа, сам себя оторвал. Во времена, когда монахи перестали быть нищенствующими проповедниками, становясь советниками королей и исповедниками богатого купечества, ему по душе пришлась ранняя францисканская вера в бедность; он защищал ее от тех, кто расценивал самоотречение монахов нищенствующих орденов, как наступление на благосостояние Церкви. Обычно Печем носил поношенную старую монашескую одежду, как в соборе, так и во дворце, часто постился и налагал на себя епитимью, а однажды пересек босиком часть Европы, чтобы встретиться с главой своего ордена. Он был не только очень искренним человеком, мистиком и поэтом, восхищавшимся примером любви и жертвы Христа, но и весьма догматичным церковником, сурово порицавшим своих более приземленных собратьев. Высокий и сухощавый, всегда с серьезным выражением лица, с выступающими скулами и слегка капризным ртом, Печем был непреклонным сторонником церковных реформ и подвергал осуждению все мелочные пороки и злоупотребления, к которым были склонны и церковнослужители, и миряне. Он не столько стремился сделать мир по мере возможностей праведным, сколько полностью изменить его. Поэтому он считал, что необходимо полное подчинение гражданского права каноническому.
Однако более серьезной помехой являлось то, что этот администратор, назначенный в богатейший регион королевства и ведущий жизнь ученого, был не способен на компромисс и тактику взаимных уступок, которые являлись необходимыми для делового мира. Печем был таким известным магистром, что даже кардиналы вставали, когда он входил в лекционный зал в Риме. Ученость сделала его проницательным, но в то же время несдержанным и раздражительным. В нем редко сочетались богослов и политик. Он мог спорить и угрожать, используя всю свою искреннюю доброту и умственные способности во имя христианской любви, но едва ли мог убедить. Ярый приверженец прав Церкви в самой крайней форме, веком раньше он мог бы стать святым и мучеником для потомков. Но в эту более сложную эпоху Печем вскоре потерял почву под ногами.
Через несколько дней после прибытия новый архиепископ, как второй Бекет, созвал своих викарных епископов на синод, чтобы провести основательные реформы, регулирующие отношения между Церковью и государством. На такой встрече в июле и августе в крупном бенедиктинском аббатстве Рединга он предложил упразднить владение несколькими приходами и отсутствие священнослужителя в своем приходе, а также прекратить, под страхом отлучения, запретительные приказы[132], благодаря которым королевские суды имели обыкновение забирать из-под юрисдикции Церкви дела, непосредственно затрагивающие проблемы государства, и вообще поставил под сомнение необходимость сохранения гражданской юстиции. И тем и другим он бросал вызов правительству.
Со своей логикой ученого Печем представлял проблемы человеческого общества слишком просто. Самыми скандально известными церковнослужителями, обладавшими несколькими приходами, были королевские министры и судьи, награжденные за оказанные королевству услуги, церковными должностями. Они владели, как архиепископ резко заметил своему королю, «чертовой кучей бенефиций». В эпоху, когда почти каждый образованный человек был клириком, король, даже если бы хотел, больше никого не мог бы нанять на государственную службу, чтобы пристойно управлять королевством. К тому же в феодальном обществе, где основой служения было вассальное землевладение, единственным источником вознаграждения были церковные наделы. Так как эти земли составляли значительную долю государственного благосостояния, казалось вполне разумным использовать их для того, чтобы содержать клириков, находившихся на службе у государства.
Сами угрозы архиепископа тем, кто издает запретительные приказы, подрывали основы государственного закона и порядка. В хорошо организованном королевстве, как Англия, где Церковь и государство были тесно связаны, один и тот же человек мог быть вассалом короля и владельцем права распределения приходов и бенефиций, епископом и членом Большого совета, церковным старостой и присяжным. Должна была быть какая-то демаркационная линия между юрисдикцией мирских и церковных судов, и, если бы церковные власти по собственной воле могли отлучать от Церкви любого судью или шерифа, приводящего в исполнение королевские приказы по делу, когда Церковь требовала его под свою юрисдикцию, повсюду воцарилась бы анархия. И хотя могло бы казаться логичным, что все дела, затрагивающие служителей Церкви, следовало разрешать в христианских судах, опыт показал, что это только давало возможность правонарушителям духовного звания совершать преступления безнаказанно. Со своими цивилизованными взысканиями и юридическими запретами кровопролития каноническое право было слишком мягким инструментом, чтобы установить порядок в эпоху привычной жестокости, свойственной церковнослужителям в той же мере, что и мирянам. Не стремились обуздать свою жестокость и бесчинствующие толпы прихлебателей – бедные клерки, священники, не имевшие бенефиций, и одетые в лохмотья схоласты, на которых Церковь накинула защитные покровы. Даже такой крупный прелат, как Печем, несмотря на свое неподдельное христианское смирение, постоянно ссорился со своими собратьями-священниками. Монахов своего кафедрального собора он объявлял «лентяями, болванами, тупицами» и «одержимыми», тех, кто критиковал его орден, «гавкающими собаками, вырастающими, как адское зловоние из бездны», а противников «разбойниками, стреляющими отравленными стрелами» и «ведьмами, сосущими свою скупость с молоком раздора». Когда его викарные епископы, большинство из которых отличались таким же благочестием и высокими качествами, как и сам архиепископ, жаловались на его деспотичный нрав, он отправлял их во временную отставку и отлучал от церкви во имя Отца, Девы Марии и Святого Томаса Кентерберийского. Он даже отлучил целый город, в котором находился его собор, за то, что бейлифы конфисковали хворост с одной из его телег.
Такая церковная вспыльчивость часто заканчивалась не только словами и тяжбами. Она могла иметь и более тяжелые последствия. Самого Печема ударил по лицу вестминстерский ризничий во время богослужения; когда его собрат архиепископ, воскрешая старую традицию, пронес крест прежде него по провинции Кентербери, оскорбленный примас отлучил каждый город, стоявший на пути его следования, и подстрекал своих подчиненных разбить крест архиепископа на улицах Рочестера. Еще более серьезный скандал произошел несколько лет спустя, когда один из каноников Экзетера убил главного сторонника епископа на территории кафедрального собора. В последовавшей за этими событиями монастырской вендетте была сожжена приходская церковь и убиты два человека.
В религиозной горячности архиепископ бросил вызов короне, выступая против совмещения нескольких церковных должностей и запретительных приказов. Одновременно он заказал копии шестидесятилетней давности легендарной Хартии вольностей, с ее гарантиями церковных «свобод», чтобы прибить их к дверям каждого собора и коллегиальной Церкви. Противостоя такому вызову, Эдуард знал, что его поддержат бароны, и не только они. Власть Церкви в подчинении мирян зависела от готовности светской власти поддерживать это подчинение. И было бы только справедливо, что Корона, сторонник и партнер Церкви, имела право определять границы церковной юрисдикции. Высокомерие консистории и судов архидьяконов, мелочный и часто низкий шантаж, который церковнослужители применяли для вытягивания средств из мирян за моральные преступления, сделали их непопулярными среди всех слоев общества[133]. Мягкость наказаний, выносимых ими тем, кто был неподсуден светскому суду, также возмущала растущее национальное чувство порядка. В таких делах интересы Короны и народа были едины.
В парламенте, который состоялся в ноябре, король искал одобрения у своих «главных людей» для ответных мер. Он приказал архиепископу предстать перед советом и заставил того отменить свой приказ о расклеивании копий Великой хартии вольностей и аннулировать, «как если бы это никогда не происходило», угрозы отлучения тех, кто совмещал государственную и церковную службы, и тех, кто обращался за запретительными приказами. Он также послал извещение прелатам, предостерегая их, «если они любят своих баронов, не вмешиваться в его полномочия».
Но на этом Эдуард не остановился. С одобрения магнатов он издал статут, изначально известный по вступительным словам как «О религии» (de Religiosis), запрещающий передачу земель церкви или любой религиозной ассоциации без разрешения Короны или иного феодального владельца этой земли. Тайно сговорившись о передаче во владение мертвой руки или «mortmain» какой-либо церковной корпорации, которая, поскольку не является смертной, избежала обычных «обязанностей» или поборов, связанных с феодальным держанием, держатели второй руки некоторое время надували короля и крупных магнатов, обходя выплаты обычных рельефов на смерть, брак, посвящение в рыцари, а также увиливая от опеки, превращения своих земель в выморочные имущества, конфискаций, которые являлись частью феодального договора и фискальной структуры государства. Эдуард использовал нападки архиепископа на его привилегии не только чтобы напомнить тому, кто хозяин королевства, но чтобы остановить злоупотребления церковной властью, которая отнимала у короны и ее главных держателей доходы. Статут о Мертвой руке, как его позднее окрестили, не положил конец доходам Церкви и религиозных организаций от пожертвований частных лиц, которые продолжали поступать в соответствии с королевским разрешением и выплатами, как и раньше. Но он позволил Короне контролировать этот процесс.
Но Эдуард старался не перегибать палку. В его намерения не входила ссора с Церковью, он просто хотел, чтобы ее власть распространялась в рамках, которые он и его подчиненные считали законными. Более того, он намеревался обложить налогом церковное имущество, что могло бы стать подспорьем в ведении валлийской войны, но это было возможно только с согласия духовенства. Король уже собрал щитовые деньги с каждого рыцаря, непосредственно не участвовавшего в военных действиях, штраф со всех зажиточных фригольдеров, отказавшихся от посвящения в рыцари, и парламентскую субсидию, состоящую из налога на десятую часть собственности каждого мирянина. Он также провел денежную реформу, назначив суровые наказания фальшивомонетчикам и тем, кто обрезает края монет, – мера, особенно сильно коснувшаяся евреев, которые, уже подвергшись сокрушительным налогам и забыв свое наследственное ремесло ростовщичества, прибегали к чеканке монет и, по бытовавшему в то время мнению, обрезке монет[134].
Но даже эти дополнительные поборы не могли помочь Эдуарду оплатить все расходы своего королевства, не прибегая к помощи такой международной организации, как Церковь, которая владела большой частью достояния страны. Тогда король попросил архиепископов созвать представителей их епархий, чтобы рассмотреть его финансовые нужды, – шаг, который предпринимался только перед крестовым походом. В то же время он дал понять, что, защищая своих министров и судей, он, однако, в целом поддерживает церковную реформу. Также он отметил, что не возражает против привилегий для духовенства, если они не наносят ущерба государству. Король не делал никаких попыток ущемить право Церкви – не вызывающее сомнений со времен Бекета – определять наказание клирикам, совершившим преступление. Он признал, или сделал вид, что признал, требование церковных судов распоряжаться пожертвованиями, подношениями и похоронными пошлинами, а также церковными десятинами, в случае, когда права мирских покровителей не ставятся под сомнение. Эдуард пообещал, что скот и повозки, принадлежащие духовенству, будут свободны от реквизиций для нужд королевского двора, и что преступники, которым церковь гарантирует убежище, не будут арестовываться на пути в место высылки. И дабы не уронить достоинства примаса, король согласился представить на рассмотрение комиссии королевских служащих печально знаменитые запретительные приказы, сообщив, что вынесенное ими решение будет окончательным.
Хотя большинство требований редингского совета были отложены или отклонены, лобового столкновения между королем и архиепископом, какое имело место веком ранее, не произошло. Эдуард оказался мудрее Генриха II, а Печем – менее фанатичным, чем Бекет. С тех пор как Церковь перестала подрывать авторитет государства и претендовать на абсолютную власть, король мог позволить себе быть великодушным. После предупреждения, что любое обсуждение прелатами дел, касающихся личности короля или его имущества, могло подвергать опасности их церковные владения и доходы, он проигнорировал дальнейшие угрозы Печема отлучить от Церкви нарушителей свобод духовенства. Архиепископ, не встретивший попыток заставить его отказаться от своих слов, принял status quo и не выразил негодования по поводу своего венценосного правителя. «Его превосходительство», – так он продолжал называть короля.
Слабость позиции Печема заключалась в том, что его собратья-клирики не поддерживали его. Больше всего реформами были недовольны именно церковнослужители – члены монашеских орденов, чьи привилегии оказались под угрозой, или аристократы, одновременно возглавляющие несколько приходов, как, например, Бого де Клэр, брат графа Глостера, который занимал выгодные посты в тринадцати епархиях и, получая доходы почти с тридцати церковных должностей, не исполнял ни одной из своих обязанностей. Епископ Батский, королевский канцлер, был главным противником церковных судов и крупнейшим обладателем должностей, жаловавшим бенефиции своим бастардам. И даже самые благочестивые из викарных епископов Печема ссорились с ним из-за того, что он настаивал на своем праве совершать объезды их епархий и вторгаться в местные дела архиепископского суда[135] – такой же процесс централизации, против которого так яростно протестовал архиепископ, когда он проводился Короной в отношении церковных судов. Несомненно, в отношении к своим собратьям примас был более авторитарен, чем король, который по крайней мере искал поддержки проводимым реформам у своих «главных людей». Невзирая на каноническое право, Печем с завидным постоянством и весьма быстро издавал декреталии без созыва канонического совета.
Даже папский бюрократический аппарат не поддерживал архиепископа и за определенную цену был готов встать на сторону его противников. Однажды Печему пришлось предстать в римской курии на шести процессах. А безжалостная настойчивость, с которой папские банкиры из Италии под угрозой отлучения требовали у него выплатить долги его епархии, ввергла беднягу в отчаяние[136]. Щедро раздающий милостыню, окруженный, как и любой другой феодальный магнат, огромной свитой чиновников и подчиненных, примас ощущал себя «подавленным и отягощенным» деньгами, которыми он владел. Ему даже приходилось занимать у короля – кредит, который, хотя и милостиво предоставленный, ничего не сделал для укрепления его власти в нападках на неканонические прерогативы.
Только в сфере внутренней церковной реформы рвение Печема к христианскому совершенству могло достичь чего-либо постоянного. Главным его даром своей стране были провизии, которые в 1281 году собор в Ламбете составил по его настоянию для образования приходских священников. В своих ордонансах примас составил правила, как давать религиозные наставления и выслушивать исповеди, восстанавливать и содержать церкви и церковные дворы, как уберечь тело Господне от небрежения и неверного использования. Как все крупные церковнослужители своей эпохи его глубоко заинтересовала доктрина «пресуществления» – попытка ученых мужей определить таинство Евхаристии, принятой ранее Латеранским собором. Ведь люди должны знать, отмечал он, «преславного Бога, представшего в образе хлеба», поэтому и беспрестанно стремился донести до невежественных и суеверных приходских церковнослужителей всю важность ограждения священного тела Христова или облатки от кощунственного небрежения или оскорбления колдунами и магами. Он настаивал на том, что облатку всегда следует хранить в дароносице внутри закрытой коробки или раки[137] и, пронося по улице к постели больного или умирающего, благоговейно сопровождать с колоколом и свечой.
С королем и лордами, со своими собратьями прелатами, кардиналами, юристами и алчными банкирами папской курии Печем достиг немногого или совсем ничего. Он не сумел прекратить практику владения несколькими приходами или вмешательства мирян в дела Церкви, которые были связаны со злоупотреблениями и коррупцией, как в Англии, так и в других странах. Не более он преуспел и в предотвращении распущенности духовенства, использовании бенефиций под сельскохозяйственные работы, расточении пожертвований любящими земные блага клириками на пышное и роскошное проживание – многолетняя трагедия, которую примас однажды назвал падением священнослужителей от духовности Мельхиседека к похоти Аарона. В последний год своей жизни, заболев из-за крушения своих планов, Печем писал о своих соотечественниках, называя их «упрямыми людьми, сопротивляющимися во вред себе и обреченными отвергать все увещевания повиноваться слову Божию». Но именно благодаря его трудам – хотя их плоды стали очевидны только после его смерти – тысячи простых англичан смогли больше узнать об истинах христианской жизни. Декреталия Печема Ignorantia Sacredotum, очерчивающая религиозные инструкции, которые приходские священники должны были давать своим прихожанам, ориентируясь на христианский символ веры, десять заповедей и семь смертных грехов, долгое время соблюдалась уже после того, как его имя кануло в Лету[138]. Также и традиция, которую он воскресил, ударять в церковный колокол в момент вознесения тела Господня, с тем, чтобы прохожие и крестьяне в полях могли преклонить колени или склонить головы в знак осознания, что внутри происходит таинство.
* * *
Король получил субсидию от духовенства – десятую часть от конвокации Йорка на два года и пятнадцатую часть из Кентербери на три года. Прежде чем эти суммы были собраны, он был вовлечен в другую уэльскую войну. В канун вербного воскресенья 1282 года его бывший союзник, Давид, ночью напал на Хауэрденский замок, перерезал гарнизон и захватил королевского юстициария, повесившего одного из его людей за преступление, ненаказуемое по валлийским законам. Забыв о разногласиях с братом, Ллевелин решил вновь попытать удачу вместе с ним. Повсюду поднимались сочувствующие им валлийцы, осаждая ненавистные новые замки во Флинте и Рудлане, штурмуя Лланбадарн – нынешний Аберистуит – огнем и мечом добравшись до стен Честера и пройдя через земли маркграфов к Бристольскому каналу. Повсюду в заново рожденной кельтской ярости и мести королевские крепости, за исключением самых укрепленных, погибли в огне. Казалось, что весь валлийский народ объединился против англичан.
Восстание стало для Эдуарда полной неожиданностью. Папа и короли Франции, Кастилии, Арагона и Сицилии в это время ждали его третейского решения. Он был полон идей о новом крестовом походе против египетских султанов и совсем не думал о мелочных ссорах с отдаленной и уединенной западной провинцией. Он осыпал милостями Давида, простил и помирился с Ллевелином, думая, что полностью разобрался с голыми холмами и мелкими князями Уэльса. И, казалось, последствия договора в Конвее были многообещающими. «Князь Уэльса, – писал он тремя годами ранее, – предстал перед нашими судьями в Марках и искал правосудия и подчинился решению суда, полностью выражая свое согласие»[139].
Но трудности возникли вокруг ключевого условия договора, касавшегося земель Ллевелина, находящихся за пределами его княжества, которые должны были быть устроены в соответствии с законом той земли, где они находились. Князь утверждал, что это должен быть закон Уэльса и следует править по кодексу знаменитого валлийского законодателя, Хивела Дда (Доброго). Но расчет на то, что его можно было бы подтолкнуть к действиям против своих валлийских и английских соседей, был бы слишком простым в этой сложной ситуации. За исключением Гвинеда нигде не было постоянного валлийского суда и истолкование закона кимров было возложено на частных судей, нанятых тяжущейся стороной. Во многих частях государства, даже в Уэльсе, трехсотлетней давности кодекс Хивела рассматривался как устарелый и закоснелый. И более века наряду с валлийским в марках действовало английское право. Крупнейший из вождей Уэльса, непокорный вассал Ллевелина, Груффит ап Гуэнвинвин, лорд Пула, решительно отказался вести полемику о собственности Аруистли, находящегося в высокогорьях Северна, принадлежащей валлийскому праву, провозглашая, что, будучи маркграфом, он должен быть судим как английский барон. Он сказал, что готов ответить любому по общему праву, но не по валлийскому.
Это было слишком трудной задачей для судей марок, поэтому дело было передано королю. Он представил его, что стало традицией, вместе со всеми баронскими тяжбами своему совету на следующей сессии парламента. Там оно и находилось, и после неудачной попытки привести партии к согласию, Эдуард поддержал дело – что правосудие могло быть только в соответствии с законом, которым руководствуется парламент. Высший королевский суд не мог отправлять правосудие по правилам, которые рассматривались как несправедливые, варварские и нехристианские. Корона, сообщалось упрямому валлийскому князю, должна «по закону Божьему и по справедливости делать то, что прелаты и магнаты королевства посоветуют, так как никто не полагает, что столь разумные люди дадут королю совет, противоречащий разуму»[140]. Вместо того чтобы решить дело сразу и в свою пользу с помощью судьи Уэльса, свободно трактующего довольно гибкое местное право, Ллевелину пришлось апеллировать к приказу, подобно простому английскому барону, и выдержать долгие формальности и проволочки, сопутствующие парламентскому разбирательству. Дело все еще не было разрешено, когда весной 1282 года он решил связать свою судьбу с братом.
Не только Ллевелин и Давид испытали на себе оковы подчинения английскому закону. Люди Четырех кантрефов сильно негодовали, подпадая, по договору, под юрисдикцию юстициария и суда графства Честер[141]. Это не было похоже на право князей Гвинеда или предшествовавших им англо-нормандских правителей, пфальцграфов[142] – стремительных, грубых и хорошо подготовленных для управления воинственным обществом. Кочевники, которые в течение столетий считали кражу скота типом ведения сельского хозяйства, войну против друг друга и саксов – поэзией жизни, не очень-то дружелюбно приняли общее право. Его медленные и детальные методы казались им только трюками для того, чтобы уклониться от правосудия, его поиски истины посредством утомительного обмена пергаментными свитками, публично оскорбляло вспыльчивых людей, борющихся за свои права. Они могли уважать только такое правосудие, которое совершалось на месте и мгновенно.
Эдуард провозгласил, что он будет защищать закон и традиции Уэльса в Четырех кантрефах в той мере, в какой они останутся в цивилизованных рамках и не будут расходиться со здравым смыслом и десятью заповедями. Ведь именно такими они казались любому англичанину, знакомому с королевскими судами. Чиновники пфальцграфства, взявшие на себя управление завоеванными пограничными землями, не испытывали ничего, кроме презрения, к законам Уэльса. Для них кодекс Хивел Дда казался архаичным и диким, так же, как и законы их дальних англосаксонских предшественников. Как, спрашивали они, от них можно ожидать осуществления законодательства, которое трактует гражданскую войну как законную деятельность, рассматривает судью как частного арбитра, нанимаемого родственниками преступника, чтобы примириться с его мстителями, наказывает убийцу барда штрафом в сто двадцать шесть коров? И как они могут сохранять порядок в неспокойных землях без применения смертной казни в качестве наказания?
Для англичан с их современным законопослушным и стабильным обществом валлийцы воспринимались дикарями. Для них, как для шропширского шерифа, который предлагал шиллинг за каждый скальп, снятый во время набега валлийцев на Страттондейл, жители Уэльса были волками, стоящими вне закона. В отличие от маркграфов, с их наполовину валлийскими предками и любовью к сражениям, фермеры чеширской равнины не могли оценить достоинства тех, кто сжигал дома вместо того, чтобы их строить, и предпочитал грабеж и безделье честному хлебопашеству. Архиепископ Печем, при посещении Гвинеда потративший одиннадцать часов на то, чтобы урезонить Ллевелина, был шокирован всеобщей ленью, пьянством и распущенностью, языческой небрежностью между отличием законнорожденных и внебрачных детей, неграмотностью валлийских клириков, расхаживавших с голыми ногами в ярких одеждах и содержавших любовниц. Даже прекрасное поэтическое наследие кимров, столь сильно привлекавшее рыцарственных нормандских правителей, казалось трезвым английским йоменам-домоседам только варварской паутиной лжи[143].
Чувство обиды вызывало у жителей Уэльса мнение, что все валлийское не заслуживает внимания. В годы сразу после завоевания любой житель Четырех кантрефов, которому довелось вести тяжбу в судах пфальцграфства, стал страстным борцом за независимость. Каждое отклонение от древних традиций, каждое официальное административное нововведение казалось оскорблением. Хотя и гораздо более умелые, чем любой из правителей Уэльса, уверенные в том, что они несут цивилизацию и правосудие отсталому народу, бюрократы пфальцграфства надели смирительную рубашку на жизнь древнего сообщества. Они разделили землю на непривычные административные единицы и приказывали людям являться в отдаленные суды перед судьями, не понимавшими их язык и использовавшими закон, который оказался для них непостижимым. Они не давали ни возможности проявить национальную гордость, ни выхода местной буйности.
Под правлением великих этелингов или англосаксонских князей и нормандских и анжуйских королей, англичане усвоили политические уроки гораздо раньше валлийцев и других своих соседей на континенте. Они научились соблюдать «королевский мир», платить налоги, придерживаться единого закона, занимать свое место в административной и официальной иерархии, которая простиралась от приходских и манориальных судов до совета всего королевства в парламенте. Но их система была чересчур централизованной и сложной, чтобы стать понятной для примитивной, пасторальной расы. Все должны были апеллировать либо к находящейся далеко власти, либо к еще более древнему прецеденту. И правила, которые они насаждали в кельтских пограничных землях, слишком часто носили узкий, педантичный характер. Когда Ллевелин в бешеной погоне за оленем случайно пересек пограничную речку между Гвинедом и марками, «королевские чиновники, подъехав к охотникам, созвали криками и звуками горна почти всю округу», конфисковали гончих собак и арестовали всадников[144]. В другой раз валлийского князя привел в ярость юстициарий Честера, педантично конфисковавший его мед по просьбе одного лестерского купца, чьи товары были арестованы много лет назад по валлийскому закону о кораблекрушении. Те же чиновники, которые пренебрегали местными обычаями, чтобы отправлять правосудие для англичан, вырубали леса валлийцев, чтобы проложить дороги, реквизировали скот и повозки, чтобы строить замки, жаловали земли английским купцам, чтобы те возводили на них города, в которые не допускались местные торговцы.
Не всегда были честными и управляющие, которых Англия посылала на пограничные земли. Одно дело – закон XIII в. на бумаге, совершенно по-иному он представал на практике. Тем, кто служил государству, когда оно было простейшей организацией, позволялось использовать власть, которой они обладали, чтобы сохранить личные преимущества. Судьи и бейлифы короля Эдуарда проводили в жизнь закон и порядок, отправляли правосудие так, как их этому учили, но они также стремились извлечь из этого выгоду. Многие низшие чины брали взятки и осуждали невиновных. В свете их поведения пафосные разговоры о моральном превосходстве английского закона вызывали отвращение у жителей Уэльса.
Кроме того, новые правители Четырех кантрефов были англичанами, а не жителями Уэльса. Валлийцы не любили англичан; с незапамятных времен они привыкли пусть не к государственности, но к самоуправлению. Большинство из них предпочитало, чтобы ими управлял пусть и несправедливый, но соотечественник, но никак не честный чужеземец – факт, который ни один англичанин постичь не мог. Как маркграфы всегда знали, а управители пограничных земель должны были узнать, только валлиец мог понять валлийца.
Хотя Уэльс никогда не был королевством, и пока только горсточка людей считала себя нацией, валлийцы любили свою страну. Они любили свою землю, традиции, речь, веру. «Я убежден, – сказал столетие назад один валлиец Генриху II, – что ни один народ, кроме моего, ни один язык, за исключением валлийского, что бы ни произошло; не сможет ответить в день великого суда за свой маленький уголок земли». С тех пор под правлением двух Ллевелинов все возрастающее число валлийцев, в то время включая и жителей Четырех кантрефов, узнали, что значит быть не просто членами племени, но государства Уэльс. С неприступным горным барьером на востоке и богатым островом-житницей Англзи, Гвинед стал чем-то большим, чем просто группой свободно соединенных племен. В княжеском деревянном зале или neuydd, где барды воспевали славу Уэльса в присутствии правителя, который требовал преданности всех валлийцев, начинали создаваться общественные институты современного национального государства. В государстве уже существовал королевский двор англо-французского образца с канцлером[145] и канцелярией, казначейством, собиравшим налоги как деньгами, так и натуральным продуктом, большой и малой печатями и даже, в зародыше, высшим судом, который занимался формулировкой, хотя пока только в теории, единого закона для всех валлийцев, основанного на западной юриспруденции. Жестокие законы племени и кровная месть постепенно модифицировались; впервые людей обучали, причем их же соотечественники, различать гражданское правонарушение и государственное преступление; убийство – столь долгое время считавшееся обычным происшествием в жизни страны – обуздывалось и наказывалось государством. Личная собственность существовала даже в местах, возникших возле владений кланов, а оседлая сельскохозяйственная жизнь – рядом с кочевым прошлым.
Именно это заставило Ллевелина рассматривать отказ от валлийского закона в марках как чудовищную несправедливость и оскорбление. Потому что, будучи хозяином Гвинеда, он любил свой собственный закон под номинальным владычеством Короны, он чувствовал, что закон должен равно цениться в каждой части земли, князем которой он себя называл. С возмущением он размышлял об обидах, нанесенных ему и его народу. «У каждой провинции, – писал он Эдуарду, – находящейся во власти английского короля, есть свои обычаи и законы, соответствующие образу жизни и местности, где они существуют, как, например, гасконские в Гаскони, шотландские в Шотландии, ирландские в Ирландии и английские в Англии. Таким образом, я, как князь Уэльса, стремлюсь, чтобы у нас были валлийские законы, и мы могли следовать им. По общему праву мы должны иметь наш валлийский закон и обычай, как и другие нации королевской империи, а также наш собственный язык»[146].
Но хотя в Гвинеде никто не отнимал у него такого права, Ллевелин забыл, что, как бы он себя ни величал, он не был правителем Уэльса в той же мере, как король шотландцев – Шотландии или Эдуард – Гаскони. Уэльс никогда не являлся, как и Гвинед, единым государством. Но хотя Ллевелин и заблуждался по этому поводу, в общем он был прав. Хоть Уэльс и был раздроблен в политическом плане, душой валлийцы уже тяготели к единству. Барды воспевали Cymru – землю всех кимров, – а Ллевелина славили «великим вождем светлого Уэльса». Внимавшие им валлийцы, как и Ллевелин, считали, что быть осужденным английскими судьями по английским законам – участь похуже рабства. «Все христиане, – писал один из них, – живут по законам и традициям собственной земли. У евреев, живущих среди англичан, есть свои законы. У нас и наших предков в валлийских землях были неизменные законы и обычаи до тех пор, пока после последней войны англичане не отняли их у нас»[147]. Именно в силу подобных убеждений второе валлийское восстание против Эдуарда стало таким страстным по накалу делом.
По той же причине мятеж сопровождался зверствами со стороны валлийцев. Валлийцы не пощадили ни одного англичанина на своем пути. В самом начале восстания они продвинулись вглубь английских земель: захватили замок Ратин, осадили графа Глостера в холмах возле Лландейло Фаур, разграбили долины до Буилта и Кардигана далеко на юге. Многих хладнокровно убивали, церкви и фермы грабили, совершались чудовищные деяния. Все это преувеличивалось в сказаниях.
Теперь англичане, так же, как и их король, окончательно оправились от замешательства. Они решили разделаться с валлийцами, их набегами и нарушаемыми перемириями и подчинить их правительству. Из Девиза, где его настигли вести о восстании, Эдуард призвал архиепископов отлучить мятежников за святотатство и измену, а его чиновники и главные держатели в то же время призывали графства к оружию. И вновь, скорее, профессиональная, чем феодальная армия могла эффективно воевать. Пока Глостер на юге и Роджер Мортимер в центральном Уэльсе собирали жителей марок и «сочувствующих» валлийцев, королевское войско, соединившееся в мае в Вустере, было рекрутировано главным образом на контрактной основе. Вместо блестящей, но плохо дисциплинированной рыцарской конницы, служившей под командованием магнатов за свой счет положенные по обычаю сорок дней, а затем вольных делать что угодно, было собрано под началом мелких баронов и рыцарей королевского двора десять-двенадцать тысяч воинов. Они заключили с короной соглашение, по которому король обязался оплачивать их службу за обговоренный в контракте срок. Даже крупные магнаты, как граф Линкольна, приняли королевское жалование; лишь маршал, граф Норфолка и констебль Херефорд отказались, из чувства собственного достоинства настаивая на своем древнем независимом статусе и феодальном призыве в войско. Преимущество новой системы набора заключалось в том, что Эдуард мог выбрать род войск, в котором нуждался – жизненное решение в горной кампании, – вместо того, чтобы полагаться лишь на массы тяжеловооруженных рыцарей. Для войны в Сноудонии ему требовалась, как и раньше, легкая конница или хобелары, лучники и арбалетчики, пехота, чтобы сражаться с валлийскими копьеносцами; техники, дровосеки, возчики и чернорабочие, чтобы строить форты и коммуникации.
Даже во времена своего расцвета феодальный призыв никогда не мог собрать смешанную армию. Однако из уважения к маршалам и констеблям он состоялся, составив очень малую долю армии Эдуарда. Феодальное войско должно было присоединиться к королевской рати в Рудлане в августе. Большинство из первоначальных рыцарских ленов, жалованных Вильгельмом Завоевателем и его главными держателями, чтобы на службу короне поставлялись воины, распалось через продажу или из-за раздела между наследниками; восьмая часть лена была фискальной единицей, а не только военной. К тому же тщательно вооруженного рыцаря в дни Эдуарда стоило снарядить нанимателю гораздо дороже, чем простого одетого в кольчугу miles или воина, нежели в дни Вильгельма Завоевателя. Теперь рыцарь был утонченным джентльменом, а не грубым солдатом. Он стал более красивым на вид, но этого было недостаточно. Только несколько сотен откликнулись на рудландский призыв, в сравнении с пятью или шестью тысячами, которых нормандские короли могли собрать на поле битвы. Ведь и политика использования держателей рыцарских ленов в административной и судейской сферах не повышала их эффективности как солдат. Как и феодальные лорды, у которых они служили, они до сих пор рассматривали доблесть в бою как величайшее человеческое достижение, но отныне она более не являлась только их привилегией. Рыцари оставались столь же храбрыми, как и их предшественники. Но из-за все возрастающей сложности тактики ведения войны они более не были профессиональными воинами, а лишь любителями.
Чтобы платить своему войску, Эдуарду были необходимы деньги. Но так как доходов от королевских рент, феодальных сборов и таможенных пошлин только-только хватало в мирное время, задержав следующий парламент, он послал своего финансового эксперта, вице-канцлера Джона Керкби, объехать Англию, чтобы просить отдельных магнатов и корпорации о контрибуциях – «обходительных субсидиях», как называл их король. Все это было проделано с предельной учтивостью, так как Эдуард всегда стремился поддерживать хорошие отношения со своими подданными, принимая все меры к тому, чтобы они поступали в соответствии с его пожеланиями. Никто не отказался. Хотя требовалось немало времени, чтобы собрать деньги, кроме того, королю пришлось одолжить двенадцать тысяч марок у итальянских банкиров – полмиллиона на современные деньги – это позволило ему, с помощью щитового налога, создать дисциплинированное войско. «Мы чрезвычайно благодарны вам, – писал он тем, кто выплатил контрибуцию, – и с милостью Божьей мы компенсируем вам... в благоприятное время»[148].
Стратегические задачи были теми же, что и в 1277 году. Но их было труднее разрешить, потому что успех Ллевелина на юго-западе расширил площадь боевых действий. В течение июля король прошел путь вдоль побережья от Честера до осажденных замков во Флинте и Рудлане, которые держались с весны против атак Давида. Тем временем Эдуард послал Грея и графа Суррея очистить левый фланг в долине Клуида и изгнать Давида из Четырех кантрефов. Он хотел, обойдя Сноудон с юга, заставить Ллевелина покинуть завоеванные земли в центральном и юго-западном Уэльсе с тем, чтобы спасти княжество.
И вновь морские силы оказались решающими. С сорока кораблями из Лондона и Пяти портов, включая две большие галеры, присланные из Ромни и Уинчилси, каждое судно с командой из пятидесяти человек, учитывая, что обычно личный состав достигал двадцати, Эдуард смог обойти фланг противника с севера. Пока его армия медленно продвигалась сквозь поросшие лесом теснины к Конвею, перевозимое по морю под командованием бывшего сенешаля Гаскони Люка де Тани войско высадилось в Англзи, чтобы пощипать, по словам короля, перышки из хвоста Ллевелина. Потребовался месяц сражений, чтобы очистить остров. В это время валлийцы ожидали удара, но в середине октября де Тани завершил мост из судов через пролив Менай, дабы в решающий момент ударить в тыл врагу в Пенмаенмавре. Ратин и Денби на юге уже пали, а в центральных областях Эдуард достиг Конвея.
Столкнувшись с тройной угрозой в Сноудонии, Ллевелину пришлось свернуть наступательную операцию на юге и спешить обратно, чтобы защитить собственный опорный пункт. Архиепископ Печем также прибыл на арену боевых действий и попытался добиться для валлийцев почетной капитуляции, но Эдуард не поддержал его инициативу. Чувствуя, что теперь они в его власти, король настаивал на том, чтобы мятежники, вместо того, чтобы творить свой закон и взывать к насилию, а не к его справедливости, покорились без всяких условий[149].
Затем, когда победа уже была близка, нетерпение де Тани привело к катастрофе. 6 ноября, в тот самый день, когда Эдуард объявил, что примет только безоговорочную капитуляцию, его помощник, не пожелавший ждать запланированной согласованной атаки, вопреки королевскому приказу в прилив пересек Менай, в надежде застать валлийцев врасплох. Но вместо этого де Тани попал в засаду у Бангора и был разбит, погибнув сам и погубив свое войско, которое пыталось спастись бегством в условиях прилива.
Валлийцам казалось, что Гвинед спасло чудо. Ллевелин, торжествуя победу, возложил командование на севере на своего брата и отправился в карательный рейд против валлийских союзников англичан в марках. Но Эдуард никогда не был столь опасен, чем теперь, когда удача отвернулась от него. Ретировавшись в Рудлан, он решил продолжить кампанию зимой. Набрав рекрутов из графств, а также пятнадцать сотен всадников и профессиональных арбалетчиков из Гаскони, он созвал два парламента в провинциях – один на юге, в Нортгемптоне, второй – в Йорке. «Поскольку Ллевелин, сын Гриффита, – начиналось его предписание шерифам, – а также его сообщники, другие валлийцы, – для нас враги и мятежники, так как во время царствования нас и наших прародителей нарушали мир нашего королевства,...мы приказываем собрать... по четыре рыцаря от каждого графства, наделенных полной властью от лица общин упомянутых графств. Также от каждого города, бурга или торгового поселения по два человека, подобным образом уполномоченных от лица их сообществ, чтобы слушать и выполнять то, что от нашего имени будет разъяснено». Оба собрания проголосовали за тринадцатипроцентный налог, приносящий почти в два раза больше денег, чем добровольные ссуды Керкби. Между тем последнего попросили переслать деньги как можно скорее. «Особенно приложи усилия, чтобы предотвратить такой случай, – приказывал король, – когда мы и наша армия отступили бы сейчас из-за недостатка денег, на которые мы полностью полагаемся».
Шесть недель спустя после неудачи при Бангоре, в то время как король и его люди готовились к зимней кампании в горах Уэльса, пришли драматические известия с устья реки Уай. Воспользовавшись смертью великого маркграфа, барона Роджера Мортимера, одного из ближайших друзей Эдуарда, Ллевелин решил разграбить его земли. Но на него на Оруинском мосту «на земле Буилт» неожиданно напали сыновья магната и Джон Гиффард. 11 декабря 1282 года, когда он совещался с местными вождями, фаланга его копьеносцев была сметена градом стрел лучников Гиффарда, а затем атакована и разбита английскими конниками. Сам валлийский князь был убит, когда спешил на поле битвы, сотенным или лейтенантом шропширской пехоты по имени Стефан де Франктон. Его тело, найденное на следующий день, было доставлено в цистерцианское аббатство в Кум Хир. Голову отвезли королю, который, зная о пророчестве Мерлина, гласящем, что валлийский князь будет коронован в Лондоне диадемой Брута Троянского, приказал пронести ее, коронованную плющом, по улицам столицы и, насадив на копье, поместить у Тауэра.
Со смертью Ллевелина увял дух национального восстания. Давид, претендовавший на его княжество, слишком много времени провел в английском лагере, чтобы занять место в сердцах своих соотечественников. Около полугода он сражался в горах на севере с безжалостно сужавшимся вокруг него кольцом воинов Эдуарда и маркграфов. В июне 1283 года, беглец, прячущийся в бесплодных холмах около Кадер-Айдриса, был предан собственными соотечественниками и выдан Эдуарду, который даже отказался видеть его. Решение его участи возложили на английский парламент, который решил судить мятежника в Шрусбери. За измену королю, который возвел его в рыцари, Давида приговорили растянуть лошадьми, за убийство – повесить, за пролитую кровь на страстную неделю – выпотрошить, за участие в заговоре на королевскую жизнь – четвертовать и выставить части его тела в городах Винчестер, Нортгемптон, Честер и Йорк. Чудовищный приговор был полностью приведен в исполнение, а голова мятежника была выставлена рядом с головой его брата у Тауэра.
Так погибли князья северного Уэльса. Мятеж – именно так называли его Эдуард и все англичане – отнял последнюю надежду на самоуправление Валлийского государства без владения островом. Если бы Ллевелин был фактически князем Уэльса, а не только Гвинеда, это было бы возможно, так как, по Конвейскому договору, Эдуард намеревался предоставить ему фактическое правление в наследственных княжеских доминионах. Но лордами остального Уэльса являлись маркграфы, а не Ллевелин, а по феодальному и английскому закону их права были столь же основательны, сколь и его, и не могли попираться. Именно то, что урожденный валлийский маркграф настаивал на своих правах, спровоцировало Ллевелина на фатальное восстание. И, как показали события, до тех пор, пока существовали два Уэльса, один – полностью валлийский, другой – англизированный, война между ними была неизбежной. На небольшой территории, населенной агрессивными людьми, два независимых правителя едва ли могли сосуществовать без столкновений. И в таких конфликтах слабейший был обречен на поражение.
И именно здесь представления Эдуарда кажутся весьма определенными. Выросший на границе с Уэльсом и впитавший его воинственные традиции, он в большей мере понимал валлийцев, чем его английские подданные. Он оставался в Уэльсе со своим судом Королевской скамьи в течение почти восемнадцати месяцев после победы и посвятил всего себя, с обычной страстью к детальности, обустройству страны. Он не присоединил княжество к Англии, но оберегал его обособленное существование под властью короны и королевского права. В статуте об Уэльсе, вышедшем в марте 1284 года в замке Рудлан, он разделил Гвинед на три графства, по английскому образцу, – Карнарвон, Англзи и Мерионет и назначил столицей Карнарвон, где должен был находиться юстициарий Сноудона и казначейство. В то же время он выделил четвертое графство, Флинтшир, из Четырех кантрефов, поместив его под юрисдикцию юстициария Честера. Два других графства, Кармартеншир и Кардиганшир, уже созданные из бывших фьефов Ллевелина в марках, были обеспечены обычной английской административной иерархией шерифов, бейлифов и коронеров.
Эдуард не был бы самим собой, если бы он не закрепил все свои преобразования единой правовой системой. Именно ради этого и велась война. Валлийский и англо-нормандский законы стали единым целым. Основные законы, наполовину английские, наполовину валлийские[150], распространенные в шести графствах, заняли место старого права Гвинеда и множества противоречивых законов, существовавших в прилегавших к нему районах. Валлийцам позволили сохранить систему наследования, по которой все сыновья получали равные доли имущества своего отца, но, из уважения к ортодоксальному христианскому взгляду на женитьбу, незаконнорожденные исключались из претендентов на наследство. Компургация продолжала применяться в гражданских тяжбах между валлийцами, но не использовалась, как уже давно в Англии, в разрешении криминальных дел. Гражданское право осталось валлийским, уголовное было англизировано.
В остальном Эдуард все оставил в Уэльсе без изменений. Он сохранил феодальную юрисдикцию и воинскую власть маркграфам, помогавшим ему во время войны. Без гражданской войны и радикального изменения аристократического общества, в котором он вырос, король не мог поступить иначе. Он оставил народу бывшего княжества и кантрефов столько привычных для них правил, сколько было необходимо для поддержания мира и порядка, введя моральные и правовые стандарты, характерные для латинского христианского мира. Король оставил валлийцам наиболее ценимые ими вещи: язык и, с некоторыми исключениями, прежних чиновников и вождей, чтобы заполнить английские официальные и административные должности, которые он предоставил для лучшего упорядочения. Другими словами, он оставил им не валлийское государство, которое завоевал провокационным путем, но модель национальной уэльской государственности.
Барды, хранители культуры и знаний кимров, разделявшие мечты Ллевелина, горько оплакивали его смерть. И многие валлийцы, ненавидевшие любое правительство, включая тех, кто боролся на стороне Эдуарда, почувствовали железную хватку нового закона. Дважды за десятилетие после завоевания северных территорий валлийцы восставали: когда Эдуард был в Гаскони в 1287 году, под предводительством бывшего союзника английского короля Риса ап Мареддуда, который охотнее взялся за оружие, нежели появился в суде графства Кармартеншир; и вновь в 1294 году. Но такие восстания не могли добиться многого, так как после завоевания Эдуард воздвиг новые замки, чтобы удерживать северные земли. Были построены четыре крупных крепости – Конвей и Карнарвон на северных мысах, имевших стратегическое значение, и Криссиет и Харлек, расположившиеся на холмах, доминирующих над западным прибрежным проходом вдоль Кардиганского залива. Затем появилась и пятая – после мятежа Мадога – в Бомарисе, чтобы контролировать пролив Менай. Они были созданы королевским строителем замков, Мастером Джеймсом из монастыря Св. Георга, в новом концентрическом стиле, усвоенном крестоносцами у греков и сарацин во время сирийских войн, с искусно размещенными башнями, тайными ходами и барбаканами, следующими один за другим ярусами стен[151]. Благодаря тому, что лучники располагались на разных уровнях за бойницами и зубцами, они могли обстреливать продольным огнем атакующих в любом направлении. Вместе с заново отстроенными лондонским Тауэром и Карфилли графа Глостера они стали венцом великого искусства средневековых военных инженеров, расцветшего в Британии, прежде чем оно было окончательно забыто.
Возле валлийских замков, со своей обычной доскональностью, Эдуард заложил торговые города, построенные по подобию новых бастид в Гаскони и Каркассоне, городе его дяди Людовика. Они отличались такими же прямыми улицами, расходящимися от замка, который защищал их. Эдуард заселил их колонистами из Англии, которым обещал земли и особые городские привилегии: право выбирать собственных бейлифов и упорядочивать торговлю с купеческими гильдиями, еженедельные базары и ежегодные ярмарки, освобождение от королевских пошлин и валлийской юрисдикции. Как в Рудлане и Флинте в Четырех кантрефах, он поощрял поселенцев, позволяя им строить свои дома, используя королевский лес, и освободив их от платы за аренду городской земли у феодала в первые годы жизни на новом месте[152]. Однако он держал их под контролем, в каждом случае назначая мэром констебля из близлежащего замка.
Эдуард очень гордился своим новым княжеством. Ведь он был не просто королем англичан, но вождем христианского рыцарства. А кельтский Уэльс, по крайней мере в легендах, был самой романтической из всех рыцарских земель: знаменитый дом Артура и рыцарей Круглого стола, Гавейна, Персиваля и Галахада. Четыре недели спустя после выхода уэльского статута, королева Элеонора родила в Карнарвоне сына, который, после неожиданной смерти своего старшего брата несколькими месяцами позже, стал наследником английского престола. Король, нарекший его своим именем, назначил мальчику валлийских няню и слуг, а шестнадцать лет спустя даровал титул принца Уэльского – любезность, которая, как говорили, пришлась по душе жителям княжества.
Позже, летом 1284 года, Эдуард объявил турнир «круглого стола» в Невине, на котором в его присутствии соперничали самые знаменитые рыцари христианского мира. Со смертью последних валлийских князей никто не оспаривал королевские претензии на право именоваться наследником легендарного Артура и Брута Троянского. Лишь несколькими годами ранее он помогал переносить останки Артура и королевы Гвиневеры, чудесным образом обнаруженные в Гластонбери, в новую усыпальницу. Теперь Эдуард со всей торжественностью перенес в Вестминстер предполагаемую железную корону Артура и мощи римского отца Константина Великого, которые были обнаружены вместе с фрагментами истинного креста – «распятием Св. Неота» – среди захваченных сокровищ Ллевелина. Идея государственности в XIII в. базировалась на обладании такими святыми реликвиями христианского и римского прошлого. Присвоив их себе, король надеялся завоевать сердца жителей Уэльса, так же, как и их земли.
Глава III ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭДУАРДА I
«Закон во многих случаях терпит неудачу; дабы избежать тяжких последствий и лишений наследства, к нему необходимы различные дополнения и новые положения»
Глостерский статут«Созданный им закон едва ли устарел и сегодня; свободы, которые он включил в свою административную систему, до сих пор определяют формы местного управления; блюстителям порядка и констеблям, учрежденным им наряду с шерифом, предстояло управлять английской деревней на протяжении пяти сотен лет»
Хелен КэмВ декабре 1284 года король устроил рождественский пир в Бристоле. После паломничества к мощам в Бери Сент-Эдмунде он впервые за три года вернулся в Вестминстер. Эдуард прибыл в Лондон, как отметил нориджский хронист, «в канун Вознесения, а в следующую пятницу вместе с королевой Элеонорой, магнатами королевства и четырнадцатью епископами участвовал в торжественном шествии; Джон Печем, архиепископ, нес крест, захваченный в Уэльсе. В этот день король открыл парламент в Вестминстере, который заседал семь недель, и на нем король учредил много новых законов и подтвердил хартии своих предков... Кроме того, в том же году он издал новые статуты в Винчестере против воров, дорожных бандитов, укрывателей и сообщников злодеев, статут об установлении дозора в сельской местности, приходах и городах и вырубке всех деревьев вдоль королевских дорог. Он также запретил слушания дел по воскресеньям и проведение ярмарок и базаров на территории церковных кладбищ»[153].
Так современник описал самый напряженный период в процессе создания законов в средневековой Англии. Летом и осенью 1285 года были обнародованы статут о купцах и Винчестерский статут, а также знаменитый свод законов, известный как второй Вестминстерский статут. Они увенчали собой работу над первым Вестминстерским и Глостерским статутами, прерванную войнами в Уэльсе. Созданные канцлером и судьями, новые законы несли на себе печать замыслов короля по объединению страны. Как говорится в пословице, «то, что касается всех, должно быть всеми одобрено», а посему они были представлены на рассмотрение магнатам и представителям графств и бургов на заседаниях парламента, состоявшихся на Троицу и в Михайлов день.
Эти статуты возмещали недостатки закона, ставшие известными Эдуарду и его судьям в процессе отправления правосудия. Они были также созданы для предотвращения злоупотреблений, выявленных в результате крупного следствия, проводившегося в течение десяти лет, и основывались на хлынувших в Вестминстер жалобах и петициях с требованиями внести поправки в законы. Задолго до собрания парламента король рассматривал эти дела в Совете, пока комиссия «пробщиков» сортировала и приводила эти документы в порядок. Разработка подробных мер и создание проектов статутов, чтобы затем ввести их в действие, легла на плечи королевских судей, которым приходилось использовать их в судах, а в особенности на плечи главного судьи Суда Королевской Скамьи, Ральфа де Хенгема, крупнейшего английского юриста того времени.
Цель, к которой неустанно стремился Эдуард, заключалась в том, чтобы облегчить жизнь подданных и предложить строгое и справедливое правосудие всем в соответствии с их социальным положением, убедить народ, что корона соблюдает все права и обязанности феодального общества, а также объединить и усилить государство. Орудием Эдуарда стала прерогатива, общее право и королевские суды, выросшие из периодических собраний или «парламентов» магнатов, прелатов, рыцарей графств и бюргеров, которые король стал созывать, когда ему нужен был общий совет и поддержка предпринимаемых им мер. Вестминстерские статуты 1275, 1285 и 1290 годов стали венцом его законодательной деятельности. Каждый из этих статутов представлял собой всеобъемлющий кодекс, разработанный с целью исправить, прояснить и дополнить закон и дать королю возможность контролировать многостороннюю жизнь несдержанных, непокорных и консервативных людей, погрязших в старых обычаях и разобщенных местечковым патриотизмом, придерживающихся местных прав и традиций.
В ту иерархическую эпоху первым делом рассматривались жалобы крупных землевладельцев. Во времена, когда доход с земли являлся почти единственным источником существования для всего населения, за исключением небольшого количества купцов-спекулянтов, владельцу этого дохода уже при своей жизни приходились обеспечивать будущее не только своего наследника, но и других детей, а также и вдовы в случае своей смерти. Чтобы не пустить их по миру, он должен был выделить из семейного наследства специальные небольшие поместья для поддержания своих детей, их детей и внуков. Чтобы не пострадали его наследники, он должен был удостовериться, что эти поместья, выделенные из его основного земельного фонда, вернутся обратно после того, как с их помощью будет достигнута поставленная цель. Выделяя землю сыну в момент совершеннолетия или дочери по выходе замуж – maritagium[154]как это называлось – даритель оговаривал, что земля должна вернуться к нему или его наследникам, если потомство получившего в дар пресечется в течение стольких-то поколений.
Такие договоры были весьма сложны в соответствии с правилами и требованиями феодального пожалования. И в течение XIII века юристы общего права своими ясными и точными определениями ввели в употребление принцип – если земля была отдана «X и его кровным наследникам», то это означает – безусловно X и его наследникам, как только будет рожден его кровный наследник. Пользуясь такой интерпретацией, любой беспринципный человек – скажем, муж дочери, которой было даровано временное земельное пожалование, – мог распоряжаться собственностью как будто это его собственный лен, а не просто земля, отданная в пожизненное пользование. Таким образом, как потомство от данного брака могло быть лишено пожалования, им предназначенного, так и владение дарителя – права возвращения имущества к первоначальному владельцу.
Естественно, дарители и их наследники, не разбиравшиеся в юридических тонкостях, считали такое отторжение разновидностью обмана. Оно в особенности возмущало магнатов, которые, являясь главными держателями короны, до сих пор вынуждены были платить со своих урезанных ленов феодальные платежи и поставлять людей в войско короля как с целого лена. Этим жалобам, которые король должен был удовлетворить, что стало возможным благодаря действию его собственного закона, была посвящена первая глава второго Вестминстерского статута. В ней не предпринималась попытка установить максимально длительный порядок наследования земли без права отчуждения – это положение общее право рассматривало как необдуманное и недостижимое. Ее целью, как указано в преамбуле, было гарантировать, что, когда пожалование осуществляется на определенных условиях для обеспечения того, что называется держанием «of curtsey»[155], вдовьей части или maritagium, права обоих бенефициариев и того, кому эта земля должна быть возвращена, должны уважаться, а «воля дарителя, выраженная в хартии дарения, должна соблюдаться».
Именуемая по своим первым словам статья De Donis Conditionalibus[156]устанавливала основной принцип английского земельного права. Она не только защищала право возвращения земли наследнику первоначального собственника, но, запрещая отторжение со стороны получателя пожалования и таким образом гарантируя права его потомству, она признавала новый вид наследуемого поместья – неотторжимого до тех пор, пока были живы потомки первоначально получившего такое пожалование. В пределах возможного она гарантировала принцип первородства при наследовании как родительского поместья, так и пожалованных земель. Благодаря упущению в одной из статей статута, поколение спустя была найдена лазейка, позволявшая не самому получателю пожалования, но его сыну отторгнуть землю и таким образом лишить наследства своих потомков. Но замечательный судья, живший в течение царствования Эдуарда II, Главный судья Бересфорд, знал, что имел в виду Хенгем, когда разрабатывал De Donis, и настаивал на знаменитом утверждении, что надо рассматривать прежде всего дух, а не букву закона, и восстановил порядок наследования в пользу внуков, установив таким образом прецедент, которому следовали все суды[157]. И хотя столетие спустя юристы нашли другие способы, дающие собственникам заповедного имущества право препятствовать установленному порядку наследования, к тому времени в семьях как крупных, так и средних землевладельцев, несмотря на право первородства, окончательно утвердился принцип наследования земли посредством раздела, как и в других западных королевствах. Вместо того чтобы делиться между младшими сыновьями, земельная собственность в Англии должна была передаваться династически[158].
Влияние этого события на будущее нации трудно преувеличить. Оно не делало отторжение заповедного поместья невозможным – ибо изобретательность юристов не знала границ – но делало такое отторжение трудным. Во времена, когда классический феодализм уступал место более гибким формам держания, чтобы принять феодальное военное устройство для защиты целостности земельной собственности посредством передачи ее старшему сыну, общее право поддерживало новый землевладельческий класс. Оглашенный в Вестминстер-холле 28 июня 1285 года второй Вестминстерский статут использовал личные привязанности в долгосрочных интересах государства. Он помог создать такие земельные династии, чьи поместья и традиции, защищенные от поколения к поколению, стали школой, где обучали общественной службе и способности управлять[159]. Именно из этих мелких рыцарских и графских семей Эдуард и его наследники формировали местную элиту, члены которой представляли графства в парламенте, проводили в жизнь законы на местах, и в качестве магистратов – custodes pads или мировых судей – облегчали работу и без того перегруженных обязанностями судей и шерифов. Главы этих семей следили за приумножением своих состояний, готовя Англию к тому, чтобы она стала самой богатой сельскохозяйственной страной в мире, в то время как поколения энергичных и амбициозных младших сыновей, воспитанных в роскоши, но лишенных средств к ее обеспечению, выходили из родительских домов с представлениями о наследственном уровне жизни и необходимыми поведенческими навыками, чтобы сделать свое состояние и служить государству. De Donis помогала удержать поземельное джентри от превращения, как это произошло на континенте, в исключительную касту, отделенную от ответственности. Она создавала гибкую, в противоположность костной, систему управления, направленную на формирование предприимчивости и авантюризма вместо пребывания в застое.
Реформе законодательства о порядке наследования отводилась только одна из пятидесяти статей этого крупного законодательного акта. Кроме создания заповедных пожалований второй Вестминстерский статут касался обеспечения вдовьей части и так называемых «биллей об исключении»[160], права распределения приходов и бенефиций, права мертвой руки, приказа об отчетности и средств защиты для душеприказчиков. Он также установил новые ограничения на право шерифа и его чиновников откладывать исполнение судебных приказов, а также арестовывать и шантажировать людей по ложным обвинениям. Подобно всем эдуардовским реформам законодательства, статут имел исключительно практическую направленность. Он внес огромные изменения, хотя изменений никогда не бывает достаточно, сделав законодательство более ясным и эффективным. Главной целью статута было заставить законодательство работать более справедливо и быстро.
Статут также освободил присяжных от рассмотрения административных злоупотреблений, от которых они страдали. Он не только запретил внесение в список присяжных определенных категорий лиц, например, людей старше семидесяти лет или не проживающих в данном графстве, он пресек практику, по которой все возрастающее количество людей вызывалось на суд в Вестминстер. В то время как уголовные преступления, требовавшие суда присяжных, рассматривались выездными судьями во время ассизов в столице графства, гражданские дела передавались в Вестминстер, где их рассматривал Суд Общих Тяжб, чье постоянное местонахождение было определено Великой Хартией Вольностей. Поскольку принципом английского права являлось то, что любое дело, затрагивающее спорные вопросы, находившиеся в местной компетенции, должны были рассматриваться присяжными графства, в котором возникло дело, увеличение тяжб в центральных судах ложилось непосильным бременем на ограниченное количество фрименов, пригодных для того, чтобы выступать в качестве присяжных. Эдуард таким образом решил, что вместо того, чтобы гражданские присяжные отправлялись к его судьям, его судьи должны отправиться к ним. Не нарушая таким образом прямо Великой Хартии Вольностей, он и его советники обошли ее с фланга, придумав то, что вошло в употребление как nisi prius[161]. Впредь приказ шерифу направлял его к присяжным своего графства, чтобы прибыть на суд в Вестминстер к определенной дате, если до того – nisi prius – выездные судьи прибывали в графство, в этом случае присяжные должны были рассматривать дело перед ними. Средствами отсрочки день возвращения тогда откладывался до следующего визита выездного суда, таким образом, позволяя гражданским искам рассматриваться присяжными того графства, которому они принадлежали. Именно по этой причине гражданские дела, предназначенные на разбор выездным судьям, все еще отсылались присяжным графства как находящиеся в списке nisi prius.
Закон также облегчал истцу выбор иска или приказа (writ)[162]. При общем праве все формы иска и обеспечиваемые ими средства защиты были очень строго определены. До середины XIII века клеркам канцелярии разрешалось изобретать новые формы приказов, отвечающие новым нуждам, и список форм приказов постоянно расширялся, чтобы включить в себя все формы собственности и владения, не только землей – или недвижимостью – но личной движимой собственностью. Таковыми являлись приказ о нарушении чужого владения, который предписывал шерифу заставить человека ответить на жалобу, суть которой была в том, что «силой оружия» и против королевского мира ответчик забирал имущество истца или причинял ему какой-либо другой косвенный ущерб; виндикационный иск (или приказ о возвращении владения движимой вещью) за неправильный увод скота в возмещение долга; приказ о возвращении незаконно захваченного имущества, направленный на арест определенного имущества, как-то: плуг или лошадь, и долговой приказ, заставляющий вернуть определенную сумму, которой истец, по утверждению, был незаконно или насильственно лишен. Был также еще и приказ о расчетах, заставлявший бейлифа или управляющего, а позднее и контрагента, предоставлять отчет о расходах и иск о сделке, чтобы придать силу определенным правам, зафиксированным печатью, таким, как займы (лизы). Но в 1258 году, за 16 лет до вступления Эдуарда на престол, Оксфордские провизии, навязанные короне баронами, запретили канцелярии заверять любой новый приказ без согласия короля и совета. Таким образом, создание новых форм приказов значительно сократилось.
Чувствуя себя достаточно сильным, Эдуард теперь пытался найти средства для упразднения этого ограничения. Второй Вестминстерский статут не только расширил рамки владельческих исков о незаконном лишении прав на владение недвижимостью, но провизией под названием comsimilis casus уполномочил клерков канцелярии формулировать новые приказы в похожих случаях, когда по техническим причинам дело истца не могло быть изложено в уже имеющейся форме приказа. Хотя по политическим причинам это право мало использовалось на протяжении двух последних царствований, оно сделало возможным расширить приказ о нарушении чужого владения и затем создать два новых приказа – assumpsit, то есть об убытках из-за неисполнения простого договора и о взыскании убытков за любое неправильное использование или нарушение судебных обязательств, которые вызвали убытки, включая клевету и ругательство, до сих пор не дававших оснований для судебного преследования по общему праву.
* * *
Желая, наконец, совершить долго откладываемый визит в свои гасконские доминионы, Эдуард представил парламенту в Винчестере осенью 1285 года следующий статут, направленный на реформу поддержания спокойствия и защиты государства. В течение последних тридцати лет Англия страдала от баронской гражданской войны и двух войн с Уэльсом, и земля все еще хранила скорбную печать разорения и беспорядка. Шайки солдат, отпущенных из армии, называвшихся клобменами или trailbaston, потому что палками или плетьми[163] избивали путешественников и вламывались в дома; безнаказанными оставались не только грабежи, насилие и поджоги, но и убийства, количество которых было угрожающе велико. Снова и снова в свитках коронеров появлялись слова: «сбежал и не оставил имущества». В Нортумберленде в 1279 году из 83 лиц, обвиненных в убийстве, только трое были повешены, 71 человек сбежал, шестеро воспользовались правом церковного убежища и один апеллировал к суду духовенства.
В соответствии с традиционным английским законом каждый здоровый мужчина от 15 до 60 лет был обязан принимать участие в защите своего графства и служить в полиции графства. Вместе с соседями он должен был осуществлять «наблюдение и бдительность» («watch and ward») по отношению к преступникам и нарушителям спокойствия и, когда бы деревенский констебль ни поднял крик «лови! держи!», означавший то, что преступник обнаружен, помочь ему в преследовании и поимке. Каждый городской приход в соответствии со своим размером имел одного или более таких чиновников-совместителей, избираемых общиной из числа домовладельцев, которые, служа год или дольше, несли ответственность за «королевский мир» перед главным констеблем сотни. Младший констебль, как его называли, представлял одновременно и местную общину, и корону. Он был не только полицейским, но и солдатом, ибо во времена иностранного вторжения, бунта или восстания он должен был следить, чтобы каждый человек явился по приказу шерифа в фирд или posse comitatus[164]графства.
Норманнские и анжуйские предки Эдуарда использовали эту грубую народную милицию против непокорной знати, а его прадед Генрих II реорганизовал ее ассизой[165] о вооружении[166]. В то время она ограничивалась только свободными людьми – ибо для феодального представления идея о том, что бонд может носить оружие, представлялась шокирующей – но позднее служба в милиции стала охватывать все классы, включая вилланов. Использовав ее в Уэльских войнах, тем самым компенсируя убывающее число феодалов, теперь Эдуард поместил ее на постоянную основу. В каждом графстве, сотне или городском приходе должны были быть подготовлены списки всех годных к службе. Из них военные комиссары (Commissioners of Array) могли выбрать и заставить людей служить в качестве оплачиваемых солдат, то есть наемников, в королевских войсках в случае крайней необходимости. Оружие, которое они должны были обеспечить в соответствии со своим рангом и социальным положением, также оговаривалось в статуте, который предписывал регулярно практиковаться в его использовании, и дважды в год констеблями сотни должен был проводиться «смотр оружия», на котором перед судом шерифа для наказания должны были предстать те, кто не выполнял своих обязанностей. Фримены, владевшие движимым и недвижимым имуществом с доходов от 20 до 40 фунтов в год – сегодня мы можем отнести их к группе с достатком в 2000 фунтов в год – и которые еще были посвящены в рыцари, должны были явиться в качестве рыцарей, а те, кто имел доход более чем 15 фунтов в год, должны были явиться в качестве солдат с лошадью, копьем и доспехами. Простой народ, поделенный на четыре класса, должен был служить в качестве пехотинцев и либо сам себя обеспечивать, либо быть обеспеченным констеблем следующим оружием: железным шлемом, стеганой курткой, дротиком, кинжалом и луком со стрелами. В лесистых землях вдоль Уэльской границы – в Шропшире, Маклсфилдском лесу и Шервуде – сельские жители уже учились обращаться не с коротким луком, чья тетива натягивалась к груди, а стрелы попадали в воздух, но с длинным луком Гвента, растягивавшимся до уха, чьи стальные стрелы с гусиными перьями, направленные прямо в цель, могли сразить конного рыцаря, закованного в броню, с расстояния более чем двести ярдов. В следующем веке они сыграли очень важную роль.
По Винчестерскому статуту Англия получала резерв из непрофессиональных воинов, с которыми она прошла через все свои войны до времен Наполеона. Задолго до того, как англичане выучились повелевать морями, эта армия постоянно охраняла страну от повторных завоеваний. Фирд, posse comitatus, сбор народа, собрание пригодных для обороны, милиция – как бы это ни называлось это воинство, оно оставалось деревенским сбродом, давая огромный материал для юмористов со времен шекспировского Фальстафа до эпохи Роулендсона, но все же удовлетворяло необходимые потребности в обороне. Самой важной из его заслуг – хотя такой автократ, как Эдуард, вряд ли мог это предполагать – было то, что во времена, когда королевский деспотизм брал верх тем или иным способом, королю и в голову не приходило учредить постоянную армию.
Статут также очень четко определял обязанности подданных как полицейских и хранителей порядка. «Изо дня в день, – разъясняется в преамбуле, – растет количество грабежей, убийств, поджогов и случаев воровства, а присяжные не желают изобличать своими показаниями преступников, предпочитая лучше обвинять в ограблениях пришлых людей, нежели преступников, которые большей частью являются жителями их графства, а если даже родом из другого графства, то их укрыватели живут поблизости»[167]. Ибо существовало естественное стремление приходов избавляться от преступников, а значит, и от ответственности за преступления, позволяя им бежать в другой приход. Вместо того чтобы оставить преступления на рассмотрение только той местности, где оно было совершено, Эдуард учредил совместную ответственность за все преступления внутри сотни. Он также установил тариф за каждое ненаказанное преступление и нарушение порядка, который взимался с провинившейся сотни и ее деревень. Таким образом, единица полицейского надзора увеличилась и стала соответствовать потребностям не просто деревни, но и всей нации. Как часть этой политики приходам, расположенным вдоль королевских дорог, было приказано, под страхом предстать перед выездными судьями, срубить все кустарники на расстоянии двух сотен футов по обе стороны дороги, чтобы снизить риск засады со стороны бандитов и разбойников.
Чтобы ввести статут в действие, было создано новое местное судопроизводство. В каждом графстве в качестве хранителей или мировых судей, на добровольной неоплачиваемой основе, назначалось определенное число доверенных рыцарей. Это стало дальнейшим развитием системы Плантагенетов по разделению и расширению действий провинциальной власти, прежде сосредоточенной в руках шерифа. Ибо в дни феодального представительства и недостаточных коммуникаций, выяснилось, что слишком большая власть в руках шерифа вела к тому, что он становится несмещаемым и даже наследственным магнатом, готовым так же сопротивляться короне, как и тем, контролировать которых он был поставлен. Со времен Генриха II повелось, что каждый король давал каждое новое поручение короны не шерифам, но другим чиновникам – коронерам графства, судьям ассизов, военным и налоговым комиссарам, рыцарям графства и теперь хранителям, или мировым судьям, каковыми они стали век спустя. Все работало в пределах традиционной единицы местного управления, со всеми связующими их узами соседства и местечковым патриотизмом. Теперь все были подчинены не какому-то там провинциальному сатрапу, игнорировавшему корону из-за личных интересов, но королевским судам и чиновникам в Вестминстере, которые назначали шерифов, и в чьих руках лежала власть сместить их. Король предоставлял им полномочия; условия, при которых они осуществляли их, определялись общим правом, связь между ними и правительством происходила на периодических съездах королевских судей для дознаний, чистки тюрем, и находилась под наблюдением их главного лорда, короля. Взаимодействие центральной власти и местного представительства на основе закона и народно избираемого местного управления – вот ключевой момент английской истории.
Все это было частью процесса, который Эдуард неустанно проводил в жизнь для установления порядка в любой сфере управления и, вместе с ним, правил и институтов, чтобы обеспечить их дальнейшее существование. Сам того не осознавая, он создавал национальную государственность на века. Все, исходящее из его собственной власти и власти его Совета, даже все общество, за исключением вилланов, было сделано ее частью. Современное разделение между исполнительной, законодательной и судебной властью не было знакомо ни ему, ни его подданным; все это стало проявлением его королевской воли и верховенства закона, который он и его судьи вводили в действие и осуществляли. Его канцлер, старшие и младшие клерки канцелярии – главного исполнительного, делопроизводственного и судебного института королевства – заверяли печатью и выпускали его ордонансы и указы, а казначей и казначейство заставляли через шерифов платить пошлины, поборы и налоги. Его судьи заседали в Суде Королевской Скамьи, рассматривая дела короны и преступления против королевского мира, в палате казначейства – собирая долги и штрафы и наказывая тех, кто пренебрег ими, в Суде Общих Тяжб – слушая гражданские иски его подданных. Над ними, когда он желал призвать в него своих магнатов и представителей сословий королевства, находился главный апелляционный суд и собрание для обсуждения национальных дел, сам король и его советники в высшем суде Парламента. И, завершая круг, под руководством его выездных судей, заседавших в судах ассизов и nisi prius, судах по разрешению уголовных дел под названием «чистки темниц», «выслушать и разрешать» и «плети» находились местные суды графства и сотни, в которых его шериф и бейлифы разбирали малозначительные тяжбы о долгах и проступках, и осуществляли общую юрисдикцию над ссорами, скандалами, мелкими преступлениями и нарушениями правопорядка, и коронерские суды, которые расследовали внезапные смерти и выявляли их насильственный характер, а также дела о нахождении кладов. Теперь к ним можно было добавить сессии мировых судей. Рядом с ними, теперь подчиненные общему праву во всех делах, касавшихся «королевского мира» и владения фригольда, находились частные суды и знаки отличия крупных феодальных лордов и деревенские манориальные суды.
За пределами общего права, но все же подчиненные доминирующей власти короля, находились городские суды (суды бургов[168]), которые подчинялись торговому праву. Торговое право появилось для удобства международной торговли, чтобы улаживать споры между купцами различных стран и принимать меры по взысканию с них долгов. Оно действовало везде, где бы ни селились купцы, в бургах и морских портах, на рынках и ярмарках. Его содержание варьируется от страны к стране и даже от города к городу. В Англии существовала тенденция к принятию лондонских обычаев. Со времен Ившема, когда отец сделал Эдуарда наместником Пяти портов и отдал ему под контроль иностранных купцов в Англии, он осознал, что торговля являет собой нечто большее, чем простая дойная корова для взимания пошлин и сборов. По пути домой из крестового похода король посетил крупнейшие мануфактурные центры Тосканы и Ломбардии, где торговые магнаты предстали перед ним в золототканой одежде на лошадях в алых попонах, чьи люди приветствовали его на улицах как императора. Здесь за последние полстолетия итальянский гений совершил ошеломляющие успехи в средствах создания кредита и вместе с ним мануфактурного богатства. Морская торговля с Левантом и Египтом – перевалочными пунктами верблюжьих маршрутов на загадочном Востоке – принесла капиталистам Венеции, Генуи и Пизы богатства, невиданные со времен Римской империи. Население главного производителя тканей, республики Флоренция, составляло 300000 жителей; в Милане и Венеции проживало примерно по 200000 человек, что в четыре раза превышало население Лондона[169]. А в церквах мелких апеннинских городов великие художники создавали для своих патронов картины, возвещавшие о возрождении человеческого духа.
Все это стало для Эдуарда откровением. Чтобы обеспечить деньгами свои проекты, а затем войны с Уэльсом, он взял большие займы у текстильных мануфактур Рикарди и Фрескобальди из Лукки и Флоренции, а взамен, способствуя их закупкам английской шерсти, пожаловал им преимущества для расширения своих доходов, получив кредит, который они смогли ему предложить. В надежде на рост торговли в своем собственном королевстве, он последовательно поддерживал купцов, используя их в качестве банкиров, посредников, сборщиков и откупщиков пошлин и консультируясь с ними в парламентах и ad hoc[170]профессиональных собраниях или colloquia. Считая, что торговля зависит от взаимного доверия и выполнения договора, он пытался заставить уважать договорные обязательства и торговые добродетели честных сделок и предложить тем, кто жил этим, более быстрые средства для осуществления правосудия, нежели медленные и формальные процедуры общего права.
Летом 1283 года, во время заседания парламента в Шрусбери, приговорившего уэльского патриота Давида к смерти, в шропширском поместье своего канцлера Актон Бернелл Эдуард издал статут, дающий торговцам дополнительные средства к доказательству и взысканию долгов. «Ввиду того, – гласит преамбула, – что купцы, продавшие свои товары в долг разным лицам, до настоящего времени терпели большие убытки из-за отсутствия закона, с помощью которого они могли бы быстро вернуть свои деньги в день, назначенный для уплаты этого долга, из-за чего многие купцы воздерживались от приезда в эту страну со своими товарами к ущербу как самих купцов, так и всего королевства, король в своем совете приказал и постановил, что купцы, желающие обеспечить себе получение денег, данных в долг, пусть предлагают своим должникам (при заключении долговой сделки) являться к мэру Лондона, Йорка или Бристоля и в присутствии мэра и клерка, специально назначенного для этой цели королем, официально признать свой долг и срок его уплаты. И это официальное признание пусть будет занесено в свиток рукой этого клерка, которая должна быть всем известна»[171]. Когда срок платежа наступал, предъявлением обязательства должника перед мэром, в чьих списках оно было зарегистрировано, кредитор мог потребовать ареста движимого имущества и арендуемой собственности должника и их распродажи городскими властями. Если же этого было недостаточно для оплаты долга, то должник мог быть арестован и посажен в городскую тюрьму, где его держали на хлебе и воде, пока его друзья не найдут способ спасти его.
Теперь, в этот созидательный 1285 год, Эдуард пошел еще дальше. Осознав, что из-за подкупа и тайного сговора городских чиновников заморские купцы все еще сталкиваются с трудностями в осуществлении правосудия, он вместе с канцлером огласил новое постановление под названием «Статут о купцах». В соответствии с ним, как только обязательство не соблюдалось, должник должен был быть заключен в тюрьму; если же начальник городской тюрьмы отказывался принять его или позволял ему бежать, он становился ответственным за долг. Если по прошествии трех месяцев должник не смог продать свое имущество для удовлетворения кредитора, к кредитору переходило не только право владения всем его движимым имуществом, но и его землей на праве фригольда, внутри или вне города. Это был революционный прецедент особенно в то время, когда владение землей рассматривалось неприкосновенным. Затем он мог поручить свои права над полученным имуществом – владение на правах аренды по статуту о купцах, как это называли, – любому человеку, готовому купить его или держать его, пока долг не будет выплачен из дохода на это имущество.
Эдуард решительно хотел согласовать отправление правосудия в своем государстве со своей доминирующей властью и тем, что, как он полагал, является диктатом правосудия. Когда это не удалось, король стал чтить «свободы» корпорации не больше, чем мятежную феодальную знать. Летом, когда был издан второй Вестминстерский статут, он бросил вызов привилегиям большинства крупных городов Англии. После первой Уэльской войны Эдуард вступил в прямой конфликт с гражданскими властями Лондона, приказав огородить стеной традиционное место собрания свободных горожан перед собором Св. Павла, и проложить обходную дорогу, чтобы не допускать там ночных сборищ воров и проституток, принесших этому месту дурную славу. С незапамятных времен в городе было самоуправление; считалось, что оно существует еще с римских времен. Но те, кто осуществлял управление от имени горожан, теперь были инертными и некомпетентными; являясь членами небольшой группы олдерменских семей, они давно уже потеряли способность поддерживать порядок среди непослушных ремесленников и подмастерьев, а также криминальных отбросов, наводнивших узкие улицы и паперти быстрорастущей столицы. Дважды за последние семьдесят лет Лондон сыграл главную роль в восстаниях против короны; последние часы жизни отца Эдуарда, Генриха III, были отравлены воем лондонской толпы, когда в ответ на звон колоколов собора Св. Павла она хлынула к Вестминстеру, осуждая спорные выборы мэра.
Перед своим возвращением в Англию Эдуард обеспечил должность мэра нуворишу виноторговцу Генриху ле Уолейсу, энергичному и умелому автократу по призванию, который грубыми и авторитарными методами пресек беспорядки низов. После того как Уолейса отправили в другую, не менее неспокойную столицу короля, Бордо, его место было отдано богатому кентскому землевладельцу, Грегору Рокслейскому (Gregor of Rokesley) – представителю одной из древнейших городских фамилий, – который провел несколько административных реформ, в частности, касавшихся ведения гражданских и законодательных записей. Уже в самом начале его семилетнего пребывания на посту мэра появилась первая городская династия общественных клерков. Но удовлетворять строгие королевские требования к общественному порядку Роксли слишком сильно мешали гарантированные муниципальные права и свободы. В 1281 году, за два года до начала второй Уэльской войны, из-за непрекращающихся жалоб на преступления, ссоры и бегства от правосудия, он был заменен Уолейсом, который провел серию решительных реформ, фактически установивших над всеми горожанами полицейский надзор. Продолжая королевскую политику освобождения торговли от ограничений и помощи итальянским капиталистам, которые обеспечивали короля кредитами, всем заморским купцам в городе было дано полное гражданство, суд для решения своих споров и право выбора половины суда присяжных по всем делам, в которые они оказывались втянутыми.
Этого город перенести не смог. На осенних выборах 1284 года, за несколько месяцев до возвращения короля из Уэльса, Роксли был восстановлен в должности мэра практически единогласно. Снова разразились старые городские беспорядки и увеличилось количество преступлений, и летом 1285 года вслед за знаменитым групповым убийством в священных стенах Св. Марии ле Буа, в которое был вовлечен и общественный клерк, Эдуард назначил юридическую комиссию под председательством своего казначея Джона Керкби для расследования состояния общественного порядка в столице. Керкби, такой же непреклонный и ловкий в переговорах, как и сам король, приказал Роксли явиться в Тауэр и предстать перед ним и баронами казначейства. Когда на том основании, что мэр не должен посещать дознания, не связанные с вольностями города, Роксли снял с себя одежды мэра перед появлением, Керкби сразу же провозгласил, что поскольку город теперь находится без мэра, то он лишается своей юрисдикции и она должна вернуться к короне.
Это было именно то, чего добивался король; как и во всех других случаях, когда он заставлял своих советников быть пешками в его игре. Без колебаний Эдуард принял город на свое попечение и назначил губернатора. Правление патрицианских семей пришло к концу, их заменили королевские чиновники. В последующие двенадцать лет не проводилось выборов мэра или шерифов, а олдермены назначались судом казначейства, переместившимся в Гильдхолл. Керкби, год спустя ставший епископом Илийским, построил себе великолепный дворец на возвышенности с видом на Холбурнскую долину и западную стену города, который после своей смерти он завещал своим преемникам в епископском сане; а красивая маленькая часовня Св. Этельреда, созданная по образцу парижской Сен-Шапель, до сих пор стоит посреди викторианских домов Или Плейс[172]. Тринадцать лет спустя Лондон вернул свое право на самоуправление, но даже во время королевской опеки городские суды продолжали отправлять старинное традиционное правосудие, которое с этого времени во всех делах, касающихся преступлений и общественного порядка его жителей подчинялось общему праву и провизиям Винчестерского статута. Лондон стал частью государства, а не как итальянские, фландрские или немецкие города, чем-то отдельным от него.
Столица была не единственным городом, испытавшим на себе творческую энергию Эдуарда. На долю Линкольна, второго торгового города Англии, выпали не меньшие испытания. В Оксфорде, где канцлер университета жаловался на то, что городские пекари и пивовары загрязняли реку, называя их «опасными и вредными» для «общины ученых мужей», королевская комиссия назначила более подходящее место и запретила производителям хлеба и эля использовать данные воды «под страхом серьезной конфискации»[173]. Два портовых города, Новый Уинчелси и Кингстон на Халле обязаны своим существованием страсти короля к землеустройству. В Новом Уинчелси он задействовал Генриха ле Уолейса и Грегора Рокслейского, чтобы проложить улицы, построить верфи, рынки, церкви, мельницы и стены на выступающем клочке земли в нескольких милях от одного из древних Пяти портов, Уинчелси, которому из-за эрозии тальковых берегов, защищавших лагуну в устье рек Брид и Ротер, угрожали наводнения. Через три года после начала работ предположения Эдуарда оправдались, так как в 1284 году случился сильный шторм, снесший остров, на котором находился древний Уинчелси. Гулль или Уайк, как он перед этим назывался, десятилетие спустя из рыбацкой деревушки был превращен в порт, чтобы занять место Рейвенсера, которому также угрожали наводнения. Течение реки Халл было изменено при ее впадении в Хамбер, чтобы расширить бухту, где короной было куплено 150 акров и две трети из них отдано под застройку, а оставшаяся треть – под улицы и рынки по той же римской сетевой системе, как и в Новом Уинчелси. Были построены дороги, чтобы соединить город с йоркширской глубинкой, и этому месту была дарована королевская хартия, монетный двор, право устроения рынков два раза в неделю и название Кингстон на Халле[174].
Ни один король со времен Альфреда не проявлял такую тщательную и всеобъемлющую заботу о нуждах своих подданных. Эдуард экспериментировал с выращиванием хмеля в своих владениях, обеспечил сохранность национальных архивов в Тауэре под руководством хранителя королевских свитков и составил географическое обозрение, результатом которого стало появление дошедшей до наших дней карты Англии[175]. Король даже установил сезон ловли лосося в реках Англии. Его страсть к мелочам видна в ордонансах, которые он издавал, чтобы контролировать свой двор. Каждый вечер казначей, управляющие, обер-церемониймейстер, клерки, сержанты и церемониймейстеры двора должны были проверить дневные расходы на еду и вино в кладовой, хранилище, кухне и погребе. Смотритель королевского гардероба должен был взвесить воск и свечные фитили, проверяя, сколько осталось с предыдущего дня; церемониймейстеры должны были совершать обход дворца, дабы очистить его от «грубиянов» – лиц, нарушающих порядок, – и предотвратить обеспечение провиантом людям или лошадям, которые не имели разрешения находиться при дворе. Никому не позволялось спать в Гардеробной зале за исключением гофмейстера, клерка казначея, хирурга, главного смотрителя и одного лакея. Можно себе представить короля, сидящего в своей Солнечной зале[176] – королевской спальне, которая служила местом отдыха и дачи аудиенций, – слушающего отчеты своих слуг, поучающего, дающего советы и управляющего всем этим хаосом.
* * *
Эдуард являлся не только королем Англии. Он также был и герцогом Аквитанским, то есть управлял французской провинцией, простиравшейся от Шаранта до Пиренеев и одно время составлявшей почти половину территории Франции. Большинство этих земель, унаследованных от жены Генриха II, включая Пуату, Лимузен, Перигор и Овернь, отошло за последние полстолетия французским королям, частично в результате войн, а частично вследствие юридических процессов, затеянных французскими законоведами. Но благодаря своим виноградникам и экспорту вина Аквитания – известная как герцогство Гиенское или Гасконское – оставалась одной из самых богатых французских провинций. Хотя формально она была подчинена французскому королю, но на деле являлась независимым доменом, и Эдуард мог властвовать до тех пор, пока справлялся с местной неспокойной знатью и процветающим бюргерством. Он управлял этой провинцией в качестве вице-короля во времена своей юности еще при жизни отца, а по пути домой из крестового похода провел целую зиму в столице провинции, Бордо, решая накопившиеся проблемы и предотвращая междоусобные войны. Но уже двенадцать лет Эдуард там не был. Завоевав Уэльс и восстановив порядок в Лондоне, в мае 1286 года он со своей королевой, канцлером и блестящей свитой отплыл из Дувра в Кале.
В Париже, по пути на юг, он принес оммаж новому семнадцатилетнему королю, своему кузену Филиппу Красивому и получил обратно свой фьеф согласно правилам феодального держания. Эдуард гарантировал свои права и ограничения своего вассалитета уклончивой фразой, которую использовал при принесении оммажа отцу молодого короля, Филиппу III, при его вступлении на престол двадцать лет назад: «Мой господин король, я стал твоим человеком благодаря всем тем землям, держанием которых я обязан тебе, в соответствии с формой договора, заключенного нашими предками». Сейчас, как и тогда, английский король твердо решил не допускать промахов, которые могли бы быть использованы хитрыми юристами парижского парламента, постоянно пытавшимся расширить права своего господина за счет прав его вассалов. Ему даже удалось исторгнуть из своего венценосного кузена обещание, отказаться от вторжений французского суда на территорию его владений в течение его жизни, даже если вердикт будет вынесен против него лично.
Анжуец и норманн по крови, воспитанный матерью-провансалкой, привыкший с раннего детства говорить и думать по-французски, Эдуард чувствовал себя как дома во Франции – самом сильном и цивилизованном государстве в пределах христианского мира и колыбели рыцарства, представителем которого он сам являлся. Еще столетие назад его прадед, Генрих II, контролировал гораздо больше французских территорий, чем французский король, управляя Нормандией, Майном, Анжу, Туренью и Бретанью по праву наследства, а Аквитанией по праву женитьбы. И хотя из-за глупости и упрямства короля Иоанна и слабости Генриха III с тех пор были потеряны все земли, за исключением Гаскони и маленького анклава под названием Понтье на побережье Ла-Манша, доставшемся ему от жены-испанки, Эдуард все еще оставался самым могущественным вассалом Франции благодаря тому, что он был королем Англии и Уэльса и хозяином Ирландии.
В то время пока в памяти были все еще свежи впечатления от захвата Уэльса, Эдуард считался первым монархом в христианском мире. От Средиземного до Северного моря едва ли осталась хоть одна часть мира, с которой он не был бы тесно связан посредством брака, либо рыцарства. Брат его жены, Альфонс Мудрый, был королем Кастилии и Леона, самых больших из испанских королевств, и пока он планировал выдать свою дочь замуж за своего соседа и соперника, Арагонского короля, чей флот из только что завоеванных гараней Каталана и Валенсии контролировал западное побережье Средиземноморья, кастильский флот завоевал Бискайский залив. Восточнее Средиземноморского побережья лежал Прованс, родина матери Эдуарда, а теперь удел французской короны. Вдоль гор находилась Савойя, чей граф, другой кузен Эдуарда, умолял английского короля вынести решение по спорному вопросу о наследовании. А на другом конце Италии находилось королевство Сицилийское и Неапольское, чья корона была предложена брату Эдуарда самим папой в обмен на обещание вырвать ее из лап Гогенштауфенов. Именно попытка Генриха III принять это предложение привела к его ссоре с баронами и к гражданской войне, во время которой Эдуард был посвящен в рыцари; позднее его дядя, Карл Анжуйский – брат святого Людовика IX Французского, умный, жесткий и амбициозный человек – вырвал корону этого королевства у незаконного сына последнего Гогенштауфена Манфреда. Победа французского принца стала кульминационным событием в долгой гибельной борьбе между папством и Гогенштауфенами, почти столетие владевшими титулами германского императора и итальянского короля. В какой-то момент, во время возвращения Эдуарда из крестового похода, казалось, что христианский мир почти приблизился к старому идеалу, столь дорогому сердцу Людовика Французского, идеалу семьи христианских князей, живущих в дружбе под единым духовным руководством церковного института, находящегося над и вне политики. Как племянник Людовика и сын человека, построившего новое Вестминстерское аббатство, Эдуард был твердым приверженцем этого идеала. Тогдашний папа, Григорий X, который был его капелланом в крестовом походе, не притязал на мировое господство; его жизненная цель заключалась в том, чтобы остановить доктринальный раскол между западной Римской церковью и Византией или восточной греческой православной церковью и таким образом объединить весь христианский мир в походе за освобождение Святой Земли. Эдуард находился с ним по пути домой весной 1273 года, получив от папы право на десятину с церковных доходов английского духовенства, дабы покрыть расходы, связанные с крестовым походом. Но Григорий вскоре умер, а при его преемниках папство все больше ввязывалось в споры за мирскую власть и богатство.
Европейские страны, оказывавшие наибольшее влияние на интересы Эдуарда и его подданных, были представлены Нидерландами, или, как их тогда называли, Нижней Германией. Здесь, обращенные к устью Темзы и контролировавшие нижнее течение Шельды, Меза и Рейна – крупнейших речных торговых путей Северной Европы – находились Голландия и Зеландия, Брабант, Геннегау, Гельдерланд, Юлих, Клеве и епископства Льежское и Утрехтское. С двумя самым крупными из них Эдуард заключил брачные союзы, в 1284 году обручив своего старшего сына Альфонса – который, однако, умер в том же году[177], – с дочерью графа Голландского, а свою восьмилетнюю дочь, Маргариту, – с наследником Брабанта. Главный импортер английской шерсти для своих ткацких мастерских и владелец порта Антверпен, Брабант имел много связей с Англией, хотя менее значительных, чем со своим западным соседом Фландрией, чьи крупные ткацкие города, Гент и Брюгге, в то время бывшие значительно больше Лондона, Ипр и Дуэ, – никогда не покупали достаточно ее прекрасной шерсти. В отличие от своих Нидерландских соседей, граф Фландрский был вассалом не призрачного германского императора, но вполне реального короля Франции. Это стало причиной вечного конфликта во фландрской политике между феодальными узами ее правителей и зависимостью ее купцов от Англии. Любые перерывы в налаженных торговых связях – а до разрешения Эдуардом спора с графиней Фландрской в 1274 году перерыв длился пять лет – влекли за собой упадок фландрских городов и голод огромного количества рабочих мануфактур. То, чем города Тосканы и Ломбардии были для южной Европы, фландрские города были для северной – густо населенными промышленными центрами, импортирующими сырье и еду из сырьевых придатков, подобным Англии, и превращавшими их в прекрасные ткани для правящих классов роскошной и расширяющейся цивилизации.
Из-за того, что Эдуард считал христианский мир таким же единым государством, как и семью христианских князей, он стремился положить конец феодальной раздробленности, в которой они оказались со дня, когда пылким отроком он сопровождал своего дядю короля Людовика в крестовый поход. В пятьдесят лет, имея за плечами славу побед над де Монфором, сарацинами и валлийцами, он был дуайеном христианских королей. Мечтой его было повести их всех вместе против неверных, удерживавших святые места их веры и угрожавших их общему государству. Примерно три года спустя после принесения оммажа за свои французские доминионы Эдуард оставался в своей южной столице Бордо, пытаясь вести переговоры о мире между конфликтующими князьями Западной Европы и мобилизовать их на крестовый поход для спасения Акры и христианских крепостей Святой Земли, снова находившихся в смертельной опасности.
Таким образом, дела в христианском мире находились в плачевном состоянии. Хотя причины этого были не ясны ни Эдуарду, ни другим его современникам, такой же процесс национальной консолидации, который имел место в Англии, происходил и во Франции, Кастилии и Арагоне, правители всех этих стран преуспели в слиянии больших групп находящихся по соседству фьефов в единые национальные государства. В процессе этого они столкнулись друг с другом и, хотя все признавали доминирующее единство христианского мира, папа больше не мог сдерживать соперников. Действительно, своим иллюзорным триумфом над Гогенштауфенами и попыткой распорядиться короной Сицилии, папство собственноручно втянуло Запад в новый вид войны, не между племенами и феодальными лордами, но между национальными династиями.
На пасху 1282 года, во время, когда Англию потрясла новость о втором уэльском восстании, в южной Европе разразилось народное восстание. Взбешенные бесчинствами французской армии короля Карла Анжуйского, сицилийцы восстали и перерезали всех французов на острове[178]. Контролируя средиземноморские проливы, завоеванная по очереди греками, сарацинами и норманнами и сделанная ими и Гогенштауфенами лучшим в плане организации управления королевством на юге, Сицилия со своими естественными богатствами являлась лакомым кусочком для всех. Когда Карл попытался снова ее завоевать, сицилийцы предложили трон Петру III Арагонскому, мужу наследницы своего бывшего правителя, Манфреда. Использовав свой флот, чтобы удержать остров против объединенных сил папства и Карла, король Петр очертя голову ввязался в войну между Францией и Арагоном, которая свела на нет все надежды на крестовый поход, планируемый Эдуардом. Наиболее ярым приверженцем этой войны был папа, который в гневе за то, что Арагон захватил папский фьеф, показал себя даже более непримиримым по отношению к испанцам, чем французский королевский дом.
Именно этот бесплодный конфликт английский король считал своим долгом уладить. Его зачинщики были мертвы, но он еще подогревался неослабеваемой ненавистью их преемников. В этой взятой на себя миссии Эдуард проявил такт, сдержанность и настойчивость, впечатлившие всех. К октябрю 1288 года он заключил договор между Францией и Арагоном, сделавший его признанным европейским арбитром.
Пока Эдуард разрешал споры своих соратников-князей, он в то же время пытался урегулировать свои гасконские дела. Здесь также он навел порядок и проявил свои недюжинные способности. Самым лучшим даром от него герцогству стало строительство маленьких городков или бастид[179], которые он воздвиг в Гароннской долине, дабы обуздать феодальную анархию гасконской знати, чей рацион из «чеснока, лука, редиски и самых крепких вин», как говорили, делал их самыми вздорными в Европе. Некоторые из этих villes anglaises (английских городов), как их называли, с узкими прямыми улицами, расположенными в прямоугольном порядке подобно римским лагерям, сводчатыми площадями, крепкими стенами и задними воротами, сохранившимися по сей день, являются напоминаниями о том хорошем порядке, который установил английский король в этой прекрасной земле виноградников и рек семь столетий назад. Один из них был назван Батом в честь сомерсетского прихода канцлера Эдуарда Роберта Бернелла.
Более трех с половиной лет Эдуард оставался во Франции, пока его совет и судьи управляли Англией. По крайней мере один раз он был вынужден принять важное решение in absentia (заочно); когда архиепископ Печем вновь оспорил право короны передавать дела, подлежащие юрисдикции церковных судов. В этот раз именно корона являлась зачинщиком ссоры, ее юристы пытались заявить, что кроме чисто духовных дел церковные суды распространяют свою юрисдикцию только на брачные и завещательные дела. Сначала король поддержал их, назначив юридическую комиссию для проверки клерков церковного права, которые сопротивлялись запретительным королевским приказам. Но ропот, вызванный этим своевольным шагом, был так велик, что Эдуард, который обычно знал, когда зашел слишком далеко, решил пойти на попятную. Осенью 1286 года он послал приказ своим судьям, начинающийся словами Circumspecte agatis – следи за тем, как ты действуешь, – приказывая им не вмешиваться в юрисдикцию церковных судов, которая, в соответствии с церковным правом, всегда включала нанесение вреда клирикам, клевету и нарушение церковного права, распространяющегося на взимание церковной десятины, монастыри и церкви. Стремясь подвигнуть Европу на крестовый поход и под него получить привилегию папы взимать платежи с церковной собственности в Англии, Эдуард не хотел ссориться с церковью.
* * *
Во времена, когда без личного присутствия своего правителя даже самая стабильная нация могла впасть в анархию, долгое пребывание короля в Аквитании было мерилом зрелости английской административной системы. Но к лету 1289 года стало ясным, что возвращение в свое королевство откладывать нельзя. Двое из маркграфов с валлийской границы были втянуты в открытую войну из-за замка, который один построил на земле другого. Эдуард лично был крупным должником итальянских банкиров, поэтому никаких пожалований к обычным доходам не делалось с тех пор, как субсидия на одну тридцатую с доходов подданных была вотирована на валлийскую войну шесть лет назад. Когда в феврале казначей просил у парламента, созванного в отсутствие короля, субсидию, магнаты под предводительством графа Глостера, отказались давать какие-либо деньги до тех пор, пока суверен не встретится с ними лично.
Вся страна жаловалась на противозакония королевских чиновников и судей. Люди не получали, или им казалось, что не получали, быстрого и беспристрастного правосудия, которое было обещано в соответствии с Великой хартией вольностей и последующими статутами. Шерифы не выполняли приказы и не созывали беспристрастных присяжных, судьи и их клерки не скрывали, что успех дела в суде зависит от взятки, данной перед подачей иска, и королевские права приносились в жертву пополнению карманов его слуг, вопиюще пренебрегавшими оказанным им доверием и законом. И пока богатые истцы устраивали свои дела безо всякого промедления, бедняки вообще не могли получить удовлетворения по искам.
Когда король высадился в Дувре в августе 1289 года, он совершил свое обычное паломничество к могиле Бекета в Кентербери и своим любимым мощам в Бери, Уолсингеме, Или и Уолтеме. Во время совершения пожертвований в пользу Церкви и охоты на пустошах и в лесах Восточной Англии, он наблюдал за горестями и «слушал стоны несчастных». В день после своего возвращения в Вестминстер на пиру в честь Михайлова дня он выпустил прокламацию, приглашая всех обиженных вымогательством, несправедливым заточением в тюрьму и волокитой, предоставить жалобы специальной комиссии из семи чиновников своего двора под председательством канцлера. Расследования этой комиссии, проведенные в течение последующих двух лет, затронули более семисот чиновников, как высшего, так и низшего рангов, и раскрыли самые позорные факты в истории английского правосудия. Только двое из восьми Судей Королевской Скамьи и Суда Общих Тяжб избежали бесчестия, в то время как пятеро объездных судей были найдены виновными и смещены со своего поста. Томас Уэйлендский, главный судья, получивший огромные поместья в своей родной Восточной Англии, был обвинен в подстрекательстве к убийству и, не дождавшись судебного процесса, укрылся в стенах Церкви, воспользовавшись правом святого убежища. После того как он сослался на свою принадлежность к духовенству – ибо он был диаконом в юности, – ему позволили покинуть королевство, нищим, босоногим и с крестом в руке. Огромные штрафы были наложены на других судей; Соломон Рочестерский, главный судья ассизов, должен был заплатить сумму, равную четырем тысячам марок, – более 150 тыс. фунтов в современном пересчете. Даже это не могло сравниться с 32 тыс. марок, конфискованных у Адама де Страттона, управляющего казначейства, – должность, исполняющим обязанности которой он являлся вместо наследственного ее держателя, склочной графини Албемарла, с чьей помощью он и получил самое большое состояние в то время. Десятью годами ранее он едва избежал бесчестья; в этот раз богатство не спасло его и, найденный виновным в подлоге, мошенничестве и вымогательстве, он был приговорен к заключению в тюрьму и полной конфискации. Среди запасов, найденных в его доме, находилось 12650 фунтов в золотых слитках – более полумиллиона на наши деньги – и королевская корона.
Все деньги, полученные от штрафов, наложенных на слуг Эдуарда, помогли ему выплатить шестую часть долгов итальянским банкирам. Самый трагический казус произошел с величайшим юристом и главным судьей королевской скамьи, Ральфом Хенгемом. Может быть, потому, что Эдуард слишком доверял ему, наказание оказалось столь суровым. Смещенный с поста и оштрафованный на семь тысяч марок – сумму, в сто раз превышавшую его жалование, – он, кажется, попал в опалу за фальсификацию документа с целью спасти бедного истца от штрафа, который бы окончательно разорил его[180]. И хотя он скопил крупное богатство – ибо в противном случае он не смог бы выплатить штраф – кажется странным, что юрист с такими заслугами мог быть виновным в каком-либо преступлении, несовместимом с духом общего права, которое он любил и которое так хорошо отправлял. По всем же остальным обвинениям, выдвинутым против него, не было найдено ничего незаконного.
Вероятнее всего, Хенгем вызвал гнев своего господина тем, что защищался слишком упорно. Исключительно милосердный к тем, кто полностью отдавал себя на милость монарха, Эдуард был безжалостен к тем, кого он считал виновным и кто спорил с ним и пытался оправдать себя. Короля, написал Брактон, нельзя принудить, но можно умолить; Хенгем вполне мог быть слишком гордым, чтобы умолять. Другой судья, обвиненный в получении взятки от суда присяжных, состоящего из друзей ответчика, чтобы провести расследование частным образом, был освобожден от должности с номинальным штрафом, потому что он признал свою вину и униженно искал прощения. Когда десять лет спустя Хенгем вновь был призван на пост высшего судьи королевства, вероятно, произошло то, как писал Мэтланд, что «король укрощал человека, стоявшего перед ним, в минуту гнева за отказ позволить вменить ему какую-либо вину». Технически также главный судья подставил себя под его гнев, когда закон обернулся против его господина, что последний, так настаивавший на внешнем соблюдении своих прав, всегда с трудом прощал. Гнев короля, когда он рассматривал ущерб, нанесенный ему лично, мог быть ужасен; один судья, Генрих де Брей, судья евреев, пытался утопиться по пути в Тауэр, а позже сошел с ума.
Частичным оправданием поступкам судей могло быть то, что они получали весьма умеренное жалование. Хенгему и его брату, главному судье, платили 60 марок в год – то есть 40 фунтов, сумму равную менее 1500 фунтам в год сегодня, а их коллегам судьям только 40 марок. Так как Церковь отказывала своим членам участвовать в светских судах[181], корона дольше не могла пользоваться услугами эффективных и опытных юстициариев из церковных бенефиций. А поскольку король не мог обеспечить адекватные жалования, это позволяло судьям брать вознаграждение в качестве дополнительного дохода. В те исключительно сутяжнические годы, когда каждый крупный землевладелец был почти постоянно втянут в какой-нибудь судебный процесс, богатые истцы не чувствовали никаких угрызений совести, задабривая судей и их клерков. Между такими «задабриваниями» и взятками был лишь один шаг.
Самым важным результатом этого юридического скандала стала реорганизация юридической системы в Англии. Реформа была поручена новому главному судье суда общих тяжб Джону де Метингему – одному из двух членов изначального состава суда, избежавшего чистки. В 1292 году он и его соратники были включены в комиссию по выбору из каждого графства некоторого количества наиболее обещающих студентов, изучавших право, чтобы прикрепить их к судам либо в качестве младших адвокатов, либо практикантов к адвокатам высшего ранга или servientes ad legem (слуг закона), которые вели дела перед королевскими судьями. Они должны были обладать монополией, а определять их количество, установленное для начала как 140, должны были судьи, которые могли добавить столько, сколько требовалось. Другими словами, сами юристы должны были воспитать молодое поколение и привести в порядок образование и правила практической деятельности.
Это стало началом нового научного образования, находящегося вне церкви и независимого от нее. Спустя столетие после того как Генрих II вынужден был признать иммунитет клириков от светского правосудия, его правнук учредил светское обучение общему праву в качестве альтернативы римскому праву, которое, как и любую другую форму знания, Церковь в своих университетах преподавала только своим питомцам. Новое образование было основано на судебной практике и требовало четкой ясности мысли и речи. Его получали не у теоретиков в лекториях и библиотеках, а в битком набитых судах, где, под присмотром королевских судей, быстрые и тренированные умы профессионалов противостояли друг другу, когда мастера судебной науки, мысля и споря, стоя на ногах, изыскивали лазейки для подгонки противоречащих друг другу обстоятельств своих клиентов в строго определенную структуру приказов и процедур общего права.
Эти новички или подмастерья помогали и работали на своих старших коллег точно так же, как это происходит и сейчас, посещая их консультации и слушая поединки их словесных состязаний со скамей под названием «стойла» (cribs), расположенных по бокам судебной залы. В год, когда король доверил их образование своим судьям, появилась первая «Годовая книга» – записи о делах, их рассмотрении, а также судебные замечания, сделанные для молодых адвокатов, чтобы помочь им ориентироваться в лабиринте законов. Изложенные на официальном французском языке, использовавшемся в судах, они состояли из коротких памяток, включавших судебные аргументы и перебранки, исключения и ответные речи крупных адвокатов высшего ранга, которые властвовали в судах в конце XIII – начале XIV веков – Лоутера, Хейема, Говарда, Гертпула, Гентингдона, Спигонела – а также прерывания забывшихся судей и, часто, казуистические комментарии судей. «Бросай шуметь и убирайся отсюда», – прерывает главный судья Хенгем слишком настойчивого защитника. «Возвращайся к сути дела, – приказывает его преемник Бирфорд, – ты говоришь об одном, они о другом, так вы никогда не договоритесь». И когда мудрый советник пытается выиграть процесс, доказывая, что: «Мы уже видели, как ущерб был компенсирован при подобных обстоятельствах», Бирфорд отвечает: «Ты не увидишь этого до тех пор, пока я здесь нахожусь». «Где вы видели ручательство опекуна на приказе о вдовьей части», – спрашивает другой судья и, когда неосмотрительный адвокат отвечает: «Сэр, прошлым летом, и это подтверждает суть дела», следует сокрушительное заявление: «Если ты его найдешь, я отдам тебе мою шляпу!»
Значение этих «годовых книг» – а ни одна другая страна не имеет чего-либо подобного – очень велико, особенно в те годы реформ, когда судьи своими утверждениями и прецедентами помогали сформировать будущее направление закона. Некоторые из них, подобно Хенгему, создавали их даже в палате королевского совета. «Не скрывай недостатков статута, – отметил он как-то, – мы знаем его лучше, чем ты, ибо мы его создали». «Решение, вынесенное теперь вами, – напоминает советник в суде при разбирательстве другого дела, – станет затем властью в каждом quare поп admissit в Англии». Несмотря на всю свою настойчивость на жестких правилах судебного рассмотрения дела и судебной процедуры, такие судьи четко сознавали обширные дискреционные полномочия к исполнению правосудия и беспристрастности (справедливости) правосудия, делегированных им их венценосным господином. «Ты, нечестивый негодяй, – так судья Стаунтон прервал бесчестного атторнея, который просил за выдачу postea (официального заявления о ходе судебного процесса) в нарушение правил беспристрастности правосудия, – ты никогда не получишь его! А за то, что ты, чтобы задержать выдачу женщине ее вдовьей части, подтвердил и не выпустил приказ о призыве своего поручителя в суд, этот суд вознаградит тебя помещением в тюрьму»[182].
Ученики адвокатов не только вместе обучались в судах. Они вместе жили на постоялых дворах (иннах) или общежитиях, под руководством своих старших членов. В зеленом предместье Холборна и в низинах Темзы между Вестминстер холлом и лондонскими западными стенами в годы расширяющейся судопроизводственной деятельности, которая последовала за законодательными реформами Эдуарда I, появилась целая колония таких холостяцких поселений. Содержание такого постоялого двора, кажется, стало исключительно выгодным источником дохода для старейшин юридической профессии, ибо некоторые из них содержали несколько таких дворов. Клерк канцелярии по имени Джон де Тамуорт имел в царствование внука Эдуарда не менее чем 4 инна рядом с Феттер-Лейн. Подобные инны содержались и для клерков канцелярии. Почти все они сдавались внаем церковными корпорациями или сановниками – тамплиерами, госпитальерами, доминиканцами, приоратом Св. Варфоломея, женским монастырем Клеркенуэлла, Миссенденским аббатством, епископом Илийским – теми, кто владел большинством земель к западу от Лондона. Хотя они никогда формально не являлись корпорациями подобно церковным колледжам и холлам для постоянного проживания в Оксфорде и Кембридже, они помогали создать кастовый дух и выработать стандарты профессионального поведения среди тех, кто изучал и отправлял право. Многие из них освоили практику проведения юридических дебатов или учебных судебных процессов; когда в 1344 году Клиффордс Инн (юридическая корпорация Клиффорд) был сдан в аренду общине подмастерьев права, одно из его правил гласило, что «каждый член обязан в свою очередь продолжать традицию эрудиции и учения в указанном инне, которые характеризуют барристера»[183].
* * *
Весной 1290 года, продолжая чистку юридической профессии, король собрал другой парламент в Вестминстере – «обсуждение», как он назвал его, «с нашими верными поданными». Он заседал беспрецедентно короткое время – около трех месяцев – и утвердил и одобрил огромный том юридических и других дел, чьей целью было удостоверить, что все – король, магнаты, поземельное джентри и купцы – получили то, что заслуживали. Он одобрил законодательную деятельность Эдуарда, начавшуюся первым Вестминстерским статутом 15 лет назад, прерванной двумя валлийскими войнами и его визитом в Гасконь и продолженную в Вестминстере и Винчестере в 1285 году. На семейном съезде в монастыре его матери в Эймсбери, собранном для обсуждения условий брака его дочерей с наследником Брабанта и герцогом Глостера, было решено просить феодальных держателей короны об увеличении обычных вспомогательных платежей, налагаемых по такому случаю. Ибо благодаря распаду старых феодальных ленов сумма, которую теперь можно было с них получить, чрезмерно сократилась. Но, поскольку такое же сокращение произошло и в феодальных доходах магнатов, сделка застряла между ними и короной. Тем, что стало известным по своим первым словам Quia emptores[184], все фригольдеры, как крупные, так и мелкие, защищались от практики субинфеодации[185] которая грабила их посредством использования дополнительных прав феодального держания. Наиболее ценными из них были брак, опека – право получать выгоды с держания, пока наследник его являлся несовершеннолетним – и выморочное имущество (escheat) – возврат такого имущества, если держатель умер без наследников или совершил тяжкое преступление, что в те суровые и жестокие годы часто случалось. Кроме того, если держатель пожалует свой лен покупателю земли за чисто номинальную службу, подобно паре перчаток или розе в середине лета, его лорд не может от него ничего потребовать кроме как возращения обратно той самой мелкой услуги, которую он оговорил, если он оставит несовершеннолетнего наследника, умрет без наследников или совершит тяжкое преступление. Чтобы положить конец такой явной несправедливости, вызванной разделением денежной стоимости земли и феодальными повинностями, принадлежащими ей, Quia emptores вообще запретила субинфеодацию. Держатель мог все еще распоряжаться своей землей, и его право на это было теперь ясно признано, но феодальные повинности, принадлежащие его держанию, автоматически переходили к покупателю. В конце концов предотвращением дальнейшего расширения нисходящей феодальной цепи и формальной легализацией продажи земли, находящейся в простом держании, статут ускорил упадок феодализма. Ибо тогда он служил, как и предполагалось, ясным целям облегчения свободы купли-продажи и защите прав феодальных лордов и короны.
В следующем, уже пересмотренном статуте Quo Warranto[186], выпущенном на неделе после Троицына дня, король также признал принцип, что время может действовать и против короны. Это положило конец крайним требованиям, которые его судьи предъявляли к владельцам земли, дающей иммунитетные привилегии, по праву более раннего статута с таким же названием. Он не пошел так далеко, чтобы признать, что длительное право пользования или право давности владения может когда-либо стать легальном ответом на приказ quo warranto[187]. Но он решил то, что стало главной проблемой, посредством предложения пожаловать хартии тем, кто сможет доказать с помощью присяжных, состоящих из соседей, владение своими полученными таким образом землями с момента вступления на престол короля Ричарда в 1189 году – с незапамятных времен, как это называлось. Этот характерный английский компромисс, в то время, как продолжал предотвращать получение земли фактическим вступлением во владение, обеспечил спокойное получение надолго закрепленных прав тем, кто был не способен предъявить королевскую хартию в свою поддержку.
Все это принесло большое удовлетворение. То же самое касалось и королевского постановления изгнания евреев и отмены всех долгов по отношению к ним, принятое в парламенте тем летом. Несчастные создания, которые являлись объектом разорительных поборов четырьмя годами ранее для финансирования поездки Эдуарда в Гасконь, теперь были слишком бедны, чтобы далее помогать ему. Тем, кто отказался принять христианскую веру, было таким образом приказано покинуть Англию, забрав только деньги и движимое имущество[188]. Благочестивый народ с большой радостью приветствовал изгнание из своих тщательно защищенных гетто этих злополучных безбожников, чьи грабительские проценты так долго использовались короной в качестве средств наказания для неэкономных и расточительных.
Наградой короля за эти соглашения и наказание судей было общее облегчение финансовой ситуации. Вдобавок к увеличению феодальных платежей, пожалованных на браки его дочерей, Джоанны и Маргариты, – отпразднованных этим летом со специальным торжеством, поскольку проходила сессия парламента[189], – он получил субсидию на сбор пятнадцатой части от доходов с магнатов и рыцарей графств, а также бургов, и две субсидии на сбор пятнадцатой части от дохода с высшего духовенства и десятую – с низшего у конвокаций (синодов) Кентербери и Йорка. Это принесло ему в течение последующих двух лет более чем 100 тыс. фунтов и оплатило большинство его долгов итальянским банкирам Луки и Флоренции.
* * *
Помимо брака королевских принцесс в то лето оставалось еще одно семейное дело, которое необходимо было решить. Тремя годами ранее, после пересечения залива Ферт-оф-Форт[190] бурным мартовским вечером Александр III Шотландский скакал по скалам, галопом сквозь ночь, торопясь воссоединиться со своей юной французской королевой в Кингхорне. С тех пор все его дети умерли, включая и его дочь – королеву Норвегии, его же смерть в 44 года оставила Шотландию без прямого наследника, за исключением дочери норвежской королевы, пребывавшей в младенческом состоянии, «Девы норвежской».
Правление Александра и его отца Александра II на протяжении трех четвертей века дало долинной Шотландии сравнительную цивилизацию и свободу от постоянных пограничных войн с Англией, которые наиболее яростно велись в царствование Генриха II и короля Давида I. Ее задиристая, воинственная знать, многие представители которой были англо-норманнского происхождения или связаны брачными узами с английскими семьями, приняла, с некоторыми оговорками, монархическую и феодальную организацию общества по английской или европейской модели вместо племенной системы, которая все еще превалировала в горной Шотландии. Кельтская церковь также стала латинизированной подобно церкви северной Англии, чьи монастыри имели много связей с ее аббатствами – Мелроз и Едбург, Холируд, Ньюбеттл и Келсо – основанных в Лотиане и пограничных графствах прапрадедом Александра, наполовину англичанином Давидом I. Перспектива вернуться к анархии прошлого пугала наиболее ответственных шотландских лидеров, которые, за два года до смерти своего короля, на ассамблее сословий королевства, поклялись признать младенца «Деву норвежскую» наследницей трона, если Александр умрет бездетным.
В своей дилемме они обратились к Эдуарду, от чьей сестры, первой жены их умершего короля, и происходила «Дева». Это стало естественным для шотландской знати и прелатов, имевших английские поместья и родственников, искать поддержки более цивилизованного соседнего королевства, с которым их собственное было связано дружбой с незапамятных времен. Вскоре после смерти Александра два монаха прибыли в Лондон с посланием от регентов Шотландии, чтобы предложить возможность брака между их маленькой королевой и пятилетним сыном – наследником Эдуарда, принцем Эдуардом. После возвращения короля из Бордо осенью 1289 года он принял в Солсбери четырех шотландских регентов – Роберта Брюса, графа Кэррика, Джона Комина Баденохского и епископов Сент-Эндрюса и Глазго. Вместе с посланниками короля Эрика Норвежского они подписали договор, по которому юная «Дева» должна была быть послана в Британию в течение следующего года, Эдуард согласился свободно отпустить ее в Шотландию, как только в Шотландии будет наведен порядок к ее приезду и шотландцы обязались принять ее как свою королеву и не выдавать замуж без его согласия.
В июле 1290 года договор был заверен в Брингеме, рядом с Даремом, представителями обеих стран. Договор устанавливал, что права обеих сторон не должны быть ограничены предполагаемым браком и что если молодая пара не оставит потомства, чтобы сделать союз двух корон постоянным, Шотландия перейдет к ближайшим наследникам своего древнего трона, «свободная от любого подчинения королю Англии». Последний должен был гарантировать, что «ее права, законы, вольности и обычаи» должны «сохраняться всегда полными и нерушимыми» и что она «должна оставаться независимой и отделенной от королевства Англия по своим правильным границам и маркам... Свободной сама по себе и без какого-либо подчинения». Никакие решения, касаемые Шотландии, не должны приниматься в парламенте вне страны и никакие налоги не могут быть востребованы, за исключением тех, которые идут на общие расходы короны[191]. Было также оговорено, что до тех пор, пока молодые не будут способны вступить в брак и принести присягу о соблюдении обычаев королевства, Эдуард должен содержать шотландские королевские замки, чтобы гарантировать мир и порядок.
Эдуард утвердил договор 28 августа в Нортгемптоне. Он со своей королевой покинул Вестминстер в конце июля для обычного летнего паломничества по среднеанглийским святым местам, слушания дел и приема петиций, а также охоты в лесах Уилтвуда, Рокингема и Шервуда. Следующий парламент был созван осенью в Клипстоне в Ноттингемшире, чтобы конфирмовать устройство дел обоих королевств, которое король с таким триумфом достиг, и оговорить условия для европейского крестового похода, который он поклялся совершить.
25 октября, в его любимом охотничьем замке в ноттингемширских лесах, окруженный магнатами королевства Эдуард огласил свои планы о рыцарском христианском предприятии, которое должно было стать вершиной и главным делом его жизни. Была достигнута договоренность с папой, что крестовый поход начнется осенью 1293 года, на пятьдесят седьмом году жизни короля. Незадолго до этого он отправил ярмутский корабль в Берген, хорошо обеспеченный «грецкими орехами, сахаром, имбирем, фигами, изюмом и имбирными пряниками», чтобы доставить королеву Шотландии от отцовского двора в Норвегии в ее собственное королевство и к будущему супругу.
Но через несколько дней после того как Эдуард встретился со своим парламентом в Клипстоне, он получил волнующее письмо. Оно было написано одним из самых страстных защитников союза обеих корон, Уильямом Фрейзером, епископом Сент-Эндрюса, который писал о себе как «о его доверенном капеллане (духовнике), Уильяме, Божьей волей скромным министром церкви Сент-Эндрюс». В нем содержался слух, что после бурного пересечения Северного моря «Дева» умерла в Оркни в конце сентября. Но еще более, зловещим было то, что Брюсы и другие шотландские знатные роды, выдвигающие требования на трон, теперь собирают вооруженные силы. «Страх войны и смертоубийства, – заканчивалось письмо, – пока Всевышний, с вашей помощью и хорошей службой, не дарует быстрое избавление. Если окажется, что наша вышеуказанная госпожа покинула этот мир (возможно, это и не так), пусть ваше величество удостоит, если ему будет угодно, своим приближением к маркам для объединения с шотландским народом и для спасения от кровопролития, так чтобы преданные люди королевства могли не нарушать свою клятву и поставить во главе их короля, который должен наследовать в порядке преемственности, если случится, что он последует вашему совету».
До того как пришло подтверждение, более страшные новости достигли короля. Его королева внезапно заболела в Харби в Ноттингемшире. 28 ноября она умерла у него на руках. «Моя арфа плачет, – написал он, – при жизни я любил ее нежно, и моя любовь никогда не станет меньше даже при ее смерти». Она являлась его неразлучным спутником на протяжении тридцати шести лет и родила ему тринадцать детей, из которых семеро умерли до нее. С тех пор он утратил путеводную звезду в своей жизни, которая вела его по праведному пути.
Когда пораженный горем король следовал за телом своей жены в длинном кортеже в Вестминстер, в каждом городе и деревне, где отдыхал кортеж, он клялся воздвигнуть крест в память о ней. В Линкольне, Грентаме, Стемфорде и Геддингтоне, в Хадинстоне, рядом с Нортгемптоном, в Стони Стратфорде, Вобурне, Данстебле, Сент-Олбансе и Уотеме, в Чипсайде и деревушке Чаринг-кросс поблизости от его Вестминстерского дворца, в следующие несколько лет появились красивые каменные мемориалы, выражавшие его любовь к ушедшей супруге. Три из них сохранились до сих пор. Сильно поврежденные временем и иконоборцами, своими скрытыми нишами и тонко выточенными статуями, свободно текущим лиственным орнаментом и узором, башенками, флеронами и тонкими венчающими их крестами, они представляют собой изящные примеры новой декоративной английской готики, которая под влиянием эдвардианского двора начала вытеснять строгость ранней английской готики.
В соответствии с тогдашней практикой бальзамированные органы королевы были захоронены отдельно. Ее внутренности поместили в церкви Богоматери в Линкольне, а сердце, помещенное в золотую раку, сделанную Адамом, золотых дел мастером, – в новой доминиканской церкви (или церкви черных братьев) в Бридуэлле. За неделю до Рождества ее тело было захоронено в аббатстве, для которого Эдуард нанял затем скульптора Уильяма Торрела, дабы воздвигнуть над могилой ее позолоченное изображение. Затем, упрятав далеко все счастливые воспоминания о своем прошлом, король отправился в монастырь Бономм в Эшридже, основанном его кузеном, Эдмундом Корнуольским. Там, в холодном уединении буковых лесов он и провел Рождество.
Глава IV ОТВАЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ
Шотландцы – беззаботные, сильные и довольно дикие... Они жестоки к своим врагам и более всего ненавидят рабство; они считают великим бесчестьем для мужчины умереть в собственной постели и более всего почитают смерть на поле боя. Они мало едят мяса и могут долго воздерживаться от пищи, они редко едят, когда солнце высоко, иногда питаясь мясом, рыбой, молоком и фруктами чаще, чем хлебом. И хотя они красивы телом, одеваются они отвратительно и достаточно непристойно. Они превозносят обычаи своих отцов и презирают то, что делают другие.
ХигденУжасный чертополох... держи его рядом с кустом из копей.
ДанбарСмерть не только отняла у Эдуарда его королеву. Она лишила его благоприятной возможности. Хотя не в его натуре было предаваться отчаянию. Просьба шотландских вождей рассудить их вернула английского короля к жизни. Хотя он не мог уже добиться единого закона для Британии, женив своего наследника на шотландской королеве, он мог бы сделать то, что называется bretwalda островной империи, которой, считал он, правил король Артур, и над которой его предшественники однажды провозгласили сюзеренитет.
Ради этого король принял приглашение шотландского регента. Из Эймсбери, куда он отправился после рождества, чтобы навестить умирающую мать, Эдуард попросил доставить ему выдержки из монастырских хроник, дабы иметь доказательства своего права на владычество над шотландскими землями. Два последних короля Шотландии были женаты на английских принцессах и принесли Плантагенету оммаж за свои английские владения. Приняв такую ограниченную присягу на верность, Эдуард сохранил за собой право требовать большего. Ведь были случаи, когда такие требования исполнялись. Вильгельм Лев и Александр II оба платили дань английской короне. Первый, после пленения, принес оммаж Генриху II за свой шотландский фьеф и корону. Освободил его от вассальной зависимости Ричард Львиное Сердце в обмен на деньги для крестового похода. И перед объединением шотландских королевств, двумя веками ранее, изредка князья северной Британии приносили оммаж англосаксонским правителям островного государства, хотя эти обстоятельства зачастую скрыты в дыму войн и древности. Сложность состояла в том, что хоть такие прецеденты и могли удовлетворить английского судью, вряд ли они убедили бы шотландцев.
Ссылаясь на эти записи о наследственных правах, которые он с присущей ему доскональностью рассортировал, Эдуард призвал претендентов на вакантный трон Шотландии встретиться с ним в Норгеме в Нортумберленде. В начале мая 1291 года, в сопровождении судей, монастырских летописцев и папского нотариуса, а также рекрутов из северной Англии, король встретил представителей Шотландии, объявив через своего нового главного судью, Роджера Брабазона, что из сочувствия к их положению он пришел «как господин и верховный лорд шотландского королевства», чтобы справедливо рассудить своих вассалов. Он мог бы единственно, объяснял Брабазон, следовать согласно условиям феодального права. Прежде чем королевский суд вынесет решение, вакантный фьеф надлежало передать королю, чьи права как сюзерена были неоспоримы. После этого судья зачитал доказательства, собранные английскими летописцами, дотошно излагая все случаи принесения оммажа шотландцами вплоть до правления Генриха II и игнорируя все, что произошло потом.
После чего некоторые из представителей шотландцев спросили, могут ли они посоветоваться с теми, кто направил их сюда. На один ответ, представленный от лица «общин добрых людей Шотландии», было доказано, что, несмотря на то, что пока они не сомневаются в искренности короля, они не знают какого-либо права, которое обеспечило бы его сюзеренитет, и не могут обязать своего будущего суверена к этому[192]. Эдуард дал им три недели на размышление. Так как единственной альтернативой его посредничеству была гражданская война, ни один из претендентов в конце концов не отверг его предложений. В начале июня они все поклялись подчиниться его суду и принять его решение.
Уверенный в своей правоте, соответствующей нормам феодальной практики, Эдуард потребовал у шотландцев сдачи королевских замков, пока требования находились в состоянии оформления. Он переназначил регентов, добавив в их число англичанина, и провозгласил свой порядок, обещая управлять Шотландией в соответствии с ее древними законами и традициями. Затем, ожидая изучения требований претендентов, он отправился в поездку по стране. В июле он посетил Эдинбург, Стерлинг, Данфермлин, Сент-Эндрюс и Перт, назначив констеблей в двадцати трех замках и заставив принести себе как можно больше присяг на верность.
Предварительное слушание состоялось в Берике в начале сентября. На него были созваны почти все юристы обоих королевств. Присутствовали двадцать четыре английских судьи или аудитора и восемьдесят шотландских советников, призванных разъяснять им шотландское право. Так как Эдуард гордился хорошей системой правосудия, которую он предложил, дело вели с предельной тщательностью. Каждый из претендентов, а среди них были король Норвежский и граф Голландский, появлялся перед английским королем и его судьями, лично или через посредника, в часовне Берикского замка и называл свою родословную, начиная от предка, от которого, по его мнению, он мог наследовать право на корону. Через десять дней все доказательства поместили в запечатанный мешок, и суд объявил перерыв, чтобы шотландские консультанты могли приготовить свои ответы. Тогда король отправился в Эймсбери, чтобы присутствовать на похоронах своей матери. Окружавший его мир становился все более пустым, и у него остались лишь правосудие и правление.
В октябре в Абергавенни на реке Уск, в самом сердце уэльских марок, Эдуард вступил в войну с еще одной потенциальной угрозой миру и порядку, которые он стремился установить по всей Британии. Эта угроза была ближе к дому и гораздо опаснее, чем что-либо за пределами Чевиота. Двести лет маркграфам Южного Уэльса и валлийских пограничных земель было позволено предками Эдуарда творить свой собственный закон, править и вести войны на своих диких территориях по собственному желанию взамен за защиту Англии от валлийцев. Теперь, когда после двух дорогостоящих кампаний Эдуард уничтожил последний оплот валлийской независимости, он больше не собирался давать этим феодальным смутьянам свободу, которая грозила уничтожить все, что он, как законодатель и миротворец, отстаивал, и чему теперь, когда Уэльс был покорен им, не было дальнейшего оправдания. В результате браков и права наследования большинство маркграфов были не только лордами в Уэльсе, но и английскими землевладельцами и магнатами. Королю казалось недопустимым, что те же люди, которых он с таким усердием учил общему праву и долгу в королевстве (а они были членами его совета и верховного суда), по другую сторону Северна ведут себя как независимые князья и развязывают свои личные войны. Так, например, именно из-за столкновения графа Глостера, самого богатого и могущественного магната королевства, и главного констебля, графа Херефорда, королю пришлось ускорить приезд из Гаскони осенью 1289 года.
Вскоре после возвращения Эдуард издал воззвание, запрещающее двум графам продолжать схватку. Однако всего две недели спустя слуги Глостера совершили набег на территории Херефорда, похитив тысячу голов скота и убив некоторых из его людей. Затем последовали еще два нападения. Тогда осенью 1290 года Херефорд возбудил судебное дело против Глостера, и у короля появилась возможность разрушить «обычаи марок». Его сводный брат, Уильям де Валенс, граф Пемброка (сам маркграф), епископ и два судьи были назначены для рассмотрения дела, и всех магнатов марок призвали появиться в суде в качестве истцов. Когда Глостер, только двумя месяцами ранее женившийся на дочери короля, не явился, его признали виновным в оскорблении величества.
Как только Эдуард вернулся из Шотландии в сентябре 1291 года, он созвал парламент из архиепископов, графов, епископов и баронов, чтобы разобрать дело в Абергавенни. На этот раз, когда председательствовал сам король, Глостер не посмел отсутствовать. Но так как и сам Херефорд запятнал себя преступлением, конфисковав у своего противника скот, не дожидаясь решения суда, оба графа были приговорены к заключению и конфискации за то, что действовали дерзко и противозаконно. Только когда им позволили искупить свое бесчестье, они были освобождены на условиях, что Глостер заплатил десять тысяч марок – более Ј 300 тысяч в современных деньгах, а Херефорд – тысячу. Земли Глостера в Гламоргане, а Херефорда в Брекноке попали в руки короля пожизненно, а позже были возвращены. Но более всего пострадала их гордость; с ними обошлись, несмотря на их владычество в маркграфстве, как с простыми подданными короля или его чиновниками в Англии.
Поставив на место гордых графов марок, Эдуард возвратился к проблеме установления закона, порядка и королевского правления в Шотландии. К концу лета 1292 года «непомерные труды Брабазона» и его собратьев-судей были закончены. Когда в октябре возобновились слушания в Берике, все претенденты на трон были выведены из игры, за исключением трех отпрысков дочерей младшего брата Вильгельма Льва, Давида, графа Хантингдона – главного держателя прадеда Эдуарда, Генриха И. Ближайшим родственником, наиболее популярным среди своих собратьев-магнатов, был сын второй дочери, 81-летний Роберт Брюс, англо-шотландский аристократ, служивший главным судьей Королевской Скамьи у отца Эдуарда и перед рождением последнего шотландского короля считавшийся предполагаемым наследником. Но правила первородства, которые были приняты в большинстве западноевропейских королевств, требовали, чтобы трон достался Джону Баллиолю, чей отец был женат на старшей дочери Хантингдона. Он тоже был как шотландским, так и английским магнатом; его отец, хозяин Барнардского замка, сражался на стороне Эдуарда при Льюисе и основал Оксфордский колледж для бедных студентов с севера[193], который до сих пор носит его имя.
Решение вопроса зависело и от того, дает ли обычай Шотландии сыну младшей дочери больше прав, чем внуку старшей. Так как восемьдесят шотландских советников, половину из которых набрал Брюс, а половину – Баллиоль, не смогли прийти к соглашению, решение было возложено на английских судей. После долгих размышлений они решили воспользоваться английской традицией, гласившей, что пока не пресечется старшая линия наследников, младшая не имеет право на корону. Однако осталось рассмотреть еще одно предложение, внесенное отпрыском третьей дочери, английским аристократом и маркграфом, Джоном Гастингсом, лордом Абергавенни, не может ли Шотландия, будучи фьефом без мужских наследников, быть разделена между представителями трех сонаследниц. В этом его поддержал потерпевший неудачу Брюс.
Если бы в тот момент Эдуард хотел подчинить Шотландию своей личной власти и присоединить ее к Англии, то он, несомненно, согласился бы разбить это северное королевство на три первоначальных компонента: Лотиан, Олбан и Стратклайд и поделить их между претендентами. Но целью короля была не раздача по частям своих владений, но их объединение и включение в какое-либо еще большее владение. Его судьи объявили Шотландию неделимым королевством и, таким образом, невольно гарантировали ее будущую независимость.
17 ноября 1292 года, после шестинедельных слушаний, Брабазон присудил трон Баллиолю. Двумя днями позже Эдуард приказал своим констеблям освободить для него шотландские замки. Магнаты принесли оммаж своему новому королю, а последний – Эдуарду, своему суверену. Неудачливый участник состязания, старый Брюс, отказался признать требования на престол своего соперника и передал свои права на престол своему сыну, графу Каррика, который, имея ту же цель, что и его отец, передал свои шотландские владения своему собственному сыну, Роберту Брюсу, тогда несовершеннолетнему, впоследствии отплыв в Норвегию, чтобы выдать замуж свою дочь за овдовевшего короля Эрика – отца маленькой принцессы, чья смерть и стала причиной всех проблем и несчастий.
Баллиоль был официально коронован в Сконе в день Св. Андрея на достопамятном Камне Судьбы, принесенном, как считалось, древними королями скоттов с берегов своей родной Ирландии. Новый король был спокойным, скромным человеком, мало подходившим для роли буфера между буйной местной знатью и сюзереном, столь же жаждущим официального закона и порядка, как и Эдуард. Волнения начались почти сразу же.
Так, 7 декабря, всего лишь две недели спустя после того, как «великое дело Шотландии» было решено и почти перед самой коронацией Баллиоля, один из его подданных, берикский купец, обратился в английский суд, протестуя против решения шотландских юстициариев. Эдуард, гордившийся тем, что никогда не отказывал в правосудии ни одному человеку, приказал, чтобы прошение было доставлено на суд Королевской скамьи в Ньюкасл, где он устраивал рождественский пир. Когда же Баллиоль напомнил ему, что, по соглашению в Бригеме, ни один подданный Шотландии не может ходатайствовать ни в одном суде за пределами своего королевства, Эдуард ответил, что он не связан брачным соглашением, которое не было доведено до конца. Чтобы окончательно разрешить этот спор, король сделал выписки из оммажа, принесенного Баллиолем, и заставил того скрепить печатью документ, освобождающий его от каждой «статьи, соглашения и обещания», сделанного в Бригеме.
Это был крупный политический просчет английского короля, хотя он и вытекал из пожизненных представлений Эдуарда на права и обязанности короля и закона. В эпоху установления и проведения в жизнь закона он был одним из крупнейших законодателей, когда-либо носящих корону. Плантагенет принял оммаж у Баллиоля как у английского барона и короля Шотландии; и, будучи его сеньором, связал себя феодальной клятвой защищать его права и как английского подданного, и как шотландского короля. Он поклялся уважать законы и установления Шотландии, как ему приходилось уважать в Гаскони, Уэльсе, Ирландии и всех своих доминионов. Но, с другой стороны, как суверен, он также должен гарантировать правосудие по всей строгости закона всем своим подданным. Если кто-либо из них не мог добиться правосудия в суде своего непосредственного господина, даже если последний был королем, он имел право искать справедливости в суде сюзерена. Это было то же самое право, что Генрих II дал своим английским подданным, когда выпустил указы, дающие право апеллировать к королевским судам, в поисках правосудия, если они не могли получить его в судах своих феодальных сеньоров. Также не могли королевские суды совершать правосудие по правилам менее просвещенным, чем те, что обычно использовались, или вступавшим в противоречие с принципами естественного права.
Такое же требование английского короля к валлийцам отвергнуть примитивные законы прошлого во имя справедливости разрушило планы Эдуарда на мирный союз с Уэльсом. Как только Баллиоль отказался от права своего королевства настаивать на условиях Бригемского соглашения, он проиграл. В течение следующих двух лет его постоянно вызывали в королевский суд в Вестминстере, как если бы Шотландия была английской вотчиной. Так как английские суды предлагали более совершенную систему правосудия, чем шотландские, то к ним часто прибегали не только английские и иноземные подданные, как, например, гасконский виноторговец, преследовавший судебным порядком Баллиоля за билль о виноторговле, изданный его предшественником, но и сами шотландцы, недовольные приговорами собственных судов. Наиболее унизительной была апелляция сына бывшего графа Файфа – одного из новых главных королевских магнатов – против судейского решения шотландского совета или парламента. Когда, в последний раз попытавшись оказать сопротивление, Баллиоль отказался отвечать в Вестминстере или же просить об отсрочке, ссылаясь на то, что как Шотландский король, он не может сделать ни того, ни другого без согласия «добрых людей своего государства», его отдали на милость короля за презрительное отношение к суду своего суверена и приказали передать три его самых мощных замка. Тогда он уступил, еще раз признав себя подчиненным Эдуарда. «Пустой камзол», – называли его подданные. Столкнувшись с их негодованием и требованиями английского короля, он оказался между двух огней. «Простое создание, он не открывал рта, – писал современник, – опасаясь бешеной дикости тех людей, дабы они не уморили его или не заточили в темницу. Так он жил год, как ягненок среди волков».
У него был выход, но этот путь не был счастливым. Баллиоль был не единственным королем, над которым стоял суверен. У Эдуарда тоже был сеньор. Его кузен, Филипп Красивый – от чьих юношеских деяний он хлебнул много горя – обещал уважать, как и Эдуард это делал, узы семейной любви между королевскими домами Англии и Франции, установленные Людовиком Святым и Генрихом III. До сих пор политика велась мудрыми провансальскими юристами, которым этот проницательный, расчетливый молодой человек доверял свои дела, чтобы они расширили его власть, насколько это возможно. Реалист, как и его прапрадед, Филипп Август, французский король стремился продолжить процесс, временно прекратившийся во время правления Людовика Святого, подчинения отдаленных и формально независимых французских фьефов единой власти и закону, как в Англии. Филипп Август вырвал у деда Эдуарда провинции Нормандию, Анжу, Мэн и Турень. Филипп, чья женитьба принесла ему крупный французский фьеф Шампань и савойское королевство, хотел завладеть последним, что осталось от анжуйской империи во Франции, – герцогством своего кузена Эдуарда – Гасконью.
Для этой цели он использовал такие же легальные средства, что и Эдуард в Шотландии. Несмотря на соглашение, которое он заключил на заре своего правления, не рассматривать дела из гасконских судов во французских, теперь он использовал любой предлог, чтобы заставить кузена предстать перед своими судьями. Его «официальные рыцари», как он называл своих чиновников, были знатоками в возвращении обратно фьефов с помощью юридических тонкостей и судебной конфискации. Летом 1293 года такой повод появился из-за ссоры в бретонском порту, когда гасконский моряк ранил нормандца. Это привело к ответным мерам, вылившимся в серьезную морскую битву между подданными двух королей возле мыса Св. Матфея, за чем последовало разграбление Ля Рошели победившими гасконскими и английскими моряками. Озабоченный компенсацией, которую ему предстояло выплатить, Эдуард предложил рассматривать дело в английском суде, чтобы расследование велось англо-французской комиссией, или же передать его на арбитраж папе. Филипп отверг все его предложения и настаивал на своем праве, как суверена, быть единственным судьей в данном деле. Когда мэр и присяжные города Байонны отклонили требование предаться в руки его чиновников в качестве расплаты за проступок их соотечественника, вместо этого апеллируя к международным морским «законам» и обычаям Олерона, знаменитого соляного порта на гасконском берегу, который был одним из доминионов Эдуарда, он вызвал английского короля, чтобы тот, как пэр Франции, предстал перед его высшим судом или парламентом в Париже.
Эдуард делал все, что мог, чтобы уладить дело. Он поручил своему кузену, Эдмунду Ланкастерскому, организовать формальную сдачу Гаскони, получив, в соответствии с феодальным законом, частное обязательство Филиппа возвратить ее, как только исходный вопрос будет урегулирован. Получив гарантии от французской королевы, Эдмунд приказал наместнику Гаскони освободить замки для констеблей Франции, после чего армия Филиппа вошла в герцогство и заняла Бордо. После шестинедельного ожидания Эдмунд спросил, когда Филипп выполнит свою часть сделки. Ответ гласил, что его французский государь ему ничего не вернет. 5 мая 1294 года в парламенте в Париже было объявлено, что герцог Аквитанский лишен своего фьефа за оскорбление власти.
Эдуард попал в свой собственный капкан; закон обманом изгнал его из французских наследственных доминионов. Только Байонна и дикие пиренейские земли на самом юге Гаскони и маленькие города Бурж и Блай в устье реки Жиронды остались в его руках. Более того, так как единственным средством сообщения с украденными территориями был водный путь, а Бордо находился в четырехстах милях от Англии, возвратить их было чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Еще более раздражало Эдуарда то, что тем летом он должен был оплатить крестовый поход за возвращение Сирии, где тремя годами ранее мамелюки лишили христиан их последнего азиатского опорного пункта. По специальному повелению папы огромные суммы были собраны на экспедицию и хранились в церковных кассах и сундуках религиозных домов. Но из-за ссоры двух сильнейших королевств христианского мира крестовый поход уже не обсуждался.
Эдуард был в ярости. Он наложил эмбарго на французские суда, закрыл порты и приказал своему вассалу, шотландскому королю, поступить таким же образом. Когда парламент магнатов и рыцарей графств собрался в Вестминстере вскоре после Троицы, король заявил им, что «даже если у него не останется ничего, кроме пажа и коня, он будет сражаться за свои права до самой смерти и мстить своим обидчикам».
* * *
Географическое положение Гаскони позволяло французскому королю держать ее мертвой хваткой, а феодальная армия, куда более многочисленная, чем та, которую мог собрать Эдуард у своих вассалов, делала Филиппа практически непобедимым. Чтобы заставить его ослабить хватку, Эдуарду не только пришлось бы перебросить через моря, кишевшие пиратами, армию и транспорт, но также найти союзника, который предоставил бы ему плацдарм на континенте и военную помощь, чтобы компенсировать превосходство Франции в людских ресурсах.
Со своей обычной решительностью Эдуард приступил к поискам союзников. Большинство северных и восточных соседей Франции были встревожены захватнической политикой ее правителя, особенно новый король римлян, или, в большей степени, германский правитель, Адольф Нассауский. В обмен на субсидию в 100 тысяч марок он согласился объявить войну Филиппу. Таким же образом поступили зятья Эдуарда, герцог Брабанта и граф Барский. Но единственный правитель, чье союзничество могло бы сделать коалицию против французского короля эффективной, его вассал граф Фландрии, слишком боялся своего сюзерена, чтобы испытывать судьбу вместе со своим английским собратом. И даже предложение Эдуарда выдать дочь за его сына, наследника английского престола, не могло соблазнить графа пойти на такой риск, хотя его подданные были почти разорены из-за эмбарго, установленного Англией на погрузку шерсти во французских королевских портах.
Эдуард планировал перебросить армию в Гасконь в три этапа. Авангард под командованием его племянника, Джона Бретонского, графа Ричмонда должен был приплыть в июне 1294 года. Более крупные силы графов Ланкастера и Линкольна – осенью, в то время как он сам последовал бы за ними с основным войском перед Рождеством. В добавление к феодальному флоту Пяти портов король приказал своим лесничим поставить строевого леса на двести кораблей. Для командования флотом он назначил адмиралов – впервые так поименованных в английской истории – для южных и восточных берегов страны. Одному из них, джентльмену, уроженцу графства Кент, по имени Уильям Лейберн, позже был пожалован титул «адмирала морей короля Англии».
Все эти приготовления и союзы неизбежно влекли за собой денежные траты и увеличение налогового гнета в Англии, Уэльсе и Шотландии. Так как подданные Гаскони теперь были во власти французского короля, Эдуард не мог финансировать возврат герцогства из собственных доходов. Однако он мог получить большой кредит у итальянских банкиров (и в течение следующего года он занял двести тысяч золотых флоринов у Фрескобальди); последней надеждой для него были феодальные держатели, землевладельцы и торговцы островного королевства. И для этого, поскольку он выходил за рамки определенных обычаев, ему было необходимо согласие этих людей.
Однако такое согласие было непросто получить, ибо англичане не считали своим делом защиту или возвращение фьефа их суверена. Но трудно было противостоять давлению Эдуарда в деле, которое он считал посягательством на свои права. В конце концов он добился введения налога из десятой части с имущества от магнатов и рыцарей графств в заседавшем после Троицы парламенте и налога, состоящего из шестой части на имущество, оговоренного отдельно, от лондонских торговцев. Их согласием он воспользовался, чтобы обложить налогами на тех же условиях горожан других городов. Король также получил от торговцев шерстью дополнительный сбор: за каждый экспортируемый мешок шерсти не менее пяти марок – в десять раз больше, чем требовала того «древняя и великая традиция», с которой он был согласен в самом начале своего царствования[194]. Но крупнейший обладатель богатства страны, Церковь, весьма возражала против финансирования войны между двумя христианскими королями. Под предлогом изъятия из обращения порченых монет, дабы остановить понижение их себестоимости, – дело, не требовавшее отлагательства ввиду необходимости вывоза монет в Европу, – Эдуард уже приказал своим чиновникам «занять» деньги, собранные духовенством и хранившиеся в церквах на нужды крестового похода. Так как архиепископ Кентерберийский в это время находился за пределами государства, король лично созвал церковный собор и вступил в спор с собравшимся духовенством в капитульной палате в Вестминстере. Когда Церковь наконец неохотно выразила готовность отдать пятую часть своих доходов – доход с земель духовенства, находящихся в феодальной зависимости, – он категорически отверг это предложение и потребовал половину. И хотя король не имел власти облагать их налогами без согласия Церкви, церковнослужители не посмели отказать ему. Так велик был трепет, который он внушал окружавшим, что Декан собора Св. Павла упал замертво у его ног.
В стремлении усилить свои права Эдуард все больше забывал о правах других. Он не только лишился сдерживающей его жены, но и самых мудрых своих советников. Его канцлер Бернелл умер на завершающем этапе «великого дела Шотландии», его казначей, Джон Керкби, двумя годами ранее. Архиепископ Печем, который, несмотря на все столкновения с ним, оказался настоящим другом, тоже последовал за ними в мир иной. Хоть король и провел лето в Гэмпшире, наблюдая за приготовлением армии и флота, его планы воплощались в жизнь не слишком-то успешно. Авангард, отплывший в Гасконь в июле, был бурями прибит назад к берегам Англии и достиг Франции лишь в октябре. Подкрепление, которое должно было следовать за ним, так и не вышло в путь, а потому английские войска оказались слишком слабы, чтобы взять Бордо или обратить в бегство французские гарнизоны.
Англичане не горели желанием участвовать в войне своего короля в Европе, а новые подданные – валлийцы и шотландцы, а также вассалы испытывали по этому поводу еще меньше энтузиазма. Они не желали ни сражаться, ни финансировать кампанию, так мало затрагивавшую. их интересы. В ней они видели лишь благоприятную возможность освободиться от ненавистного господства. В конце сентября из Уэльса пришли тревожные вести. Как и все в этой непостоянной земле, они были совершенно неожиданными. Валлийские рекруты, которым было приказано явиться в Шрусбери, не явились; неожиданно спустившись с холмов Сноудона, под предводительством потомка старого княжеского дома, Мадог ап Ллевелина, они напали на замок Карнарвон. На юго-западе население Кармартена и Пемброкшира восстало под руководством юного вождя по имени Маелгвин; на юге Морган опустошил поместья графа Глостера. Во Флинте, Рудлане, Конвее, Криссиете, Харлеке, Баре, Лланбадарне, Буилте и Кардигане английские гарнизоны, редко насчитывающие более тридцати-сорока вооруженных воинов и лучников[195], окружили армии местных воинов, которых вооружили чиновники Эдуарда, набиравшие рекрутов. Попытка графа Линкольна снять осаду с Денби закончилась катастрофой, и через несколько недель, казалось, что Уэльс потерян.
Эдуард, как обычно, отреагировал очень быстро. Оставив свои французские проекты и полностью сконцентрировавшись на самом важном, он приготовился к зимней кампании в холмах Уэльса. В начале ноября он посетил парламент магнатов и рыцарей от графств в Вестминстере, добившись субсидии в десятую часть на имущество и проведя переговоры об отдельных субсидиях от Лондона и провинциальных городов. К концу месяца он собрал армию в Вустере и укрепил базы в Кардифе, Бреконе и Честере. Все воинствующие графы получили приказ взяться за оружие – Норфолк, Пемброк и Глостер на юге, Херефорд и Арундель в центральных марках, Суррей, Линкольн, Уорик, Ланкастер и Корнуолл – на севере. В то же время прибрежные замки вновь стали получать снабжение с моря.
Из Честера, которого он достиг в декабре, король вторгся на запад в Денбишир, чтобы очистить свой южный фланг и отомстить за разгром Линкольна, прежде чем последовать вдоль Клайда на морское побережье в Рудлане. К Рождеству он уже был в своем новом замке в Конвее, выехав к Бангору и Карнарвону в начале января. Но его обоз, двигавшийся по одному из крутых поросших лесом ущелий, которые так удачно использовали в своей военной тактике валлийцы, попал в засаду и был захвачен недалеко от того места, где двенадцать лет назад погибли люди де Тани. Из-за сырой осени год выдался неурожайным. Король и его гвардия оказались отрезанными наводнением от главных сил, и им пришлось искать убежище за стенами Конвея. В замке было почти нечего есть, и остался только один маленький бочонок вина, но Эдуард настаивал на том, чтобы разделить со своими людьми скудный рацион. «В дни нужды, – говорил он, – все должно быть общим, и тот, кто стал причиной лишений, не должен питаться лучше других».
Это были страшные две недели. Валлийские вожди осадили замок, разлившиеся реки вокруг затопили поля, надвигалась суровая сноудонская зима. Среди войск в промерзшем замке находились пехотинцы из Ланкашира. В знаменитом эпосе XIV века, «Сэр Гавэйн и Зеленый Рыцарь»[196], созданном неизвестным ланкастерцем, есть описание зимы в Северном Уэльсе, которое могло опираться на воспоминаниях того времени:
«Нет ничего хуже сражения зимой; Холодная вода льется из облаков И замерзает, прежде чем в землю могла бы вцепиться, Под градом ночью. В нагих скалах он прячется, Замерзшие члены согревает в толпе; Потоки льются, шумя; острые, как кремень, Сосульки свисают» [197] .Прежде чем закончился январь, замок был освобожден. Вскоре после этого Мадог, совершавший набег на Поуис, был ночью неожиданно атакован графом Уориком в Маэс Мой доге. Описание битвы сохранилось в хрониках современника этих событий, монаха-доминиканца и историка Николая Тревета. Уорик использовал тактику, оказавшуюся столь успешной в Оруин Бридж, распределив лучников и арбалетчиков среди остальных воинов. Англичане выстрелами прорвали оборону копьеносцев, а затем в строй валлийцев врезалась конница. Сам Мадог спасся, но его войско было уничтожено.
После этого фортуна отвернулась от Уэльса, в то время как Англия собрала все свои силы. Теперь, когда все подходы в долины были блокированы, именно валлийцы голодали, в то время как английские прибрежные замки снабжались с моря, провизия поставлялась в основном из Бристоля, Дублина и Уэксфорда. К лету 1295 года Эдуард мог пройти маршем с 3000 пехотинцами через всю страну, двигаясь вниз по берегу от Мерионета до Кардигана, чтобы заставить капитулировать Моргана, а затем повернуть на восток в Гламогран и долину Нит, прежде чем вернуться через Поуисленд в Карнарвон и Англзи. Как обычно, когда его враги покорились, он проявил мягкость, столь редкую в ту эпоху, и приказал казнить лишь немногих. В конце июля сам Мадог сдался, и, распорядившись построить замок в Бомарисе, Эдуард вернулся в Вустер, чтобы вознести благодарность в гробнице Св. Вульфстана.
Но король потерял год, по завершении кампании он был стеснен в средствах и влез в большие долги. В его отсутствие война в Гаскони велась безо всякого успеха, и французы опустошили южное английское побережье. Едва он возобновил свои приготовления к вторжению во Францию, как столкнулся с новой угрозой в своем тылу. Когда война в Гаскони только началась, Эдуард потребовал помощь у своих шотландских вассалов. Король Иоанн предложил ему доходы от своих английских имений за три года, а позже был призван присоединиться к феодальному войску в Портсмуте со своим сенешалем, восьмью графами и двенадцатью баронами. Но, воодушевленный новостями о восстании в Уэльсе, он не явился на сбор и летом 1295 года под давлением дворцовой антианглийской партии тайно принял посольство из Парижа, дабы обсудить условия женитьбы своего старшего сына на племяннице французского короля.
Увидев шанс нанести встречный удар европейской коалиции Эдуарда, создав свою в его собственном тылу, Филипп провернул превосходный заговор. И, заключив союз с врагом своего суверена, Баллиоль смог бы отстоять независимость своей страны. 22 октября 1295 года был заключен союзнический договор между Францией и Шотландией. Чтобы заставить Эдуарда забыть о его «неправильных и враждебных вторжениях во Францию», было решено, что король шотландцев «начнет и продолжит войну» против него со всеми своими силами. Короли договорились, что, если Эдуард атакует Францию, Баллиоль в свою очередь вторгнется в Англию. Со своей стороны, Филипп обещал, что, если Эдуард отомстит, атаковав Шотландию, французский король отвлечет их общего врага «в других местах».
Ища предлог для нарушения вассальной верности, король Иоанн захватил поместья всей шотландской знати, что имела земли в Англии, включая своих соперников, Брюсов. Он также лишил свободы и плохо обращался с английскими торговцами в Берике. Успешно подавив восстание в Уэльсе, Эдуард столкнулся с мятежом в Шотландии.
Английский король был не из тех, кто прощает измену. В ноябре 1295 года он созвал наиболее представительный парламент, из тех, какие до сих пор собирались в Англии. Магнаты, прелаты, представители прочего духовенства, рыцари графств и горожане были созваны, «чтобы вместе найти выход из опасной ситуации,...обсудить, предписать и решить, как следует устранить угрозу и... сделать все, что постановит совет»[198].
Эдуард обнаружил, что ему проще получить деньги от «своих возлюбленных и верных людей» на шотландскую, нежели на французскую кампанию. Гасконь была делом короля, а Шотландия, как они чувствовали, – всей Англии. Первая была далеко за морем, последняя – под самым боком. Магнаты и рыцари графства проголосовали за налог, состоящий из одиннадцатой части, горожане – седьмой, духовенство – десятой части на имущество, обещая дать больше, если в этом возникнет необходимость. С такой поддержкой Эдуард был в состоянии сокрушить своего нарушившего клятву вассала и, взяв Шотландию под свое руководство, навсегда покончить с опасностью, с которой столкнул его французский король. Отвоевание Гаскони могло подождать.
К марту 1296 года он был готов нанести удар с помощью флота, собранного в восточных портах на Тайне, и огромной армии в Ньюкасле. Половину десятитысячной армии пехотинцев составило народное ополчение из северных графств, половину – из холмов Уэльса, хотя среди командующих было некоторое количество добровольцев из южной Англии – состоятельные йомены, набранные из второй категории «Ассизы о вооружении», каждый со своим конем и оружием, получавшие королевское денежное содержание и необходимый заряд для такого рискованного предприятия. Конница была набрана из рыцарей из дворцовой гвардии – servientes Regis ad arma или «королевских сержантов при оружии» по традиционной феодальной квоте набора вассалов, и множества небольших отрядов, число каждого из них составляло от полудюжины до двух десятков копейщиков, собранных мелкими баронами и землевладельцами, в большинстве своем из Уэльса и Шотландских марок, прибывших сражаться и считавших войну своей профессией. Старый граф Суррея, командовавший авангардом, и епископ Даремский, Антони Бек, чья юрисдикция простиралась от Тайна до Тиса, возглавляли войска. В Уарке армия присоединилась к группе англо-шотландской знати под командованием графов Ангуса и Данбара, а также обоих Брюсов. Старый «претендент» умер в прошлом году, но его сын, Роберт, лорд Аннандейла, а также внук, Роберт Брюс, граф Каррика, откликнулись на призыв суверена. Все они принесли Эдуарду оммаж и клятву верности за свои шотландские земли.
Войско Баллиоля начало кампанию, совершив набег через границу. Эдуард с улыбкой наблюдал за этим; поскольку они начали первыми, ему предстояло нанести ответный удар. 28 марта, перейдя реку Туид в районе Колдстрима, король призвал Берик сдаться. Даже по средневековым стандартам это было лишь маленькое поселение с населением менее двух тысяч человек[199]. Но в то же время это был главный королевский город Шотландии, где шла торговля лососем, сельдью, шкурами, привезенными винами и специями, что делало его символом цивилизации и национальной гордости. Когда Эдуард предложил жителям мирно сдаться, шотландцы лишь осыпали его насмешками из-за стен. Два королевских корабля, пытавшихся форсировать гавань, были захвачены, а их команды преданы смерти; его племянник, Ричард Корнуолл, погиб от арбалетной стрелы. Когда на следующий день город был взят, озлобленный король отдал его солдатам на разграбление, что было обычной практикой, при условии, что город отказывался капитулировать. Англичане устроили резню, в которой пострадали, как отмечали шотландские источники, не только мужчины, но и женщины и дети; английские же хроники это отрицают. Неделю спустя шотландцы ответили набегом по Кокетдейлу и Ридесдейлу, при этом применив все жестокости предыдущего столетия.
Эдуард оставался в Берике около месяца, привлекая ремесленников и рабочих вновь отстроить его стены, не только возглавляя работу, но, что характерно, и сам в ней участвуя. Прежде чем двинуться вперед, через пустынные земли, необходимо было создать опорный пункт, каким был Руддлан во время его вторжения в Сноудонию. Затем шотландцы сыграли ему на руку. В конце апреля жена одного из его шотландских приверженцев, графиня Данбара, переметнулась на другую сторону, сдав свой родовой замок, стоявший на дороге в Эдинбург. Графа Суррея отправили отбить замок, а основные силы шотландцев шли ему на помощь. После столетия мирной жизни они забыли о жесткой английской дисциплине и, атаковав захватчиков в Спотсмюре, потерпели полное поражение. Их командующий, Джон Комин граф Бьюкена, был взят в плен вместе с тремя другими графами и более чем сотней главных приверженцев Баллиоля.
Теперь страна была беззащитна. Десятью днями позже еще один из шотландских аристократов, Джеймс Стюарт, сдал Роксбург и принес оммаж. К 6 июня Эдуард был уже в аббатстве Холируд, наблюдая за тем, как его тараны разрушают Эдинбургский замок. 13-го он достиг Линлитгоу, 14-го принял капитуляцию Стерлинга, самого укрепленного места в королевстве. Затем последовало падение Перта.
2 июля Баллиоль покорился. Несчастный принес извинения за свой союз с Францией, случившийся по причине «дьявольского совета и нашей собственной глупости», принял все условия Эдуарда и отдал себя на его милость. Неделю спустя он отрекся от престола в зале Брекинского замка. Король послал его в Англию под конвоем и продолжил свой путь. 15 июля он достиг Абердина, а к концу месяца был уже у Морейского пролива. Ни один из правителей Британии не проникал так далеко на север со времен римлян.
В одиноком Инверкарраде, «где нет ничего, кроме трех домов в ряд и долины между двумя горами», король остановился. Затем, пройдя через восточные горы, он возвратился по своим следам к Арброту, Данди, Перту и Эдинбургу, вновь достигнув Берика 22 августа. На обратном пути он забрал Камень Судьбы[200] из Сконского Аббатства и Черный Крест Св. Маргариты из Эдинбурга и послал их, вместе с шотландскими регалиями и национальными архивами, в Вестминстер, так же, как двенадцать лет назад он лишил Уэльс самого заветного символа нации, забрав железную корону короля Артура и возложив ее на высокий алтарь Св. Эдуарда в аббатской церкви его отца. По словам хроники, он «завоевал Шотландское королевство и прошел его вдоль и поперек за двадцать одну неделю».
В Берике он собрал парламент и принял оммаж у двух тысяч шотландских землевладельцев – всех «привилегированных» людей королевства. «Там были все епископы, графы, бароны, аббаты и приоры, – отмечал летописец, – и сеньоры всех простых людей. Там он принял у всех оммаж, а также клятву в том, что они будут добрыми людьми, верными ему. Как всегда, для надлежащего устройства дел, он тотчас вернул им обратно все их имущество и имущество их держателей; графам, баронам и прелатам он разрешил обладать своими землями и приказал явиться ко дню всех святых на заседание парламента в Бери Сент-Эдмунде». Король вернул им владения в обмен на скрепленные печатями документы о полном подчинении, копии которых, запечатленные на тридцати пяти пергаментах и известные как шотландские свитки тряпичника, были посланы в Вестминстер[201]. Он даже предоставил Баллиолю кров в Англии и назначил ему пенсию.
Таким образом, Шотландия как бы перестала существовать для Эдуарда, или, скорее, он стал рассматривать ее как часть Англии. Даже название страны не было включено в его титул «Короля Англии, Лорда Ирландии и Герцога Аквитанского». Достигнув того, к чему он стремился, Эдуард отбыл на юг, приказав отстроить Берик и населить английскими торговцами[202]. Он полагал, что навсегда покончил с шотландской независимостью. «Это помогает, – говорил он, – избавиться от грязи». Король оставил страну под правлением английского графа, казначея и юстициария. «Теперь, – писал слагатель баллад, – две реки слились в одну, и одно королевство вышло из двух. Теперь все островитяне собраны вместе и Олбан воссоединился со своими королевствами, которым владыка – Эдуард. Больше нет королей, кроме короля Эдуарда... Сам Артур стольким не владел».
* * *
Наконец, Эдуард мог разобраться с Францией. Годом ранее, когда и запад, и север еще были охвачены мятежом, он был рад предложению папы выступить в качестве арбитра спора, поскольку тот желал помирить воюющих королей и направить их в крестовый поход против восставших сицилийцев и их испанского, короля. Но так как война складывалась в его пользу, Филипп отказался. Теперь, со всеми доступными ему ресурсами королевства, Эдуард планировал атаковать француза из Гаскони и Фландрии, чей граф, под давлением английского эмбарго и возмущения торговцев, его подданных, в конце концов набрался мужества, чтобы бросить вызов своему французскому суверену и присоединиться к союзу против Филиппа. В ответ Эдуард обещал прийти на помощь с огромной армией.
Чтобы собрать деньги, не упустив замечательной возможности, как считал Эдуард, был созван парламент в Бери Сент-Эдмунде. Но ситуация прошлого года не повторилась. Хотя магнаты неохотно пообещали отдать двенадцатую часть доходов, а горожане – восьмую, Церковь наотрез отказалась предоставить пятую часть, о которой просил король. Представители низшего духовенства, которых постоянно просили выплачивать и королевские, и папские налоги, жаловались, что их карманы опустошены последней ссудой Короне. В то же время прелаты апеллировали к булле, которую издал новый папа, Бонифаций VIII, запрещающей выплату налогов светской власти без его разрешения. Поборник самых крайних претензий Церкви, прелат из аристократического рода, Бонифаций составил свой декрет, позже названный по начальным словам Clericis laicos, чтобы остановить постоянное опустошение церковной казны королями Франции и Англии для финансирования своих светских войн.
Но Эдуард чувствовал, что может справиться с бунтом Церкви. Благодаря вековому совершенствованию светских институтов королевства, король был гораздо сильнее, чем правитель времен Бекета. Прошли времена, когда недовольство папы могло заставить императора стоять босиком на снегу или подставлять спину ударам монашеских плетей. Новому примасу, Роберту Уинчелси, Эдуард дал два месяца, чтобы рассмотреть дело. Когда в январе 1297 года духовенство вновь собралось в Лондоне и, ссылаясь на папскую буллу, отказалось оказать помощь, король освободил ее из-под защиты закона. Любой клирик, не предоставивший приказ, подтверждающий то, что он заплатил налог, мог преследоваться королевским судом. Держатель Церкви мог не платить ренту и не исполнять повинностей, в которых он нуждался, а его собственность могла перейти в руки любого, кто хотел бы захватить ее силой. «Если они не хранят верности, в которой они поклялись мне в обмен на свои бенефиции, – возвещал Эдуард, – я им ничем не обязан».
Объявив духовенство вне закона, король поставил его в крайне сложное положение. Он находился в замке Акр на пути к Уолсингему, когда послал свой ультиматум, а затем продолжил свое паломничество, как будто не произошло ничего особенного. Через несколько дней посыпались заявления о повиновении. Собор в Йорке, во главе с митрополитом и баснословно богатым епископом Даремским, сдался первым. Чтобы примирить повиновение папской булле с обязанностями перед Короной, духовенству было позволено платить пятую часть не как налог, а как штраф, выплачиваемый за собственность. Даже архиепископ Уинчелси, а также старый и очень почтенный епископ Линкольнский, Оливер Саттон, сначала отказавшись уступить, чувствовали себя обязанными позволить своим подчиненным действовать, как диктует их совесть[203]. «Пусть каждый спасает собственную душу», – сказал он.
Хотя Эдуард добился денег от церкви, сопротивление архиепископа повлекло за собой череду опасных последствий. В день, когда духовенство было объявлено вне закона, граф Линкольна потерпел сокрушительное поражение при Бельгарде в Гаскони – совпадение, ставшее знамением в ту суеверную эпоху. Когда шотландцы совершили набег на Тайнсайд, предав огню аббатства и школы и угнав скот, каждый англичанин, даже очень прижимистый, почувствовал, что должен заплатить налог, чтобы защитить себя. Однако совершенно иное он думал, когда просили деньги на возвращение личных доминионов короля где-то за морем, в чужом королевстве, где ни он, ни его родные никакой собственностью не обладали. И в мерах, предпринятых для осуществления того, что король, в отличие от своих подданных, считал государственной необходимостью и к которым он пришел в результате трехлетней войны с Францией, Уэльсом и Шотландией, Эдуард зашел слишком далеко, гораздо дальше того, что его подданные считали законным или допустимыми. Гасконская война стоила более Ј 400 тысяч; доходы перестали покрывать расходы, а увеличивающийся долг итальянским банкирам стал непомерным. Налоги, собиравшиеся чиновниками графств и сотен и непрестанные требования зерновых, скота и других вещей, необходимых для армии, – древнее право королевских «реквизиций» в военное время – волновало даже самых покорных подданных. В балладе того времени безземельный крестьянин жалуется, что он не может дальше жить, засевая поле оставшимися после сбора колосьями, «ведь каждое четвертое пенни надлежит отдать королю». За три прошедших года взимался налог на движимое имущество: случай беспрецедентный. Налог на шерсть – maltote или «злая пошлина», как его называли, – причинил ущерб каждому владельцу овец в королевстве. В результате шумных протестов он был снижен с пяти марок за мешок до трех, но даже это казалось тяжелым бременем, так как богатые продавцы шерсти просто переложили эту ношу на плечи производителей за счет снижения цены. В феврале 1297 года Эдуард приказал все существующие запасы шерсти выставить на продажу в течение месяца в назначенных портах и лишь по предъявлении ярлыка казначейства вывозить в Нидерланды, чтобы добыть денег для своих союзников и финансировать ведущуюся кампанию во Франции.
В мае король поступил еще более деспотично. В поисках расширения основы военной мощи своего королевства и надеясь взять на поля Фландрии, где тяжелая кавалерия могла бы сыграть решающую роль, больше рыцарей, чем мог представить истощенный феодальный набор, Эдуард приказал шерифам призвать в Лондон не только своих военных вассалов, но и всех фригольдеров с земельными наделами, приносящими более Ј 20 в год. «Так как они могли бы, – отмечал он, – пригодиться... чтобы отправиться вместе с нашей персоной ради спасения и защиты их самих и всего нашего королевства... и быть готовыми отправиться с нами в чужие страны». Хотя такой призыв и входил в число королевских прерогатив, все же он противоречил каждому правилу и нормам феодальной процедуры. Он вызвал негодование не только у тех, кто попадал под призыв (большинство из них владело достаточными средствами, чтобы взять на себя такую обязанность), но также и у магнатов, увидевших в этом вторжение в сферу их привилегий и угрозу их власти и независимости. Ведь если король мог собрать конное войско, не опираясь на феодальный призыв, их военная монополия, уже ослабленная новыми методами воинского набора, была бы окончательно утрачена.
Самый крупный из магнатов, граф Глостера, умер год назад, смирившись после женитьбы на дочери короля и унижения в суде в Абергавенни. Но дух независимости, столь свойственный ему, унаследовали два маркграфа, Роджер Биго граф Норфолка и Хамфри де Боэн, граф Херефорда. Обоим казалось, что они пострадали от ущемления их прав королем: маршал Норфолк из-за того, что в последней валлийской кампании он был назначен на должность одного из командиров вместо полагавшегося наследственного звания правой руки короля; констебль Херефорд – из-за того, что был, по его мнению, несправедливо наказан за свои действия против Глостера пять лет назад. В начале марта произошел инцидент в Солсбери, когда король приказал маршалу возглавить военную операцию в Гаскони, в то время как сам намеревался отправиться во Фландрию. Байгод отказался, ссылаясь на то, что в соответствии с долгом может служить за пределами государства лишь под личным командованием короля[204]. Эдуард рассердился и, сыграв на имени графа, угрожал ему: «Ей-Богу, сэр граф, или ты поедешь, или тебя повесят!»[205], на что Байгод ответил: «Не считая того, сэр король, что я и не поеду и не буду повешен!» После чего он отбыл в свои наследственные земли в Южном Уэльсе, где позже к нему присоединился и констебль. Вместе оба магната созвали личный парламент своих собратьев-маркграфов в Уайрском лесу и договорились принять меры в ответ на революционные требования своего суверена. Когда в июле крупные вассалы и фригольдеры, получавшие доход более Ј 20, собрались по призыву короля у стен собора св. Павла, и маршал, и констебль полностью отказались как присоединиться к ним, так и выполнить свой наследственный долг, ибо их призвали не так, как этого требовала процедура феодального призыва. После нескольких попыток заставить их пересмотреть свое решение, король освободил их от обязанностей и назначил других маршала и констебля на их место.
Полному решимости королю трудно было помешать. Эдуард обратился к народу, апеллируя к понятию национального или патриотического долга, который он неосознанно искал, чтобы заменить им феодальный. «Дело так велико, – писал он, – и так близко затрагивает всех и каждого в королевстве, что мы не можем уступить ни одному человеку». Помирившись с архиепископом, чьи имения и доходы он вернул без всяких условий, король произнес пылкую речь с трибуны Вестминстерского аббатства, обращенную к толпе его последователей, включая сына Эдуарда, примаса и графа Уорика. Он возвещал, что с общими опасностями надо бороться совместными силами. Со слезами на глазах король умолял своих подданных простить его и его чиновников за все то, что они изъяли не в соответствии с законом, объясняя, что это исключительный случай, и они получат свое имущество в полной сохранности. «Вот, смотрите, – говорил он, указывая на своего тринадцатилетнего сына, – я иду навстречу опасностям во имя вас. Я умоляю вас, если я вернусь, примите меня так, как вы это сделали сегодня, и я возмещу вам все, что я взял. Если же я не вернусь, коронуйте моего сына»[206].
Все, кто слышал речь, были глубоко тронуты. Архиепископ плакал, и зрители поклялись в верности принцу. Среди тех, кто молился за успех предприятия Эдуарда, был Оливер Саттон, почтенный епископ Линкольнский, ранее так стойко противостоящий его требованиям заплатить налог[207]. Но хотя в ответ на обещание подтвердить Великую хартию вольностей и оставить свой план заставить фригольдеров служить за пределами королевства, рыцари графства, прибывшие на его призыв в Лондон, пообещали королю субсидию в восьмую часть, основная масса магнатов угрожающе осталась в стороне и, провозглашая, что «все общество печалится», продолжала взывать к хартиям, которые их предшественники выжали из отца и прадеда Эдуарда.
Осознав, к чему привела оппозиция графов, король 12 августа из Удимора, расположенного рядом с Уинчелси, куда он прибыл, чтобы управлять погрузкой своей армии, издал манифест, оправдывающий его действия и затрагивающий события, приведшие к ссоре с магнатами.
«Король всегда желает мира, спокойствия и благосостояния всех жителей его королевства. В особенности он хотел бы, чтобы после его поездки, совершаемой во имя славы Божьей, дабы восстановить его наследственные права, которые он утратил в результате мошенничества короля Франции, а также во имя славы и прибыли его королевства, все, что могло бы нарушить мир и покой его королевства, было бы полностью устранено... Говорили, что король послужил во вред своему королевству, о чем он осведомлен, например, вспомогательные средства, которые он зачастую просил у своего народа. Но ему пришлось сделать это из-за войны, которая была спровоцирована против него в Гаскони, Уэльсе и Шотландии, и без помощи своих верных подданных он не смог бы защитить ни себя, ни королевство. Он глубоко огорчен, что возложил па них такую тяжелую ношу, и умоляет их простить его, ибо он ввел эти налоги не для того, чтобы покупать земли или владения, замки или города, по единственно, чтобы защитить себя, их и все королевство. И если Господь позволит ему когда-нибудь вернуться из плавания, которое он сейчас начнет, он хотел бы, чтобы все знали: у него есть воля и великое желание действительно улучшить все в соответствии с волей Господней и желаниями людей».
Посланное шерифам с приказанием обнародовать письмо заканчивается напоминанием об опасностях гражданской войны и «великом раздоре, который ранее возникал в королевстве из-за споров между королем и его подданными, и вредом, который они нанесли»[208].
Хотя Эдуард, как всегда, искал поддержки у своего народа и был готов на различные трудности, чтобы добиться ее, ничто не могло отвлечь его от цели. Он считал, что его дело было правым, а фламандская экспедиция предлагала пути возвращения того, что ему принадлежало по праву, и это был долг его подданных помочь ему. Он продолжал не замечать протесты магнатов. Несколько дней спустя, когда король ехал верхом вдоль крепостных валов нового порта в Уинчелси, его лошадь, испугавшись ветряной мельницы, шарахнулась в сторону, и Эдуард упал на насыпь, чудом избежав смерти. Но это его не устрашило. И хотя всего лишь около четверти вооруженных всадников от числа, которое он надеялся взять во Фландрию, прибыло, он отплыл в конце месяца, оставив свое королевство в замешательстве и неразберихе.
* * *
Одним из признаков беспорядков в каждой части страны, которое король проигнорировал, были новые волнения в отдаленных районах Шотландии. Они происходили не среди землевладельцев и военных, которые подчинились королю, а среди мелких джентри, фермеров и крестьян, никогда не принимавших участия в управлении северным регионом. Как и в Уэльсе, недовольство возникло из-за бестактности и продажности ответственных английских чиновников, которые в противоположность идеалам Эдуарда, но зато в соответствии с обычной в то время практикой, не упускали возможности нагреть руки. Говорили, что клерки в суде английского юстициария брали пенни с каждого тяжущегося, «посредством чего стали весьма богатыми». К тому же существовало опасение, связанное с военными приготовлениями короля, что он собирается забрать на войну в чужую страну не только аристократов, но и средний класс.
Мятежи, хотя и незначительные, происходили на довольно обширной территории, в Галлоуэе, Клайдсдейле, Россе, Морее и Абердиншире. В Ланарке английский шериф и гарнизон были побеждены и перебиты во время неожиданного ночного нападения банды, которую возглавлял молодой человек гигантского роста, по имени Уильям ле Уолис[209] или Уоллес, – сын местного рыцаря из Элдерсли, небольшого городка в нескольких милях от Глазго. Оказавшись в безвыходном положении из-за своего кровавого деяния и воодушевляемый энтузиазмом окружающих, Уоллес повел отряд своих собратьев, находящихся вне закона, через Шотландию и, внезапно спустившись с холмов, сразу же захватил королевского юстициария Уильяма де Омсби, когда тот держал суд в Сконе.
Неожиданный размах этим народным восстаниям, ставшим куда более серьезными, чем они могли бы быть, придала поддержка церкви. Так как в Шотландии, даже в большей мере, чем в Англии, чувства церковников были грубо уязвлены королевскими требованиями, касающимися клерикальной собственности. Епископ Глазго, Роберт Уишарт, открыто встал на сторону мятежников из Клайдсайда. Отчасти поощряемые им, либо боясь, что их призовут сражаться во Францию, несколько землевладельцев, принесших оммаж Эдуарду в Берике, поддержали бунтовщиков. Среди них были сэр Уильям Дуглас Галлоуэйский, Джеймс Стюарт, наследственный сенешал, и двадцатидвухлетний граф Каррика, внук и тезка Роберта Брюса, претендента на трон. Отступничество Брюса было наиболее неожиданным, потому что его отец, лорд Аннандейл, был одним из самых яростных приверженцев Эдуарда, и на него была возложена защита Карлайла.
Для короля это стало тяжелым ударом. Прежде чем он отбыл во Фландрию, он послал войска под командованием двух магнатов северной страны, Генриха Перси и Роберта Клиффорда, чтобы подавить восстание в Галлоуэе. Им не стоило особого труда разобраться с мятежными лордами, которые, как всегда неспособные договориться между собой, выбросили белый флаг, как только англичане нагнали их в Ирвине на побережье в Эршире. Единственное условие, выдвинутое ими, заключалось в том, чтобы их не послали сражаться во Францию. Но Эдуард и его лейтенанты не смогли предусмотреть отпора шотландского народа. Большинство их лидеров уже были в Англии, ожидая отплытия вместе с войском во Францию. Однако Уоллес и его люди, таящиеся в нехоженых пустынных лесах Селкирка между Клайдом и Фортом, а также другие партизанские отряды на диком севере от реки Тей, продолжали нападать на английские гарнизоны; среди них особенно выделялся отряд под предводительством молодого Эндрю де Морея, сына сэра Эндрю де Морея из Петти. За лето 1297 года Абердин, Инвернесс и Уркхарт пали под напором северных мятежников.
Новая сила, которую поначалу не восприняли всерьез, появилась в мире, чтобы оказать отпор агрессии великих организаторов и законоведов, как Эдуард, стремившихся к централизации. Эта сила зиждилась на местной преданности простых мужчин и женщин, чувству личной свободы и собственного достоинства, привитого христианским учением. Она стала известна как патриотизм. Еще пять лет назад, когда Эдуард и его судьи долго выбирали законного короля для шотландцев, крестьяне трех самых отдаленных лесных кантонов в Швабских Альпах, одном из феодальных герцогств Германии, создали лигу вместе с соседними бюргерами Люцерна, чтобы сопротивляться императору Рудольфу Габсбургу, который, следуя политике объединения, желал подчинить их вассальной зависимости, чуждой и деспотической для этих людей. Таково было рождение швейцарской конфедерации, которой, сделав своей опорой дикую горную территорию, где обитал этот стойкий народ, суждено было противостоять всем штурмам габсбургских и австрийских герцогов. Не обратив внимания на чувства шотландских арендаторов и скотоводов, Эдуард несознательно пробудил такой же отпор в северной Британии.
* * *
Что же за страна была его «Земля скоттов», чей непритязательный народ, проигнорировав капитуляцию своих англо-норманнских королей и лордов, так неожиданно бросил вызов своему английскому суверену? С немногими плодородными плоскогорьями и долинами вдоль восточного и юго-западного побережий, это был узкий скалистый полуостров, сужающийся в отдаленную, туманную и недоступную ultima thule гор, озер и островов. Через него, образуя ряд гигантских барьеров и отрезая его обитателей друг от друга и любых захватчиков с юга, шел непрерывный ряд бесплодных горных цепей и штормовых морских заливов. Обитатели этой каменистой земли могли выстоять, лишь непрерывно сражаясь со стихиями – снегами, бурями и наводнениями; и жизнь, полная опасностей, сделала необузданным нрав населения этой земли и обрекала на неудачу любую попытку подчинить их центральной власти. Угон скота был наиболее прибыльным делом на широких просторах Шотландии – единственное, что роднило вождей и лэрдов со своими соплеменниками и арендаторами, проводившими время в постоянных набегах и междоусобицах. В таком обществе человеческая жизнь ценилась невысоко; смелость, отвага и преданность местному вождю в битве ставились превыше всех других добродетелей.
Частично англичане или англы на юго-востоке и смесь романизированных бриттов и пиратских ирландцев на влажном поросшем лесом юго-западе, за пределами гор в скудно населенных туманных горах гэльского севера и запада – древней земли пиктов – скотты вели все тот же варварский и пасторальный образ жизни, что и их предки тысячу лет назад. Загадка для всех тех, кто пытался приручить ее или управлять ею, Шотландия познала единственный политический союз в прошлом, два с половиной века назад, и даже тогда он был непрочен и несовершенен. Полмиллиона жителей – пастухов, скотоводов, арендаторов и рыбаков – были привычны к жестокости, как к ветру и дождю, и, как спартанцы, с детства впитывали гордую бедность. Они жили в хижинах из дерна и ила, обычно в одну комнату, с костром из навоза – их главного богатства – на полу.
Присущее им чувство патриотизма зиждилось на верности своей династии королей, правивших ими из прибрежного Файфа; либо гэльским графам или вождям, а на полуфеодализированном юге – королевским шерифам и городам с самоуправлением, которые выросли в тени замков короля. Единственными средствами сообщения Шотландии с внешним миром были церковь, двойная вассальная зависимость ее англо-норманнских лордов за английские владения и слабая торговля через Северное море с Англией, Фландрией и северной Европой посредством маленьких восточных портов: Берика, Лита, Кингхорна, Крейля, Арброта и Абердина. Их неотесанные горожане, чье положение нисколько не пострадало от малочисленных английских и фламандских иммигрантов, продавали рыбу, шкуры, кожу, шерсть и грубую одежду, а импортировали соль, вино, мед, изюм, растительное масло, нитки, специи, воск и немного производных товаров, как кастрюли, мечи и оружие.
Из всех этих связей с европейской цивилизацией Церковь играла основную роль. Хотя христианство изначально пришло в Шотландию из Ирландии с помощью айонской общины, до конца XII века шотландская церковь была частью, хотя и достаточно свободной и спорной, но частью Йоркской епархии и, таким образом, номинально подчинялась северной английской метрополии. Но после ссоры с Генрихом II папство забрало шотландскую церковь под свой непосредственный контроль, и хотя не было назначено ни одного шотландского архиепископа, ее одиннадцать епархий под руководством диоцеза Св. Андрея в прошлом веке не знало никакого другого духовного главы, кроме папы. Это гарантировало, что хотя как защитник цивилизации и противник войны Церковь, в первую очередь, приветствует союз с Англией посредством тесного союза (брака) двух корон, ее руководители отвергали требования Эдуарда искоренять национальное самосознание силой.
Хотя страна отставала по уровню цивилизации от Англии по меньшей мере лет на сто, шотландское христианство более тяготело к монашескому, нежели епископальному образу жизни, особенно на юго-востоке. Здесь в первой половине XII века Давид I, вдохновленный своей матерью-англичанкой, королевой Маргаритой, учредил ряд приоратов и монастырей – августинцев в аббатстве Св. Андрея, Лохлевене, Холируде, Едбурге и Кабускеннете, цистерцианцев в Мельрозе, Ньюбетле, Кинлосе и Диндреннане. Вытесняя отшельнические общины примитивного прошлого, эти монастыри стали для равнинной Шотландии центром культурной жизни, так же, как великий клюнийский орден в Англии в дни Св. Дунстана и англосаксонских королей. Главную роль в цивилизующей миссии сыграл сам Давид, величайший из шотландских королей. «Он сделал все возможное, – отмечал летописец Фордан, – чтобы смягчить грубые дикие нравы этого народа,...заботясь не только о великих делах государства, но обо всем вплоть до мелочей... с тем, чтобы по своему примеру он мог побудить людей поступать подобным образом... С тех пор вся дикость этой нации обратилась в кротость, и вскоре скотты стали отличаться такой добротой и скромностью, что, забыв свою врожденную свирепость, склонили головы перед законом». Доступный каждому, от знати до последнего бедняка, великий король, «шотландский Альфред» (а этот англосаксонский государь был предком Давида по материнской линии) создал маленькое ядро цивилизации на обоих берегах пролива Форт, которое его преемники, Вильгельм Лев и два Александра, укрепили и расширили. Именно на эту организацию нападал Эдуард, пытаясь принудить к английскому закону и повиновению. Нанеся удар, он разрушил ту цивилизацию, которая уже была у шотландцев. В результате он столкнулся с тем, что лежало под этим культурным слоем: решительным, жестоким буйством туземцев, для которых распри, насилие и месть были второй натурой. Таковую ненависть возбудил король и его чиновники и солдаты-«южане»: куда бы они ни стремились проникнуть, шотландцы впервые в своей истории казались полностью объединенными.
Из этого грубого, упорного, изобретательного народа вышли последователи Уоллеса и его товарищей пограничных рыцарей Эндрю де Морея и сэра Джона Грэхема – «доброго Грэма» легенд. Вооруженные самодельными копьями и топорами, они носили звериные шкуры и плащи из дерюги; их рацион состоял из толокна и сушеной чечевицы, которую они носили на спине или в седельных сумках пони. Даже по стандартам той выносливой эпохи они были почти невероятно мобильны, пересекая огромные расстояния пустынных болот, гор и лесов, чтобы подстеречь и напасть на своих врагов. Их воодушевляла страстная ненависть к англичанам; сам Уоллес, говорилось, как правило, убивал каждого «южанина», который вступал с ним в спор. По словам шотландского барда, Слепого Гарри, когда вождь партизан захватил группу «плутов-англичан», он заставил их тащить награбленное им добро в его лесное логово, а затем повесил всех троих на дереве. Как любая партизанская война в первобытных землях, его кампания велась с беспощадной жестокостью и устрашением. Но более всего беспокоило власти то, что стало невозможно собирать налоги. «Нельзя собрать ни пенни, – из Роксбурга докладывал своему венценосному хозяину казначей Шотландии Хьюго де Крессингем, – пока милорд граф Уорена не войдет в ваши земли и не заставит людей силой и законным наказанием». Так как старый Суррей, наместник северных земель, почивавший на лаврах Спотсмюра, на зиму вернулся домой в свои английские имения, взвалив всю ответственность на Крессингема – жирного клирика, любившего гроссбух больше, чем псалтырь.
Так, несмотря на капитуляцию западных лордов в Ирвине, к тому времени, когда король бороздил воды, направляясь к Фландрии, едва хоть один английский гарнизон остался на севере от реки Тей. Однако в это же время армия под началом Суррея, наспех собранная им в соответствии со своими обязанностями, торопилась на восточный берег, чтобы навести порядок. Власти не сомневались, что, натолкнувшись на регулярную армию, сопротивление скоттов прекратится так же быстро, как годом ранее. «Что касается людей на другой стороне Шотландского моря (пролива Форт. – Прим. автора), – писал королю Крессингем, – мы надеемся, что скоро они будут в нашей власти».
Вместе со своими одетыми в лохмотья людьми Уоллес в это время осаждал замок Данди. У него не было осадных орудий, и он надеялся уморить противника голодом. Узнав о приближении Суррея, шотландец прекратил осаду и, присоединившись к своему мятежному собрату Морею, занял позицию на самой южной вершине Охилов, преградив дорогу из Стерлинга на север. Уоллес решил дать сражение в миле от того места, где стерлингская дорога пересекала реку, здесь глубокую и бурную, чтобы противник не мог проникнуть внутрь освобожденных земель за проливом Форт.
Это было смелое решение. Королевские войска были гораздо более тренированными, вооруженными и дисциплинированными. Их преимущество заключалось в тяжелой коннице – доминирующей силе в войне, которой шотландцы, по большей части вышедшие из простонародья, были полностью лишены. Но английские полководцы недооценили своего невзрачного с виду врага. Прирожденный полководец и стратег, Уоллес достиг невероятного влияния на своих людей. Граф Суррея же был стар и дряхл, а Крессингем – чиновник Казначейства огромных размеров, которого все ненавидели за его подлость и жадность – прославился своей нетерпеливостью и заносчивостью. Вопреки советам гораздо более опытных солдат, в том числе и англо-шотландского рыцаря, убеждавшего, что позиции Уоллеса следует обойти с флангов, нежели атаковать в лоб, Суррей неохотно уступил настойчивому давлению казначея, который руководствовался лишь финансовыми соображениями и для которого даже однодневная задержка была прежде всего тратой денег. 11 сентября перед занявшим хорошие позиции врагом английские командиры приказали армии продвигаться вперед по деревянному мосту, настолько узкому, что по нему с трудом бок о бок могли проехать два всадника и не могли развернуться.
Именно этого и ждал Уоллес. Он уже отверг попытки прекратить военные действия, исходившие от сенешаля Шотландии и графа Леннокса, которые, пытаясь угодить и тем и другим, предложили свои услуги в качестве посредников. «Скажите своим людям, – сказал он, – что мы пришли сюда не за миром, а сражаться, дабы отомстить и освободить нашу родину. Пусть приходят, когда хотят, и мы окажем им достойный прием». Шотландец приказал своим воинам не покидать свои позиции среди скал, пока он не протрубит в рог. Он подождал, пока реку не перейдет столько врагов, сколько он может уничтожить. Затем раздался сигнал.
Стремительная атака шотландцев привела английских солдат в замешательство, когда они пытались развернуться на болотистом вязком берегу. Фаланга копьеносцев Уоллеса подошла к мосту, отрезав англичан, переправившихся на другой берег, от их товарищей по оружию. В течение следующего часа Суррей вынужден был наблюдать избиение своей конницы, которая не могла отступить, поскольку река была слишком глубока для переправы, а единственный мост удерживали шотландцы, с удовольствием рубившие противника на куски. Крессингем был убит, а его кожу победители позже разрезали на лоскуты. Затем началась паника, и оставшиеся англичане бежали не останавливаясь, пока не достигли Берика. Сам Суррей бежал в Йорк. «Мы понимаем, – начиналось письмо из королевской канцелярии, – что граф сейчас находится на пути к нашему дражайшему сыну Эдуарду, который замещает нас в Англии, чтобы поговорить с ним относительно этого шотландского дела»[210].
Битва на Стерлингском мосту восстановила независимость Шотландии. Сенешаль и граф Леннокса теперь связали свою судьбу с мятежниками. Данди и Стерлинг капитулировали, и к концу сентября только замки Эдинбурга, Данбара, Роксбурга и Берика оставались в руках англичан. Сам Уоллес захватил город Берик, перебив тех английских купцов, имевших глупость остаться.
* * *
Пока на севере происходили все эти события, сама Англия очутилась на грани революции. Не успел король отплыть во Фландрию, как маршал и констебль, бросая вызов совету его сына, появились в казначействе и запретили сбор восьмой части, за которую Эдуард заставил проголосовать представителей графств, но на которую не добился согласия у магнатов. От имени всего королевства они объявили ее «налогом по собственной воле» – символом сервитута – и апеллировали к Великой хартии вольностей и Лесным хартиям. В документе, известном как the Baron's Monstruances, который они прислали Эдуарду в Уинчелси как раз перед самым отплытием короля, магнаты перечислили беззаконные требования короля: призыв на военную службу всех тех, чей доход ниже чем 20 фунтов; высокие пошлины и комиссии «на зерно, овес, солод, шерсть, кожу, рогатый скот и соленое мясо, без каких-либо выплат, на которые они могли бы жить», навязанные его людьми народу; а кроме того, нежелание короля обсудить и добиться согласия на налоги у тех, кто их платит. Однако, как бы сильно они не были обижены, магнаты ориентировались на корпоративное право народа принимать участие в обсуждении таких дел в соответствии с традиционными формами и обычаями, прежде чем новшества, затронувшие их привилегии, не стали законами. Обратившись прямо к простолюдинам – части сообщества слишком слабой, чтобы противостоять ему, – король попытался разделить нацию и по частям разрушить ее права. Будучи защитниками традиций королевства, магнаты, как и их предшественники, говорили и действовали за всех.
В течение нескольких недель, в то время как регентский совет пытался созвать народное ополчение южных графств и собрать парламент в октябре, казалось, что вновь собиралась разразиться гражданская война, как тридцать лет назад. Но баронов поддерживали все, кто пострадал от поборов и деспотичного правления последних трех лет, и, что самое важное, лондонцы, которые уже десять лет жили без мэра и дважды встречали отказ, когда обращались с прошениями о восстановлении их привилегий. Несмотря на примирение архиепископа с королем, они также получили поддержку церкви. 21 сентября, прежде чем отправиться в Вестминстер во главе своих слуг, магнаты держали свой собственный предварительный парламент в Нортгемптоне, на котором составили не идущий на компромиссы список требований против произвольных пошлин и управления, известный как De Tallagio поп Concedendo. Затем пришли вести из Шотландии. Потрясение восстановило национальное единство. 10 октября мальчик-регент и его совет встретились с лидерами баронов и согласились с самыми умеренными их требованиями. Было гарантировано прощение тем, кто отказался служить за границей, а должности маршала и констебля были возвращены Норфолку и Херефорду. Хартии были подписаны, официальная запись беззаконных податей и реквизиций была вычеркнута, a maltote на шерсть был отменен. Было оговорено, что впредь никакие другие налоги, кроме обычных феодальных выплат и «древних и великих пошлин» на шерсть, установленных в самом начале правления Эдуарда, не будут назначены без «всеобщего согласия всего королевства и к общей пользе каждого». В ноябре были предприняты первые шаги по возвращению гражданских свобод Лондону.
Король, находившийся в Генте, помедлив три дня, принял капитуляцию своего совета. Он ничего больше не мог поделать, если хотел предотвратить гражданскую войну и вернуть Шотландию. В ответ магнаты согласились выплачивать девятую часть, а духовенство – «добровольно» предложило пятую часть от находящихся под угрозой северных провинций и десятую – от южных. К этому времени шотландцы перешли границу и опустошали Нортумберленд и Камберленд. За три недели «богослужения прекратились в каждой церкви и в каждом монастыре от Ньюкасла-на-Тайне до Карлайла». От перехода Тайна захватчиков остановили только снежная буря и мужество епископа Даремского. В Хексгеме, говорили, только личное вмешательство Уоллеса спасло жизни монахов у алтаря.
Восстание под его руководством также спасло Англию от гражданской войны и заставило короля уступить своему народу принцип опроса и согласия, которому он противился в начале своего правления, и от чего зависела истинная сила его королевства. По словам историка государственного устройства, Эдуарду «жестоко напомнили об изменении смысла монархической традиции и об усиливающейся, а не уменьшающейся, зависимости короля от общин королевства. Он узнал, что детали сотрудничества имеют значение, так же, как и принцип. Каждое новое требование правителя должно быть утверждено с согласия людей»[211].
Все, что теперь ему оставалось делать, – это вернуться в Англию и вновь покорить шотландцев. Три года потребовалось Эдуарду, чтобы добиться цели: вести армию на континент, а единственным результатом стала потеря Шотландии и отчуждение подданных. Деньги, которые он выжал из англичан, чтобы поддержать своих союзников, не дали ему возможности добиться цели. Даже преданность Фландрии, на которую он возлагал столь большие надежды, не принесла ничего кроме напрасных трат и катастрофы для фламандцев, так как Филипп Красивый отреагировал на это вторжением в пределы этой области и захватом нескольких городов, включая Лилль, в то время как Брюгге попал в руки leliants – «людей лилии» – приверженцев Филиппа. Даже в Генте, зимнем штабе Эдуарда, склонность его валлийских воинов к грабежу, отвратила от них местных жителей.
Заключив перемирие с французским королем, который оставил за ним все, что тот приобрел, в марте 1298 года Эдуард вернулся в Англию. Он направился в Йорк, где устроил свой двор, казначейство и суды до той поры, пока шотландцы не сдадутся. Северные бароны к тому времени освободили осажденные замки Берика и Роксбурга, но судьба остальных все еще была в руках Уоллеса. Несмотря на свое низкое происхождение, победитель при Стерлигском мосту был прославленным главой страны, управляя ею как «страж королевства и вождь армий» именем короля Иоанна[212], чей племянник, Иоанн Комин Рыжий – сын одного из претендентов на корону, – присоединился к нему. Хотя большинство других шотландских аристократов до сих пор держались в стороне, они не отозвались на призывы короля прибыть в Йорк. Среди них был и молодой Роберт Брюс, граф Каррика.
Эдуард не придал значения мятежным лордам и сконцентрировал все силы для удара по Уоллесу. Когда обозы, везущие правительственные записи и свитки, тряслись по неровной дороге в Йорк, король собрал самую большую армию, которая когда-либо входила в Шотландию со времен Римлян. На Пятидесятницу он созвал парламент, на котором помирился с маршалом и констеблем, настаивавшими на дальнейшем утверждении хартий – требовании, которое он отверг как ставящее под сомнение его честь. Еще до конца июня, после паломничества к мощам Св. Иоанна Беверлейского, приготовления к кампании были завершены.
Всего было собрано 2400 всадников и 29000 пеших воинов. Не всем воинам сразу же хватило вооружения; как на поле боя, так и по пути уровень дезертирства в средневековой армии был очень велик. Но когда Эдуард пересекал границу в начале июля, его войско достигало 12,5 тысячи пехотинцев и лучников и более двух тысяч всадников, а кроме того, войско сопровождал огромный обоз из телег с припасами, ремесленники и прочий сброд. Восемь графов следовали с Эдуардом: маршал и констебль, старый Суррей, наместник Шотландии, новый муж графини Глостера Ральф де Мортемер, Арундель и Гай Уорикский, который только что наследовал своему отцу. Все они привели свою часть рыцарей и воинов, также и молодые графы Ланкастера и Пемброка, оба еще не достигшие совершеннолетия, жаждавшие славы – племянник и кузен короля. Только один шотландский граф, Ангуса, присутствовал, но великолепный епископ Бек вел военных держателей Дарема, а лорд Перси Олнвикский – людей из Нортумберленда и Уэстморленда.
Это было величественное зрелище: тысячи флагов и знамен трепетали на ветру, важно выступали рыцари на боевых конях, закованные в латы с головы до пят, с огромными копьями и украшенными гербами щитами; кольчуги и оружие, старательно отполированные пажами, так угрожающе сверкали на солнце, что их было видно в отдаленных шотландских холмах. За ними шла пехота, сформированная ветеранами валлийских войн, такими, как Грей Ратинский и Уильям де Фельтон, или собранные королевскими военными комиссарами по шерифским свиткам английских северных графств, во главе которых ехали тысячники, сотники и пятидесятники – полковники, капитаны и лейтенанты: маленькие, внимательные, неугомонные люди, вооруженные копьями и длинными ножами, – паршивые овцы в родных деревнях и на фермах, чаще скачущие на лошади, нежели идущие пешком, и всегда готовые использовать малейшую возможность грабить, дезертировать или объединяться для битвы или мятежа со своими многоязычными собратьями по оружию. Там были группы смуглых конных гасконских арбалетчиков и одетых в зеленые куртки лучников из Гвента и Чеширского и Шервудского лесов, с огромными луками и связками стрел; хобелары в шлемах – или легкие уланы – скачущие на низкорослых лошадях и носящих латные рукавицы, кожаные камзолы, но не имеющие при себе никакого оружия; кузнецы, оружейники, мастера по изготовлению луков и стрел, саперы для осадных операций, шатерщики, чьей задачей было ставить палатки для вельмож; повара и дворецкие, музыканты с длинными свирелями, барабанами и блестящими инструментами; хирурги, капелланы и важные чиновники короля и магнатов с вьючными лошадьми, нагруженными свитками и коробками. И в длинном извилистом кортеже, в котором были собраны воедино элементы нового национального государства и старого феодального, с которым Эдуард и вел войну, окруженный гвардией рыцарей и конных лучников ехал король, даже в седле возвышавшийся над своей свитой, широколобый и с благородной сединой[213].
Когда это великое войско подтягивалось вдоль побережья к Эдинбургу, Уоллес, расположив свой фланг в Селкирском лесу, отступал, собирая все съедобное на своем пути. В продвижении средневековой армии к сражению, существовала только одна важнейшая необходимость и три неизбежных зла. Была необходима дисциплина, а наибольшие препятствия заключались в дезертирстве, болезнях и недостатке продуктов питания. Размер англо-валлийского войска сделал его чрезвычайно зависимым от средств сообщения. Флот, который должен был доставлять провизию, опаздывал из-за неблагоприятных ветров, и после продвижения за Эдинбург Эдуарду пришлось задержаться почти на две недели, пока епископ Даремский осаждал Дерлетон и два соседних замка, которые встретились ему на пути. Во время вынужденной задержки нрав короля раскрылся в разговоре, который он держал с рыцарем, посланным епископом, чтобы объяснить Эдуарду причины затруднений. «Возвращайся, – сказал король, – и скажи епископу, что как пастырь он хороший человек, но его добродетель не к месту при решении этой задачи. Ты – жестокий человек, и я несколько раз упрекал тебя за то, что ты слишком свиреп и из удовольствия убиваешь своих врагов. Но сейчас иди и забудь свои опасения: я не буду обвинять тебя, но благословлю. И остерегайся показаться мне на глаза, прежде чем предашь огню все три замка». Рыцарь спросил своего государя, каким образом выполнить приказ. Король ответил: «Ты просто сделаешь это, и обещай, что выполнишь»[214].
Когда Дерлетон был взят, королевская армия смогла двинуться в сторону Линлитгоу. Но ей до сих пор катастрофически не хватало продовольствия, так как транспорт не мог обеспечить такое большое войско в истощенной стране, и, пока задержанный ветрами флот не мог покинуть Тайна, солдаты Эдуарда жили впроголодь. Валлийские лучники угрожали дезертировать, и между ними и английскими собратьями по оружию произошла стычка. 21 июля король намеревался приказать отступать в Эдинбург, как до него дошла весть о том, что шотландцы выходят из леса с намерением атаковать. «Да благословит Бог тех, кто каждый раз выводит меня из затруднительных положений, – воскликнул он, – им не надо следовать за мной, так как я сам встречу их и в этот самый день».
В ту ночь голодные англичане расположились бивуаком на поле битвы, люди спали на своих щитах, и выносливый король был среди них, лошади паслись рядом с хозяевами. Сразу после полуночи раздался сигнал тревоги, и в темноте Эдуарда помял его конь, когда он намеревался вскочить в седло. С двумя сломанными ребрами он скакал среди войск, чтобы вернуть уверенность и возобновить дальнейшее наступление на рассвете. Вскоре после восхода шотландские и английские патрули неожиданно столкнулись около Фолкерка, и вскоре взгляду Эдуарда и его войска открылись отряды Уоллеса, выстроенные для сражения на нижних склонах холма.
Уоллес был превосходным бойцом и показал себя прекрасным командиром. Лишь несколькими неделями ранее, с замечательным предвидением, он предвосхитил планы Эдуарда, послав маленький мобильный отряд, чтобы осадить Карлайл и предотвратить снабжение похода на юго-восток, где молодой Брюс вновь связал свою судьбу с мятежниками. Но теперь он столкнулся с достойным противником. Эдуард был столь же великим воином, что и Уоллес, но численно его войско превосходило шотландское. Уоллеса обманули оптимистичные уверения, что положение англичан гораздо хуже, чем было на самом деле. Он совершил ошибку, отказавшись от стабильного положения в лесу и вызвав короля на бой, вместо того чтобы оставить его умирать с голоду.
Однако Уоллес с прежней осторожностью готовился к битве. Зная, что ему вновь придется столкнуть пехоту с вооруженной кавалерией, что считалось невозможным вплоть до событий на Стерлингском мосту, храбрый шотландец учил своих людей сражаться, выстроившись в плотные прямоугольники, называвшиеся schiltrons[215]или «щитовые отряды»[216], выстроивших в три ряда двенадцатифутовые копья, направленные вперед; такое препятствие для кавалерии было фактически невозможно преодолеть. Когда первые ряды сидели на корточках или на коленях, а задний ряд стоял, шилтрон напоминал огромного стального ежа:
«Их копья острие к острию так густы, И стремятся сомкнуться, смотри, вот какова сталь, Как замок с каменными стенами, стоят они» [217]Уоллес выстроил свою армию в четыре таких человеческих крепости, ощетинившихся копьями, с выставленными кольями и тросами впереди и лучниками между ними. Перед шотландцами, как и при Стерлинге, лежала болотистая земля, замедлявшая ход атакующей конницы. «Я довел вас до края, – сказал он своим людям, – перепрыгните его, если можете».
Если Уоллес прибегнул к новой технике ведения боя, чтобы восстановить равновесие между вооруженной кавалерией знати и «неприкрытой» пехотой простолюдинов, его противник, исходя из личного военного опыта, применил еще более грозное оружие. В валлийских кампаниях Эдуард узнал о поразительной мощи длинных луков Гвента. Натягиваемый с помощью силы всего тела, а не только руки, как короткий лук, «тугой, большой и мощный лук» жителей холмов Южного Уэльса, мог стрелять со скоростью, в два раза превосходящей скорость стрелы, и пронзал самые прочные доспехи. Именно по этой причине английский король всегда набирал в свои армии валлийских наемников, во сколько бы они ему ни обходились, и несмотря на беды, причиной которых служила их вздорность.
Утром 22 июля 1298 года Эдуард принял вызов шотландцев. Но заносчивые молодые английские лорды из авангарда, не слушая его приказов и презрительно проигнорировав совет Бека (один из них посоветовал ему отправляться на свою обедню), начали атаку еще до того, как подъехал король и лучники успели построиться в боевом порядке. Как и предвидел Уоллес, им не удалось опрокинуть шилтроны. Но они снесли Эттрикских стрелков между ними и заставили отступить с поля битвы маленький отряд шотландской кавалерии. В результате на поле битвы осталась лишь пехота. Затем подъехал Эдуард, чтобы взять бой под контроль и выложить свою козырную карту. Избежав атаки конницы или ответного удара шотландских лучников, королевские стрелки начали осыпать шилтроны стрелами, целясь в каждого по очереди, пока их стрелы пеленой не окутали мертвых и умирающих. Затем в бой вступила тяжелая кавалерия, сметая и убивая всех на своем пути. Вскоре все было кончено. Цвет шотландской армии остался на поле, и, отчаянно сражаясь, Уоллес отступил вместе с выжившими в лес Калландера.
Фолкерк положил конец краткому периоду власти Уоллеса. Шотландские лорды позволяли оставаться лидерству в его руках только из-за его успехов, в то время как сами терпели поражения и капитулировали. Для феодальных лордов, с их наследственной монополией возглавлять войска, было трудно вообще воспринимать такого человека в качестве командующего, служить под его началом. Вскоре после разгрома он либо отказался от своего поста регента, либо был смещен, а его место занял племянник Баллиоля, Джон Комин Рыжий, и молодой граф Каррика, Роберт Брюс. Но Уоллес продолжал служить своей стране под их началом и, так как он никогда не шел на компромисс и всегда продолжал борьбу, его влияние оставалось решающим в битве Шотландии за независимость.
Уже к прошлогодней кампании он заложил основы ее будущего. Если закованные в броню рыцари, с детства приученные к войне, до сих пор могли давить пеших необученных фермеров и горожан, Уоллес и его легковооруженные пехотинцы доказали, что на том поле, которое они сами выберут, они могут противостоять надменному рыцарству и, без единого рыцаря в своих рядах, привести в замешательство и уничтожить врага. Даже против такого великого воина, как Эдуард, они могли выстоять в продолжительной войне, даже не дав ни одного сражения. Если бы Уоллес не пытался повторить свой прежний успех, он, вероятно, остался бы во главе непобедимой армии, в то время как его противник ничего бы не достиг за исключением непрерывного ряда бесплодных походов.
Но даже и так, кроме своей единственной победы, Эдуард не многого добился. Он добрался до Стерлинга, обнаружив его в руинах, а всю округу – опустошенной. Восстановив силы за две недели и послав карательный отряд сжечь аббатство Св. Андрея, он ретировался в Эдинбург, что было единственной альтернативой голоду. Так как Уоллес исчез, король вернулся к своему первоначальному плану: пройти через Селкиркский лес к Эру и Галлоуэю, чтобы наказать графа Каррика. Но и этот замысел провалился из-за предусмотрительности Уоллеса. Так, продовольствие, на которое он рассчитывал, было перехвачено отрядом, посланным ранее великим партизаном в Солу эй, а когда король достиг Эра, то ничего не нашел, кроме обугленных руин замка, который ранее сжег Брюс. Молодой граф, переняв тактику Уоллеса, растворился в горах. И, хотя Эдуард занял его замок Лохмабетон, он вынужден был в начале сентября отступить в Карлайл, так как его люди были истощены и многие дезертировали, начался падеж лошадей. Он мог оставаться в Шотландии чуть больше двух месяцев, и, исключая победы над Уоллесом, король ничего не добился кроме захвата ряда замков на юго-востоке, чьи гарнизоны скоро вновь были окружены партизанскими отрядами и враждебно настроенным населением.
* * *
Эдуард не питал никаких иллюзий по поводу своего поражения. Когда он достиг Карлайла, то созвал войско для новой кампании в следующее лето, «чтобы продолжить дело в Шотландии против врагов короны и Английского королевства и усмирить их неповиновение и злобу». На тот момент это было единственное, что он мог сделать, так как маршал и констебль, упирая на свои феодальные права, настаивали на возвращении домой, ропща на время, потраченное зря на полях сражений, и на раздачу шотландских земель самым преданным поборникам короля без их совета. Сам Эдуард остался на севере до конца года, отметив Рождество в своих Холдернесских владениях, где он вновь отстроил гавань Уайк-на-Халле.
На пасху 1299 года он собрал парламент в Вестминстере. Это было беспокойное собрание, ведь тогда, как он и обещал ранее, король подтвердил хартии своих отца и деда, где были зафиксированы протесты баронов против привилегий Короны на леса. Как все Плантагенеты, Эдуард любил дикие леса, в которых он охотился с детства, и ненавидел, когда вторгались в их пределы. Его симпатии лежали на стороне лесного народа, для которого леса были традиционным средством к существованию и чьи исконные права, как и его собственные, попирались постоянными выкорчевываниями деревьев при расчистке участка под пашню или огораживаньями со стороны его более богатых подданных. Однако у него не было иного выхода, кроме как уступить, так как его лорды отказывались предоставлять любую помощь для шотландской кампании, если он не согласится; кроме того, после пяти лет непрерывных войн, его финансы были в плачевном состоянии. Поэтому он подтвердил хартии и назначил комиссию, чтобы установить требуемые границы, то есть другими словами, чтобы признать неразрешенные расчистки участков под пашню, которые ими были сделаны, и которые они теперь рассматривали как свои собственные. В своем сердце король сохранил надежду на тот день, когда он сможет возвратить свободу действия. И хотя он даровал своим магнатам, так настаивавшим на своих правах, поцелуй в знак примирения, он намеревался получить обратно свою собственность.
Первым шагом было продлить перемирие с Францией, дабы прекратить чрезмерные траты на две войны одновременно. К счастью, французский король, хотя и не собиравшийся поступаться своими интересами, к тому времени был в гораздо более сговорчивом расположении духа. Несмотря на свои легкие завоевания во Фландрии и Гаскони, он находил продолжительную войну с союзниками, Германией и Нидерландами, серьезным бременем для страны, чья налоговая система была гораздо менее гибкой и не так легко приживалась на местах, чем английская. Церковь, с ее стремлением к объединению христианского мира, пыталась уладить ссору, и, по настоянию Эдуарда, два короля согласились летом 1298 года представить свой спор о Гаскони на суд папы. Перемирие, таким образом, было возобновлено, и хотя официально государи находились в состоянии войны, династии Франции и Англии, состоявшие в кровном родстве, вновь начали сближаться. Предложения, выдвинутые перед войной, привели к двойному родству: Эдуард и его наследник женились на сестре и дочери французского короля. В сентябре 1299 года в Кентербери, шестидесятилетний благородный вдовец сочетался браком с принцессой Маргаритой Французской. Эта свадьба сулила Шотландии беду.
Весной 1300 года «молодожен» в четвертый раз отправился покорять Шотландию. Прежде чем отбыть на север, он остановился в Бери Сент-Эдмунде, где, как всегда, он порадовал монахов своим религиозным рвением и богатыми дарами. Когда он верхом выезжал из ворот, то дважды склонил голову в память королевского святого и отослал назад свой штандарт, чтобы его приложили к каждой реликвии в аббатстве. Его юная королева следовала за Эдуардом до Йоркшира, где в Бротертоне, на берегу Уорф, она родила сына, который должен был стать предком современного герцогского дома Норфолков. С семнадцатилетним Эдуардом Карнарвонским[218] – до сих пор не участвовавшим ни в одной войне – король присоединился к своей армии в Карлайле, где в Солу ее находился наготове флот из пятидесяти восьми судов. «Повсюду, – отмечал наблюдатель, – гора и долина были забиты повозками и вьючными лошадьми, припасами и имуществом, палатками и шатрами... Затем, когда все прибыли, они отправились в Сульватлендс (Sulwatlandes), к границе между Англией и Шотландией».
Целью Эдуарда был Галлоуэй, где сконцентрировались основные силы мятежников. После захвата Эклфехана и Лохмабена, он повернул в сторону Дамфриса, чтобы очистить пути сообщения, захватив небольшой замок Керлаверок в устье реки Нит. Осада, длившаяся до тех пор, пока не прибыли осадные орудия, легла в основу сюжета геральдической поэмы на французском языке (керлаверокский геральдический свиток). В ней перечислены все рыцари, принявшие участие, простые или раскрашенные шатры, с яркими вымпелами, деревянные хижины, построенные из Нитдейлских лесов и покрытые травами и цветами. Огромные машины забрасывали стены камнями, рыцари, в свою очередь, наступали в своих прекрасных доспехах и с развевающимися над головой яркими знаменами. Замок пал после недельной осады, 15 июля. В течение кампании беспрестанно лил дождь. В Туинхольме, возле Керкудбрайта небольшой английский отряд захватил в плен Сэра Роберта Кейта, наследного маршала, и заставил шотландскую армию под началом графа Бьюкена и Джона Комина Баденохского направиться во «мхи и болота». Хотя захватчики дошли до Уигтауна, они ничего не добились. К концу августа английский король со своей армией, голодные, промокшие и подавленные, вернулись в Карлайл.
В то же время шотландцы искали поддержки за границей. Их призывы достигли папы Бонифация, всегда претендовавшего на то, чтобы подчинить себе светских правителей. Пока Эдуард отводил войска из Галлоуэя, архиепископ Уинчелси прибыл в Свитхартское аббатство с письмом из Рима, в котором Шотландия объявлялась папским фьефом, а королю приказывалось освободить Баллиоля и его плененных собратьев, заключить мир и покинуть страну. Шотландия никогда не была, провозглашал папа, английским фьефом. Эдуард был в ярости. «Клянусь кровью Господней, – говорил он дрожавшему примасу, заклинавшему его во имя горы Сион и Иерусалима подчиниться, – ради Сиона я не замолчу и ради Иерусалима я не успокоюсь, но изо всех сил буду защищать свое право»[219].
Хотя парламент, собравшийся в Линкольне той зимой, оказался весьма несговорчивым в других вопросах, настаивая на утверждении Лесных хартий и разрабатывая субсидию, состоящую из пятнадцатой начти на имущество, обусловленной временной отставкой казначея, Уолтера Ленгтона, способного, но не популярного епископа Личфилдского, ставшего главным советником Эдуарда, магнаты единодушно поддержали короля, отвергнув папские притязания. «Обычай Английского королевства таков, – отвечал Эдуард папе, – что в делах, касающихся недвижимости королевства, требуется спросить совета у всех, кого это дело затрагивает»[220]. В декларации, скрепленной печатями семерых графов и девяносто семи баронов, магнаты от лица общества утверждали, что ни один король Англии никогда не отвечал перед иностранцем за дела, затрагивавшие его светские права, и что владычество над Шотландией принадлежит ему по праву и теперешнему владению. Если, провозглашали они, их владыка король когда-либо и подумал бы о подчинении своих прав решению Его Святейшества, они противились бы со всей силой поступку, столь очевидно тяготеющему к лишению короны наследства.
Долгая утомительная борьба за покорение мятежного севера продолжалась. Летом 1301 года Эдуард еще раз вторгся в пределы Шотландии, на этот раз с двумя армиями. Одна, под началом ветерана Генриха Ласи, графа Линкольна, и титулованного командующего, молодого Эдуарда Карнарвонского, которому на последнем парламенте в Линкольне, отец пожаловал титул принца Уэльского[221], выступив из Карлайла против крепостей Брюса на юго-западе, вновь продвинулась до Уигтауна. Так как шотландцы просто отступили в горы, унеся с собой все годное в пищу из долины, военный эффект был равен нулю. «Так как ни один шотландец не сопротивлялся, – возмущенно писал вестминстерский летописец, – ничего славного или даже стоящего похвалы не было достигнуто». Другая армия под началом короля дошла до долины реки Туид и через Селкиркский лес в Клайдсдейл и до Линлитгоу. Здесь вместе со своей королевой Эдуард провел зиму в древнем королевском дворце над проливом Форт. Пока его судьи и чиновники управляли Англией из Йорка, он организовал шотландский поход по примеру уэльской кампании, назначив наместников и шерифов управлять южной территорией пролива Форт как частью северной Англии, разместил в замках английские гарнизоны, пообещав солдатам шотландские земли. Чтобы доказать всю серьезность своих намерений покорить всех «мятежников и предателей» и в качестве символа своей власти над всей Британией, он отметил Новый год пирами Круглого стола в Фолкерке.
К этому времени король Филипп ввязался в еще более яростный спор с папой о соответствующих правах над французским духовенством. В результате Бонифаций созвал Генеральный Совет «для реформации королевства и наказания короля»[222], а Филипп отомстил, созвав Генеральные Штаты или национальную ассамблею, чтобы протестовать против папского вмешательства. Увлекшись спором, французский король и его рыцарство потерпели неожиданное поражение от фламандцев, которые, как сицилийцы двадцатью годами ранее, восстали против своих притеснителей. 11 июля 1302 года, сражаясь пешими и вооруженные копьями, горожане и ткачи городов Брюгге и Гента при Куртре сделали то же самое, что фермеры Уоллеса в Стерлинге, и, к удивлению всей Европы, нанесли поражение надменной феодальной коннице, которая правила простолюдинами в течение трех веков.
Воодушевленный унижением французов, папа той осенью обнародовал буллу – Unam Sanctam, – которая ознаменовала высшую точку папских претензий, объявив в ней, что «необходимо для спасения, дабы все люди стали бы подданными Римскому престолу». А завершил ее он угрозой отлучить французского короля от церкви. Чтобы заручиться поддержкой английского короля против Бонифация, Филипп теперь уступил Эдуарду то, к чему он так долго стремился. Ему было все сложнее держать в подчинении гасконцев, предпочитавших правление своего английского герцога. И после того как простой народ Бордо успешно восстал против его чиновников зимой 1302 года, французский король предложил восстановить герцогство. В то же время он согласился отказать в поддержке своим шотландским протеже, союзничество с которыми до сих пор мешало формальному примирению с Англией. 20 мая 1303 года в Париже было заключено соглашение, и Эдуард принес оммаж по доверенности за свой возвращенный фьеф.
Дезертирство Франции оставило шотландцев без поддержки. Добиваясь расположения Эдуарда в своем столкновении с Филиппом, папа, в свою очередь, отрекся от них, лишив своего заступничества покровителя Уоллеса, епископа Глазго, которого он назвал «камнем преткновения», и приказав шотландским прелатам порицать свою паству за мятеж против его «дорогого сына во Христе, короля Эдуарда». Шотландские посланники в Париже на первых порах храбрились, написав хранителям Шотландии, что французский король до сих пор неофициально их друг, и уговаривая не отчаиваться, а продолжать борьбу. «Если бы вы знали, – добавлял он, – какая слава пришла к вам со времени последнего сражения против англичан, вы бы возликовали».
Это было упоминание о февральской схватке, в которой Джон Комин и Саймон Фрейзер недалеко от Эдинбурга, в Росслине, напали из засады на небольшое войско под командованием наместника Эдуарда, Джона Сегрейва. Вице-короля захватили в плен, и он единственный избежал унизительной смерти. Но это была последняя победа шотландцев. Так как Франция вышла из борьбы, они теперь были полностью в руках Эдуарда. Все силы государства, седьмая или восьмая часть населения, были мобилизованы, чтобы сокрушить их. Недавно король получил от иностранных купцов, торгующих с Англией, новый важный источник дохода, чтобы финансировать кампанию. Собрав их представителей в Виндзоре 1 февраля 1303 года, он обговорил с ними хартию – «Купеческую хартию», – освобождающую их от пошлин – «причального сбора, платы за проезд через мост и выпас свиней», а также от ограничительных и ревностно антииностранных правил лондонского Сити, предоставив им собственный суд и право на предоставление пятидесяти процентов судей во всех случаях, кроме важнейших. В ответ они обещали ему увеличение пошлин на импорт вина и экспорт шерсти, кожи и других товаров. Эти новые или «мелкие пошлины» – так их называли в отличие от «великих пошлин», гарантированных английскими купцами в 1275 году, позже стали известны как корабельный сбор и пошлина с веса. Так как новые сборы падали только на иностранных торговцев и не имели результатом снижения цен на английскую шерсть, они были гораздо менее непопулярны, чем maltote шестилетней давности.
Благодаря этому Эдуард еще раз смог вторгнуться в пределы Шотландии. В июне 1303 года он пересек реку Форт с помощью трех сборных плавучих мостов, привезенных морем из Линна. Миновав Стерлинг, к середине месяца он достиг Перта. К сентябрю он был у пролива Форт. Его продвижение было медленным и систематическим, и любой город, оказывавший сопротивление, сжигался дотла. Только Брехинский замок держался, его комендант, Сэр Томас Моль, противостоял королевским осадным машинам пять недель и, умирая, проклял любого преемника, если тот окажется настолько трусливым, что сдастся.
Даже самый отважный из мятежных лордов теперь сдался. Молодой граф Каррика, изнуренный борьбой со своим соперником, Баллиолем, вновь вспомнил о вассальной преданности, присоединившись к своему отцу, остававшемуся верным Эдуарду все это время. Епископы Глазго и аббатства Св. Андрея и оставшиеся Хранители, Комин и де Сулис, последовали его примеру. Из Дамфермлайнского аббатства – сердца старой королевской Шотландии – король-победитель пообещал сохранить жизнь и свободу всем, кто сложит свое оружие, за исключением семерых. Шестеро из них были приговорены к недолгим срокам изгнания. Седьмому, Уильяму Уоллесу, было приказано безоговорочно прибыть в распоряжение короля.
Непреклонный герой отказался. Он остался в лесу и вересковых зарослях вместе со своим отрядом изгоев, и, когда друзья начали уговаривать его сдаться, процитировал строки, восхваляющие свободу, которые он выучил еще ребенком. «Если все люди Шотландии, – говорил он, – подчинятся королю Англии или лишат друг друга свободы, я и мои товарищи, желающие сохранить верность мне, будут стоять за свободу королевства».
Несколько месяцев держался Стерлингский замок с гарнизоном в пятьдесят человек под началом Сэра Уильяма Олифанта – единственная крепость, до сих пор оказывавшая сопротивление Эдуарду. Его падение под королевскими таранами преподносилось как зрелище. В одном из домов города построили балкон, откуда королева и ее свита могли наблюдать за loup de guerre или «волком войны», обстреливающим стены замка. После капитуляции замка, в августе, король отправился на юг, приказав, чтобы к Рождеству ему доставили Уоллеса. В то же время казначейство и суды вернулись в Вестминстер. Здесь, в феврале 1305 года, был собран парламент всего острова, который посетил и Роберт Брюс в качестве английского барона. По его совету, поддержанному епископом Глазго Уишуотртом, было решено, что десять представителей шотландских владений – два графа, два епископа, два аббата, два барона и еще два человека, выбранных «простолюдинами», – будут заседать в английском парламенте, чтобы служить, как и двадцать англичан, советом завоеванного севера, пока не будет издан постоянный закон. Между тем Брюс, епископ Уишарт и Джон Мобрей были назначены Хранителями.
Позже тем же летом был схвачен Уоллес. Шотландская знать присоединилась к поискам, за его голову было назначено денежное вознаграждение, и храбрый шотландец, не собиравшийся сдаваться, был вынужден скитаться из одного укрытия в другое. 5 августа его предали недалеко от Глазго. Доставленный на юг через семнадцать дней, он был проведен по улицам Лондона в сопровождении мэра и шерифов. На следующий день, 23 августа 1305 года, его судили в Вестминстер-холле (место, на котором он стоял, увенчанный смехотворным венком из лавровых листьев, до сих пор можно видеть) и объявили виновным в измене, убийстве и грабеже. Ему было запрещено защищаться, он отверг то, что он когда-либо клялся в преданности английскому королю или совершил что-нибудь, что могло бы сделать его предателем. Приговоренного к повешению, четвертованию, его протащили четыре мили на повозке к Тауэру и оттуда через Олдгейт к виселице «у вязов» в Смитфилде, где «повесили на петле, а затем дали упасть полуживому, отрезали половые органы, вырвали кишки и предали их огню». Его голову насадили на кол на Лондонском мосту, а части тела выставили на обозрение в главных северных городах – Перт, Берике, Стерлинге и Ньюкасле[223].
Что-то, пришедшее с ними, укоренилось, по словам Эндрю Ланга:
«Как дикий цветок По всей его дорогой стране».Уоллес был первым из длинного ряда христианских патриотов, умерших за идею национальной независимости. Покинутый лордами и прелатами Шотландии и почти всеми членами своего рыцарского класса, он остался жить в легендах и балладах простого народа, который он вел за собой. В XV веке бард Слепой Гарри высказал на родном языке неискоренимую веру крестьян Шотландии в его подвиг:
«Шотландию он освободил и залатал ее раны, И теперь на небесах его наследство».Именно это после вечерней летней прогулки в Легленский лес в 1793 году вдохновило величайшего из шотландских крестьян написать песню о своем «достойном» герое. Песня Бернса «Scots wha hae» («Слава Шотландии») до сих пор воспевает честь Шотландии, и люди решают отстаивать или пасть за свободу.
Глава V ТРИУМФ БРЮСА
И в сраженье обрести
Смерть или свободу!
БернсПосле двенадцати лет войны шестидесятишестилетний Эдуард одолел всех своих врагов. Но за победу он заплатил дорогой ценой. Фактически он стал банкротом, его счета, ранее бывшие в идеальном порядке, теперь находились в полном расстройстве. Иностранные банкиры захватили контроль над таможенными сборами. Хотя, пожертвовав финансами королевства и благосклонностью своих подданных, он вновь обрел свое герцогство, покорил шотландцев и навязал свою волю тем, кто унизил его.
Время отомстило за Эдуарда констеблю и маршалу. Херефорд умер вскоре после своего успешного сопротивления, и в 1302 году король выдал замуж принцессу Елизавету за своего энергичного наследника, с расчетом на то, чтобы в будущем графство констебля присоединилось к королевским владениям. Чтобы получить прощение, стареющий Норфолк вынужден был отказаться от своих владений, ему обещали их вернуть, но при условии, что они станут выморочными и отойдут короне, если он умрет, не оставив после себя наследника. Когда это произошло, в 1306 году, еще одно крупное феодальное герцогство, вместе с наследной должностью маршала, досталось королю, позже оно было пожаловано Томасу Бротертонскому, его старшему сыну от второй жены. Графства Честер, Корнуолл, Глостер, Норфолк, Херефорд, Ричмонд, Ланкастер, Дерби и Лестер теперь все стали принадлежать Эдуарду или его близким родственникам.
Оставался один противник – архиепископ Кентерберийский. Против Уинчелси, который был самым непримиримым врагом налогообложения на нужды войны и упорно поддерживал намерение баронов навязать короне Лесные хартии, Эдуард питал непримиримую злобу. Она усугублялась тем, что примас открыто поддерживал обвинение в убийстве, адюльтере и сношении с дьяволом, выдвинутое против его верного, но не пользовавшегося популярностью в Англии казначея, Уолтера Ленгтона, епископа Личфилдского[224]. Удобный случай представился зимой, после смерти Уоллеса. Оба недавних противника, Эдуард и Филипп Красивый, одинаковым образом отреагировали на претензии папы Бонифация сделать из Церкви независимое государство в государстве и трактовать любое неповиновение папской власти как ересь. Реакция Филиппа была весьма жесткой, причем до такой степени, что конфликт закончился осенью 1303 года, когда французы пленили папу в его собственном замке Ананьи, и тот умер от потрясения. Двумя годами позже папская тиара перешла к гасконцу, Клименту V, чье имя до сих пор ассоциируется с виноградником Шато Папе-Климент, и кто в бытность архиепископом Бордо был подданным Эдуарда. Английский король использовал его дружбу, чтобы получить освобождение от клятвы соблюдать Лесные хартии, а также освободить Уинчелси от занимаемой должности. В феврале 1306 года примас был призван в курию, чтобы ответить на обвинения своего суверена, среди которых было и то, что он ложно обвинял своего собрата, прелата Уолтера Ленгтона. «Вы были безжалостны к другим, – обратился к нему король в своей прощальной речи, – и мы никогда не окажем милосердия вам».
Почти также безжалостен был Эдуард к своему сыну. В то лето, когда пленили Уоллеса, между двадцатиоднолетним наследником и казначеем произошла ссора. Эдуард не терпел неуважительного отношения к своим министрам; в докладах дел Суда Королевской скамьи есть отчет о том, как маркграф, барон Уильям де Браоз, оскорбивший главного судью Хенгема, был вынужден идти без меча, с непокрытой головой, через переполненный Вестминстер-холл, чтобы умолять о прощении судью, прежде чем его заключат в Тауэр. В подобном же отчете говорится о том, как король вскоре после этого «отдалил своего старшего и любимого сына, Эдуарда, принца Уэльского, от королевского двора почти на полгода, потому что тот грубо и резко говорил с одним из министров, и не позволял сыну являться на глаза, пока он не дал полного удовлетворения оскорбленному»[225]. В течение нескольких месяцев, пока молодая королева не попросила за него, совершивший преступление молодой принц, которому было запрещено приближаться ко двору ближе чем на тридцать миль, должен был таскаться вслед за двором, куда бы он ни направился, в качестве простого просителя.
Убрав Уоллеса со своего пути, король издал ордонанс об обустройстве Шотландии. Через королевского наместника ею стали управлять английский канцлер и чемберлен с помощью совета из восьми прелатов и четырнадцати магнатов, включая Брюса и двух Коминов. Судей, коронеров и шерифов должны были назначить по английскому образцу, и, хотя шотландское гражданское право сохранялось, обычные законы, как, например, некоторые из законов кельтских высокогорий, «открыто направленные против Бога и разума», были отменены. Король был доволен, что направил, как он думал, Шотландию по пути цивилизации и порядка и милостиво отменил наказание оставшимся изгнанникам.
Но спустя шесть месяцев после казни Уоллеса с севера пришли ужасные вести. 11 февраля 1306 года в Грейфрайарской церкви в Дамфрисе, трижды прощенный Роберт Брюс граф Каррика, при перебранке убил своего соратника по совету и соперника на конфискованный шотландский трон, Джона Комина Рыжего, главу дома Баденохов[226]. Совершив убийство и святотатство, нарушив королевский мир и вступив в кровную вражду с наиболее влиятельной семьей Шотландии, он сразу же заключил в тюрьму королевских судей, находившихся в городе на выездном заседании, и призвал к рассмотрению вопроса национальной независимости не от имени свергнутого Баллиоля, но от своего собственного. Поспешив на север, он искал там поддержки старого епископа Глазго Уишарта, который героически отпустил ему грехи, достал из потаенного места знамя Шотландии и сопровождал его к месту коронации шотландских королей в Скуне. Здесь на вербное воскресенье, в присутствии Уишарт и епископа Сент-Эндрюса Ламбертона и сотни недовольных лордов и рыцарей, в большинстве своем с кельтского севера и запада[227], Брюс был коронован золотым венцом, который выковал местный кузнец, как Роберт I Шотландский. Совершила коронацию графиня Бьюкена, жена ближайшего родственника Комина и сестра молодого графа Файфа, который обладал наследственным правом проведения коронации.
Когда весть о мятеже достигла Эдуарда, он находился в Гемпшире, разъезжая от одного охотничьего домика к другому в поисках более приятного воздуха в южных графствах, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Он сразу же объявил мобилизацию в северных графствах и созвал парламент в Вестминстере. Брюс и все, причастные к смерти Комина, были приговорены к оскоплению и потрошению, а те, кто оказывал им помощь, – к повешению. Настроение короля нашло отражение в письме своему кузену, графу Пемброку, мужу сестры убитого Комина, которого он назначил главнокомандующим всех войск в Шотландии.
«Так как сэр Майкл Уэмисс на деле оказался предателем и нашим врагом, мы приказываем тебе сжечь его поместье, где он жил, и все остальные дома, дочиста разорить его земли и сады до такой степени, чтобы ничего не осталось, в назидание другим...А что касается сэра Гилберта Хэя, которому мы выказали столь много учтивости, когда он недавно был вместе с нами в Лондоне, и которому, казалось, мы могли доверять, но в чьем лице обнаружили предателя и нашего врага, то приказываем тебе сжечь его поместье, где он жил, и все остальные, дочиста разорить его земли и сады, чтобы ничего не осталось и, если возможно, поступить с ним еще хуже, чем с сэром Майклом Уэмиссом»[228].
Для финансирования грядущей кампании король потребовал традиционную феодальную «помощь» у всех своих вассалов, для того чтобы посвятить в рыцари старшего сына короля; эта церемония долгое время откладывалась из-за его отсутствия, но теперь была назначена на день встречи парламента в канун пятидесятницы.
20 мая все еще слишком больной, чтобы ехать верхом, он был доставлен в Вестминстер на носилках. Два дня спустя, после всенощного бдения в Аббатстве, принц Уэльский был посвящен в рыцари у верхнего алтаря в присутствии всего цвета своих современников. Почти три сотни молодых джентльменов были посвящены в рыцари в то же самое время в церкви рыцарей тамплиеров; волнение было так велико, что двое из них до смерти были раздавлены в толпе. Позже на пиру в Вестминстер-холле, как отмечал хронист, самом красивом со времен коронации Артура в Керлеоне, два лебедя, одетые в золотые накидки и с золотыми кольцами на шеях, были внесены герольдами под звуки труб и поставлены перед королем, который дал обет «перед Богом и лебедями» не отдыхать до тех пор, пока «Господь не дарует ему победу над коронованным предателем и нарушившей клятву нацией». После этого он поклялся никогда не обнажать меч вновь, кроме как против язычников в Святой Земле. После чего принц поднялся и поклялся, что не проспит и двух ночей на одном месте, пока не выполнит обет своего отца и отомстит его врагам[229].
Как только магнаты и рыцари от графств проголосовали за тринадцатую часть, а бюргеры – за десятую, король на носилках отправился в свою поездку на север. Его сын уже выехал туда раньше. Тем временем авангард под началом Пемброка переправился через пролив Форт. 20 июня Брюс был застигнут врасплох в Метвене, где захватили всех, кроме него. Как и Уоллесу после Фолкерка, ему удалось спастись, исчезнув в вересковых зарослях; как заметила на коронации его жена, они были не кем иным, как королем и королевой Мея. Многие, кто присоединился к нему в первом порыве энтузиазма, теперь ехали в Англию в кандалах. Некоторые, включая Саймона Фрейзера и графа Атолла, разделили судьбу Уоллеса.
Все лето 1306 года Брюса преследовали сплошные неудачи. В августе он был разбит при Дэлри шотландским войском под командованием Джона Аргайля, лорда Лорна. Двое из его братьев были повешены и четвертованы. Его жену, возможно, к ее собственному облегчению, так как она была более чем наполовину англичанкой, взяли в плен, в то время как его сестер, Мэри и графиню Бьюкена, посадили в клетку в замках Роксбург и Берик. И вновь потянулась до боли знакомая колонна дезертиров, столь характерная для шотландских войн за независимость.
«Брюс не смел спуститься в гор, И весь народ позволил ему уйти: Ибо для них было большой радостью Вновь присоединиться к английскому миру».В октябре Эдуард расположился на зиму в Лейнеркостском приорстве, несколькими милями восточнее Карлайла. Большинство мятежников к этому времени были либо пойманы, либо повешены, а их земли переданы англичанам; сам Брюс растворился в узких горных долинах и островах далекого запада. Не сохранилось ни одной записи о его передвижениях в течение следующих нескольких месяцев, если верить одному повествованию, он провел некоторое время на маленьком островке Ратлин недалеко от ирландских берегов, где, спасаясь от своего ужасного противника, как говорили, набирался мужества, следя за тем, как упорно паук плел свою паутину. В феврале, ускользнув от поисковых кораблей Эдуарда, Брюс вновь появился в Арране, а в середине месяца высадился на Эрширском берегу, где пытался застать врасплох английский гарнизон Тенберийского замка и захватить губернаторское добро. Затем он снова исчез в холмах и вересковых зарослях.
Месяц спустя его лейтенант, молодой Джеймс Дуглас, дамфрисширский рыцарь, чей отец умер в темницах Тауэра, неожиданно захватил замок Дуглас, воспользовавшись тем, что английский гарнизон слушал мессу, перебил всех, и, оставив огонь пожирать их тела и оружие в пылающей главной башне, вновь исчез на болотах. «Кладовка Дугласа», как прозвали этот набег, стала страшной сенсацией. Дуглас, высокий смуглый болезненный молодой рыцарь, шепелявый, с учтивыми манерами и смелым воображением, нашел способ заинтриговать и ужаснуть англичан и вдохнуть отвагу в сердца своих последователей. «Способный трус, – говорилось, – отважнее леопарда». В нем Брюс обрел то, чего не мог найти в Уоллесе: помощника столь же отважного, как и он сам, и преданного делу шотландцев так же, как и вереск.
В марте английский парламент собрался в Карлайле, чтобы выразить свой протест против своевольных папских сборщиков налогов, обрушившихся на Англию, чтобы взять с Эдуарда плату за сделку с их хозяином. Эдуард, покинувший Лейнеркост, чтобы встретиться со своими магнатами, с нетерпением ждал вести о пленении Брюса, так же, как он когда-то ждал вестей о захвате Уоллеса; в апреле его армии окружили короля шотландцев в одинокой горной долине Лох Троол среди холмов Галлоуэя. Но, хотя казалось, что Брюс уже попал в сети, он неожиданно прорвал кольцо преследователей и вновь исчез. Месяц спустя, 10 мая, он столкнулся с вице-королем, Пемброком, «в чистом поле» у Лоудона в долине Эрширской реки Эйвон и одержал над ним победу. Тремя днями позже он напал на другой поисковый отряд под началом графа Глостера и загнал его в Эрский замок. Вооруженная Шотландия вновь стала реальностью.
Эдуард быстро слабел. Но, твердо решив стать во главе своих войск и захватить ненавистного «неуловимого» Брюса, он покинул Карлайл 3 июля, впервые за год сев на коня. Страдания его оказались нестерпимыми. Три дня он боролся с ними, 6-го достигнув Боро-на-Сэндсе, находящегося в шести милях от места, из которого король выехал. Там, 7 июля 1307 года, так и не взглянув на шотландскую границу, он умер на руках своих слуг. Последним приказом его было, чтобы сын нес его кости во главе его армий, пока не будут побеждены все шотландцы до последнего. Затем его сердце следует отвезти на Святую Землю в крестовый поход, который он поклялся возглавить.
Так в возрасте шестидесяти девяти лет умер король, которого его жена называла «ужасным для всех сынов гордости, но милосердным ко всем кротким земли». Страстно стремившийся к закону и порядку, в первые годы своего царствования он провел огромную работу по утверждению действенного законодательства, сотрясая, по словам Вестминстерского статута «дремавшие древние законы, нарушив спокойствие королевства». Благодаря этому он привлек нацию к сотрудничеству и, постоянно советуясь с ее представителями и ища их согласия, пришел к созданию величайшего из всех английских институтов – королевского парламента, где король и его подданные могли встретиться, чтобы вести переговоры, сотрудничать и, если необходимо, спорить о делах, касающихся всего народа. Также он поддерживал развитие под началом короны само управление юридической профессии, которое в последующие столетия должно будет стать оплотом свободы. Хотя при этом, в попытке расширить границы закона, его упорная настойчивость на своих правах ввергла его в войны, истощившие финансовые ресурсы и заставившие прибегать к требованиям по отношению к своему народу, несовместимыми с собственными благими намерениями и народным доверием к нему. Только в самом конце правления, в Карлайлском статуте 1307 года, он вновь выступил как лидер всей нации, разделив протест своих подданных против папской агрессии и провозгласив, что он может действовать только «с совета графов, баронов, магнатов, proceres и других благородных и общин этого королевства».
Но для шотландцев и кельтов Эдуард оставался предметом неослабевающей ненависти. Для них он был «le roy coveytous» («жадным королем») из пророчества Мерлина, принесшим не порядок, но вечный раздор. На его могиле в Вестминстерском аббатстве, позже было записаны слова «malleus Scotorum – молот шотландцев». Так его назвали за ту невольную услугу, которую он оказал великому шотландскому народу. Ибо уничтожая шотландцев, как он думал, он по собственной воле сплотил их в единую нацию.
* * *
Если бы Эдуард прожил еще один год, Брюсу не удалось бы победить. Убийством Комина он противопоставил себя Англии, папству и половине Шотландии и отдалился не только от тех своих братьев-аристократов, которые были верны Эдуарду, но и от тех, кто был предан Баллиолю. Теперь, взамен величайшего солдата эпохи, командование войсками мщения перешло к его сыну, потакающему всем своим желаниям, которые только имеются у юноши двадцати трех лет. Впервые со времен Завоевания на английский престол взошел король без воинственных наклонностей. Его отвращение к трудностям военных кампаний позорно контрастировало со спартанским образом жизни его отца. Он подолгу нежился в постели, носил дорогие роскошные одежды и повсюду возил с собой ручного льва. Вместо артурианских турниров и военных занятий, присущих людям своего сословия, он получал удовольствие от земляных работ, кровельного и кузнечного дела, скачках на лошади, гребли, плавания и борьбы. Он также любил участвовать в театральных представлениях и играть на барабанах. Для его лордов, мнивших себя прообразами рыцарей Круглого стола (за исключением Библии, это было их единственным представлением о мире в художественном виде), все это казалось ребячеством и презренной фривольностью. Их новый суверен не имел ничего общего ни с Артуром, ни с Ланселотом, ни с Галахадом, ни с сэром Гавейном. Он казался им эксцентричным, изнеженным щеголем.
Если вступление на престол Эдуарда I свидетельствовало в пользу наследственной королевской власти, то правление его сына опровергло его. Эдуард II обладал тем же именем, станом, превосходным телосложением Плантагенетов, что и первый. Но золотоволосый молодой гигант, унаследовавший трон своего отца, не интересовался правлением, за исключением разве что средств достижения своей личной свободы и наслаждений. С малолетства он жаждал любви. Спустя несколько месяцев после рождения его родители погрузились в траур по причине смерти его десятилетнего брата Альфонсо[230] – наследника престола и всех их надежд. Вскоре после этого они покинули Англию, чтобы совершить долгое путешествие в Гасконь; и не прошло и года со времени их возвращения, как его мать скончалась, тогда Эдуарду было пять лет. Оставленный на попечение своего вечно занятого и становившегося с годами все более деспотичным отца, который постоянно принимал участие в военных кампаниях в Уэльсе, Фландрии или Шотландии, принц вырос без систематического образования и воспитания. Большую часть своего детства он провел в бесцельных скитаниях вслед за королевским двором, и единственным домом, который он знал, было его поместье Кинг Ленгли, окруженное хартфордширскими вязами и заливными лугами, где он приобрел любовь к деревенским профессиям сельского люда, обитавшего вокруг. Он был сильно и непоколебимо привязан к чиновникам и клеркам своего двора, которым позже он был трогательно предан, как, например, к пользующемуся дурной репутацией Уолтеру Рейнолдсу, сыну виндзорского булочника, которого Эдуард сделал архиепископом Кентерберийским, или еще более низкого происхождения Уильяму де Мельтону, позже ставшему архиепископом Йоркским. Его товарищами были конюхи и садовники, кузнецы и лодочники, шуты, фокусники, актеры и певцы.
«Прекрасный телом и великий силой», Эдуард остался ребенком, легкомысленным и эмоционально неуравновешенным. Полностью отказавшись от участия в работе советов своего отца, от чьих приступов ярости его охватывал благоговейный трепет, он стремился только к одному – жить так, как хочется. Еще в бытность подростком он почувствовал необычную тягу к красивому, но бедному гасконскому рыцарю по имени Пирс или Петр Гавестон, который был старше его на несколько лет. Ко двору наследника Петр был причислен благодаря храбрости его отца, проявленной во время англо-французских войн. Влияние, оказанное этим остроумным, воспитанным, но высокомерным авантюристом, стало головной болью старого короля и его министров. Дважды его изгоняли из королевства – в последний раз всего лишь за несколько месяцев до смерти Эдуарда, когда принц пытался даровать ему свое родовое имение Понтье с материнской стороны, это настолько возмутило умирающего короля, что тот в ярости вырвал клок волос с головы сына.
Первое, что сделал Эдуард II, вступив на престол, – вернул обратно своего фаворита. Проигнорировав просьбу своего отца нести его кости перед армией, он совершил короткий формальный поход на юго-запад Шотландии. В начале сентября он вернулся в Лондон, где пожаловал Гавестону графство Корнуолл, принадлежавшее короне, и предложил ему руку своей племянницы, Маргариты, дочери принцессы Иоанны и сестры молодого графа Глостера. Одновременно он отстранил от занимаемой должности казначея отца, епископа Ленгтона Личфилдского, и заключил его в Тауэр.
Отсутствие нового короля на полях сражений дало Брюсу передышку, позволившую свести счеты со своими шотландскими недругами. Покинув Дуглас в холмах Галлоуэя, он повернул на север, чтобы разграбить земли сперва Дугала Макдауэла, а затем графа Бьюкена, главы дома Коминов. Долины кишели английскими войсками, и главные крепости находились в их руках, и в то же время половина шотландских аристократов, приверженцев либо Баллиоля, либо английского короля, противостояли притязаниям Брюса. Но мелкопоместное дворянство и простолюдины, страдающие от ущемления своих прав со стороны захватчиков, инстинктивно приняли сторону этого богоданного борца за их дело. Хотя он и был пока только королем вереска, в их глазах он являлся преемником Уоллеса. И, окруженный врагами Брюс, за голову которого было назначено вознаграждение, уже размышлял, как охотиться на своих охотников.
Слабая и раздробленная, все аристократические семьи которой, за исключением двух или трех, находились на содержании у Англии, Шотландия теперь удостоилась настоящего правителя. У Брюса были все черты, которые ассоциировались с шотландским характером, усиливавшиеся его гениальностью: отвага, настойчивость, непоколебимая преданность друзьям и безжалостность к врагам, нежность к женщинам, ирония и юмор, разумная бескомпромиссная жестокость в преследовании своих целей. История с пауком в его затворнической келье в Ратлине раскрывает этого человека. Король вересковых зарослей, эта горная лисица с туманом в бороде – «король Хобб в своем заточении», как презрительно называли его англичане, – был одним из величайших лидеров нации всех времен. Никогда не командовавший более чем несколькими тысячами человек, а сначала и вовсе несколькими сотнями, он ускользал от каждой попытки схватить его. Когда бы его враги ни думали, что победили его, он вновь появлялся и в конце концов выиграл решающий бой.
В начале зимы 1307 года он продвинулся на север в земли Морея, чтобы разобраться с графами Росса и Бьюкена. Последний, чьего кузена Роберт убил, и чья молодая жена короновала его и, по скандальным слухам, обещала ему другие милости, был его злейшим врагом. В ноябре Брюс заболел, находясь на границе графства Комина и в течение нескольких недель, казалось, что его дело обречено. Однако когда Бьюкен атаковал, считая его умирающим и, следовательно, находящимся в его руках, объявленный вне закона король и его партизаны повернулись к своим преследователям и разбили их наголову:
«Он гнал их по всему пути, И некоторых взял в плен, а некоторых убил, Оставшиеся в живых бежали прочь, Первыми – те, у кого были хорошие лошади».Вновь уцелев, Брюс исчез. Он и Джеймс Дуглас, который командовал такой же «неуловимой» кампанией против англичан на юго-западе, следовали правилам, унаследованным от Уоллеса, и усовершенствовали их. Посадив своих людей на низкорослых лошадок, они придали им удивительную мобильность. Они учили их расходиться после боя маленькими группами, чтобы затем вновь воссоединиться и в нужный момент напасть на врага, а затем вновь исчезнуть среди холмов. «Лучше слышать песни жаворонка, чем писк мышей», – сказал добрый сэр Джеймс, и его предводитель, знавший, что при захвате его ждет неминуемая смерть, придерживался той же философии. Когда же наступал благоприятный момент, не было человека более быстрого и отважного, а в несчастье – более хитроумного.
«Шотландское войско должно спешиться, Чтобы сражаться за каждый холм и болото. Пусть лес станет укреплением, лук, копье И топорик – боевым снаряжением. Такой враг не внушает страха, Пусть они надежно хранят свои предания, Пусть выжгут поле брани перед собой, А потом разом погибнут. Когда неприятелю останется лишь пустошь, Полную подвохов, бессонные ночи И непонятный шум на холмах, Тогда пусть его войско развернется в диком страхе Словно сами травы его преследуют. Так завещал действовать Славный король Роберт» [231] .Когда наступил 1308 год, Брюс был немного более могущественным, чем лорд Морей; на востоке до сих пор находились превосходящие его силы Бьюкена, на севере и западе – враждебный Росс, его враги из Лорна и с островов – менаду ним и Дугласом на юго-западе. Англичане держали под контролем все значимые крепости в Шотландии. В феврале, доставив домой из Франции двенадцатилетнюю невесту, принцессу Изабеллу, Эдуард II был с помпой коронован в Вестминстере. Гавестон, его «брат Петр», со своей стороны «так нарядился, что более напоминал бога Марса, нежели простого смертного». Едва празднования подошли к концу, когда Брюс, оправившийся от лихорадки, нанес удар Бьюкену, разбив его при Инверари. Затем, захватив Абердин и Форфар, он опустошил земли Бьюкена, огнем и мечом преподав всем урок партизанской науки, заключавшийся в том, что в часы революции ни один человек, каким бы мирным нравом он ни обладал, не может безопасно оставаться верным власть имущим. Тем летом шотландцы узнали, что ни Комин, ни Англия не могут защитить их от мести Брюса. Решительные простые люди, чтившие отвагу и смелость, не испытывавшие любви к англичанам, но не больше любившие и свою хищную знать, с удовольствием приняли этот факт. «Разорение Бьюкена» Брюсом стало национальной легендой, утвердившей его притязания на трон в сердцах его земляков. О деле Баллиоля больше не вспоминали.
В это время в Англии царил полный беспорядок. Ребяческая безответственность короля и зависимость от Гавестона приводила в ярость аристократов-феодалов. «Если кому-нибудь из графов или магнатов, – отмечал хронист, – надо было попросить у короля об особой любезности в продвижении его дела, король посылал его к Петру, и что бы ни сказал или приказал Петр, должны были немедленно выполнить». Трижды за прошедшее столетие гордые магнаты Англии брались за оружие, поддерживаемые церковью, деньгами и людьми, чтобы навязать старинный национальный принцип, что король должен править с согласия и одобрения его «главных людей». Отец Эдуарда, который в начале своего царствования уважал такую практику, в последние годы своего деспотичного правления полностью полагался на избранных лично им министров и судей, собирая совет крупных феодальных лордов только в тех случаях, когда был полностью уверен, что они согласятся с ним. Теперь, когда его своевольное владычество сменила слабая власть его сына, магнаты обнаружили, что у них отнято право советовать своему государю, и сделал это безответственный фаворит-чужеземец.
Прежде чем король был возведен на трон, они советовались о том, что же следует делать. Их долгом было поддерживать корону, но также гарантировать то, чтобы ее обладатель сохранял основные законы и свободы королевства, защитником которого он был по Божьему повелению. Прежде чем они клялись в верности и приносили оммаж в качестве представителей народа, ожидалось, что король поклянется, в традиционной коронационной речи, что принимает законы и традиции, данные народу его предшественниками, «праведными и богобоязненными древними королями Англии», будет хранить свободы Святой Церкви и следить за тем, чтобы правосудие свершалось беспристрастно и мудро с сочувствием и справедливо». В коронационном уставе было записано: «рано утром того дня, когда нового короля должно помазать, прелаты и знать должны собраться в королевском дворце в Вестминстере, чтобы вместе подумать об укреплении и твердом установлении законов и статутов королевства»[232].
Так как они не доверяли ему, в исполнение этой обязанности магнаты добавили пункт в коронационной речи, с помощью которого Эдуард должен был поклясться, что он «обещает соблюдать справедливые законы и обычаи, которые определит народ королевства». Другими словами, в уплату за принесенный ими оммаж он должен был позволить им определять основные законы королевства. Это беспрецедентное соглашение, на которое никогда бы не согласился его отец, было дано молодым королем, в соответствии с одним отчетом, в обмен на то, что его лорды не настаивали бы на изгнании Гавестона.
Два дня спустя после коронации, встретившись в трапезной Вестминстерского аббатства, магнаты попросили своего сюзерена письменного подтверждения своего обещания «строго рассмотреть, – как предложил их дуайен, старый верноподданный граф Линкольна, – чтобы, по велению Господню», они ни предложили. Когда из-за Гавестона, как подозревали, Эдуард стал тянуть время, они составили декларацию, в которой известили, что их собственная присяга, принесенная в ответ на королевскую, была принесена из уважения, скорее, к короне, нежели к его собственной персоне, и что, «если он не будет руководствоваться здравым смыслом», то они, его вассалы, будучи защитниками народа, в соответствии со своей присягой должны будут «направлять его в соответствии со здравым смыслом и исправить состояние Короны». Если необходимо, они прибегнут к силе, так как «ему не могут приказывать по закону, так как нет судей для короля».
Все это напоминало времена де Монфора. Так как Эдуард фактически передал свои полномочия Гавестону, настаивая на том, что он имеет право советоваться с тем, с кем пожелает, трудно было представить иной путь, как магнаты могли бы примирить принесенный оммаж с обязательствами перед обществом или исполнять свои феодальные и государственные функции, давая королю «добрый совет». Что бы он не утверждал под присягой, единственный совет, которому он доверял, был совет его фаворита – «идола короля», как его называли. И для магнатов Гавестон сейчас стал, как красная тряпка для стада быков. Вскоре после коронации ненавистный выскочка созвал турнир в Уоллингфорде, где он со своими молодыми беспутными друзьями победил и унизил нескольких графов, включая Суррея, Арунделя и Херефорда. Своей гасконской чванностью он любил унижать их гордость. Магнаты тоже были хвастунами, но отличались большей сдержанностью, невозмутимостью и прозаизмом. Они считали свое безмерное превосходство неоспоримым по закону природы. Род Гавестонов был древним и почтенным, но из мелкой, иностранной, провинциальной знати, и хотя гасконец был в такой же мере подданным Эдуарда, как и они, он не был таким же столпом общества. То, что король сделал его графом Корнуолла, им казалось большим оскорблением, нанесенным их гордости и патриотизму. Если бы Гавестон воспринял свое повышение со всей скромностью и попытался бы искать их расположения, то магнаты бы примирились с этим. Но он не сделал этого, мало того, открыто ликовал и насмехался над ними. Не имея иной поддержки, кроме благосклонности короля, он совершил самое рискованное преступление в политическом плане, безрассудно глумясь законными правами магнатов.
Ранним летом 1309 года, пока Брюс разграблял земли Бьюкена, английские лорды собрались в парламенте и настаивали на высылке Гавестона. Они провозгласили, что он лишил Корону ее владений, отдалил короля от его законных советников и привязал к себе последователей незаконными клятвами. Пытаясь примирить их, Эдуард пожаловал пост сенешаля своему кузену, Томасу, графу Ланкастера, который, принадлежа королевскому дому, был одновременно крупнейшим из магнатов. Также он неохотно согласился на высылку Гавестона в качестве вице-короля в Ирландию. В июне, после того как архиепископ Уинчелси – вновь вернувшийся в Англию и представлявший основную движущую силу оппозиции, – пригрозил отлучить от церкви фаворита, если тот вернется без позволения парламента, король печально проводил его до Бристоля, чтобы присутствовать на его отплытии в Дублин.
Хотя отъезд Гавестона ничего не уладил. Его хозяин намеревался вызвать его обратно при первой же возможности, и магнаты это знали. Кроме того, оставалась нерешенной проблема, созданная войнами Эдуарда I. Финансовая система, разработанная его казначеем, Уолтером Ленгтоном, и хранителем королевского Гардероба, Джоном Дроксфордским, была полностью разрушена. Чиновники Гардероба и управляющие Шотландии, которые должны были финансировать кампанию против Брюса, все еще пытались получить необходимые средства из истощенного казначейства, чтобы оплатить растущие долги. Годами их счета не только не приводились к балансу, но и частично не компенсировались. Несмотря на все хитроумные уловки, чтобы добыть больше денег, размер собираемых налогов становился все меньше. Большая часть прибыли от таможенных сборов попадала в руки итальянских и гасконских кредиторов, которым Короне пришлось уступить свои фискальные полномочия, чтобы собирать деньги на оплату и провизию для армии. Крупный флорентийский финансист, Америго дель Фрескобальди, получал налоги с таможенных служб, был хранителем обменного ведомства короля и констеблем Бордо. После королевского фаворита ок был наиболее влиятельным, хотя и непопулярным, человеком в государстве. И банкиры, соотечественники Гавестона, Калло, контролировавшие доходы от королевского герцогства Корнуолла, были ненавистны англичанам почти в той же мере.
В то же время успешное наступление шотландцев продолжалось. Когда король провожал Гавестона к морю, брат Брюса, Эдуард, эффектно выиграл битву на реке Кри; к лету он и Дуглас контролировали весь юго-запад, за исключением крепостей Дамфрис, Долсуинтон, Керлаверок и Лохмабен. В августе король Роберт победил людей Лорна а Аргайля в битве на Брандерском перевале. В октябре он добился подчинения Росса на далеком севере. Даже на границе страны, к югу от Эдинбурга, партизанские отряды угрожали английским колоннам, движущимся по болотам и лесам на помощь королевским замкам.
К. концу года Брюс de facto стал правителем почти всего севера Шотландии с той стороны реки Тей; только Банфф и еще несколько замков на северо-восточном берегу, получавшие снабжение с моря, удерживались англичанами. В начале 1309 года он освободил большую часть Файфа и в марте собрал свой первый парламент в Сент-Эндрюсе. Трое из шотландских графов – Росс, Сазерленд и Леннокс – поддержали его, а графства Ментиет и Кейтнесс, принадлежащие несовершеннолетним, были представлены в его парламенте. После трех лет постоянных опасностей и борьбы, он стал настоящим королем, по крайней мере его народ возвел, его на трон в своих сердцах, твердо решившим бороться до самой смерти за свободу. «Его преследовали неудачи, бегства и опасности, трудности, усталость, голод и жажда, выжидания, преследования, нагота и холод, западни и изгнания», – писал один из его последователей, воскрешая в памяти эти годы. «Аресты, заключение, кровопролития и гибель его близких и, более того, дорогих людей... не осталось никого из них, я думаю, кого можно было бы снова вспомнить или услышать». Именно они стали доказательством, подтверждающими его право на корону.
Даже теперь мощь Англии могла бы сокрушить его; все главные крепости Шотландии до сих пор были в руках Эдуарда. И вновь безрассудная страсть короля к Гавестону спасла Брюса. За сентябрь было собрано войско, и две армии сосредоточились в Берике и Карлайле. Но прежде чем они нанесли удар, фаворит вновь вернулся в Англию. Король встретил его как брата, когда тот высадился в Честере. Надеясь расположить к себе баронов, Эдуард в июле на парламенте в Стэмфорде согласился с одиннадцатью пунктами, отрекаясь от определенных действий чиновников, которые были осуждены магнатами: реквизиции для нужд королевского двора, сборы, введенные в соответствии с «новыми» обычаями его отца, намеренное обесценивание денег, юридические проволочки и продажа индульгенций преступникам. Но через несколько недель после возвращения Гавестон вновь был со всеми в ссоре. Он был весьма остроумен и всегда подвергал насмешкам магнатов, что очень радовало его несерьезного господина. Самый преданный из графов, болезненный, с крючковатым носом Пемброк получил прозвище Иосиф-еврей, Гай, граф Уорика, – «черная гончая Арденна», молодого шурина Гавестона, Глостера, одного из немногих приверженцев Короны, называли «кукушонком» или бастардом, нелюбезно напоминая о той скорости, с которой его мать, сестра короля, вышла замуж за молодого рыцаря Ральфа де Мортемера после смерти старого графа Глостера. А граф Ланкастера, двоюродный брат Эдуарда, отличавшийся мощным телосложением и коротко стригший щетинистые волосы, был окрещен «черным боровом» и «простолюдином». Все, включая самих графов, знали эти «имена»; об этом позаботились беспечные молодые дружки Гавестона.
Осенью пятеро крупнейших магнатов королевства – Линкольн, его зять Ланкастер, Уорик, Оксфорд и Арондел – отказались принять участие в совете в Йорке, так как там должен был присутствовать королевский любимец. Даже Глостер сообщил своему царственному дяде, что, так как Стемфордские статьи были нарушены, сбор средств на шотландскую войну, за который проголосовал парламент, будет приостановлен. В начале следующего года бароны с оружием появились в палате совета. Они заявили, что король, который находится под влиянием порочных советчиков, растратил деньги, данные парламентом, сократил свои доходы, что заставило его жить вымогательством, и, потеряв Шотландию, лишил Корону ее наследия. Они настаивали па немедленном назначении исполнительного совета «Лордов Ордайнеров», чтобы провести реформы в государстве. Когда король замешкался, они сказали ему, что не будут «более считать его за своего короля, не будут хранить клятву верности, которую принесли ему, так как оп сам не сдержал клятву, что давал на коронации». Раздраженный Эдуард согласился. 17 марта 1310 года в Расписной Палате было объявлено, что на следующие восемнадцать месяцев архиепископ Кентерберийский и шесть епископов, графы Линкольна, Ланкастера, Глостера, Херефорда, Уорика, Пемброка, Ричмонда и Арон деля, и пять баронов должны будут «предопределять и укреплять королевство и королевский двор в соответствии с правом и здравым смыслом».
Однако в своих собственных глазах и в глазах большей массы его подданных король оставался королем. Магнаты могли принудить его лишь с помощью оружия; они могли только временно лишить его права осуществления королевских функций, как это сделали их предшественники во главе с де Монфором с его дедом. Какими бы титулами они пи заставляли его награждать их, королевские прерогативы оставались лишь его принадлежностью. Как только Лорды Ордайнеры собрались в Вестминстере, Эдуард в сопровождении своего любимца перебрался вместе со своим двором в Йорк под предлогом приготовления к завоеванию Шотландии. И хотя канцлер, епископ Чичестера Ленгтон, был Ордайнером, король вновь обрел контроль над большой печатью, высшим инструментом исполнительной власти, назначив на его место другого прелата, Уолтера Рейнолдса, епископа Вустерского, своего бывшего священника, который, как говорили, получил благосклонность Эдуарда, так как с легкостью сочинял пьесы.
Все это играло на руку шотландцам. Пятеро из их графов – Бьюкен, Атолл, Росс, Марч и Энгус – до сих пор оставались приверженцами английской короны либо Баллиоля, а в двадцати самых укрепленных замках находились английские гарнизоны. Но даже новое папское отлучение за «проклятую приверженность беззаконию» не могло поколебать сопротивление короля Роберта и его народа. В начале 1310 года, проигнорировав римские анафемы, главный церковный собор шотландской церкви, собравшийся в Грейфрайарской церкви в Данди, признал его «истинным наследником короны». И хотя Ордайнеры отказались признать это, дальнейшее вторжение в Шотландию той осенью лишь укрепило его позиции. 16 сентября Эдуард вместе с Николасом Сегрейвом, действующим в качестве маршала в отсутствие наследственного владельца должности, перешел Твид и вошел в Роксбург. Из крупных магнатов только Суррей и Глостер сопровождали его. Когда он двинулся через Селкиркский лес и Ланкашир к Линлитгоу, Брюс просто ретировался в Стерлинг, опустошая окрестности. В начале ноября голодные захватчики вернулись в Берик.
Вторая, весенняя, кампания короля и Гавестона была не более успешной. Даже на море англичане подвергались нападениям каперов, действующих не только со своих собственных гаваней, но и из Фландрии. Король оставался в Берике как можно дольше, отсрочивая ужасный день, когда он должен будет встретиться с Ордайнерами. Затем, в начале августа 1311 года, оставив ради безопасности Гавестона в Бамбургском замке, из-за недостатка денег Эдуарду пришлось вернуться в Лондон.
Здесь, после напрасного паломничества к мощам Бекета в Кентербери, он встретился с лордами парламента, предложив согласиться со всем, что они предложат, лишь бы Гавестона пощадили. Но враги гасконца были непреклонны. 27 сентября архиепископ Уинчелси и графы Ланкастера, Уорика, Пемброка и Херефорда огласили в Полс Кроссе «Статьи Ордайнеров». 5 октября было объявлено, что король согласился с ними.
Ордонансы превратили короля в государственного чиновника, которому вменялось выполнять волю магнатов посредством должностных лиц, контролируемых парламентом. Они хотели передать королевскую власть от Эдуарда и сохранившихся придворных чиновников, управляющего и хранителей и контролеров Гардероба, своим выдвиженцам, которые больше не должны были отвечать лично королю, но лишь королю в парламенте, абстракция, которую они сделали краеугольным камнем своей реформированной системы правления вместо Совета, созданного де Монфором пятьдесят лет назад. «Ввиду того, – провозглашали они, – что король был введен в заблуждение и получал неверные советы, мы предписываем, чтобы все плохие советники были изгнаны, ибо ни они, ни другие, подобные им, не должны быть рядом с королем или нести королевскую службу, и другие, более подходящие люди должны будут занять их места... по совету и с согласия баронов в парламенте»[233]. Ордайнеры были главным образом представителями знати, но благодаря их настойчивости на служебной ответственности перед парламентом и уверенности, что этот институт заставит заблудшего короля выполнить обязанности перед обществом, они сделали первый шаг на длинной каменистой дороге к парламентскому контролю над исполнительной властью. Они предписывали королю не ввязываться ни в одну чужеземную войну и не покидать страну без согласия парламента, который должен собираться в удобном месте по крайней мере раз в год. Все его чиновники должны поклясться поддерживать Ордонансы, а комиссия лордов должна выслушивать и выносить решения по поводу жалоб против них на каждом парламенте.
Ордонансы также устанавливали, что все налоги, навязанные с 1274 года, включая «новые» таможенные сборы на шерсть, должны быть отменены, в то время как итальянские банкиры и чужеземные купцы должны быть высланы. В том числе и Гавестон. «Все плохие советники, – было записано там, – должны быть освобождены от своих полномочий и изгнаны». Фаворит, который «отвратил сердце короля от его народа и заменил королевских министров сборищем своих людей», должен был покинуть страну из Дувра ко дню всех святых либо ему грозил суд, как над врагом государства.
Это был конец и крах Фрескобальди, но особенно катастрофическим было влияние данных пунктов на шотландскую войну. Внезапно лишившись иностранных кредитов, Ордайнеры сделали невозможным быстрый захват Шотландии. Пока происходили эти события в Вестминстере, Брюс вновь пошел в наступление. Свободный, наконец, от угрозы вторжения, он пересек Солуэй спустя одиннадцать дней после того, как король покинул Берик, чтобы подвергнуть разграблению фермы верхнего Тайндейла. Месяц спустя он вернулся и, опустошая Кокетдейл и Редесдейл, дошел до Дарема. Шотландия после шести лет войны была истощена до предела; Брюс полагал, что пора бы и землям северной Англии отведать того же самого. К концу месяца, отчаявшись получить помощь от разобщенного и захваченного другими заботами правительства, люди Нортумберленда предложили ему выкуп за свои дома и посевы. Когда Роберт вновь пересек границу, он нес с собой Ј 2000 английских денег за перемирие до февраля.
Такую дорогую цену заплатили Ордайнеры за свой триумф. Но они и не избавились от Гавестона. Хотя он и покинул Лондон по Темзе спустя два дня после назначенного дня его изгнания, до столицы в скором времени дошли слухи, что его видели в Корнуолле и на юго-западе. В ноябре, после того как приказчики велели изгнать нескольких из придворных чиновников, король сам покинул Лондон вместе с ними, жалуясь, что его провели. Он был равнодушен к управлению государством, но вмешательство в жизнь его слуг привело его в ярость. Возможно, ему не хватало гениальности Плантагенетов, но у него в избытке наличествовали плантагенетская вспыльчивость и упрямство. К концу года Гавестон открыто присоединился к нему в Виндзоре, где они совместным пиром отметили Рождество.
Гражданская война теперь была неизбежна. 7 января 1312 года Эдуард уехал на север, чтобы «избежать рабства», приказав доставить ему в Йорк большую печать. Теперь было два правительства, одно состояло из короля и чиновников его гардероба, другое – из Ордайнеров и более старых государственных ведомств в Вестминстере. Из Йорка Эдуард объявил, что «добрый верный» Петр восстановлен во всех своих должностях и ему возвращены все его владения. Ордайнеры приняли вызов, создав союз, чтобы защитить Ордонансы, и под видом турнира собрали своих слуг. Архиепископ отлучил Гавестона, в то время как Ланкастер написал королеве, обещая, что не будет знать отдыха до тех пор, пока не избавит ее от ненавистного присутствия фаворита.
На время страна полностью поддержала магнатов. Гавестон был иностранцем; чужими были и итальянские, и гасконские вымогатели, его друзья, которым, по слухам, был доверен сбор таможенных пошлин. Хартия, говорили люди, «растаяла». Из-за того, что «власть была права», пелось в популярной балладе, «земля была без закона», из-за того, что свет стал тьмой, ей не хватало веры, из-за того, что «битва была побегом», королевство лишилось чести.
В апреле король и Гавестон переместились из Йорка в Ньюкасл, под предлогом наказания шотландцев, а в действительности, чтобы спастись от баронов. Но 4 мая Ланкастер, прошедший через Пеннины, внезапно напал на них, но не сумел взять в плен. Была захвачена королева с частью королевских сокровищ, а Эдуард со своим любимцем бежали по реке в Тайнмаут, а оттуда – в Скарборо. Оставив Гавестона в замке, одном из самых укрепленных в королевстве, страдающий монарх поспешил в Йорк, чтобы поднять армию и помочь ему.
Но бароны опередили его. Следующий на юг Ланкастер преградил ему путь, а Пемброк, Суррей и Генрих Перси осадили Скарборо. Через две недели, когда запасы стали подходить к концу, Гавестон сдался на милость победителей. Они пообещали доставить его невооруженного в Йоркский монастырь 1 августа, чтобы ожидать приговора парламента.
Бароны намеревались сдержать свое слово. Но их собратья – Ордайнеры – Ланкастер, Уорик и Херефорд – упустив добычу при Ньюкасле, взяли закон в свои собственные руки. Когда, отправив фаворита под надежной охраной в замок Уоллингфорда, Пемброк оставил его на ночь в доме приходского священника в Деддиигтоне, три графа напали на него и увезли в Уорик. Продержав его там несколько дней, граф Уорика позволил Ланкастеру – человеку с «бычьим лбом», без всяких сомнений, – обезглавить его с помощью двух ирландских убийц на холмах Блэклоу. Его труп с презреньем отказались принять в замке Уорика, и предали его земле друзья бедных и изгоев, нищенствующие монахи.
Этим актом насилия убийцы раскололи баронскую оппозицию. Ланкастер сжег все мосты; любое доверие или сотрудничество между ним и ею кузеном-королем впредь было невозможным. Чувствуя себя скомпрометированными, Пемброк и Суррей отныне тяготели к приверженцам короля. Также и вся страна, несмотря на ненависть к Гавестону, была шокирована жестоким деянием[234]. Англичане были грубым к драчливым народом, не любившим выскочек и чужеземцев, но они привыкли к закону. Кроме того, они не хотели гражданской войны.
Итогом стала роялистская реакция. Лондон сплотился вокруг короля; в любом случае Гавестон был мертв и не мог причинить вреда. 13 ноября у короля и его молодой жены-француженки в Виндзоре родился сын – будущий король Эдуард III. Опасность спорного права престолонаследия, с назначением королем Ланкастера, казалось, исчезла. В течение последующих нескольких недель с помощью посредничества папы некоторое взаимопонимание возникло между королем и магнатами. Убийц Гавестона убедили публично принести извинения в обмен на амнистию и на то, что меры, принятые против придворных чиновников, были молча прекращены.
Однако за внешним благополучием в правящих кругах усугублялся раскол. Также все чаще говорилось об успехах шотландцев. Весной 1312 года Брюс захватил замок Данди. В августе, пока его помощники покоряли последние английские крепости юго-запада, король Роберт вновь пересек границу и опустошил Тайндейл, проникнув за стены Дарема и разграбив Хартлнул. Север был в панике, и пограничные графства заплатили Ј 10000 за перемирие до весны. С огромным обозом заложников и трофеев из пяти городов Брюс с удовлетворением возвратился в свои опустошенные, обедневшие земли. В конце года он внезапно напал на Берик.
В первые месяцы 1313 года под защитой своего перемирия с северными графствами и пока Эдуард со своей женой наносил церемониальный визит во Францию, Брюс напал на королевские гарнизоны в Шотландии. 8 января после семинедельной осады он повел своих людей по шею в ледяной воде через ров, чтобы захватить Перт полуночной эскападой. Месяцем позже его брат Эдуард взял Дамфрис и замок Брюса Лохмабен. В конце лета фермер по имени Биннок, который обычно снабжал гарнизон Линлитгоу сеном, заблокировал главные ворота своей повозкой, позволив вооруженным людям, спрятанным в ней, стремительно атаковать подвесную решетку и захватить крепость.
В этот момент Эдуард Брюс, которому недоставало фабианского[235] стратегического чутья, присущего его брату, привел затянувшуюся войну к кризису. Он заключил перемирие с правителем Стерлинга, Сэром Томасом Мобреем, по которому тот согласился сдать замок, если осада не будет снята к середине лета. Это поставило перед обоими королями неразрешимую задачу. Эдуард не мог проигнорировать вызов, не покрыв себя бесчестьем. А если Роберт позволил бы снять осаду со Стерлинга, то северная Шотландия вновь оказалась бы открытой вторжениям, и все достижения, которых он добился за последние шесть лет, были бы утрачены.
В начале 1314 года все англичане, способные носить оружие, были призваны на войну. Крупнейшая армия, какую Англия когда-либо собирала, должна была отправиться освобождать замок до дня оговоренной капитуляции. Из-за того, что он не мог оградить необходимые для кампании деньги от казначейства, контролируемой ревностными магнатами, или так же, как и его отец, воспользоваться Гардеробом, из-за принятых Ордонансов, король начал собирать деньги посредством другой ветви своего двора, Королевской Палаты, используя свою тайную печать, чтобы санкционировать ее действия. Часть средств, чтобы снарядить экспедицию, говорили, была получена из конфискованных денег крупного международного Ордена крестоносцев, Тамплиеров, которые Филипп Красивый захватил после своей победы над папой Бонифацием, обвинив их богатое братство в ереси, черной магии и извращениях – обвинениях, в которых они были почти точно невиновны, но признания в которых были исторгнуты у них под пытками. Добившись избрания французского папы и его переезда в 1309 году из Рима во французский анклав, Авиньон, Филипп убедил того распустить Орден и сжечь великого магистра, который отрекся от своего признания, как вновь впавшего в ересь. Не только приданое дочери Филиппа, жены Эдуарда II, состояло из денег Ордена, но и огромный доход тамплиеров в Англии, хотя в конечном счете и переданный Рыцарям Святого Иоанна, много лет находился в руках короны. Таким образом, пожертвования, предназначенные для борьбы с мусульманами в восточных пустынях, помогли финансировать английский крестовый поход против отлученного от церкви шотландского короля.
Пока Эдуард собирал все силы Англии, чтобы раз и навсегда сокрушить «Роберта де Брюса, который сам себя называет королем Шотландии», тот вырывал у него последние базы на севере. Во вторник на Масличной неделе Дуглас захватил главную крепость марки, Роксбург, пока гарнизон пировал в большом зале:
«...танцуя, запевая песий и всячески развлекаясь».Месяц спустя племянник Брюса, Томас Рэндолф, которому он пожаловал графство Морей, получил еще большую награду. Взбираясь по стене Эдинбургского замка из рва, который сегодня отделяет новый город от старого, в то время как лобовая атака отвлекала гарнизон, Рэндолф и его люди, одетые в затемненные доспехи, достигли крепостного вала, по тропе, по которой один из них в молодости имел обыкновение наносить визиты своей возлюбленной. Жесткая дисциплина, тишина и использование двенадцатифутовой складной лестницы довершили начатое.
Снеся крепости, Брюс ретировался в Торвуд, находившийся рядом с Римской дорогой в Стерлинг, по которой должны были пройти английские войска. Здесь, готовя своих людей к битве, которая теперь была неизбежна, он ожидал последнее испытание своих собственных сил и его страны. Ему пришлось выставить на бой силы нации, составлявшей менее полумиллиона, крайне истощенной двадцатью годами вторжений и гражданских войн, против войск королевства, более чем в восемь раз превышавшего население Шотландии и превосходящего ее ресурсами. И вновь ему помог английский король, который, хотя и должен был его уничтожить, опять не сумел объединить вокруг себя свою страну. Вместо того чтобы позволить парламенту одобрить меры по уничтожению ненавистных шотландцев, он упорствовал в том, чтобы действовать независимо от магнатов и в последний момент, опасаясь их критики, распустил парламент, который сам же и собрал. Вместо этого он встретил Пасху пирами в своих любимых аббатствах Сент-Олбанс и Или. В результате некоторые из крупных магнатов, включая графов Ланкастера, Суррея, Уорика и Арондела, отказались откликнуться на призыв, настаивая на том, что, по Ордонансам, отъезд короля из страны является нелегальным, пока парламент не даст разрешения.
Но даже и без их присутствия 10 июня в Уорке собралась огромная армия. Там было, видимо, от 2000 до 3000 рыцарей и около 20 тысяч лучников и копьеносцев. Констеблем был Херефорд; кроме того, там были Глостер, Пемброк, Клиффорд, Деспенсер, Николас Сегрейв, граф Ангуса, наполовину нортумберлендец, наполовину шотландец, и сын убитого Комина. 17 июня они вышли, пройдя от Лодердейла до Эдинбурга и пролива Форт, в то время как их провиант доставлялся морем в Лит. Теперь не было времени на колебания; король намеревался разом покончить с шотландским сопротивлением. К вечеру 22 июня, за два дня до того, как надо было освободить Стерлинг, он достиг Фолкерка, покрыв почти сотню миль за шесть дней.
В ту ночь разведка Брюса доложила о приближении английской армии, «такой огромной, что вселяла ужас». Рыцари богатой нации в сверкающих доспехах предстали во всей своей красе в летних сумерках, когда закованные в броню кони и люди проследовали нескончаемой чередой по улицам Фолкерка:
«Знамена яркие пылали, И флаги бились на ветру».Об этом впечатляющем зрелище Брюс запретил рассказывать тем, кто видел его, дабы не посеять панику. Его собственные силы лишь немного превосходили одну четвертую часть английского войска: где-то 5 тысяч пехотинцев, в большинстве своем копьеносцев, вооруженных двенадцатифутовыми копьями, в подбитых войлоком куртках, в стальных шлемах и латных перчатках, также немного лучников из Этрикского леса и около пятисот легковооруженных конников. Другие две тысячи, присоединившиеся к ним[236], представлял собой «небольшой народ» с соседних ферм и городков, поднявшийся защитить свою землю от навившей над ней огромной угрозы. Прибереженные для этого случая, все его люди были ветеранами, которые в течение многих недель готовились к битве. И они защищали все то, что было дорого их сердцам. Сэр Джеймс Дуглас, сражавшийся за молодого Уолтера, наследника Сенешаля, повел людей из Клайдсайда и с западной границы, Рэндолф – людей из Росса, Морея и горожан из Инвернесса, а брат Роберта, Эдуард, – войска из Бьюкена, Мара, Ангуса, Ментейта и Леннокса. Сам Брюс командовал резервом, состоящим из его вассалов из Каррика и сильного войска членов кланов из западного высокогорного района и с островов. Это четыре дивизии или «войска» – Дуглас слева, Рэндолф в центре и Эдуард Брюс справа – каждая из которых состояла из двух или более шилтронов, которые благодаря тренировкам своего короля были способны и маневрировать, и защищаться. Под командованием сэра Роберта Кейта, маршала, был небольшой отряд кавалерии.
Вскоре после полудня, в субботу, 23 июня, разгоряченная и изнуренная двадцатимильным марш-броском из Фолкерка, английская армия достигла небольшой речушки Бэннокберн, которая, пересекаемая Римской дорогой, ведущей в Стерлинг, вилась в сторону северо-востока через заводи к проливу Форт. Осажденный замок, открывшийся взорам англичан, находился всего в трех милях. Шотландцы укрепились на поросшей лесом земле, преграждая дорогу. Их передовые позиции, защищенные рядами тщательно выкопанных рвов или pottis, замаскированных дерном и ветками, и стальными заграждениями, предназначенными для того, чтобы ранить лошадей, протискивающихся между ними. Правитель Стерлинга поскакал предупредить об этом короля. Он также обратил его внимание на то, что раз он находится в трех лигах от замка, то крепость формально «освобождена», а следовательно, нет необходимости спешить.
Но, незнакомый с шотландскими методами ведения войны и считая, что слишком малочисленная армия Брюса находится у него в руках, Эдуард и молодые английские лорды нетерпеливо рвались в бой. Несмотря на долгий утренний марш, они решили сразу же атаковать. Хотя их окружала горячая полуденная мгла, закованные в броню рыцари под командованием констебля и графа Глостера устремились вперед через речушку на своих огромных боевых конях, не дождавшись развертывания остальных войск.
Шотландцы не ожидали таких действий, так как эта атака после долгого марш-броска в конце дня противоречила всем канонам военного искусства. Сам Брюс в это время находился перед своими аванпостами, производя рекогносцировку английских позиций. Внезапно на возвышенности, возле Борстона на стерлингской дороге, он столкнулся с сэром Хамфри Боэном, племянником графом Херефорда. Увидев корону на его шлеме, а значит, шанс обессмертить свое имя, англичанин пустил своего коня вскачь и напал на шотландца. Но Брюс, вскочив на маленькую серую лошадь, был слишком быстр для него. Встав в стременах, когда англичанин пронесся мимо, он раскроил ему череп своим боевым топором. Затем шотландец поскакал обратно, чтобы присоединиться к ожидавшим его в лесу воинам.
Здесь английская кавалерия, столкнувшаяся со рвами и заграждениями, вскоре умерила свою прыть. Граф Глостера был выброшен из седла. И после безрезультатной стычки, утомленные рыцари и их тяжело нагруженные лошади в смятении вернулись назад, ни на шаг не продвинувшись в глубь шотландских позиций. В то же время гораздо меньший отряд из шестисот или семисот всадников под началом Клиффорда и де Бомона прощупывали путь на север к Стерлингу в обход восточного шотландского фланга, где, непосредственно за эскарпом лежал узкий коридор твердой почвы между левым флангом Брюса и карстом, простиравшейся между Бэннокберном и проливом Форт. Нехватка людей, чтобы одновременно держать под контролем и дорогу через лес и не допустить иных возможностей достичь замка, заставила Брюса оставить этот путь открытым в надежде, что если бы войска Эдуарда двинулись вперед вдоль него, не выбив с позиции своего противника, он мог бы, обрушившись на англичан, когда они растянутся вереницей, заставить их двинуться через пойму реки, где их броня была бы бесполезной и мешала маневрировать.
Уверенный в том, что он может заставить Брюса выйти из леса, Эдуард приказал Клиффорду занять позиции между Стерлингом и шотландцами, чтобы быть готовыми отрезать им путь к отступлению и уничтожить. Такой маневр был не лучше лобовой атаки Херефорда. Отряд Рэндолфа, стоявший возле маленькой церквушки Святого Ниниана слева от войск Брюса, двинулся от эскарпа, чтобы перехватить незваных гостей. Вместо того чтобы повиноваться своим приказам и продолжить свой бросок, англичане повернули влево и напали на шилтроны, которые тотчас же остановились, закрылись и встретили их, как обычно ощетинившись копьями. Хотя наездники метали свои палицы и топорики в ряды шотландцев в надежде разбить их, ничто не могло заставить коней столкнуться с этими угрожающе блестевшими стальными ежами. Клиффорд был убит, а его лейтенанта, сэра Томаса Грея, чей сын написал отчет об этом бое, сбросили с лошади и затащили в один из шилтронов, сделав из него пленника. В конечном счете атакующие рассредоточились: некоторые нашли убежище в Стерлингском замке, а остальные понеслись обратно к английскому войску вдоль речки Баннок, сея панику.
Затем англичане держали военный совет. Так как не осталось надежды на то, чтобы вытеснить шотландцев из леса в этот же день, наиболее благоразумные советовали сделать привал. Но Эдуард, обеспокоенный тем, что для лошадей необходима вода, попал в ловушку, которую ему устроил Брюс. Намереваясь на следующий день атаковать с востока позиции, которые ему не удалось разбить с севера, он приказал всей армии двинуться в долину реки Бэннокберн в болотистую пойму реки. Здесь боевой дух англичан заметно снизился, ведь они провели ночь, как писал один из присутствовавших там, «в глубоком, влажном, отвратительном болоте». Свет костров в шотландском лагере можно было видеть через деревья около мили на запад от английского.
Той ночью Брюсу пришлось решать, остаться ли и оказать противнику сопротивление или применить старую тактику отступлений и рассредоточений, которая под его руководством оградила его страну от опасностей. Он решил сделать ставку на единый удар, как считают, под влиянием шотландца; дезертировавшего из английского войска, сэра Александра Сетона, который принес весть о том, что англичане пали духом после гибели авангарда. «Теперь, – убеждал он, – настало время шотландцам стать свободными». Брюс не нуждался в побуждении, так как его враг наконец-то был там, где он желал его видеть.
24 июня, в воскресенье и в день летнего солнцестояния, 1314 года состоялись празднества, посвященные святому Иоанну Крестителю. С первыми лучами солнца шотландские священники, двигаясь от шилтрона к шилтрону, проводили мессы в каждом отряде. После чего люди опускались на колени в молитве, а аббат Инхаффрея, вооруженный священной реликвией, благословлял их. Шотландский историк, доктор Мур Маккензи, отмечал, что основными словами, читаемыми священниками, были слова из 40 главы Книги Пророка Исайи: «Утешайте, утешайте народ мой», и евангельской молитвы: «Мы спасемся от врагов наших и из рук тех, кто ненавидит нас»[237].
В это время в английском лагере прозвучали трубы над речкой, и тысячи рыцарей, с помощью своих пажей, надевали свои доспехи и садились на огромных коней после ночи, проведенной в сырости и неудобстве. Но прежде чем они выстроились, в поле зрения появились шотландцы. К удивлению захватчиков, вместо того чтобы ждать их атаки на твердой земле или отступить на запад в леса, шилтроны спускались по склону по направлению к ним, являя собой три огромных воинственно ощетинившихся шара. «Эти люди будут сражаться?» – скептически спросил Эдуард у Роберта де Умфравилля, графа Ангуса[238], одного из самых преданных шотландских приверженцев. И де Умфравилль, отлично знавший своих соотечественников, ответил, что будут, и умолял короля отступать, чтобы противник разомкнул свои ряды и открылся оружию англичан.
Но как и Крессингэм перед сражением при Стерлингском мосту, английский король презирал шотландцев. Не оглядываясь на тех, кто хотел дать армии время выстроиться в боевом порядке, он приказал своему племяннику Глостеру атаковать приближающихся копьеносцев. Разозленный его язвительными насмешками и даже не надев свою геральдическую мантию, юный граф бросился на передовой шилтрон, которым командовал Эдуард Брюс. Здесь на остриях копий он нашел свою смерть, как и все остальные рыцари, оказавшиеся настолько же безрассудными, что пошли вслед за ним. А за ними оставшиеся англичане отчаянно пытались развернуться в боевом порядке. Но в то время как Роберт Брюс знал, что ему делать, у захватчиков не было ни плана действия, ни командования. Лучники, которых Эдуард I использовал для того, чтобы разбить шилтроны, прежде чем в атаку вступит его кавалерия, до сих пор были на месте своего привала в тылу и могли стрелять только через головы или в спины своих соотечественников.
Все это, будучи великим военачальником, предвидел Брюс. Именно поэтому вместо того чтобы ждать атаки англичан, он решил предупредить ее. Используя свои шилтроны в качестве медленно движущейся стальной стены, он хотел сосредоточить все огромные силы захватчиков на небольшом пространстве с таким расчетом, чтобы англичане продвигались по карсту, пока не достигнут пролива Форт. Тогда он выдвинул вперед правый фланг своих войск и направил своих надежных пехотинцев к северу вдоль речки, и, пока противник не осознал его маневр, согнал вражеские войска в одно место, где мог его уничтожить.
До сих пор, пытаясь в течение девяти лет поймать непокорного шотландца, предводители английского рыцарства сталкивались только с выжидательной тактикой Брюса, осторожного командира, который постоянно исчезал в туманах родной страны, оставляя противника умирать от голода среди бесплодных гор. Теперь, как и их подчиненные, командующие гарнизонами, которые уже давно узнали его внезапные атаки на одиноких болотах и полуночные эскалады, они познакомились с другой тактикой Брюса. Как только Роберт выбирал нужный момент, он становился отважнее льва. Главную опасность для него представляли английские и валлийские лучники, которые одни могли посеять замешательство в сомкнутых рядах шилтронов. У него было всего лишь пятьсот конников, но он знал, когда их надо посылать в бой. Большинство вражеских стрелков до сих пор находились в тылу беспорядочно столпившихся английских рыцарей, которые пытались сдержать надвигавшихся копьеносцев, и их стрелы попадали не только в противника, но и в своих соотечественников. Но некоторое их количество к тому моменту заняли позицию на левом фланге англичан и начали стрелять в плотно сомкнутые ряды шотландской пехоты. Увидев, что его пешим воинам грозит опасность, Брюс приказал маршалу отправить конников обойти фланг и напасть на стрелков.
Этот шаг был весьма успешным. Спустя несколько минут лучники были перебиты и англичане потеряли один из двух своих главных козырей. Другие рыцари, чьи лошади все больше и больше увязали в зыбкой почве, не сумев развернуться, оказались в совершенно беспомощном положении. Они не могли разорвать или остановить сужающееся кольцо шотландских копий, и их постепенно оттесняли на еще меньший островок твердой почвы, когда воины Брюса отрезали их с юга и теснили к болотам и топям пролива. Теперь, король Роберт, уловив удобный момент, решил ввести в бой свой резерв, спрятанный в лесу к западу от стерлингской дороги. Воззвав к Магнусу Огу, МакДональду с островов словами, которые до сих пор сохранились на гербе Кланранальда: «Я всегда надеюсь на тебя», он бросил островитян против отступавших англичан, тесня их к месту в миле или более к востоку от церкви Св. Ниниана, где Бэннокберн сужался в бурлящий поток. Именно туда и двигалась английская конница, в то время как шотландские командиры кричали: «Дави! Дави!», и копьеносцы, сохраняя свои стальные ряды, поддержали крик: «Дави их, они проиграли! Проиграли!»
Когда на узком пространстве, оставшемся у англичан под давлением шотландских копий, началась свалка из упавших рыцарей и до смерти перепуганных лошадей, еще одна сила вступила в бой. Появившийся из леса на холме из-за церкви Св. Ниниана «маленький народ», а вместе с ним и те, кто следовал вместе с армией Брюса, вступил на поле боя, внося свою долю, убивая и грабя всех, кого только можно. Они стали той сетью, которую победитель набросил на умирающего зверя, все в пределах видимости было заполнено павшими духом захватчиками, в отчаянии пытавшихся спастись. Речка кишела английскими рыцарями и лошадьми, тонущими под весом брони, в то время как копьеносцы взяли спасшихся в кольцо, и лучники и следовавшие за воинами люди, вступившие в схватку, рубили их мечами и кинжалами.
В это время началась паника; все было вновь как на Стерлингском мосту. Англичане находились далеко от дома в дикой неприятельской стране; путь к отступлению отрезан безжалостным врагом и топями поймы. Единственным выходом был путь на север по узкой долине в Стерлинг. Первой мыслью тех, кто оставался на поле брани, было спасти короля. Высокий Плантагенет, чья лошадь была убита прямо под ним, помогал расчищать путь своим боевым топором, в то время как его свита вместе с ним протискивалась через толкающихся людей к северу. Сэр Жиль д'Аржентин, самый прославленный рыцарь после Брюса и Дугласа на поле боя, охранявший Плантагенета до тех пор, пока тот не вышел из толчеи, затем повернул назад и ринулся в самую гущу сражения, чтобы умереть. «Что касается меня, – были его прощальные слова, – я не привык бежать; и я так не поступлю. Да хранит вас Бог!»
Когда Эдуард достиг стен Стерлинга, правитель замка напомнил ему, что было бы неразумно оставаться здесь, так как он обязан капитулировать по условиям ранее заключенного с Брюсом перемирия. Королю остался единственный выход: сделать большой крюк, обходя с запада тыл шотландской армии. С пятьюстами человеками свиты он отправился в неизвестность, дав клятву одарить общину братьев-кармелитов, если он достигнет пределов Англии целым и невредимым. Не сходя с седла день и ночь, по пятам преследуемый Дугласом, он добрался до замка Данбар, где сел на судно, идущее в Берик.
Остальным повезло гораздо меньше. Констебля, бежавшего по направлению к Карлайлу с графом Ангусом и другими приверженцами Баллиоля, выдал правитель замка Ботуэлл. Многих взяли на поле боя, включая хранителя малой печати, которая также попала в руки шотландцев. Около пятисот аристократов высшего ранга стали пленниками. Тысячи людей, включая семьсот рыцарей и многих из крупных английских лордов, сгинули в пойме реки или в водах Форта, или же были убиты местными жителями. Из магнатов, сопровождавших короля в Шотландию, только Пемброк, бежавший пешком с горстью валлийских лучников, добрался до Англии.
Если бы Брюс командовал большими силами конников, вряд ли кому-либо из захватчиков удалось спастись. Его трофеи включали в себя королевский гардероб, множество ювелирных изделий и церковное облачение, которое англичане взяли с собой в надежде отпраздновать победу, и более Ј 200000 в слитках, много миллионов в современных деньгах. Весь королевский обоз и военная касса остались в руках Брюса. Он обходился с пленниками со всем великодушием и благородством. Сэр Мармадьюк де Твенж, английский герой разгрома у Стерлингского моста, после ночи, проведенной в кустах, сдавшийся лично шотландскому королю на следующий день, был отпущен домой без выкупа. Почти в течение года после «Битвы у заводей», как назвали ее англичане, вереница посредников приезжала в Шотландию с охранными свидетельствами, чтобы вести переговоры об обмене пленниками. В обмен на освобождение Херефорда Брюс добился возвращения своей жены, дочери, принцессы Марджори, молодого графа Мара и старого покровителя Уоллеса, ослепшего после семилетнего заключения, епископа Уишарта.
* * *
После Гастингса Бэннокберн был крупнейшим поражением в английской истории. Он положил конец любой реальной надежде на отвоевание Шотландии силой оружия. В течение поколения шотландцы страдали от вторжений в их территории. Теперь под началом Дугласа и Рэндолфа они перешли в наступление. Изгнав англичан из всех уголков своей родины за исключением Берика, они перешли границы, сожгли Эпплби и дошли почти до Ричмонда, после чего вернулись обратно с богатыми трофеями. Перед Рождеством они вернулись, чтобы разграбить Тайнсайд. И так как правительство в Вестминстере не было готовым признать независимость Шотландии и не могло противостоять ей, жителям северных графств приходилось самим ставить определенные условия. Камберленд и Дарем платили выкуп за перемирие, а Тайнсайд принес оммаж шотландскому королю. Это очень напоминало дни после падения Римской стены[239].
Летом 1315 года, когда предложение Брюса о постоянном мире было отвергнуто, шотландцы вновь перешли в наступление. К ним присоединилось множество английских преступников и изгоев, кроме того, из-за слабости Короны целостность северного народа была нарушена. Дуглас опустошил Дарем и сжег Хартпул; Карлайл был спасен исключительно благодаря мужеству его правителя, сэра Эндрю Харклая, а также отправлению основных сил шотландской армии в Ирландию. Ведь зимой после битвы при Бэннокберне, воодушевленный победой своих собратьев-кельтов, Дональд О'Нейл, номинальный король Тирона, отверг вассальную зависимость от Англии и пригласил брата Брюса надеть ирландскую корону. 26 мая 1315 года, не устоявший перед искушением вступить в азартную игру, предполагаемый наследник высадился в Ларнской бухте.
Всегда готовые нанести удар англичанам, поднялись ирландцы. Под управлением юстициария Эдуарда I, сэра Джона Вогана, восточная часть острова жила в относительном покое и посылала войска для участия в шотландских кампаниях короля. Теперь, воодушевленные событиями при Бэннокберне, запад и юг вновь впали в традиционную для них анархию, и англичане, жившие в Пейле, были вынуждены спасаться бегством из Ольстера. Даже в Лейнстере О'Брайены, О'Тулы и О'Кэрролы вместе со своими дикими пехотинцами отправились грабить прибрежные города Ньюкасл, Арклоу и Брей. В мае 1316 года, после разгрома Эдуарда Батлера, юстициария в Ардсвиле, Эдуард Брюс был коронован как главный король Ирландии в Дандалке. Позже, летом, к нему присоединился король Роберт, застрахованный от нападений разъединением Англии, который покинул Шотландию и оставил пограничные земли на разграбление своему зятю Уолтеру Сенешалю и грозному Дугласу. Последний наводил на местных жителей такой ужас, что еще несколько поколений в северных графствах матери убаюкивали своих детей под рефрен:
«Тише, тише, не плачь, детка, Черный Дуглас тебя не достанет!»Однако мечта династии Брюсов управлять кельтским севером и западом Британских островов под единой короной оказалась столь же несбыточной, как и мечта Эдуарда I о союзе островов под главенством Плантагенетов. Хотя Брюсы и продвинулись, но в пяти милях от Дублина их остановил мэр-англичанин, арестовавший крупного англо-нормандского магната, Ричарда де Бурга – «рыжего» графа Ольстера – чтобы предотвратить любой риск того, что он присоединится к своему зятю, королю Роберту. Вопреки подкреплениям из Англии шотландский поход к Лимерику закончился зимним отступлением по бесплодной, опустошенной земле. «Воины, – писал хронист, – не оставили после ни дерева, ни зерна, ни дома, ни амбара, ни церкви; все сожгли или сравняли с землей». К тому времени, как король Роберт привел свои войска в Шотландию, ирландцы поняли, что шотландцы могут быть таким же бедствием, что и англичане. Когда в 1318 году Эдуард Брюс потерпел поражение и был убит в Фогхартских холмах при попытке совершить новый набег на Лейнстер, иллюзии ирландцев окончательно рассеялись. Местный летописец отмечал, что «с начала времен не было сделано ни одного деяния, которое было бы лучше для людей Ирландии».
В это время Англия все еще находилась в трудном положении. Боясь после Бэннокберна даже приблизиться к парламенту, король проводил все время в кузнице, позволив своим врагам делать все, что им хочется. На Рождество 1315 года, как сообщалось, он «барахтался в Кембриджских болотах с большой компанией простолюдинов», находя утешение «в огромном количестве воды». Он и его «глупая компания пловцов» возбудили презрение феодальных баронов, которые не могли понять, как принц, рожденный среди оружия, вместо того, чтобы отомстить своим врагам, довольствуется «детскими развлечениями». Если в стране и был правитель в это время, то им был кузен Эдуарда, Томас Ланкастерский, который избежал бесчестья, отказавшись сопровождать короля к Бэннокберну, и стал национальным героем. Сын королевы, племянник последнего короля и наследник пяти графств, этот угрюмый и непривлекательный магнифицио вел себя так, как будто трон был его собственностью. Он настаивал на отставке канцлера, казначея и хранителя Гардероба и назначении своих ставленников на их посты. В линкольнском парламенте 1316 года он заставил своего кузена и его собратьев-магнатов ждать более двух недель, прежде чем он соизволил появиться и начать заседание.
Но хотя короля и совет заставили добиваться согласия графа на каждое административное действие, он оказался настолько же неспособным к правлению, как и Эдуард. Обладая еще большей формальной властью, чем де Монфор, назначенный главой совета и главнокомандующим в шотландской кампании, имевший право отвергнуть любое действие Короны, которое он не одобрял, Томас проводил все время в своих северных владениях, где в окружении собственной гордости и великолепия сохранял королевский статус без какой-либо ответственности, к какой обязывает королевский сан. Единственной его целью было управлять королем, как марионеткой, и унижать его. Когда летом 1316 года шотландцы вновь опустошили север, разграбив железные копи в Фернессе и дойдя до стен Ричмонда, армия, собранная, чтобы отразить их набеги, ничего не добилась, так как Ланкастер отказался как служить под началом короля, так и двигаться без него. Из боязни предательства кузены опасались приближаться друг к другу, кроме как среди вооруженных слуг.
Из-за этого бесплодного соперничества страдала Англия. Не только Корона подвела ее, но и урожаи. В 1315-1317 годах слишком влажная погода, по словам Бридлингтонского хрониста, принесла «столько страданий, сколько мы никогда не видели». Из-за роста голода пшеница подорожала в шесть раз по сравнению со своей обычной ценой; люди ели лошадей, собак и даже, как говорили, детей. «Воры, сидевшие в тюрьмах, разрывали на куски новичков, появлявшихся среди них и с жадностью пожирали их наполовину живыми». Кроме того, марки Уэльса и мелкие войны на севере достигли крайней степени; в отместку за приют, предоставленный его жене, сбежавшей со своим любовником, Ланкастер опустошил йоркширские владения графа Суррея и разорил его замки. Даже во время сессии парламента в соборе Линкольна рыцарь напал на одного из чиновников королевского двора, Хью Деспенсера, с обнаженным мечом. Банды расформированных солдат скитались по стране, а в болотах и мидлендских лесах разбойники и изгои останавливали путешественников с целью выкупа. Осенью 1317 года по пути из Шотландии в Англию, после напрасной попытки провести мирные переговоры, два папских легата, оба кардиналы, попали в засаду, устроенную нортумбрийским рыцарем и его бандой грабителей, после чего были раздеты и отправились восвояси абсолютно голыми.
К 1318 году англичане достаточно оправились после Бэннокберна, чтобы планировать новое вторжение в Шотландию. Смерть Эдуарда Брюса оставила династическое будущее этой страны таким же непрочным, как и раньше, так как единственным наследником королевской крови был несовершеннолетний сын Уолтера Сенешаля, чья жена, принцесса Марджери, умерла во время родов. Но маленький желтоволосый король, как обычно, был на два шага впереди своих врагов. Еще до начала весны он внезапно напал на Берик, который ему не удалось захватить два года назад, и взял замок после одиннадцатинедельной осады. В мае, прежде чем английское войско мести могло собраться, его колонны находились в ста двадцати милях от границы, и, предав огню Норталлертон, Бургбридж и Кнарсборо, были уже в пятнадцати милях от Йорка. Рипон единственный избежал разрушения, заплатив выкуп в тысячу фунтов после того, как его запуганные жители просидели три дня в осажденной церкви. Затем победители вернулись к Уорфдейлу, опустошив его, когда пришли. Король Эдуард так и не добрался дальше Йорка, где его генералы ссорились друг с другом, пока деньги на жалованье их солдатам не закончились, и им пришлось распустить войска.
Все это способствовало дискредитации Ланкастера, который больше не мог взваливать вину на короля за все, что шло не так. Оба гораздо больше интересовались тем, как насолить друг другу, нежели врагам государства; «...что бы ни порадовало лорда короля, – говорилось, – слуги графа пытались расстроить, и что бы ни пожелал граф, слуги короля называли вероломством». Так как кому-нибудь надо было управлять государством, появилась центристская партия, чтобы заполнить вакуум. Ее главой был Эйлмер де Валенс, граф Пемброка, самый умеренный из Ордайнеров, благородный человек, который воплощал свойственную обычному англичанину нелюбовь к политическому насилию и крайностям[240]. Его поддерживали церковные лидеры, включая примаса, архиепископа Рейнолдса, и большинство баронов, которые все больше отдалялись от Ланкастера из-за его заносчивости, грубости и постоянного отказа брать на себя ответственность. Центристскую партию также поддержали постоянные чиновники казначейства, канцелярии и куриалы королевского двора, чьей целью, как и у остальных чиновников, было укрепить власть и эффективность их департаментов, что объяснялось попытками Приказчиков лишить их влияния и власти. Она стремилась к тому, чтобы, сохранив под контролем своенравного, импульсивного короля, восстановить королевское достоинство, провести в жизнь все, что было хорошего в ордонансах и вернуть возомнившего себя слишком могущественным Ланкастера с неба на землю.
Под таким руководством страна наконец-то могла немного восстановить свои силы. Согласно «договору» в Лике, заключенному осенью 1318 года между членами королевского совета и Ланкастером, между королем и его кузеном было достигнуто относительное согласие. Было решено, что графу не следует больше посещать парламент в качестве соперника короля, но как обычному пэру королевства «без выказывания превосходства над остальными», в то время как король должен был соблюдать Ордонансы, гарантировать прощение своему кузену за прошлые обиды и править с помощью совета, один член которого всегда должен выдвигаться Ланкастером. Соперники публично поцеловались в знак примирения, и в последующем затишье казалось, что государственный корабль обрел-таки своего кормчего. Несколько важных административных реформ было проведено придворными чинами, а с Францией было достигнуто соглашение, разрешавшее вопросы оммажа Аквитании и Понтье. Кроме того, наконец, улучшилась погода, и пришел конец катастрофически низким урожаям за последние несколько лет.
Хотя отказ государства принять независимость Шотландии оставался камнем преткновения. В июне 1319 года, после примирения короля с Ланкастером, в Ньюкасле было собрано войско. Все графы присутствовали там: Пемброк, Суррей, Херефорд, Арондел, даже Ланкастер и его брат Генрих «Кривая Шея». Из Пяти портов прибыл флот, осадные орудия, которые включал в себя корабль с подъемным мостом, чтобы штурмовать стены города, и передвижной подкоп «свинья» со спрятанным штурмовым отрядом внутри. Убежденный новым согласием в Англии, папа гарантировал субсидии из фонда крестовых походов, чтобы финансировать экспедицию, которая должна была, наконец, наказать Брюса за святотатство. Хотя она ничего не достигла. Сенешаль Уолтер продолжал удерживать Берик с помощью фламандского инженера Краба, поднявшего камнемет на стены, который «отправил английскую свинью к поросятам». И вместо того чтобы двинуться на помощь городу и дать возможность английскому рыцарству отомстить за Бэннокберн, шотландский король послал Дугласа через западные марки угрожать Йорку, где он чуть не захватил королеву Изабеллу вместе с королевским казначейством и судьями. 20 сентября в Митоне-в-Свейделе горцы Дугласа нанесли поражение армии, которую северный архиепископ наспех собрал у держателей монашеских домов Йоркшира, чтобы защищать свою столицу. Во время «белой битвы» или Митонского капитула, как ее назвали из-за нескольких цистерцианских сановников, принимавших участие, мэр Йорка был убит, а Хранитель свитков заключен в темницу. Затем со своими трофеями, включавшими все серебро архиепископа, захватчики двинулись на замок Ланкастера в Понтефракт.
Результат был именно таким, как предвидел Брюс. Граф поспешил на юг спасать свои владения, а король и остальное войско, чувствуя, что их предали, сняли осаду Берика. За три дня до Рождества Эдуард заключил двухгодичное перемирие с шотландцами, которые получили все, чего добивались, за исключением формального признания национальной независимости, что англичане уж никак не могли допустить. И хотя папа издал еще одну прокламацию об отлучении Брюса и призвал его и шотландских прелатов в Авиньон, он получил гораздо больше, чем ожидал. В апреле 1320 года, собрав парламент в монастыре города Арброт, шотландцы дали ему ответ с всесокрушающей логикой и красноречием, присущим их нации.
Записанная по-латыни от имени общины и скрепленная печатями восьми графов и почти всех крупных магнатов, Арбротская декларация была первым значительным призывом к национальной независимости в современной истории. Она открывается описанием прошлого шотландского народа, как «многими победами и неустанными трудами» они обрели «жилища на западе»; как, «атакуемые вновь и вновь норвежцами, данами и англами», они оставались «свободными от всякой повинности», живя под правлением «ста тринадцати королей из своего монаршего рода без какого-либо чужеземного вмешательства», и как, «обитая на краю мира», они в числе первых приобщились к христианской вере. Затем, продолжает декларация, «безжалостный князь Эдуард, король Англии, отец того, кто теперь правит», пришел «под личиной друга и союзника... против народа, не подозревавшего зла и обмана и еще не привыкшего к войнам» и подчинил его с помощью «кровопролития, насилия и грабежа... невзирая на возраст, пол, религию или священный сан», пока «от этих неисчислимых зол, с помощью Того, кто излечивает и исцеляет раны», они не были освобождены сильной дланью их короля, лорда Сэра Роберта, «который во имя избавления народа и наследства своего стойко сносил труды и лишения, голод и опасности». Ничто не могло поколебать их преданности человеку, который охранял их свободы, хотя, если бы он сейчас отступился от начатого дела, то они:
«...незамедлительно изгнали бы его как недруга и губителя прав своих и наших, и избрали бы другого короля, способного нас защищать. Ибо доколе хоть сотня из нас останется в живых, никогда и не в коей мере не подчинимся мы владычеству Англии. Ведь не ради славы, богатств или почестей мы сражаемся, но единственно во имя свободы, кою каждый добрый человек утратит лишь вместе со своей жизнью».
Заканчивается декларация призывом к папе убедить английского короля дозволить им жить в мире «на этом узком клочке земли под названием Шотландия, за пределами которой нет обитаемой земли». Результатом декларации стало то, что папа отложил процесс курии против Брюса и советовал Эдуарду заключить мир.
Не только Шотландия разрушала все, что делала Англия, довершала начатое и вопиющая безответственность ее короля. На короткое время вскоре после того, как Ланкастер капитулировал, Эдуард проявил редкое старание в государственных делах, поднимаясь, по словам одного епископа, рано утром «вопреки обыкновению» и выказывая «сердечное сочувствие» прелатам и магнатам за столом совета, и даже иногда высказывая что-нибудь полезное в обсуждениях. Но такое улучшение было кратковременным. Теперь у него появился новый фаворит – очень скупой молодой маркграф, барон по имени Хью Деспенсер, чей отец, с давних пор служивший Короне, навлек на себя подозрение магнатов, поддержав Гавестона в его противостоянии Приказчикам. Семья Деспенсеров не была, по меркам маркграфов, очень знатной, ведя свой род от управляющих бывших графов Честера. Хью, который был членом королевского двора Эдуарда, когда тот был еще принцем Уэльским, и был посвящен будущим королем в рыцари, женился на старшей сестре и сонаследнице последнего Клэра графа Глостера. После гибели Глостера при Бэннокберне, Деспенсер поссорился со своим зятем из-за раздела наследства, от которого он благодаря поддержке короля требовал львиную долю, включая графство Гламорган. Эдуард, который никогда не любил или ненавидел наполовину, безумно влюбился в него и осыпал знаками внимания. Когда он был управляющим королевского двора, молодого человека обвиняли в подрыве любого другого влияния и тем, что король бегал за ним «как котенок за соломинкой».
К весне 1321 года алчность Деспенсера и негодование маркграфов разрушило центристскую партию и привело к междоусобицам в Южном Уэльсе, которые Эдуард I в свое время пытался предотвратить. Разъяренные использованием фаворитом королевских прерогатив, чтобы посягнуть на их права, крупные лорды марок под началом графа Херефорда и Мортимеров вторглись в земли Деспенсера и опустошили их. Их поддерживал Ланкастер, сам маркграф. Когда король приказал Херефорду и его сторонникам уйти, его открыто проигнорировали, в то время как Ланкастер на том основании, что в королевском суде не дождешься правосудия, созвал парламент лордов северных земель в Понтефрактском аббатстве, на котором Деспенсеры были официально осуждены. Гражданская война распространилась из Уэльса в Англию, и в июле, с тем чтобы, как они выражались, «поддерживать всеобщий мир... чтобы покой и порядок людей более надежно охранялся», вооруженные маркграфы вошли в Лондон и расквартировали свои войска в пригороде. Предупрежденный Пемброком, который единственный оставался верным ему, что, если он не изгонит Деспенсеров, магнаты нарушат свою клятву преданности и выберут вместо него другого правителя, король через две недели капитулировал. 19 августа в его присутствии лорды в парламенте приговорили Деспенсеров к высылке за «присвоение себе королевской власти, отчуждение сердца короля от его народа и за то, что препятствовал встречам магнатов с королем».
Однако, как с Гавестоном десять лет назад, одно дело было заставить короля выслать человека, которому он отдал свое сердце, другое – принять меры к тому, чтобы король не вернул его обратно. Маркграфы же вскоре отправились по домам, так как не могли удерживать своих слуг так долго вдалеке от дома. И так как Эдуард сделал все, что хотели его подданные, и все еще был их помазанным королем, общественное мнение вновь переменилось к нему. В октябре один из союзников, лорд Бадлесмер, нанес большое оскорбление королеве, воспрепятствовав ее въезду в замок Лидс. Это было уже чересчур, и когда Эдуард осадил замок и повесил его констебля, возникло всеобщее чувство, что маркграфы зашли слишком далеко, а он единственный вел себя как подобает королю.
В том январе Эдуард действовал так решительно, что напомнил своего отца. Вновь обретя поддержку наиболее умеренных магнатов, он атаковал маркграфов в Уэльсе. Перейдя Северн в Шрусбери, к концу месяца он заставил Мортимеров капитулировать, в то время как колеблющийся Ланкастер бездействовал на севере. Тогда, после покорения замков Ладлоу, Херефорда, Глостера и Беркли, он убедил архиепископа Кентерберийского объявить высылку Деспенсера незаконной. В это время его главный противник совершил фатальную ошибку. Хитростью вовлеченный «королем дипломатии» графом Морея в секретную переписку с Шотландией, в которой он фигурировал под льстивым прозвищем «Король Артур», Ланкастер согласился признать Брюса королем в обмен на помощь шотландской армии. Пригласив их лукавого врага вторгнуться в пределы Англии, он отвратил от себя лордов пограничных земель и сыграл на руку королю.
Не оказав помощи Мортимерам в опасный час, Ланкастер оказался совершенно один. Только Херефорд оставался, зайдя слишком далеко, чтобы отступать. Провозгласив их обоих предателями, воззвав к народному ополчению и назначив на май заседание парламента в Йорке, король отправился в поход против мятежных вассалов. 16 марта 1322 года при попытке перейти Ур Ланкастер был перехвачен на Бургбридже наместником Западных марок, сэром Эндрю Харклаем, в сопровождении воинов и лучников из Уэстморленда. Херефорд был убит, а Ланкастер, как всегда находившийся в замешательстве, взят в плен несколько часов спустя преследовавшими его королевскими войсками. Представшему перед королем в главном зале своего собственного замка Понтефракт графу было запрещено говорить что-либо в свою защиту, как когда-то Гавестону. Его приговорили к смерти и без промедления обезглавили в присутствии глумящейся толпы.
Отомстив убийце Гавестона, Эдуард прибыл на заседание парламента в Йорк. Судьба ему благоволила; его шерифы хорошо знали свое дело. Представительное собрание магнатов, рыцарей от графств, горожан и церковных поверенных[241] отменило Ордонансы на основании того, что Приказчики действовали без короля, а потому не могут рассматриваться в качестве настоящего парламента. Так как «власть нашего господина короля» была «незаконно ограничена к ущербу его величества и имуществу Короны», они постановили, что «каждый род ордонанса или провизии, созданный властью или какой бы то ни было комиссией подданными... относящийся к королевской компетенции» должен быть признан «недействительным и незаконным и не имеющим законности и силы». Вместо этого было записано, что все дела, затрагивающие «имущество короля и его наследников» должны «впредь гарантироваться и вводиться в парламенте нашим господином королем с согласия прелатов, графов и баронов и общин королевства, как это было в прошлом»[242].
Йоркский статут был попыткой укрепить королевство не с помощью компромисса, воплощающего лучшее от двух противоположных принципов, как Мальборосский Статут юного лорда Эдуарда после баронских войн, но отказа от всего, за что боролись магнаты. Он отверг не только различие между монархом и Короной, сделанное в декларации 1308 года, но и коронационную клятву Эдуарда защищать справедливые законы и обычаи, установленные общинами. Вместо этого лишь правитель должен «создавать, защищать и укреплять» такие законы в парламенте. Единственной функцией «прелатов, графов, баронов и общины королевства» было «согласие». Статут возвращал управление государством к благосклонной отеческой опеке короля над своими подданными, которая хорошо помогала и была действенным методом в достижении определенных соглашений ранних лет царствования Эдуарда I, но с которой его преемник, будучи слишком ленивым, безответственным и легко поддающемся чужому влиянию, справиться не смог. Статут говорил о справедливом и активном короле и усердных подданных. Но в Статуте не была сделана попытка согласовать вопрос с тем, что же случится, если король не будет справедливым и активным, а народ не пожелает быть послушным.
Хотя как и Ордонансы, которые он аннулировал, Йоркский статут передал власть, которую он восстановил, в руки короля в обрамлении парламента, даже если этот парламент ничего не мог сделать без него. И, в отличие от Ордонансов, он признал Общины как часть того парламента. Война с Шотландией и нужда в деньгах сделали скромных представителей графств и купеческих городов необходимыми. В двадцать лет правления Эдуарда II их созывали по предписанию не менее чем на двадцать пять парламентов.
Король победил Ланкастера и маркграфов, но он все еще не покорил шотландцев. Еще раз летом 1322 года он назначил сбор войск в Ньюкасле на 22 июля. Вновь он встретился с Брюсом на поле боя. 19 июня он покинул Карлайл, чтобы совершить набег на Аллердейле, взять выкуп с аббатства Фернесс и сжечь Ланкастер и Престон, вновь перейдя границу с обычными трофеями и данью 24 июня. Когда, наконец, в августе Эдуард дошел до Мельроза и Эдинбурга, шотландский король отступил за Форт, опустошая страну и эвакуируя местных жителей. Как и прежде, он был уверен, что система снабжения англичан не справится с задачей, что и произошло. Брюс оставил сражаться за себя вересковые заросли и долгие шотландские мили. После двух недель в бесплодной опустошенной земле Лотиана, Эдуард вернулся в Англию, предав огню Драйбургское аббатство и разграбив Холируд и Мельроз. Единственным трофеем, полученным в кампании, была увечная корова. «Самая дорогая говядина, – ворчал граф Суррея, – какую мы когда-либо видели».
Затем Брюс свершил свою месть. 30 сентября 1322 года он вновь пересек Солуэй и вторгся в пределы Йоркшира с востока, чтобы опустошить усадьбы Кливленда и одинокие деревни Северного Рединга. На самого короля Эдуарда, возвращавшегося домой мимо Барнардского замка, неожиданно напали и побили при Биланде, где капитан его охраны, Джон Бретонский, был взят в плен. Он и его сводный брат, граф Кента, единственные спаслись бегством в Бридлингтон, а оттуда морем в Холдернесс. Между тем горцы Брюса преследовали англичан до ворот Йорка, требуя выкуп за земли вплоть до Беверли и вновь разграбив Рипон.
После этого англичане, жившие на северных землях, выполнили все условия, какие смогли. Архиепископ Йоркский уполномочил глав цистерцианского ордена заплатить за себя выкуп самим, епископ Даремский договорился с шотландцами, и даже доблестный Харклай, победитель при Бургбридже и теперь граф Карлайла, подчинился неизбежному и, разыскав Рэндолфа в Лохмабене, предложил провести мирные переговоры между двумя странами. В их основе должно было быть признание короля Роберта и его женитьба на английской принцессе в обмен на компенсацию в 40 тысяч марок, предоставляя Эдуарду выполнить условия в течение года. Харклай сделал предложения открыто и имея за собой поддержку пограничных лордов, но они были представлены его королю, до сих пор страдавшему от поражения, как измена. По его приказу Харклая схватили и повесили как предателя.
Хотя Эдуард уничтожил своего самого преданного слугу, это не принесло ему никакой пользы. В течение нескольких недель ему пришлось из-за положения на границе послать своего представителя в Берик. 30 мая в Ньюкасле между двумя странами было заключено перемирие на тринадцать лет. Спорный вопрос о признании Брюса королем остался открытым, Роберт подписался как король шотландцев, а Пемброк и Деспенсер поставили свои подписи от имени английского короля. Это была единственная возможность спасти север от полного краха. По договору, Англия также согласилась не создавать никаких преград примирению шотландцев с папством. После этого Рэндолфа послали в посольство в Авиньон, где он добился от папы признания его суверена и независимости его страны. Два года спустя в Корбейле он добился возобновления так называемого «старого союза» между Францией и Шотландией. Любое перемирие или мир между Францией и Англией или Англией и Шотландией, к обоюдному согласию, должен был завершиться, как только Англия нападет на ту или другую страну.
Борьба короля Роберта за признание в конце концов завершалась. Хотя последнего признания со стороны Англии еще не последовало, перемирие позволило Шотландии не опасаться вторжения и дало шанс восстановить расстроенную экономику. «Должно быть, все было сожжено в этот год или другие», как говорили. И вопрос престолонаследия теперь также, казалось, решен, так как в марте 1324 года королева неожиданно родила сына, которого назвали Давид. Два года спустя в Камбускеннете состоялся парламент, и присутствовавшие на нем представители шотландских городов обещали королю десятую часть всех доходов страны до конца его жизни. Он даже смог построить себе загородный дом в Кардроссе на Клайде с застекленными окнами и расписанными комнатами, где ввиду ухудшающегося здоровья он проводил много времени, охотясь и ходя под парусами.
Англия также выиграла от прекращения столь дорогостоящей и бесславной войны. Это дало возможность Деспенсерам начать восстанавливать власть Короны. Хотя и не желая нагреть руки, они были полностью связаны со своим царственным господином, и их благополучие зависело от его силы. Их средством справляться с недостатками Эдуарда было не ограничивать его привилегии, но использовать их так, чтобы сделать королевскую исполнительную власть столь эффективной, что личная неспособность короля управлять больше не играла бы никакой роли. Пемброк умер в 1324 году вскоре после переговоров о перемирии с Шотландией, и Деспенсеры, старший из которых теперь стал Графом Винчестера, получили почти неограниченную власть. Они использовали ее, а они были способными и активными людьми, не только для того, чтобы выстроить огромное личное княжество в Южном Уэльсе от Милфорд Хейвена до Чепстоу, но и чтобы усовершенствовать управление. Так как Приказчики ограничили королевское право пользования Гардеробом, стараясь сделать его, как казначейство и канцелярию, в большей мере общим, нежели личным институтом, подотчетным парламенту, они сделали все возможное, чтобы возродить мощь другого королевского департамента, Королевской Палаты (первоначально – королевская спальня, так же, как Гардероб – был настоящим гардеробом), которую младший Деспенсер контролировал, будучи управляющим, и которая, заняв место Гардероба, все больше управляла королевскими имениями и их доходами. С ее третьей королевской печатью, sigillum secretum, минуя личную печать, ставшей, так же, как и большая печать, государственной, Деспенсер и рьяные чиновники Королевской Палаты издали целый ряд королевских приказов и писем, принесших максимальное количество дел и доходов под их контроль. Одновременно новый казначей, Уолтер Степлдон, епископ Экзетерский, осуществил реформирование в казначействе и его регистрирующих методах, чтобы усилить права Короны и ускорил обустройство счетов: «чтобы разбирать дела нашего народа более быстро для их спокойствия и нашей выгоды»[243], как говорит предписание. Именно этому аккуратному прелату, построившему прекрасный неф Экзетерского собора и основавшему Экзетерский колледж в Оксфорде, Англия была обязана перекомпоновке памятных свитков казначейства. Этот институт должен был стать утверждением силы и целостности английской административной системы в то беспокойное время.
О том, в какой мере страна нуждалась в твердой руке, можно судить по записям лондонских коронеров. Люди прибегали к силе по самому пустячному поводу. В понедельник 19 октября 1321 года, во время вечерни, оруженосец графа Арундела по имени Томас Черч, ехавший верхом вместе с компанией по Теймз-стрит, сбил с ног женщину с ребенком на руках. Из-за того что носильщик попросил его ехать осторожнее, Черч обнажил свой меч и, нанеся человеку смертельный удар, умчался прочь, прежде чем прохожие смогли задержать его. Несколькими неделями позже лавочник с Броуд-стрит, разбуженный в полночь проходящим мимо гулякой, нанес ему сильный удар по голове своим посохом и оставил умирать на улице. Другой житель Лондона запустил ломом в бродячего певца, мешавшего ему спать, и сам был убит ножом, который убегавший музыкант всадил ему в грудь. А уличный торговец морскими угрями, выкинувший кожицу на дороге напротив домов двух купцов на Кордвейнерс-стрит, был забит до смерти, когда упал во дворе церкви Святой Марии ле Боу, где попытался укрыться от преследователей. Группы подмастерьев и студентов-юристов сражались на улицах мечами; заключенные совершали массовые побеги из тюрем; в графствах магнаты оружием запугивали монашеские собрания, дабы те выбрали кандидата на ту службу, которая им нужна; на барона Казначейства напали и убили на главной королевской дороге. Хотя все эти случаи характеризовали привычную для той эпохи жестокость, беспорядки с каждым днем становились все сильнее. Так же, как и готовность людей обмануть Корону и силой лишить соседей их прав. В средневековом государстве, когда король был слишком слаб или не способен управлять, анархия всегда была реальной угрозой.
* * *
Попытки Деспенсеров восстановить экономику и порядок в государстве не принесли им популярности в Англии. Гордые аристократы, с детства не расстававшиеся с оружием, могли стерпеть власть только одного человека – короля. Если же слабовольный король отдавал бразды правления фавориту, то, будь это выскочка, как Гавестон, или наследственный магнат, как Деспенсер, этот королевский любимец обязательно вызывал ненависть. Король должен был править лично, если не хотел спровоцировать раскол в королевстве. Внешне Эдуард для своего народа воплощал идеальный образ монарха: величественной фигурой он напоминал своего отца. Несмотря на все проблемы, столь часто возникавшие во время его правления, он все еще был весьма популярен среди простых людей, чьим грубоватым развлечениям он так любил предаваться в своем хартфордширском убежище, и которые были столь далеки от него, что не могли осознать его неадекватность. Но те, кто ежедневно общался с королем, видел или слышал рассказы о его ребяческом, легкомысленном и недостойном поведении, были глубоко потрясены, ведь для средневекового человека почти непоколебимой была вера в наместника Бога на земле – короля. Начали распространяться слухи о том, что Эдуард был незаконнорожденным или же подменен в детстве. Начала быстро расти ненависть к фавориту и к непристойной страсти его господина. Говорили, что одного короля было достаточно, а трех – уже чрезмерно.
Хотя оппозиция молчала, требовалось только время и благоприятная возможность, чтобы противоречия обострились. Управление стало тираническим; никто не смел противостоять королевским желаниям, отмечал хронист из Малмсбери. Исполняя функции правосудия, Деспенсер совершал самые серьезные мирские преступления, характерные для средневековья, лишал наследства на землю незаконными способами, «не испрашивая согласия на то пэров этих земель». Осенью 1323 года с помощью своих друзей, опоивших тюремщиков, из Тауэра по веревочной лестнице сбежал один из самых опасных его врагов, Роджер Мортимер Уигморский, и затем нашел убежище во Франции. Примерно в это же время до Эдуарда дошел призыв от нового французского короля, Карла IV, требовавшего от английского короля принести оммаж за его фьефы Гасконь и Понтье. Как и раньше, сложность возникла из феодальных взаимоотношений, которые не являлись проблемой до того, как начали развиваться национальные чувства во Франции и Англии. Английский король не мог заставить себя признать, что его суверенитет над французскими провинциями, унаследованными от его предков, был менее абсолютным, чем над всем его королевством, а его французский кузен и его министры равно твердо решили расширить свое господство над всеми до сих пор независимыми фьефами, которые по географическому и языковому признакам были частью Франции.
После беседы со своим советом Эдуард добился шестимесячной отсрочки, упирая на то, что он не может спокойно покинуть свое королевство в его нынешнем нестабильном состоянии. Но к тому моменту, когда он должен был появиться в Амьене, чтобы принести оммаж, в Гаскони возникла ситуация, идентичная той, что привела к войне между Францией и Англией во время правления его отца. Зимой 1323-1324 годов, предав огню новый французский форт и повесив французского барристера за вторжение в свою юрисдикцию, сэр Ральф Бассет, английский сенешаль Гаскони, не ответил на призыв французского короля явиться в суд города Тулузы, чтобы держать ответ за свое нарушение норм права. Когда в июле 1324 года английский посол в Париже отказался выдать преступного сенешаля и попросил дальнейшей отсрочки принесения оммажа, французский король поступил так же, как и его отец тридцать лет назад, объявив Гасконь и Понтье конфискованными в соответствии с феодальным правом и послал армию в Ажене и другие районы герцогства. Французские каперы и слабость военно-морского флота помешали Эдуарду выслать подкрепление своим гарнизонам, поэтому все, что он мог сделать в своей бессильной ярости, – арестовать французских торговцев в Англии и освободить от своих обязанностей французских слуг своей жены. К сентябрю его сводный брат, граф Кента, был вынужден сдать Ла Реоль и согласиться на шестимесячное перемирие, чтобы спасти то, что осталось от Гаскони.
Супружескую жизнь Эдуарда и Изабеллы трудно назвать идиллической. Королева сильно переживала по поводу его страсти к Деспенсеру. Их взаимоотношения были так натянуты, что поговаривали даже, что «король носит нож в рукаве, чтобы убить королеву, и говорили, что если бы у него не было никакого оружия, он загрыз бы ее собственными зубами». Уволив ее придворных дам и поставив на их место жену своего фаворита, Эдуард окончательно испортил отношения с Изабеллой.
Но все же она была сестрой французского короля, поэтому Эдуард и Деспенсеры приняли предложение папского нунция послать ее во Францию, чтобы умолять о возвращении земель. Изабелла ухватилась за возможность спастись от своего унизительного положения. Однако все, чего она добилась, было продление перемирия до лета 1325 года. Таким образом, король Карл не только удерживал в своих руках Ажене в ожидании решения своего суда, но настаивал на личном присутствии Эдуарда или же его четырнадцатилетнего наследника при принесении оммажа за оставшуюся часть Гаскони. И так как, опасаясь за безопасность своего столь непопулярного фаворита, Эдуард не мог покинуть страну, молодой принц был послан во Францию, чтобы получить урезанный фьеф своего отца. Оттуда его мать отказалась отпустить его домой, тем самым бросив вызов Эдуарду и его министрам.
Поступив таким образом, королева положила начало мятежам в Англии. Все жаждали свергнуть Деспенсеров и все обратились против короля. В Понтефракте деревенские жители собрались у могилы Томаса Ланкастера, который спустя три года после своей неоплаканной смерти стал популярным мучеником; начали появляться слухи о чудесах, свершаемых у его мощей, и даже появились требования канонизировать графа[244]. Даже больше чем алчность и деспотизм королевского фаворита, страну шокировала его безжалостность. В парламенте в конце года от имени «общины» представлялись жалобы на незаконное заключение в тюрьму, коррупцию, деспотические лесные законы и серьезные ошибки правосудия; особенно сильное негодование вызывал обычай оставлять тела повешенных мятежников на неограниченно долгое время без христианского погребения. В Париже изгнанники-англичане стекались ко двору королевы, среди них был и Роджер Мортимер, который вскоре стал не только ее советником, но и любовником. И хотя это вызвало такой скандал, что после протеста со стороны папы Изабелле пришлось покинуть Париж и искать прибежища в Геннегау, это сыграло ей на руку. Ведь там она обрела даже более благоприятную базу для своей кампании против мужа, предложив графу Геннегау, который также был правителем Голландии и Зеландии, выдать замуж его двенадцатилетнюю дочь Филиппу за ее сына, будущего английского короля, в обмен на корабли, людей и деньги, необходимые для вторжения в Англию.
Когда новости о случившемся достигли Эдуарда и Деспенсеров, они приказали привести в состояние защиты морские границы и прибрежные замки и созвать военные комиссии. Но они не посмели созвать войско, так как знали, что бароны пойдут против них. Даже граф Кента и кузен Эдуарда граф Ричмонда встали на сторону королевы. Когда в сентябре 1326 года Изабелла и Мортимер приплыли из Дордрехта в сопровождении английских изгнанников и гегенаусцев, жителями Пяти портов не было предпринято ни одной попытки перехватить их, так как они ненавидели фаворита, которого король сделал их наместником. Высадившись в Оруэлле, завоеватели без всяких препятствий дошли до Бери Сент-Эдмундс и Кембриджа, где к ним присоединилось большое число магнатов и джентри, включая старшего сводного брата короля, Томаса Бротертона графа Норфолка, Генриха «Кривая Шея» – брата и наследника казненного графа Ланкастера, – и Адама Орлетона, епископа Херефордского, старого противника королевской власти. В то время Эдуард и Деспенсеры ретировались в Тауэр, откуда сыпали прокламациями с требованиями национального объединения и предложениями награды за голову Мортимера. Но никто не обращал на них ни малейшего внимания, и в середине октября, обнаружив, что «все люди королевства» примкнули к их врагам, они бежали на запад. 11осле чего поднялась лондонская чернь, схватившая последнего казначея, епископа Экзетера Степлтона, и обезглавившая его ножом мясника на мостовой Чипсайда.
К концу месяца армия королевы прибыла в Глостер, где к ней присоединились валлийские маркграфы и северные лорды. Несколькими днями позже с помощью жителей города Мортимер захватил Бристоль, где старший Деспенсер искал убежища. Представ перед своими собратьями-магнатами, он был приговорен к немедленной смерти. Ему сказали следующее:
«Этот суд не дает тебе никакого права защищаться, потому что ты сам создал такой закон, когда человек может быть приговорен без права оправдаться. Теперь этот закон относится и к тебе, и твоим приверженцам. Ты – объявленный вне закона предатель, так как прежде ты был изгнан с одобрения короля и всего баронства... Силой и против закона этой земли, присвоив себе королевскую власть, ты советовал королю лишить наследства и уничтожить его вассалов, и в особенности Томаса Ланкастерского, которого ты казнил безо всякой на то причины. Ты – разбойник и подверг жестокому разграблению эту землю, но коей причине все люди просят мести. Ты предательски посоветовал королю уничтожить прелатов Святой Церкви, не позволяя ей пользоваться должными свободами. Посему суд выносит приговор: четвертовать за измену, повесить за грабительство, обезглавить за злодеяния против Церкви; и голову послать в Винчестер, коего, против закона и разума, ты был сделан графом... И так как твои преступления опорочили рыцарское достоинство, суд приговаривает тебя к повешению в мантии, украшенной твоими гербами и к тому, чтобы твой герб был уничтожен навсегда»[245].
Это был опасный прецедент, но последовавший за ним был еще опаснее. 16 ноября Ланкастер захватил короля и Хью Деспенсера в Нитском аббатстве, где они нашли убежище после неудачной попытки бежать по морю. На следующий день Деспенсера, которому, как и его отцу, запретили говорить что-либо в свою защиту, повесили, вздернув на высоту в пятьдесят футов. В это время его высокого покровителя под охраной отправили в замок Кенилуэрт. Там он находился до начала следующего года, когда парламент, созванный именем его сына, герцога Аквитанского, собрался в Вестминстер-холле. Слушания открыл епископ Херефордский, который, объявив, что жизнь королевы не может быть в безопасности в руках ее мужа, спросил у магнатов и представителей королевства, кого они хотят в короли, отца или сына. Напуганные толпой лондонских жителей в зале, друзья короля промолчали, за исключением четырех храбрых прелатов: его старого слуги архиепископа Йоркского Уильяма Мельтона, Лондонского Стефена Грейвсенда, Рочестерского Гамо Хита и Карлайлского Джона Росса. Затем в зал ввели принца и указали на него с криком: «Вот ваш король!»
Сделав персонифицированную монархию законно неуязвимой, разработчики Йоркского статута оставили представителям нации только одно средство в случае, если король нарушит свободы подданных, – свергнуть его. Основанием для смещения Эдуарда, как записано в обвинительных статьях, стала его некомпетентность в делах управления государством, а также то, что им управляли другие люди, дававшие ему плохие советы, и то, что в течение своего правления он был неспособен выслушать и принять разумный совет, что он предавался недостойным занятиям, пренебрегая нуждами королевства, и из-за недостатка хорошего управления потерял Шотландию, а также территории в Гаскони и Ирландии, которые его отец оставил своему наследнику в полном порядке. «Он, – говорилось, – разделил свое королевство и сделал все, что мог, чтобы привести к краху свой... народ. Но, что хуже всего, из-за своей жестокости и слабоволия он показал себя неисправимым и безнадежным к исправлению»[246].
Однако те, кто настаивал на смене правителя, – и, казалось, в тот момент в их число входила почти вся нация, – желали добиться этого законными методами. Однажды прибегнув к силе, они теперь искали способ прикрыть это покровами законности. Но короля можно было официально свергнуть только с его собственного согласия. И когда Орлетон и еще один епископ явились к Эдуарду в Кенилуэрт, чтобы просить его «согласиться со справедливым предложением из уважения к Короне», озлобленный одинокий узник отказался, проклиная их как предателей. Только пять лет прошло с тех пор, как Йоркский парламент постановил, что любое дело, касающееся королевского имущества и власти, должно быть утверждено и введено лично им в парламенте. В английском праве не существовало такого понятия, как парламент без короля. Но тех, кто твердо решился на его свержение, ничто не могло удержать. Еще один раз делегация проехала по грязным дорогам в Кенилуэрт, чтобы побеседовать с царственным пленником. Запуганный угрозами, что, если он не пойдет на уступки, народ коронует любовника его жены вместо сына, несчастный, стеная, согласился. Делегация вернулась в Лондон с королевской эмблемой, и 25 января 1327 года было провозглашено новое царствование.
Когда, «говоря от имени графов и баронов королевства Английского» в качестве «поверенного всех на этой земле и всего парламента», сэр Уильям Трассел Питлингский провозгласил присягу, принесенную народом на верность Эдуарду II, аннулированной, в парламентской истории началась новая глава. Однако без королевского присутствия ни суд, ни какое-либо другое законодательное собрание, в частности парламент, который даже не был официально утвержден, не могли фактически свергнуть одного короля и возвести на трон другого. Хотя один под давлением отрекся от трона, а другой был его официальным преемником, предписание о коронации юного короля показало, что произошло. «Графы, магнаты и почетные граждане, – говорилось в нем, – должны собраться вместе в королевском суде, чтобы обсудить выборы нового принца и подтвердить законы и обычаи королевства». Когда они обо всем договорятся, они должны были единогласно провозгласить его и «прославлять его со всей почтительностью и благоговением, как обычай королевства» велит. Затем, подняв его и усадив на трон, все еще не одетого в мантию, без шпор и короны, четверо из графов должны были оповестить духовенство о его избрании и сообщить, что «так как он был избран народом, то можно помазать его на царство»[247]. Впервые введенный на коронации Эдуарда II и теперь вновь исполненный в присутствии представителей плебса на собрании, избравшем его наследника, ритуал Возвышения (rite of Elevation), последовавший за обрядом Признания (Recognition), символизировал зависимость короля от его народа и участие сообщества в «regnum» или управлении государством.
* * *
Имея молодого короля под своим попечением, его отца – в заточении, королева и Мортимер теперь столкнулись с проблемами, которые Эдуард II не смог решить. Чтобы получить поддержку производителей шерсти, Деспенсеры, стремясь завоевать популярность, перенесли в Англию рынок экспортируемой шерсти, который был основан Эдуардом II в Нидерландах; теперь он был вообще отменен. В то же время во Францию были отправлены послы, чтобы заключить договор с братом Изабеллы, королем Карлом. Согласившись на все, о чем он просил, вопрос о королевских фьефах и оммаже за них был решен следующим образом: французы сохранили Ажене и другие земли, которые они захватили к северу от Гаронны, а английский кроль согласился выполнять решения французских судов в случае возникновения споров или, при несоблюдении данных обязательств, выплатить штраф в 50000 марок. Принимая все это во внимание, французский король возвратил своему племяннику Понтье и прибрежную полосу между Бордо и Байонной – все, что осталось от некогда огромных владений Алиеноры Аквитанской.
Кроме того, нерешенным оставался вопрос Шотландии. Смещение Эдуарда II сделало необходимым продление перемирия, ибо в таком случае король не мог обязывать к перемирию своего преемника. Со столь уязвимыми северными пределами англичане очень нуждались в мире. Однако они еще не были готовы признать Брюса королем. Когда вновь провозглашая мир на границе, они обратились к «Роберту Брюсу и его приверженцам», шотландцы, ухватившись за нанесенное оскорбление, нашли предлог для новых набегов. Даже Мортимер не мог позволить себе проигнорировать такую провокацию. И в апреле 1327 года феодальному воинству было приказано собраться летом в Ньюкасле под номинальным командованием пятнадцатилетнего короля.
Это был первый и неудачный опыт войны царственного отрока. Начался он с националистического мятежа в Йорке против наемников из Гегенау, которых привела с собой королева Изабелла. Пока король пировал с их графом и своими чиновниками, на улицах разразилось сражение между чужеземными придворными и пажами и английскими лучниками. Когда появились гегенаусские рыцари, чтобы прийти на помощь своим людям, их встретил град из стрел, заставивший искать укрытия в своих домах. И они не чувствовали себя в безопасности, «пока, – как записал один из них, – они не высадились в Виссанте в своей стране».
Когда, наконец, вооруженные новым оружием – маленькими «военными кростелями» или пушкой – королевское войско отправилось в Нортумберленд, оно ни разу не приблизилось к шотландцам на расстояние выстрела. Со своими бесстрашными, посаженными на лошадей людьми, питавшимися овсяным толокном, которое было приторочено к седлам, Дуглас и Рэндолф увлекали за собой англичан от одной неприступной позиции к другой по местам, которые гегенаусский хронист, Жан Красивый, описывал как «дикую и нецивилизованную страну, полную пустошей и гор, бедную всем, за исключением зверья, по которой протекает река, полная кремния и огромных камней, называемая Тайн». Когда, подражая своему сопернику, английские рыцари приторочили хлеба к своим седлам, обнаружилось, что лошадиный пот сделал их непригодными к пище. Роскошно экипированная армия Эдуарда на брюхе ползла по долинам; захватчики же мелькали среди холмов, как олени. Когда, идя за следом из дыма горящих ферм и деревень, англичане подумали, что они вот-вот настигнут своих невидимых врагов, Дуглас ночью напал на их лагерь с двумястами дикими горцами, кричащими: «Дуглас! Дуглас! Вы все мертвы!», но в суматохе не сумел захватить короля в его палатке. Однако когда на следующий день англичане заняли лагерь шотландцев, все, что они обнаружили там, – кости украденного скота и пять пленников со сломанными ногами, привязанных к деревьям. Молодой Эдуард был так подавлен своей неудачей, что разрыдался.
Дожди в вересковых зарослях довершили начатое. После трехнедельной кампании и недели продолжительных ливней, полностью промокшие англичане отправились на юг, ворча в бессильной ярости – как назвал это хронист, «с большим ропотом». Вслед за тем Дуглас осадил Дарем. А три недели спустя сам Брюс присоединился к своему лейтенанту для последнего славного рейда в Англию. К этому времени он тяжело заболел, и, как считалось, умирал от проказы. И пока Дуглас и Рэндолф осаждали Алник и Норгем, он охотился в Нортумберленде, как если бы это были его личные владения. Когда Генрих Перси, наместник марок, ответил на это набегом на Тевиотдейл, Дуглас преследовал его до дома, как оленя.
В сентябре умер король, которого четырнадцать лет назад Брюс разбил при Бэннокберне. Весной взятого из-под благосклонной опеки его кузена, Генриха Ланкастера, короля перевозили из крепости в крепость наемные головорезы – в Глостер, Беркли, Корф и обратно в Беркли. Его поместили над помойной ямой, заполненной зловонными отбросами, и ежедневно осыпали насмешками, надев на голову соломенную корону и обзывая сумасшедшим. Однако благодаря физической крепости, унаследованной от Плантагенетов, его здоровье не ухудшилось. Осенью же, боявшаяся того, что церковь может принудить ее вернуться к мужу, королева позволила своему любовнику положить конец отвратительному фарсу. Несколько ночей спустя пугающие крики агонии эхом разносились по замку Беркли. Никаких увечий не было найдено на теле бывшего короля, но после того как его доставили в Глостерское аббатство для погребения, распространились слухи, что его убили посредством раскаленного железа, которое было влито ему во внутрь через специальный рог и выжгло его кишки.
Примерно в это же время в Линкольне собрался парламент, чтобы обсудить способы сбора денег на шотландскую войну. Унижения, понесенные во время кампании, и счет за наемников из Гегенау, этого оказалось слишком много даже для английского упрямства. В начале октября тайно были отправлены посланники в лагерь Брюса в Норгем, чтобы узнать о его условиях мира.
Шотландский король и знать были непреклонны: только полное и безоговорочное признание. В феврале 1328 года сотня шотландских рыцарей доставила на заседание английского парламента в Йорк условия, записанные в Холирудском аббатстве в присутствии Брюса, как считалось, епископом Ламбертоном. Весной, скрепленный печатями двух королей и одобренный в дальнейшем парламентом, Нортгемптонский договор дал шотландцам все, за что они сражались. «С тех пор как мы и некоторые из наших предков, – начиналось официальное заявление английского короля, – пытались получить право на управление или господство над королевством Шотландия, из-за чего как ужасные опасности войн долго беспокоили королевства Англии и Шотландии, помнящие кровопролития, смерти, злодеяния... так и неисчислимые бедствия, каковые нанесли вред обоим королевствам, мы признали, с общего согласия прелатов, магнатов, графов и баронов, а также простых людей нашего королевства в нашем парламенте, что королевство Шотландия, в его законных границах,...остается во владении величественного князя, лорда Роберта, милостью Божией прославленного короля шотландцев, нашего самого дорогого друга и союзника, а также его наследников и преемников, отдельно от королевства Англии, целым, полностью свободным от любого подчинения, притязаний и требований».
Все хартии или соглашения, подвергающие сомнению независимость Шотландии, объявлялись несущественными и недействительными. Все государственные документы, «затрагивающие подданство Шотландии королю Англии», должны были возвратиться Брюсу[248], и, в обмен на компенсацию в Ј 20000, семилетняя сестра английского короля, Джоанна Тауэрская, должна была выйти замуж за пятилетнего сына шотландского короля, Давида.
Около сорока лет прошло со смерти Норвежской Девы и Бригемского договора и около четверти века со смерти Уоллеса, бросившего вызов мощи завоевателя. После многих лет войны Брюс закончил начатое дело и освободил свою страну. Он умер год спустя, 7 июня 1329 года, в своем любимом охотничьем дворце в Кардроссе на Клайде. Его тело бальзамировали и везли дорогой через Лох Ломонд и Камбускеннетское аббатство, мимо места его величайшей победы, при Дамфермлайне, где и положили среди шотландских королей. В соответствии с обетом крестоносца, его сердце, помещенное в серебряную шкатулку, было передано его старому лейтенанту, Дугласу, дабы тот похоронил его в Святой Земле. Но по пути туда, Дугласа, не способного отказаться от участия в войне, король Кастилии убедил присоединиться к нему в нападении на мавров в Гранаде. Там, смертельно раненный и окруженный толпами неверных, он швырнул сердце Брюса прямо в середину войск врага с криком: «Иди первым, как ты и должен был идти». Спасенное и возвращенное в Шотландию, сердце было погребено в аббатстве Мельроз.
Глава VI ПЕРО СЕРОГО ГУСЯ
Не ружья были тогда в ходу,
Они и не мечтали об этом;
Наши англичане в бою держали
Красивое крыло серого гуся.
И с прекрасным крылом серого гуся
Они показали им такую игру,
Что заставили их коней метаться и брыкаться
И сбрасывать своих седоков.
Старинная балладаНочью 19 октября 1330 года, спустя три года после убийства Эдуарда II, отряд вооруженных людей безмолвно пересек внутренний двор Ноттингемского замка. Впущенные двумя придворными молодого короля через тайную галерею подо рвом, они шли к покоям королевы-матери, где раздевался перед сном ее любовник, ненавистный диктатор Мортимер.
Свергнув Деспенсеров и избавившись от слабовольного импульсивного правителя, англичане обнаружили, что променяли правление одного безжалостного маркграфа на другого. Когда после двадцати лет плохого правления Эдуарда II заставили отречься от престола, казалось, что был утвержден великий принцип управления. Впредь ни один королевский фаворит не мог забыть о том, что пока королевские министры были обязаны своей властью его воле, они отвечали перед Короной и законом королевства, установленными и интерпретируемыми королем, действовавшим не в изоляции или посредством безответственных фаворитов, но с совета и всеобщего обсуждения его «прирожденных советников» и представителей общества в парламенте. В своем печальном путешествии в замок Беркли, коронованный соломой и умытый стоялой водой, осыпаемый насмешками своих тюремщиков, свергнутый король, который презирал это правило, оказался без друзей и бесправнее любого из самых бедных своих подданных.
Хотя англичане бунтовали не против наследственной монархии, но против неспособного к управлению человека, носящего корону, как требовал того обычай и правосудие. Вскоре после того как Эдуард был убит, его провозгласили мучеником, а его могила в Глостерском аббатстве стала местом паломничества. И весь народ теперь обратился против алчного лорда Ладлоу, узурпировавшего постель своего бывшего господина и, получая одно баронство за другим, управлявшего Англией через свою госпожу и удерживавшего ее сына, короля, своим пленником. Мир, который он заключил с Шотландией, – «постыдный нортгемптонский договор» – воспринимался как предательство народа, а обширные земельные дары, которые он получал от королевы, – как цена за измену. Несколько месяцев спустя после убийства в Беркли, к недовольству его собратьев-маркграфов, он взял себе гордый титул графа Марча. Объявляя себя потомком легендарных героев британского рыцарства, Артура и Брута Троянского, возведенный на престол благодаря королеве, он занимал положение короля. «Он, – говорили, – удостаивает вниманием тех, кого любит, позволяет королю стоять в его присутствии и надменно гуляет рядом с ним».
Никто не чувствовал это острее молодого Эдуарда III. Мортимер и королева-мать принудили юного короля отказаться от претензий на Шотландию. Он также терпел унижения от своего французского кузена. В год его вступления на престол смерть не оставившего после себя наследника мужского пола Карла IV, его дяди, положила конец старшей линии дома Капетингов, управлявшего Францией в течение трех с половиной веков. Как единственный оставшийся в живых ребенок Филиппа Красивого, отца последнего французского короля и его двух братьев-предшественников, Изабелла осталась ближайшей непосредственной наследницей. Но чтобы избежать опасности управления государства женщиной, французские королевские юристы восстановили древнее салическое право франков отказывать женщине в праве на корону. И хотя Эдуард объявил, что этот салический закон не препятствует сыну Изабеллы получить корону, это заявление было отклонено в пользу его кузена, Филиппа Валуа, сына младшего брата Филиппа Красивого. Это было неизбежно, так как французская аристократия никогда не допустила бы правления английского суверена. И в любом случае требование Эдуарда было исключительно гипотетическим, так как оно могло быть аннулировано – что и произошло несколько лет спустя – рождением сына у его молодой кузины Жанны, дочери Людовика X, старшего брата королевы Изабеллы. Но гораздо больше терзало Эдуарда то, что после того как его кузен Валуа взошел на престол, его заставили принести оммаж в Амьенском кафедральном соборе за наследственные фьефы, несмотря на тот факт, что они были несправедливо лишены Ажене и земель средней Гаронны по унизительной сделке, которую Мортимер и королева заключили с последним французским королем.
Летом 1330 года Эдуард, которому было уже почти восемнадцать, стал отцом. Спустя год после коронации в Йоркском кафедральном соборе состоялась его свадьба с Филиппой Геннегаусской – «прекрасным созданием, зеркалом своего пола, которой едва исполнилось четырнадцать», – влюбившейся в него, когда ои приезжал ко двору ее отца два года назад. Грация и шарм молодой королевы только подчеркивали непопулярность ее свекрови и Мортимера, которых теперь все считали цареубийцами и узурпаторами. Но хотя все надеялись, что молодая пара избавит страну от ненавистного диктаторства, Мортимер не был тем человеком, который позволит власти выскользнуть из его рук. Со своей валлийской охраной (людьми того сорта, что совершили убийство в Беркли) он держал короля под непрестанным надзором. Когда в 1329 году граф Ланкастера – брат старого врага Эдуарда II и самый богатый человек в Англии – попытался разорвать мертвую хватку Мортимера, угрожая выдвинуть против него обвинения в парламенте по поводу его договора с Шотландией, диктатор отомстил, опустошив земли Ланкастера, захватив принадлежавший графу городок Лестер и заставив его ради спасения собственной жизни отдать половину имений. Год спустя Мортимер предотвратил еще одну попытку его свергнуть сводным братом убитого короля, графом Кента. Введенный в заблуждение, что его брат до сих пор жив и находится в замке Корф[249], граф был арестован по обвинению в предательской переписке и, после тщетного прошения о помиловании, обезглавлен в Винчестере.
К осени те, кто ненавидели и боялись Мортимера, были доведены до отчаяния. Они знали, что за ними наблюдают, и решили нанести удар первыми. «Лучше, – сказал один из них, – съесть собаку, чем быть съеденным ею». Случай представился во время собрания Совета в Ноттингеме. Молодые лорды и рыцари, включая брата констебля, графа Херефорда, и представителей большинства крупных феодальных родов, с молчаливого согласия короля проникли в замок. Проигнорировав мольбы королевы Изабеллы: «Пощадите благородного Мортимера», они схватили его и в кандалах отправили в Тауэр. Его судили пэры – «судьи парламента», вынесшие такой же приговор, какой Мортимер вынес Деспенсерам. Ему запретили защищаться и приказали проволочь его на бычьей шкуре к месту четвертования под вязами в Смитфилде, «такое же средство, какое он определил другим, было применено к нему самому»[250].
В восемнадцать лет Эдуард стал, наконец, полноправным королем. Он многое снес. Когда четыре года назад он вернулся в Англию, это было время национального позора, затмения и разлада, при обстоятельствах, которые для него, должно быть, были особенно ужасными. За несколько месяцев правления жестокий любовник его матери убил его отца. Прикрываясь его именем, правил тиран. Обнаружив, что один из его родителей является орудием деспотичного и беззаконного маркграфа, он увидел, что другая стала рабой еще более худшего. Оба принесли королевской власти дурную репутацию, а нацию привели на край гражданской войны и анархии.
Когда на коронации Мортимер и другие магнаты обмыли юного короля и облачили его в безупречно чистое одеяние, прежде чем представить его народу, мальчику это, должно быть, казалось насмешкой надо всем, что означала королевская власть. В своем триумфе над его безответственным и некомпетентным отцом они уничтожили почти все, что сделали нормандские короли и Плантагенеты для объединения и укрепления королевства. В средневековом государстве при стабильном правительстве и правосудии никогда не мог возникнуть мятеж. Как бы ни была велика роль парламента в сохранении национальной традиции всеобщего обсуждения и совета, во времена, когда монархия, с ее растущей и усиливающейся эффективной бюрократией, угрожала стать деспотией, собрание феодальной знати не могло управлять государством. Как доверенное лицо исполнительной власти, оно было не способно контролировать своих собственных членов или стать чем-то большим, чем живущей в раздорах олигархией. Чтобы эффективно управлять нацией, чьи различные интересы представляло это собрание, был необходим король, способный управлять.
Всю свою юность Эдуард и был таким королем. Как и его прадед, он был рожден править. С детства потомок Плантагенетов видел фатальные последствия разрыва между сувереном и лордами, посредством которых осуществлялось в основном управление феодальным государством. Он осознал, что без помощи лордов невозможно правление Англией. Лишь с механизмом взаимодействия судей, клерков канцелярии и Гардероба, шерифами, исчиторами, коронерами, констеблями и милицией сильное королевское правительство могло предотвратить анархию. Но без сотрудничества с феодальными магнатами и их судами и слугами королевство не могло бы добиться единства внутри себя самого. В эпоху, когда путешествие из Лондона в Йорк занимало почти неделю, передача полномочий местным властям была необходима. Как показала попытка навязать это Шотландии и Уэльсу, централизация в XIV веке не давала ни свободы, ни порядка.
После столкновений и трагедий последних сорока лет был необходим компромисс: согласие между королевской властью и правами подданных. Осознать и принять это – было высочайшей заслугой прозорливого молодого короля, примирившего английское общество. Поступив таким образом, он сохранил для своей страны сильную монархию своих предков. Спустя несколько недель после того, как он принял контроль над королевством, Эдуард провозгласил, что в основе его правления будет сотрудничество. «Наши дела и дела нашего королевства, – писал он шерифам, – в прошлом решались к ущербу и позору нашему и нашего королевства, а также к обнищанию наших людей. Мы хотели бы, чтобы все люди знали, что в будущем мы будем управлять в соответствии с правами и здравым смыслом, что подходит нашему королевскому достоинству. И что дела, которые затрагивают нас и имущество нашего королевства, должны рассматриваться общим советом магнатов нашего королевства и никак иначе»[251].
В Эдуарде одновременно сочетались реализм и романтизм. Отважный, красивый, магнетически привлекательный, выдающийся участник турниров, воплощавший образец рыцарского поведения, он воплощал все те качества, которыми восхищались молодые аристократы, окружавшие его. Его супруга, выросшая в славившихся своим изяществом и цивилизованностью дворах Фландрии, была идеальным партнером для такого правителя. На четверть века она стала законодательницей английской моды. О ней говорили, что она «предопределяла и изменяла каждый год различные формы одежд: длинных и широких,... а в другой раз коротких и обтягивающих, волочившихся по земле и обрезанных со всех сторон, с разрезами, рукавами и капюшонами». Она покровительствовала ученым и художникам. Ее соотечественник Фруассар, хронист рыцарства XIV века, некоторое время был ее секретарем, описывая ее, как «благородную и храбрую леди», а ее капеллан, Роберт де Эглзфилд, основал Квинс Колледж в Оксфорде в ее честь.
Благородный, импульсивный, щедрый, не мешкавший ни в любви, ни в ненависти, своим мальчишеским шармом покорявший сердца воинов и прекрасных женщин, Эдуард III был идеалом рыцарства и представлял кодекс рыцарского поведения и манер, известный как куртуазность, которая родилась при франкоговорящих дворах западного христианского мира. За несколько месяцев до того как он со своими соратниками совершил переворот, устранив Мортимера, они вместе участвовали в турнире в Чипсайде, на который, одетые татарами, и, увлекая за собой на серебряной цепи женщину в одеянии из бархата цвета рубина, проследовали верхом по улицам Лондона под звуки труб к арене, вызывая каждого проходящего на бой. В эпоху, когда для большей части людей жизнь была жестокой и безрадостной и, даже для немногих избранных, полной опасностей и неопределенностей, принцы и крупные лорды, которые могли позволить себе такие пышные зрелища, любили изображать, нарядившись в дорогостоящие одеяния, легенды воображаемого прошлого. Великолепный в доспехах, украшенных геральдическими символами, Эдуард казался молодой английской знати воплощением своего героя, короля Артура. Именно таким он сам видел себя – коронованным вождем братства христианских рыцарей.
В аристократическом обществе копья, знамени, геральдического щита и мантии, над которым главенствовал король, долгие, многословные сказания о легендарных деяниях Артура и его рыцарей были излюбленным чтением каждого лорда и каждой леди. Принесенные из темных времен кельтскими бардами и культивируемые последующими поколениями, эти истории, фоном которых были великаны, волшебники, зачарованные леса и волшебные источники, и на этом фоне жили героические рыцари с красивыми именами, вызывавшие на бой врагов неимоверной силы и спасавшие принцесс несравненной красоты. Эти сказки, пришедшие из родового общества, представляли своих героев образцами добродетелей цивилизации, которые освоило воинственное общество завоевателей-нуворишей благодаря влиянию церкви на кровожадный кодекс поведения своих предков. Столь лелеемым идеалом рыцарства стали жестокие всадники, которые победили при Гастингсе и своими мечами создали молодые королевства Западной Европы. Так что о паладинах двора Артура судили «почтенно» – используя артурианское выражение – не только по их подвигам на поле битвы, но и по их верности определенными правилам поведения, далеко ушедшим от кодекса поведения франкских воинов. Отвага в бою и преданность феодальному сюзерену до сих пор оставались основными добродетелями, а измена – самым презренным преступлением. Но на место старого губительного закона племенной мести и кровавой анархии, когда сила всегда права, пришел детально разработанный кодекс рыцарства и даже, в узких рамках своего класса, понятие благородства и дружеской нежности к своим товарищам, милосердия и великодушия в победе, верности клятве и изящных манер. Ну а превыше всего – то, что добавили к легендам о временах Артура трубадуры южной Франции, – чувства и отношение к женщине, которых никогда не знал языческий мир. Постоянство по отношению к одной даме – ибо именно в этом и заключалась куртуазная любовь, которую идеализировали трубадуры, предпочитавшие ее браку, – и преданное служение даме составляли ту самую добродетель, которой обязан был владеть рыцарь Круглого Стола короля Артура, как гласили легенды о странствующих рыцарях. В королевстве Логров – как называли Британию времен Артура во французских рыцарских романах – «если рыцарь встречал одинокую девушку или несчастную даму, и он берег свое честное имя, он не мог обойтись с ней бесчестно, или же должен был перерезать собственную глотку».
Легенды о короле Артуре, которые бродячие менестрели пели в затянутых гобеленами залах маркграфов, в замках Иль-де-Франса и бывшей Анжуйской империи, создали образ идеального правителя, неотразимо притягательного для романтического молодого суверена, каким был Эдуард III. Он казался талисманом, решающим все проблемы королевства, пережившего гражданскую войну и анархию. Героический, неутомимый, чувствительный, великодушный к своим врагам, вызывавший у всех, кто служил ему, восхищение и преданность, Артур был идеалом средневекового короля – «короля, которому рады были служить все истинные рыцари,...щедрым по отношению ко всем, рыцарем по отношению к лучшим,...юноше – отцом, старику – утешителем... Несправедливость претила его сердцу, а справедливость была всегда мила». Те, кто принимал его порядки, пировал вместе с ним за круглым столом, «Артуром было предписано, что, когда братство сядет к столу, их кресла должны быть равной высоты, их служба одинаковой и никто не должен следовать перед или после своего товарища».
Этот идеал, правда, не относился к тем, кто не входил в это сообщество наследственных воинов[252]. В своем тесном кругу его члены гордились своими привилегиями и обязанностями. Это была эпоха высокого рыцарства, когда эмблемы, изображенные на щите воина и его мантии, в качестве знаков отличия в битве и на турнире, передаваемые от отца к сыну, превратились в целую науку. Ее служителями были герольды, которые помогали маршалам и констеблям на турнирах и аренах, провозглашая имя каждого воина в соответствии с его гербом, когда тот въезжал на арену, руководя церемониями при дворах рыцарей, которые судились за право носить гербовые знаки отличия. От щита с золотыми львами, принадлежавшего Плантагенетам, до простого герба самого непритязательного провинциального рыцаря[253], эти эмблемы, изображенные на знаменах и шлемах, конских попонах и палатках, сторожках и печатях, были символами рыцарской чести и власти лорда. Они появлялись на церквах и часовнях, построенных на пожертвования, на надгробиях рыцарей-жертвователей, прелатов и аббатов и даже в изображении Святого семейства. Роспись алтаря с изображением воспитания Девы Марии, которая была сделана в начале правления Эдуарда III и сейчас находится в Музее де Клюни в Париже, представляющая учебу Марии и ее матери на фоне изразцов с геральдическими львами; а на Лилльском псалтыре распятие изображено на фоне английских леопардов и французских лилий. Каждый крупный лорд нанимал для себя личного герольда или служащего в коллегии герольдии, который в качестве его официального вестника или посланника, носил его геральдический титул или прозвище; Леопард и Виндзор свидетельствовали о том, что это герольд короля, Херефорд – констебля, Уорик – Бошамов Уорикских. Другие герольды, называвшиеся герольдмейстерами, решали рыцарские дела в различных частях королевства, Норройский герольдмейстер на севере, Суррейский и, позже, Кларенсойский – на юге.
Все это поощряло рыцарей заботиться больше о формировании внешних знаков своего социального положения, которые, как и всегда бывает с любым человеческим идеалом, были более лелеемой целью для большинства приверженцев данного идеала, чем те добродетели жертвенности, которыми он был наделен. Дорогостоящие доспехи, отделанные богатыми мехами одеяния, усыпанные драгоценными камнями пояса И головные обручи, ковры и золотые ткани теперь считались такими же атрибутами аристократа, как отвага в бою, обширные владения и замки. Даже о крепостях, чей облик постоянно совершенствовался инженерами Эдуарда I под влиянием его войн с Уэльсом и Шотландией, перестали думать с исключительно практической точки зрения, и теперь их строили как дворцы, в которых богатые аристократы и их свита могли наслаждаться жизнью в окружении элегантности и комфорта. Канцлер Эдуарда I, Роберт Бернелл, добавил зал и спальни к епископскому дворцу в Уэлзе, а его современник, епископ Бек, построил себе поистине княжеские покои в стенах Даремского замка. Подобно другим постройкам, имевшим исключительно практическое значение, – монастырям, замки короля и аристократии стали наполняться произведениями искусства, хотя и не в таких количествах[254]. В замке Райзинг в частной церкви королевы Изабеллы были подушечки с вышитыми обезьянками и бабочками; король Эдуард владел серебряными кувшинами, украшенными эмалью, изображавшей обезьян, игравших на арфах, и детей, скачущих друг у друга на плечах, а также сундук, украшенный купающимися девами и лебедями. Женский пояс того же периода, который сейчас составляет часть митры Уильяма Викенгемского, был усыпан эмалями с изображениями собак, оленей, зайцев и обезьян, дудящих в четырехконечные рожки. Самым древним из сохранившихся в Англии серебряных изделий является Суинбернская дароносица, датируемая временем правления Эдуарда II; самым красивым – Линнская чаша, до сих пор находящаяся в ратуше старого города Норфолка, по времени создания относящаяся к началу правления Эдуарда III.
Книги, также ранее принадлежавшие исключительно Церкви, крупным церковнослужителям и лицам королевской крови, постепенно становились, с распространением цивилизации, драгоценной принадлежностью богатых лордов, рыцарей и даже купцов. Их создавали все больше и больше не только в монастырских скрипториях, но и в школах профессиональных миниатюристов, которые в течение XIII века объединялись в гильдии книгоиздателей для создания пергаментных библий и религиозных книг. У леди, ехавшей по королевской дороге, между Бутоном и ее домом в Виргеме на пасху 1285 года, напавшие грабители отобрали требник, стоивший двадцать шиллингов (около пятидесяти фунтов на сегодняшний день), наставление, стоимостью в 6 шиллингов, 8 пенсов и два свитка песен ценой в шесть и два пенса соответственно[255]. Наиболее ценились знатоками псалтыри и апокалипсисы инфолио, с иллюстрациями, на французском или латыни, расшитые великолепными красными, голубыми и зелеными цветами, хотя иногда выдержанные и в более нежных тонах. Один из них, Тенисонский псалтырь, был преподнесен Эдуардом I в качестве свадебного подарка своему старшему сыну, принцу Альфонсо. На посвятительном листе (beatus) изображены гербы королевских домов Англии и Голландии, а кроме иллюстраций во всю страницу на полях книги нежными красками нарисованы люди и ангелы, животные и птицы, библейские события и сцены современной охоты. Чуть позже был создан Ормсбийский псалтырь, который сейчас находится в Бодлейанской библиотеке, с изображениями чудовищ и фантастических образов на полях – трубача среди драконов, кентавра, расчесывающего волосы, лису, одетую как монах и держащую суд над зайцем, единорога, нашедшего приют под подолом леди от преследующего его охотника. Имеющие много общего с горгульями на карнизах и крышах средневековых церквей, эти шутливые создания также имели определенное сходство с рисунками Эдуарда Лира и великанами и комическими зверями Викторианской пантомимы. После вступления на престол Эдуарда II, который так яростно выступал против строгих мер своего сурового отца и вместе со своей беспутной свитой, состоявшей из фигляров и шутов, наслаждался фривольностью и абсурдом, эти гротески или babewyns, как их называли, вошли в моду. В ряду манускриптов начала XIV века, украшенных миниатюрами и созданных Восточно-английской школой, мы видим Горлестонский псалтырь; Сент-Омерский псалтырь, известный своими крошечными миниатюрами; восхитительный псалтырь королевы Марии, сохраненный для Англии проницательным чиновником таможни времен Тюдоров, и более поздний и самый известный – Латрельский псалтырь – необычное скопление слонов, львов, обезьян, свиней, лис, павлинов, гусей, котов, кроликов и мышей, часто наряженных в человеческие одежды и разыгрывающих человеческие роли, а также драконов, русалок и странных существ с человеческими головами и телами зверей, расположенных на полях страниц.
В течение шестидесяти лет со дня вступления на престол Эдуарда I, несмотря на войны против шотландцев и неудачное правление страной его сына, в Англии появлялось все больше и больше прекрасных предметов искусства. За пределами своей страны англичане прославились превосходными вышитыми изделиями на церковные мотивы. Всегда, начиная со времен саксов, opus Anglicanum высоко ценились по всей Западной Европе. Во Франции, Италии, Нидерландах, Германии и даже Испании, алтари были покрыты тканями, а церковные сановники были одеты в золототканые одежды с шелковыми вставками и медальонами, искусно вышитыми руками английских монашек. В ватиканской описи 1295 года перечислено не менее 113 предметов такого рода. Среди тех немногих, которые пощадили пуритане более позднего периода, и которые сохранились до наших дней на той земле, что породила их, – Сионская риза в музее Виктории и Альберта, а также риза, впереди которой вышит щит Эдмунда Корнуэлла и его жены Маргариты де Клэр, на лентах которого изображены львы и грифоны на синем поле, а на спине – шитая золотыми, серебряными и шелковыми нитями полоса с четырехлистниками, на которых можно увидеть Деву Марию с младенцем, распятие Христа, Святого Павла и Святого Петра и мучения Святого Стефана[256].
* * *
Все английское искусство до сих пор концентрировалось вокруг церкви. Более века огромные колонны, круглые арки и массивные стены романской архитектуры вытеснялись изящными стрельчатыми готическими башенками, пришедшими с англосаксонскими и французскими каменщиками в годы крестовых походов. С грациозными колоннами, веерными сводами, стройным ланцетом, круглыми окнами-розетками, гармонично сочетающимися друг с другом геометрическими формами и цветными витражами, эти утонченные строения, рожденные более совершенными архитектурными знаниями, принесли новое световое измерение в церкви, где прежде стены были нужны для поддержки крыши, а башня делала соответствующий световой проем невозможным. Хотя, за исключением Солсбери, где кафедральный собор был по-новому перестроен, эта революция в большей степени дополнила, нежели вытеснила старую церковную архитектуру, так что во всей Англии новая готика переплеталась со старым нормандским стилем и даже, в некоторых местах, с саксонским. В Малмсбери, где неф церкви в аббатстве был перестроен в XIII веке, нормандский дверной проем сохранился внутри нового входа; в Или, Норидже и Питерборо романские колонны сочетаются с готическими сводами.
Большинство из этих зданий должны были принимать усыпальницы и мощи, которые накапливали более крупные религиозные строения, чтобы усилить свой престиж и привлечь внимание паломников, приносивших немалые выгоды. Любое монастырское или коллегиальное учреждение пыталось перещеголять своего соседа но количеству святых реликвий или по красоте строений, и благодаря этому соревнованию увеличивалось художественное наследие страны. Когда после убийства Эдуарда II из страха перед Мортимером никто не осмелился похоронить его, аббат Токи из Глостера отправил своих монахов в Беркли и перенес останки в собор Св. Петра, поместив их в великолепную гробницу и увенчав ее сначала деревянным, а потом, на пожертвования паломников, алебастровым изображением, и тем самым сделал собор самым популярным местом паломничества на западе.
Самыми известными святынями в Англии были мощи Святого Томаса Бекета в Кентербери, где драгоценные камни достигали величины гусиного яйца, а «золотом покрывались даже самые незначительные предметы», а также святого Эдуарда в перестроенном Вестминстерском аббатстве. Гробница Исповедника, украшенная мозаикой из золота и мрамора и изящными витыми колоннами, усыпанная рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями, «находилась на возвышении, как свеча в подсвечнике, так что каждый входящий в дом Божий мог созерцать ее свечение»[257]. Над ней возвышался огромный венец с бесчисленным количеством непрестанно горящих свечей, в то время как на самой усыпальнице стояли серебряные сосуды с лампадами. Такого рода раки и возведенные над ними часовни, снабженные отверстиями для ущербных паломников, обычно располагались во внутренней галерее монастыря за трапезной, дабы поклоняющиеся могли пройти туда, не мешая литургической службе.
Обогатившись на службе Короне, «придворные» епископы и мирские священники теперь перехватили лидерство в строительстве у бенедиктинцев, пионеров средневековой культуры. Правление Эдуарда I видело наивысшую точку в перестройке главного собора Линкольна – его башни венчали три огромных шпиля, один из которых считался самым высоким в Англии – в расширении церковного алтаря, чтобы поместить туда раку с мощами Св. Гуго. Сам король присутствовал на процедуре переноса останков святого в новое место успокоения. С огромными ажурными восточными и вальковыми окнами во всю ширину каждого проема, новое здание было освещено гораздо лучше, чем какое-либо возведенное до него. Под верхним рядом окон, расположенным над арками трифория, можно было увидеть тридцать улыбающихся каменных ангелов, некоторые из них, как и те, что были созданы предшествующим поколением в Вестминстерском аббатстве, держали в руках музыкальные инструменты, другие – короны, свитки и кадила. Одни попирали чудовищ, другие вели души на Божий суд, а ангел со строгим лицом изгонял павших Адама и Еву из Эдема. Эти изысканные фигуры, убереженные высотой, на которой они были расположены, от позднейшего иконоборства, были раскрашены живыми красками и украшены звездами. «Залитый светом, – писал один историк, – хор ангелов похож на нимб над головой темного святилища Святого Гуго и своим сиянием... более других напоминает поэтический образ храма Грааля»[258].
Новая архитектура искала новое освещение – то, что было так необходимо на пасмурном севере. Одна за другой крупные церкви северной Англии последовали примеру Ангельского клироса. В Рипоне, где каждый каноник предоставлял десятую часть доходов с пребенд, пока шли работы по перестройке, в восточной части клироса в конце XIII века появилось огромное окно. В Йорке несколько лет спустя начали строить новый неф, в котором, желая добиться наилучшего светового и пространственного эффекта, верхний ряд окон был удлинен, чтобы соединиться с трифорием таким образом, что два этажа, хотя и разделенные скрытой крышей прохода, освещались двойным уровнем света на протяжении всей церкви. Потребовалось более полувека, чтобы завершить эту работу, и в течение всего времени, как и большинство других церквей в государстве, собор был заполнен лесами и звуками молотка и стамески. В Саутвелле в новой часовне Богородицы в Личфилде, в клиросе в Честере – перестроенном в период между окончанием валлийских войн Эдуарда I и битвой при Бэннокберне – трифорий был полностью или частично соединен с верхним рядом окон, освещающим хоры.
На юге наиболее существенным дополнением к английской архитектуре во времена правления Эдуарда I стало строительство церкви Св. Стефана в Вестминстерском дворце – английский двойник церкви Сен-Шапель в Париже – и завершение готических работ в соборе Св. Павла. Новые хоры собора в добавление к нормандскому нефу и обширному разделенному на две части поперечному нефу сделали это здание самой большой церковью в Европе, высотой почти в семьсот футов и площадью в сто тысяч квадратных футов – почти вдвое больше двух последующих самых больших церквей в Англии, Линкольна и Бери Сент-Эдмунде, которые сами были равны самым большим французским кафедральным соборам. В его восточной части, возвышавшейся над крышами города, располагалась самая большая группа окон в стране – огромное окно-розетка, заполнившее пространство, равное объединенной высоте хоров и трифория, а под ним семь соединенных ланцетов, разделяющихся только тонкими оконными средниками, связанными трехлистниками. Над собором поднялась высотой в пятьсот футов башня со шпилем, увенчанная шаром и крестом, внутри которого находились священные реликвии[259].
Не менее знаменитыми, хотя и в несколько меньшей степени, были прекрасные многоугольные дома каноников в Солсбери и Уэлзе, построенные в конце XIII – начале XIV века. Здесь, обсуждая церковные дела, каноники садились в круг, возведенный в каменных нишах под ажурными окнами, дабы все занимали равное положение, лицом к изящной многоколонной опоре, поддерживавшей свод. На севере в новых домах настоятелей церквей в Йорке и Саутвелле не было центральной опоры, а свод опирался на свободностоящий пролет около шестидесяти футов[260]. В Саутвелле более естественная резьба, которая совсем недавно заняла место более формальной костной листовой резьбы, достигла своего зенита в красиво раскрашенных цветах и листьях, вырезанных на капителях в годы, когда Эдуард I пытался покорить Шотландию. Как Галатея Пигмалиона, они обладали всеми жизненными характеристиками, за исключением движения, так как были сделаны из камня.
Прекрасные фигуры, созданные из металла и камня, появились по воле Эдуарда в перестроенном аббатстве его отца в Вестминстере. Вскоре после возвращения со второй валлийской войны он приказал Уильяму Торелу, лондонскому ювелиру, создать бронзовое изображение его отца, чтобы поставить его над его могилой в Вестминстере на каменное основание, украшенное королевскими леопардами. Кроме того, спустя десятилетие, он поместил изображение своей жены, Элеаноры Кастильской, лежащей со скипетром в руке и в покрытых драгоценными камнями одеяниях и короне, под балдахин из Пербекского мрамора. Два других превосходных скульптурных изображения пополнили сокровища аббатства в последние годы жизни Эдуарда I: одно из них представляло его брата, Эдмунда Горбатого, графа Ланкастера, под искусно сделанным резным балдахином с раскрашенными и позолоченными величественными плакальщицами и ангелами, держащими в руках подсвечники; другое – его дядю, Уильяма де Валенса. Со своими медными доспехами, богато украшенными эмалями, защищенными броней руками, скрещенными в молитве, и выражением спокойной уверенности в том, что аристократическое общество, украшением которого он был на земле, должно быть воспроизведено на небесах, изваяние Уильяма стало предтечей целой армии лежащих каменных, металлических или медных рыцарей. В течение XIV века повсеместно в приходских или коллегиальных церквах, облагодетельствованных его пожертвованием или наследством, появлялось изображение местного уважаемого рыцаря, облеченного в доспехи, украшенные геральдическими эмблемами, вместе с его супругой, изображенной в длинной, свисающей накидке с шарфом или апостольником на голове, лежащей рядом с ним, и борзой или иным геральдическим животным в ногах. Хотя дошедшие до наших дней изваяния составляют лишь малую толику от той превосходной рыцарской компании, что блистала под раскрашенными крышами и окнами английских церквей, благодаря закону Эдуарда I о порядке наследования они оказались гораздо более бессмертными творениями, чем статуи святых и других священных персонажей, которые делили с ними места погребений. Так как, когда последние были уничтожены как идолы, эти памятники продолжали чтить память ушедших в небытие благодетелей, защищаемые теми, кто унаследовал их кровь или земли.
Трудно сейчас представить все великолепие готических соборов с их раскрашенными стенами и украшенными драгоценными камнями усыпальницами – блеск или nitens, по словам монастырских хронистов, – так как от них остался лишь серый голый каменный интерьер. Мы видим благородный скелет, но не кровь и плоть, которыми любовались наши предки. Стены были покрыты фресками, повествующими об истории христианства, созданными мастерами, чьи имена, так же, как и работы, были стерты временем, хотя по тем росписям, что сохранились, тусклые и возрожденные из-под вековых пластов искажений и пренебрежения, мы можем в небольшой мере разгадать их красоту[261]. Росписи на sedilia в святая святых Вестминстерского аббатства – восхитительной прозрачности голубые одеяния и розовая накидка Девы Марии и розовато-лиловое и зеленое Гавриила – выполненные, когда первые шедевры итальянского Возрождения начали появляться в Сиене, Пизе и Флоренции; сцены из жизни и страстей Христовых в маленькой норгемптонширской церквушке в Кротоне; фигуры восточно-английских святых на своде внутренней галереи Нориджского собора и другие недавно открытые в Литтл Миссендене в Бекингемшире и в красивой круглой комнате в Лонгторпской башни – когда-то являвшейся домом управляющего аббатства Питерборо – сохранились среди тысяч фресок, рассказывавших библейскую историю неграмотным людям, но способным видеть и поклоняться. Среди наиболее красивых – рондо XIII века в епископском дворце в Чичестере с изображением Мадонны с младенцем в розовом одеянии и с короной, украшенной драгоценными камнями, на голубом фоне с золотыми французскими лилиями.
Также сегодня редки цветные витражи в окнах. Они, как и фрески, рассказывали в картинках историю Христа, святых и мучеников. Разделенное каменными или свинцовыми перегородками, каждое стеклышко в форме медальона, ромба, круга или квадрата формировало непрерывный узор из цвета и света. Большую часть витражей привозили через Ла-Манш из Нормандии и Иль де Франса, где французские стекольщики недавно познакомили человечество с великолепием Шартра, Буржа и Руана, или из Геса и Лотарингии по Рейну и Маасу к восточным английским рекам. Из-за яркости этих ранних витражей, богатых красными, синими, зелеными и золотисто-желтыми цветами, некоторые качества освещения, найденные строителями готических соборов, были утрачены, и к концу века стали использоваться белесые и серые цвета для витражей. Один из нескольких сохранившихся образцов – окно Пяти сестер в северном нефе в Йорке, чьи огромные ланцеты застеклены простыми стеклами, обрамленными полосками красного и синего, украшенными изысканным и едва видным узором из спиралей и листьев.
Во всем этом было возрастающее усложнение, неизвестное в Западной Европе со времен имперского Рима. Когда старый век соединился с новым, более богатое архитектурное великолепие начало сменять простоту «Ранней Англии», заостренные арки и окна, покрытые геометрическим узором, уступили место плавным криволинейным очертаниям, фантастическим остроконечным башенкам, лиственному орнаменту и шпилям, украшенным сферическими бутонами, известными как круглый цветок. Балюстрады, волнистые парапеты и каменные узоры из листьев расходились из средников верхних брусов окна, как ветви дерева. И везде в нишах находились статуи святого семейства, ангелов, святых и мучеников, христианских князей и прелатов, позолоченные или раскрашенные. Страстное увлечение резными работами было так велико, что под самой крышей, среди балок и стропил, каменщики создавали целые легионы крошечных фигурок – людей и чудовищ, фавнов, сатиров и зверей, листьев и цветов из родных лесов и полей. Здесь можно увидеть агнца Божьего, Святого Георгия, побеждающего дракона, крестьянина, мучающегося от зубной боли, или двух любовников, одаривающих друг друга поцелуями; здесь же лица королей и епископов или самих резчиков, Давида с арфой или Деву Марию с короной на голове – все это вырезано со всей тщательностью, создание ради самого создания, ибо как только работа будет закончена и леса убраны, никто, кроме еще не рожденных ремесленников, которые будут ремонтировать крышу в таком же уединении, не увидит этих шедевров. Только в одном Экзетере, перестроенном между 1301 и 1338 годами, находится более пятисот резных украшений на огромной высоте; в крупной бристольской церкви Св. Марии Редклифской, созданной в конце XIV века, их более 1100. Когда спустя два века мощь средневековой церкви дала трещину, и фанатики с топором и молотком прошлись по всем местам поклонения Богу, круша и стирая с лица земли шедевры скульптуры, которые казались им лишь раскрашенными идолами, это невидимое воинство резных фигурок под сводами церквей сохранилось, оставаясь неизвестным почти четыреста лет, пока телескопическая линза современного фотоаппарата не открыла забытое свидетельство гениальности английского средневекового искусства.
Первым большим кафедральным собором, полностью перестроенным в стиле английской готики, стал Экзетер. В период между вступлением на престол Эдуарда I и началом правления его внука благодаря усердию пяти великих епископов-строителей – Уолтера Вронского, Петра Квинела, Томаса де Битона, Уолтера Степлтона, которого растерзала лондонская толпа за его преданность Эдуарду II, и Иоанна Грандинсона, подписавшего договор с Францией ради его сына – древняя темная нормандская постройка превратилась в просторное изящное здание с множеством мраморных колонн, цветными ажурными окнами, остроконечной sedilia и епископским троном, оснащенным ширмой и запрестольной перегородкой, покрытый резными фигурками свод, представлявший все виды человека и ангела, ангела и демона, доступные средневековому воображению. Другой собор западного графства, Бристольский, был перестроен примерно в это же время, с уникальной для английских соборов чертой – тремя боковыми нефами одинаковой высоты и сводом из ребер совершенно нового образца.
В течение первых десятилетий XIV века почти каждая крупная церковь в Англии была частично или полностью перестроена в этом роскошном стиле. Например, Селби с фронтоном с лиственным орнаментом и парапетом, украшенным лепниной и маленькими фигурками; или Карлайл, чье яркое восточное окно было создано во время осад и набегов шотландцев; южный неф Глостера с круглыми цветами, прекрасными, как розы, со всех сторон по стенам; дом приора в Норидже со святыми и ангелами, окружившими сидящего Христа, на фоне замысловатой кружевной аркады. В то же время множество крупных приходских церквей добавляли в свой интерьер сводчатые галереи и окна с ажурными узорами, искусные орнаменты и украшенные парапеты и башенки. К этому периоду относятся башни Уэлз и Херефорд, а также аббатства Западных графств, Леоминстер, Ледбери и Ладлоу, выросшие над яблочными садами и пастбищами; витражи аббатства Св. Вулфрама в Грентаме, сделанные по образцу Ангельского клироса в Линкольне; шпиль университетской церкви Св. Марии в Оксфорде и окно аббатства Древа Иессея в Дорчестере-на-Темзе. Большинство портов и горных городков, становившихся богаче благодаря экспорту шерсти, строили или перестраивали свои церкви в новом стиле: Ньюарк, Донингтон и Слифорд, Беверли и Гулль, Бостон, Холбич и Грейт Ярмут, Дил, Рай и Уинчелси, от которого остались только хоры со статуей Стефана Аларда, адмирала Пяти портов, под балдахином. Все они были в изобилии украшены резными работами; в Хекингтоне, расположенном в Линкольншире, только внешнее убранство включает тридцать одну статую в стрельчатых нишах, восемьдесят резных карнизов и сто девяносто восемь горгулий.
Однако крупные бенедиктинские обители относительно в небольшой степени подверглись изменениям – только Мильтонское аббатство, уничтоженное пожаром в 1309 году, было полностью перестроено в новом стиле; цистерцианцы, сделав на шерсти свое благосостояние, теперь забыли о своем прежнем аскетизме и начали строить величественные здания на месте своих несложных построек в диких местностях. Уже в правление Генриха III был построен Фаунтинс, но Тинтерн, Риво и Биланд были переделаны в усовершенствованной манере эдвардианской эпохи. Даже монахи нищенствующих орденов оставили свои убогие жилища в городских трущобах и стали возводить большие церкви на пожертвования купцов, с благодарностью вспоминавших дни, когда они или их отцы убегали из деревень от крепостного состояния, ища прибежища в лачугах ближайшего города, и их поддерживали нищие братья-монахи. Так как со своей евангельской миссией францисканцы и доминиканцы не нуждались в многочисленных подсобных службах, их церкви были обычно построены без боковых нефов, зато центральный был гораздо больше, чем хоры, чтобы вместить прихожан среднего класса, стекавшихся послушать проповеди, которые были особенно популярны. Так как боковых нефов не существовало, было гораздо легче освещать молельню или центральный неф. Самой известной среди церквей такого рода была обширная церковь Грейфрайарс (Серых Братьев) в Лондоне, основанная в 1306 году второй супругой Эдуарда I, которая и была там похоронена[262]. Почти такими же большими были церкви Уайтфрайарс (Белых Братьев), которые кармелиты построили в Глостере и Плимуте, а также церковь в Блейкни на пустынном морском побережье Норфолка, знаменитая своей крышей с крестовыми сводами, группами колонн, увенчанными резными балками, и великолепным восточным окном. Еще одна церковь была построена Эдуардом II для доминиканцев в Кинге Ленгли, расположенном в Хартфордшире, в память и для упокоения праха Пирса Гавестона.
В 1321 году монахи бенедиктинского аббатства в Или начали строить церковь Богородицы с самым большим в Англии расстоянием между опорами свода, резной крышей и широкими цветными окнами, круглыми нишами, заполненными сотнями позолоченных и раскрашенных статуй, теперь обезображенными и обезглавленными, рассказывавшую в камне историю Девы Марии. Как только начались работы, рухнула центральная башня аббатской церкви, разрушив находившиеся под ней хоры и три пролета[263]. Столкнувшись с проблемой возведения свода на таком большом пространстве, ризничий, Алан Уолсингемский, позже ставший настоятелем, нанял лондонского каменщика, обращаясь к нему, как следует из записей аббатства, как к мастеру Джону, предполагают, что это мог быть Джон Рамсейский, член семьи знаменитых нориджских каменщиков. Он вместе с неким «Петром Квадратериусом» построил, несмотря на новую башню, восьмиугольный фонарь совершенно нового дизайна: с четырьмя цветными окнами, чтобы освещать центр нормандской церкви. И так как пролет в семьдесят футов был слишком велик, чтобы покрыть его камнем, монахи пригласили Уильяма Херлейского, королевского плотника, за вознаграждение в 8 фунтов в год обшить их конструкцией из восьми гигантских деревянных подпорок и балок. На работы ушло двадцать лет, и по завершении собор стал, и до сих пор остается, единственным готическим зданием с куполом в Европе.
Хотя новый стиль был больше декоративным, нежели структурным, в поисках лучшего освещения он продолжил тенденцию, начатую более века назад с эволюции готической арки. Даже до вступления на престол Эдуарда III появились признаки того, что английские каменщики начали нащупывать путь к архитектурной революции. Возникало чувство всевозрастающего света и единства веерного свода, разрушившее старую систему строительства каждого отдельного пролета и в соединении опорных конструкций (колонн), свода и крыши. Колонны нового нефа в Йорке были похожи на стволы и ветви букового дерева, а крестовый свод клироса в Или – на звезды зимней ночью.
* * *
Но королевство, которым управлял Эдуард III, славилось не только архитектурой, но и энергией и предприимчивостью его людей. К тому времени, когда он получил власть, население Англии и Уэльса, которое росло на протяжении XIII века, достигало примерно трех-четырех миллионов, что было гораздо ниже, чем в Италии и Франции. Большая часть его сконцентрировалась на юго-востоке, особенно в районах выращивания пшеницы и овцеводства в восточной Англии и южной части центральных графств. Доходы от налогообложения в Норфолке были почти вдвое больше, чем в следующем за ним по доходам графстве Кент; за ними следовали, соответственно, Глостер, Уилтшир, Линдси в южном Линкольншире, Саффолк, Оксфордшир, Сомерсет и Эссекс. Гемпшир, Нортгемптоншир, Суссекс, Восточный Рединг Йоркшира, Беркшир и Кембриджшир следовали за ними. Ну а доходы от трех северных графств Ланкашир, Камберленд и Нортумберленд составляли менее одной десятой от норфолкских[264].
В столице население достигало примерно сорока-пятидесяти тысяч человек. Оно составляло только четверть от числа жителей Милана и было гораздо меньше, чем в Париже, Флоренции, Брюгге или Генте. В следующих за Лондоном по величине городах – Йорке, Бристоле, Плимуте и Ковентри – насчитывалось около десяти тысяч жителей, а в Норидже, Глостере, Ньюкасле, Солсбери и Винчестере – не более пяти тысяч. Это только предположения, так как не сохранилось ни одной законченной статистической записи.
В своей основе страна все еще оставалась сельскохозяйственной; богатая земля, производящее сырье, экспортирующая много прекрасной шерсти и, в лучшие времена, зерно и молочное сырье. Также Англия вывозила кожсырье и кожаные изделия, сушеную и соленую рыбу, вышивки, металлические изделия, олово, уголь и свинец, большей частью в Нидерланды в обмен на ткани, в Гасконь и Рейнские земли – на вино, а в Балтийские страны – на лес и судостроительные материалы. Шерсть была главным источником благосостояния. Лучшая – короткая шерсть от райлендских овец и длинная от линкольнских, лестерских пород и породы Золотой лев из Костволдса – доставлялась из долины Северна и известнякового пояса между Сомерсетом и Линкольнширом. Но почти каждый регион страны, за исключением далекого севера и крайнего юго-запада, экспортировал тот или иной вид шерсти. Было подсчитано, что в среднем тридцать тысяч мешков или восемь миллионов овечьих рун вывозилось за границу каждый год, в основном в северную Италию и в города, производившие ткань, во Фландрии, Артуа, Брабанте и Геннегау.
Хотя Англия, в первую очередь, являлась поставщиком необработанной шерсти, в большинстве крупных городов ткани производились, правда, в небольшом количестве, для домашнего потребления. Женитьба Эдуарда на принцессе из Геннегау дала новый стимул местному производству, и одним из первых действий короля, возможно, по настоянию его супруги, стало пожалование охранного патента фламандскому ткачу по имени Джон Кемп[265]. Другие сообщества фламандских ткачей, привлеченные дешевым и доступным сырьем, торговлей и социальной стабильностью в Англии, устроились в последующие несколько лет в Норидже, Йорке и Кренбруке в Кенте. Сама королева Филиппа наносила визиты одному из таких поселений в Норидже, когда ее муж совершал поездки по восточной Англии. Другой фламандец по имени Томас Бланкет основал в Бристоле первую постоянную мануфактуру в Англии, затем давшую его имя предмету домашней утвари, использовавшемуся повсеместно.
Экспорт шерсти и возрастающее число ввозимых товаров: специй, вина, шелков, мехов, леса, смолы, дегтя, растительного масла, соли, квасцов, риса и фруктов стали большим стимулом для развития английского кораблестроения и мореплавания. Крупные лондонские купцы, а столица стала главным портом страны, теперь вслед за магнатами были самыми богатыми мирскими налогоплательщиками в государстве. Саутгемптон, Бристоль, Плимут и Фалмут были главными портами запада, Линн, Бостон, Ньюкасл-на-Тайне, Кингстон-на-Халле и Пять портов – востока страны. После Лондона самым значительным был Саутгемптон, чьи глубокие и спокойные воды, защищенные островом Уайт от бретонских, гасконских и фламандских пиратов, соперничали с дельтой Темзы, как отправной пункт для сопровождения кораблей, чаще всего с грузом менее сотни тонн, везших английскую шерсть на континент. Также он был конечным пунктом для торговых флотов с вином из Бордо, Байонны и Ла-Рошели, а также для генуэзских и пизанских карак[266], которые в течение первых десятилетий XIV века начали экспортировать шерсть с Солента и Темзы на мануфактуры Arte della Lana во Флоренции в обмен на предметы роскоши из Италии и Востока. В Саутгемптон на баржах по Итчену – в то время судоходной реке вплоть до Винчестера – подвозилась шерсть из Уилтшира, Беркшира и низовий Глостершира, в то время как каботажные суда из Пула, Мелком Региса, Бридпорта, Лайма и Экзетера привозили ее из Дорсета, Сомерсета и Девона. Остальная шерсть подвозилась по Северну и Уорикширскому Эйвону для погрузки в Бристоль. Завернутые в холст товары грузили на подводы и вьючных лошадей и отправляли с высоких пастбищ к ближайшей реке.
В те дни, когда путь по воде был самым дешевым, английская торговля имела преимущества по двум причинам. Хотя ее реки вряд ли могли сравниться с континентальными, море всегда находилось рядом, а побережья были буквально усыпаны речными устьями, откуда товары могли отправляться либо за границу, либо в собственные порты государства. В то время, когда каждый второстепенный правитель от Вистулы до Биская пытался набить свои сундуки, взимая пошлину с товаров, Англия с ее сильной единой королевской властью была самой большой зоной свободной торговли в Европе. Почти единственные внутренние транспортные пошлины взимались за незначительные переправы, чтобы возместить расходы, когда мост или дорога находились в частных руках. По сравнению с провозом груза по Темзе, Северну или Хамберу, перевозка товаров по европейским рекам приводила к чрезвычайному росту их цен. В начале века на Везере находилось более тридцати постов, где взимались пошлины, а на Эльбе их было еще больше, около пятидесяти можно было встретить на Рейне и более восьмидесяти на австрийской территории Дуная[267]. На французских реках и дорогах ситуация была не лучше; крупная ярмарка в Шампани, которая в течение веков являлась основным торговым пунктом северной Европы, задыхалась из-за огромных дорожных пошлин, взимавшихся после слияния фьефа с Французским королевством. Только при дворах Брабанта и Геннегау, а также в итальянских и фламандских торговых городах свободная торговля ценилась так же, как и в Англии Эдуарда I. В Пяти портах налоги и пошлины на вино колебались между 2-4 пенсами за бочонок, в то время как в Саутгемптоне средний налог на импортируемые товары составлял только 2 пенса за фунт. В большинстве портов английские товары освобождались от пошлин либо по королевской хартии, либо по договорам между одним городом и другим.
Так как побережье Англии по своей длине было гораздо больше, чем в любом другом западном королевстве, то в государстве проживало солидное морское население, занимавшееся ловлей рыбы, прибрежной торговлей и морскими поездками в Балтийские страны, Нидерланды, Францию и Бискайский пролив, уже тогда называвшийся «морем англичан». Хотя большинство морских перевозок осуществлялось иностранцами, а английские корабли были гораздо меньшего водоизмещения, чем суда Средиземноморских торговых государств – Генуи, Пизы, Венеции и Арагона, – английские моряки, привыкшие к приливам, отливам и штормам Ла-Манша и Северного моря, славились выносливостью, морским искусством и драчливостью. Постоянно они вступали в портовые драки не только со своими нормандскими, бретонскими, фламандскими и баскскими соперниками, но и между собой. Когда бы моряки из Пяти портов ни встречали рыбаков из Ярмута, которых они считали людьми, сующими нос не в свои дела, они вызывали тех на смертный бой, «on lond and strond»[268]. С семью привилегированными портами – Уинчелси, Ромни, Хитом, Дувром, Сандвичем, Гастингсом и Райем и их далекими «связями» – «портовые люди» лагун и бухт Суссекса и Кента долгое время были аристократами Ла-Манша и Северного моря, выполняли свои феодальные обязанности, в военное время предоставляя королю корабли, а их мирная жизнь состояла из испытанной смеси рыбной ловли, пиратства и торговли с северной Францией и Нидерландами. Но постепенно их гавани стали засоряться илом, судоходство все больше развивалось, а их доминирующее влияние стали оспаривать моряки западного побережья. С богатейшими рыбными территориями прямо у ворот и католической страной, питавшейся рыбой по пятницам и во время великого поста, англичане, жившие на побережье, обучались нелегкому делу покорения водных просторов, среди которых находился их остров. Хотя они редко отваживались заплывать дальше Испании или Норвегии – в последующее поколение чосеровский моряк знал побережья от Ютландии до Финистерре – они ходили по морям, полным штормов и изменчивых ветров, которые прекрасно подходили для изучения тонкостей морского дела. Целый народ, живший обособленно, передававший знания от отца к сыну, вносил в характер вялых простых людей струю безрассудства, легкомысленности, что в дальнейшем будет иметь далеко идущие последствия.
Также большую роль в формировании национального характера сыграли торговые отношения. Купеческий город со своей свободой и жизнью, полной благоприятных возможностей, сделал уже достаточно много для преобразования разобщенного английского общества, каким оно стало после нормандского завоевания, в более гибкое, где не было четких границ между различными социальными слоями. Многие из передовых купеческих семей, особенно в Лондоне и крупных портах, вышли из иностранных торговцев, осевших в Англии, как Бокойнты и Бакреллы, пришедших из Италии, и Арраксы, чье имя происходит от Арраса. Гораздо больше было предприимчивых английских сельских жителей, часто вилланов, убежавших от крепостной зависимости своих родных земель, чтобы искать счастья за стенами самоуправляемых привилегированных городов. Многие, поступившие таким образом, умерли от бедности и болезней в переполненных трущобах, прежде чем смогли пробиться через монополистические ограничения, с помощью которых прочно занявшие свое место бюргеры защищали себя и свои ремесла и торговлю. Другие прошли, иногда меньше, чем за поколение, путь от суровой неизменной жизни в феодальном поместье до высокого положения члена городского самоуправления (олдермена) или мэра и даже до места чиновника на королевской службе – поскольку в Англии корона всегда быстро привлекала на свою сторону опытных людей с деловыми и финансовыми способностями. Купцы с простыми именами, как Данстебл, Хейверил и Пигсфлеш, мимо наследственной феодальной иерархии получали должности чемберленов, дворецких и поставщиков, ссужая деньгами Корону или крупных магнатов, устраивали переводы фондов из одной части империи Плантагенетов в другую, предлагали закладные, чтобы обеспечить вышестоящих господ, как мирян, так и церковнослужителей, живыми деньгами, дабы удовлетворить их возрастающий вкус к роскоши. Поступая таким образом, хотя многие из них и разорились на этом пути, они разбогатели, вкладывая свою прибыль в землю и основывая укоренившиеся и получившие рыцарское звание семьи.
Такие купцы – продавцы шерсти, виноторговцы, бакалейщики, торговцы рыбой, тканями, мануфактурными товарами, кожей, галантерейщики и ювелиры – объединялись с целью взаимозащиты в гильдии, которые регулировали и контролировали местные условия и деятельность своих ремесел, а также входили в правление города, чтобы получить или унаследовать свободу. Как только они достигали положения горожанина или бюргера, они становились неприкосновенными для своих прежних хозяев и жили под защитой не только города, где ревностно охранялись права, но и королевских судов. Насколько быстро могли произойти такие трансформации, видно из иска об оскорблении и тюремном заключении во время царствования Эдуарда II, поданного лондонским торговцем тканями и олдерменом, неким Саймоном де Парисом, против Уолтера Пейджа, бейлифа сэра Роберта Тоуни, хозяина норфолкского имения Нектон, места, из которого истец был родом и которому принадлежал он и его предки. Когда он нанес визит в свой бывший дом, этого богатого гордого человека схватили и взяли под стражу местные власти, главным образом надеясь поживиться шантажом. Их защита строилась на том, что, хотя теперь он и горожанин, он родился вилланом и, оказавшись в Нектоне, «в его крепостном гнезде», был обязан выполнять службу по своему наследственному статусу. Когда бейлиф предложил ему место главного судьи деревни, Саймон отказался, после чего был арестован по закону феодального поместья и взят «под охрану с третьего часа до вечерни», когда шум, вызванный им, казалось, обеспечил его освобождение. Дело олдермена состояло в том, что он был свободным гражданином Лондона (и являлся таковым уже десять лет), неся службу в качестве королевского шерифа в городе и «отвечая перед казначейством», и «до этого самого дня» был олдерменом, то есть фигурой неприкосновенной, которого ни один человек не мог назвать вилланом. На что адвокат обвиняемого ответил, что
«...против того, что он является гражданином Лондона, мы ничего не имеем; но мы скажем вам, что его мать и мать его матери были крепостными, а значит, и он – виллан Роберта, как и все его предки, деды и прадеды и все те, кто держит его земли в поместье Нектона; и прародители Роберта пользовались вилланской службой предков Саймона, как, например, подушная подать, замужество их дочерей, большие и малые налоги, и Роберту до сих пор служат братья Саймона по отцу и матери... Где бы он ни говорил, что он не является нашим вилланом, он родился вилланом, и мы нашли его в нашем гнезде».
На что председательствующий главный судья, Бирфорд, заметил:
«Я слышал, что одного человека взяли в публичном доме и повесили, и если бы он остался дома, такое зло с ним бы не приключилось. Так и здесь. Если он был свободным гражданином, почему он не остался в городе?»[269]
Потребовалось четыре года, прежде чем после постоянных отсрочек дело было наконец решено в пользу олдермена. И 100 фунтов – огромную сумму по тем временам – должны были выплатить лорд и его бейлиф.
* * *
Единственным наиболее существенным стимулом роста английского капитализма была война. Конфликты с Уэльсом, Шотландией и Францией, которые последовали вслед за столкновениями Эдуарда с Ллевелином и Баллиолем, стали огромным стимулом к развитию купечества. Хотя ни один английский торговец пока не мог предложить Короне кредиты, равные ссудам крупных банкирских и торговых домов Флоренции и Ломбардии, уже появились местные финансисты достаточно богатые, чтобы сыграть важную роль в снаряжении армий Эдуарда. Именно к тем, кто занимался шерстью, «главным товаром и драгоценностью Англии», он и обратился. Исключительно за грубые шерстяные товары можно было получить деньги, Фландрия и Италия всегда нуждались в ней. Именно благодаря экспорту шерсти в 1294 году Эдуард I отменил ненавистный maltote, чтобы финансировать свою войну против французского суверена. И именно благодаря помощи торговцев шерстью, во главе с крупным шропширским торговцем, Лоренсом из Ладлоу – «mercator notissimus», как называли его королевские законоведы, – три года спустя он снарядил экспедицию во Фландрию. Когда Лоренс утонул на перегруженном судне, везшем шерсть в Голландию, монастырские хронисты увидели в этом перст Божий – отмщение за снижение цен на покупку сырья у домашних производителей, в том числе и Церкви, с помощью которых он и его собратья монополисты, надувая Святую Церковь, переложил на производителя свои финансовые потери. Памятником Лоренсу стал замечательный маленький замок Стиоксей, который он построил для себя рядом с Ладлоу. Два других крупных купца того времени – Гилберт из Честертона и Томас Дюран из Данстебла. Ссуды последнего приорату его родного местечка были так велики, что приор не посмел отклонить его приглашение на пир, которое самонадеянный парень послал магнатам графства, все они были у него в долгу под обеспечение своих будущих продаж шерсти.
Рыночная власть, которую сбор и экспорт шерсти дал богатым подданным в их отношениях с Короной, сыграла важную роль в развитии национального налогообложения и парламента. Право таможенных сборов всегда было королевской прерогативой, но в годы примитивной экономики, когда Короне необходимо было быстро собрать деньги, это было возможно только в сотрудничестве с теми, кто занимался товаром, подлежащим налогообложению. Таким образом, именно к торговцам шерстью как к корпорации обращались Эдуард I, его сын и внук, когда им требовались деньги. Иногда вместо того чтобы созвать парламент и попросить субсидии у купечества или сословия, представленного избранными горожанами, король собирал ассамблею лидирующих на рынке торговцев шерстью и договаривался с ними о налоге на экспортируемую шерсть. В любом случае он использовал принцип добиваться согласия у тех, кто подвергается налогообложению. Но как только выяснялось, что продавцы шерстью неизменно перекладывали налог на другие плечи, снижая цены на закупки шерсти у производителей, представители последних в парламенте начали требовать, чтобы король договаривался непосредственно с ними, а не с теми, кто платит налог только номинально. Поступая таким образом, они выдвигали как quid pro quo (одно вместо другого), сперва робко и в порядке эксперимента, требования не только компенсации нанесенного ущерба, но и контроля над расходованием денег и над королевскими чиновниками, заведующими им.
Пошлины на шерсть взимались с помощью рыночной таможни. Впервые она была учреждена в Лондоне и тринадцати других английских портах в начале царствования Эдуарда I, чтобы собирать «по древнему или великому обычаю» полмарки – 6 шиллингов 8 пенсов – за мешок, что гарантировал парламент 1275 года. Когда в 1297 году король силой позаимствовал все доступные запасы английской шерсти, чтобы профинансировать свою экспедицию в Нидерланды, пришлось учредить иностранную таможню, сначала в Дордрехте, а затем в Антверпене, чтобы взвешивать и оценивать конфискованную шерсть и взимать maltote с купцов. Здесь и в рыночных городах в Англии, королевские представители – сборщики, ревизоры, досмотрщики, инспекторы, клерки, мерщики и грузчики – осуществляли древний и великий сбор и так называемую малую пошлину, которые Эдуард в последние годы своего правления навязал только иностранным экспортерам и который, упраздненный Ордайнерами в 1311 году, его сын восстановил после короткого триумфа в 1322 году. В год перед Бэннокберном, после первоначально неудачной попытки восстановить то, что было разрешено Ордайнерами, Эдуард II сделал привилегированную иностранную рыночную таможню – тогда в Сент-Омере – обязательной, через которую должна была проходить вся шерсть, экспортируемая в Нидерланды. В течение последующих тринадцати лет эта королевская таможня переезжала из одного фламандского города в другой. В 1326 году, из-за растущего недовольства, исходящего от производителей шерсти и мелких торговцев, она была перенесена обратно в Англию, а спустя два года Мортимер и королева Изабелла в поисках популярности ее и вовсе упразднили.
Но хотя свобода в торговле увеличила экспорт шерсти и подняла цены, получаемые изготовителями, Корона не могла больше существовать без доходов от таможенных пошлин и даваемых ими кредитов. В начале правления Эдуарда III иностранная таможня была возрождена и стала постоянным компонентом торговли шерстью и национальной системы налогообложения. Все это позволило королю занимать деньги под обеспечение таможенных сборов и направлять экспортируемую шерсть в любой город в Нидерландах, который устраивал его внешнюю политику в данный момент.
Увеличение производства шерсти коснулось почти всей сельской общины. Не только наличные деньги хозяев крупных феодальных и церковных поместий зависели от овечьей шерсти, но также и рыцарей графств, богатых свободных землевладельцев и даже сельских вилланов, чьи общинные стада помогали увеличиваться потоку шерсти из маноров на причалы и склады купцов-оптовиков. Разъезжая со своими вьючными лошадьми по фермам, деревням и монастырям и скупая произведенное за год сырье, чтобы продать экспортерам, отправляющимся на судах во Фландрию и Италию, «шерстянщики», предлагая кредит в обмен на низкие цены, получали долю тайной прибыли, не нарушая христианский запрет на ростовщичество. Многие зажиточные землевладельцы помимо производства шерсти занимались и такой оптовой торговлей, скупая шерсть у своих мелких соседей, у которых не хватало возможностей и умений, чтобы распоряжаться собственной продукцией. Цистерцианские аббатства северных и западных долин особенно активно включились в такой бизнес, получая от него и от своих стад прибыль, которая позволяла им заменять аскетические и простые постройки первых дней великолепными зданиями, которые все еще, после веков заброшенности и обветшания, делают Фаунтинс и Тинтерн, Риво и Биланд местами паломничества.
Изображая Англию XIV века, можно видеть следы такой сельской промышленности везде – открытые долины, коротко общипанные огромными стадами крошечных овец, пастухи, тенькающие колокольчики, овчарни и водопои; шкуры и руна, собранные в больших сараях из камня и дерева; центральные города и рыночные местечки в Йорке, Линкольне, Грентаме, Лауте, Ладлоу, Шрусбери, Винчестере и Андовере, заполоненные торговцами и торговыми агентами; караваны вьючных лошадей и барж, движущихся в сторону моря; лондонские купцы в отороченных мехом одеждах, заключающие сделки с королевскими чиновниками; английские рыболовные суденышки и высокие итальянские караки, плывущие из устья Темзы и южных портов к алчущим мануфактурам Фландрии и отдаленной Тосканы.
«Покрытые травой из чернолицых побегов, Тюками с сырьем и товарами, Серые цистерцианские дома, Которые укладывают шерсть для продажи».Пасторальная экономика, базировавшаяся на выпасе и присмотре «за глупыми овцами», стрижке овец и отправке овечьей шерсти в отдаленные пункты назначения наложила сильный отпечаток на национальный характер. Она включала в себя как уединенность и созерцательность пастушеской жизни, так и поездки, и сделки, вовлекая всех в торговлю шерстью, которую мануфактуры Гента и Ар но превращали в одеяния для богатых европейцев. Все эти обстоятельства сформировали нацию людей, одновременно являвшихся купцами и поэтами. Одинокие пастбища и фермы западной и северной Англии, эпитафия в провинциальной церкви:
«Честно жил и честно умер, Честный пастух на холме, Холм так высок, поле такое круглое, В судный день его найдут» –одна сторона медали; чосеровский купец, отправившийся в Брюгге на рассвете, и суетливая женушка из Бата, увлеченная своей торговлей тканями, – другая. Производство, перевозка и продажа шерсти делали человека более внимательным и находчивым, чем небогатая событиями общинная жизнь крестьян христианского мира, живших плодами пахоты.
Все это также формировало чувство свободы. Человек, владевший или ухаживавший за овцами на высокогорьях, в большей мере ощущал себя хозяином собственной жизни, нежели человек трехпольной системы земледелия, тесно связанной с поместным обычаем и за которым всегда наблюдали любопытные соседи. «Потому что, – начинается отчет дела в суде королевской скамьи, – было заявлено перед шерифом Ноттингема и Дерби... что сэр Томас Фолжам имел обыкновение бежать из-под стражи и оказывать сопротивление королевским служащим и бейлифам, желавшим наложить арест на его имущество за долги, подлежащие выплате королю, вышеупомянутый шериф вместе с нашим господином королевским бейлифом Пика... пришел наложить арест на имущество... И так как он не нашел никаких вещей, кроме овец, он приказал забрать последних. И пока он находился в каком-то другом месте, пришли люди, до сих пор не установленные, и увели вышеупомянутых овец в неизвестном направлении. Когда шериф узнал об этом, он приказал поднять погоню, собрав людей из деревни, и прочесать Тайдсуэл. Но люди не пришли на его зов, хотя и должны были. Затем шерифу сообщили, что у вышеназванного сэра Томаса есть другие овцы в овчарне за пределами деревни. Шериф отправился туда и обнаружил нескольких овец сэра Томаса, но люди, находившиеся в овчарне, не позволили ему забрать овец, удерживая овчарню против королевского порядка силой и оружием.
По сей причине шериф, дабы созвать больше людей, чтобы те были свидетелями его деяния и выполнить королевский приказ, сохранив его имущество и порядок, вновь звуками рога призвал на помощь из упомянутой овчарни к деревне Тайдсуэл... И когда шериф совершал это, сэр Томас прибыл в овчарню и жестоко избил тех из людей шерифа, которых там обнаружил... И сэр Томас потребовал от шерифа приказ, по какому тот действует, и шериф показал ему королевское предписание с личной печатью. И сэр Томас, сидя на своем коне и кусая ногти, прочел предписание и, взглянув на печать, сказал, что хорошо ее знает, а затем добавил: „Фиг тебе! Предъяви другой приказ”»[270].
Позже, после того как шериф в третий раз протрубил в рог, призывая на помощь, сэр Томас, вняв совету своих друзей, сдался вместе с тремя пастухами и овцами. Так как он не нанес очень большого ущерба, поступая таким образом, спустя два года суд присяжных посчитал его и его сообщников невиновными.
Ноттингемский шериф, под боком у которого находились большие леса Шервуда и Рокингема, сталкивался с гораздо большим числом проблем, чем остальные, из-за тех людей, которые были не в ладах с законом. Незадолго до свержения Эдуарда II, один лестерширский джентльмен по имени Юстас де Фольвиль и три его брата, один из которых был капелланом, с бандой из пятидесяти сторонников убили судью казначейства, напав на него из засады возле Мелтон Моубрей. Объявленный вне закона, так как никто не смог найти его, впоследствии он был прощен новым правительством, чьим сторонником в те времена непримиримых распрей он, вполне возможно, также мог быть. Но вскоре обнаружилось, что он не признает никакого правительства, так как через несколько месяцев последовали дальнейшие жалобы от шерифа Ноттингема, что Фольвилли вновь заполонили дороги, подстерегая богатых путешественников и удерживая их в плену, пока не получат выкуп. В январе 1332 года, спустя пятнадцать месяцев после того как Эдуард III захватил власть у Мортимера, другой из королевских судей, человек, подозреваемый в подкупах, о котором говорили, что он продает закон, «как коров», был захвачен той же шайкой, когда он ехал из Грентама в Мелтон. Головорезы перевозили его «из одного леса в другой» и требовали выкуп в огромную сумму в 1300 марок. Впоследствии «братство», как они себя величали, перенесло свою деятельность в Пик, где, предупреждаемые сочувствующими местными жителями о каждой попытке служащих шерифа захватить их, они продолжали ускользать от преследователей. Главный судья Королевской скамьи, сэр Джеффри ле Скроуп, привлек внимание парламента к их незаконным действиям. Год спустя Юстас и его люди, будучи превосходными лучниками, были прощены в обмен на службу в королевской армии в Шотландии. Но как только кампания завершилась, они вернулись к старым занятиям в леса. И хотя один из Фольвиллей, капеллан, был схвачен и обезглавлен в 1345 году после драматической осады в Ратлендской церкви, где он искал убежища, Юстас так и не был пойман, пока он сам не умер годом позже[271].
Без широкой поддержки Фольвилли[272] отличавшихся огромным мужеством и, возможно, ставших жертвами несправедливости или считавшие так, вряд ли смогли бы оставаться на свободе в самом сердце Англии в течение почти двадцати лет. Обширные лесные чащи средней и северной Англии кишели беглецами от правосудия – людьми вне закона, – которые не могли искать защиты у королевских судей и жили, игнорируя их. Сельские жители, чьи дома стояли возле королевских или баронских лесов, часто имели свои счеты с властями, так как лесные законы и вердереры[273], кто следил за их выполнением, не щадили бедного сельчанина, который, взяв собаку и лук, отправлялся в запретные угодья, чтобы набить свою суму олениной. Существовала естественная близость между изгоем и браконьером, который помогал тому защищать свое убежище в лесу. Когда засада на «королевского вассала и на добро Святой Церкви» означала захват с целью выкупа торговца шерстью, скупого землевладельца или жирного аббата, сельский народ радовался за разбойников, которые их захватили и которые давали, если традиция и легенда не врут, некоторые остатки добычи бедным.
В XIV веке появились первые записанные упоминания о Робине Гуде – северном изгое, жившем вместе со своими веселыми собратьями в лесу и грабившем богатых, но щадившем бедных. Хотя большинство баллад дошло до нас в более поздних вариантах, все они произошли от легенд, изначально передаваемых в форме сказания или песни. Возможно, что они брали начало со времен войн де Монфора или даже героической эпохи правления Ричарда I и Иоанна. Но короля, фигурирующего в балладах, готового по справедливости рассудить изгоев, если явной становится их правота, обычно зовут Эдуард. Он предстает величественным сувереном, готовым поддержать свою честь в честном бою или в битве на кулачках с самим Робином Гудом. Три Эдуарда, правившие с 1272 по 1377 год, отличались превосходными физическими данными, двое из них были знаменитыми воинами, а третий, хотя и презираемый собственным классом, любил грубые наслаждения своих подданных-простолюдинов и был с ними на дружеской ноге. Поэтому не стало случайностью то, что после убийства Эдуард II стал популярным героем и даже святым для простых людей долины Северна.
Некоторые черты повторяются во всех рассказах о Робине Гуде. Всегда в них присутствует герой, отрекшийся от правосудия, неустрашимый защитник бедных и обиженных, отстаивающий свои и их права благодаря великолепному владению луком, оружием, которое впервые вошло в употребление в Англии в конце XIII века, главным образом среди йоменов Чеширского и Мидландского лесов, перенявших это мастерство у валлийских горцев во время войн Эдуарда I. Локальные географические названия в честь Робина Гуда находятся почти в каждом северном графстве, но чаще всего встречаются в Ноттингемском Шервуде и в Барнедейле в Пеннинах.
В некоторых из этих легенд вождем изгоев является реально существовавший персонаж, как, например, Хереуорд Бодрый, Фульк Фитцуорин, барон, который бросил вызов королю Иоанну, или Адам Гудронский, сражавшийся против будущего Эдуарда I в Гемпширских лесах после падения де Монфора. А в одной даже фигурирует шотландский герой Уильям Уоллес. Однако большинство остальных носят имена, которые нельзя идентифицировать с какими-нибудь историческими лицами, например, Адам Белл из Клуя, Уильям Клодисдейл и сам Робин Гуд – имя, которое могло прийти из языческого фольклора и происходить от Годекина, саксонского духа деревьев, или от эльфа Робина Гудфеллоу (Хорошего парня). Несмотря на власть христианской церкви, мифы языческого прошлого до сих пор были необычайно популярны среди сельского люда. Таким был культ «человека в зеленом», во многом традиционный танец, исполняемый весной в костюмах героев из баллад о Робине Гуде и в гирляндах церковных башен, и чье изображение можно было увидеть под сводами крытых галерей в Нориджском аббатстве и на капители в поперечном нефе церкви Лалнтилио Кроссени в Монмутшире[274].
Любители древностей также пытались провести параллели с людьми с таким же именем, которые мелькали в разное время в судебных свитках и других отчетах, как, например, Робин Гуд, который был держателем Уэйкфилда во времена победоносной кампании Эдуарда II против Томаса Ланкастера, и чье имя вскоре вновь появилось в списках королевских служащих в качестве камердинера. Но так как в монастырской книге записей встречается упоминание о древнем камне Робина Гуда в южном Йоркшире, относящееся почти к тому же самому времени, этот человек не может быть героем легенд. Возможно, наиболее близок к реальному Робину Гуду в письменной истории некий Роджер Годберд, неприметный последователь де Монфора, который, будучи вне закона, долгое время после того как все остальные сдались, скрывался в Шервудском лесу и в течение нескольких лет в последние годы правления Генриха III доставлял немало беспокойства шерифу Ноттингема и богатым путешественникам. В одном случае, после того как управляющий Шервуда поймал в лесу двух мужчин с луками и стрелами, они были освобождены группой из двадцати разбойников, вооруженных мечами и луками.
Ясно то, что в каждой версии этой саги о простой и попранной мечте человека[275], герой, бросавший вызов закону из своей лесной крепости, становится вождем и защитником всех тех, кто несправедливо пострадал. «Смотрите, – говорит Робин своим; последователям, -
«Не причиняй вреда мужу Который возделывает плугом землю; Иначе не бывать тебе хорошим йоменом, Что соблюдает границы владений».В то же время, как рыцари короля Артура в современных рыцарских легендах, он отличается почти что преувеличенной учтивостью и благородством по отношению к слабым и нуждающимся, против чьих притеснителей он объявляет безжалостную и жестокую войну:
«Этих епископов и архиепископов, Ты будешь избивать и связывать, Так Верховному шерифу Ноттингема Ты мысленно предрекал».Своим умом, мужеством и мастерством в стрельбе он борется против «правящих кругов» – несправедливых судей и жадных прелатов, а также всех, кто узурпировал чужие права и собственность, и в конце, после долгой героической борьбы, в которой не дано и не попрошено пощады, давая волю гневу, наказывая своих притеснителей, он восстанавливает в правах каждого человека, включая самого себя, и получает прощение и благосклонность короля, чьи чиновники оказались лживыми ворами.
Таким образом, этот защитник людей не предает своего суверена, по отношению к которому, несмотря на все свои ошибки, он остается верным и преданным подданным. Несмотря на свои популистские симпатии, он обычно оказывается человеком благородных кровей, лишенным собственности землевладельцем, а в некоторых из позднейших баллад – так как его положение, так же, как и подвиги, с годами все больше росли – графом. В то же время, несмотря на преследование алчных аббатов и епископов, живущих по законам зла, он остается благочестивым сыном Святой Церкви. Одним из последователей Робина Гуда был монах, который всегда особо подчеркивал столь характерное для того времени почитание благородным разбойником Девы Марии, которая была вдохновением благородства и учтивости по отношению к слабым.
«Робин настолько почитал Богоматерь, Что, боясь смертного греха, Никогда не причинял вреда компании В которой была хотя бы одна женщина».Если Робин Гуд был воплощением негодования простых англичан против угнетения и несправедливости, он также стал образцом воинского достоинства, которым столь восхищался. Чем Артур и его рыцари Круглого стола являлись для высшего общества, тем Робин и его друзья стали для простого народа. То, чего один добивался мечом и копьем, второй – луком и дубиной. Робин обладал драчливостью терьера. Когда он столкнулся с достойным противником, ноттингемским кожевником по имени Артур, он бился с ним весь день:
«Недолго я шел, – ответил храбрый Артур И дубовый посох почти ничего не весит, – Всего восемь с половиной фунтов, – он свалит с ног теленка А заодно, надеюсь, и тебя. ...Так неслись они и неслись, Словно пара затравленных кабанов, И удары попадали точно в цель, калеча, Ногу, руку или что другое».Помощники Робина все были выбраны за свою способность перечить ему и также легко отдавать то, что они взяли; только когда они подтверждали свои достоинства, он открывался и доверял им:
«Тогда Робин взял их за руки И они заплясали вокруг дуба, приговаривая: „Мы три весельчака, мы три весельчака, Мы три весельчака!”»Так же, как и он, англичане любили людей, умевших твердо стоять на своем и никогда не просить пощады. Именно так они учились уважать друг друга.
В отличие от крестьян, живших на континенте, где война являлась прерогативой знати и их свиты, английские сельчане учились сражаться по винчестерскому статуту Эдуарда I и старому англосаксонскому правилу, по которому каждый мужчина от пятнадцати до шестидесяти лет должен вступать в народное ополчение, чтобы защищать королевство и поддерживать порядок. Для бедняка основным оружием был лук и стрелы. Во всех балладах Робин – меткий стрелок. В Уитби в Йоркшире путешественникам обычно показывали два каменных столба, находившихся в миле друг от друга, о которых говорили, что их установил средневековый аббат в память о стрелковом мастерстве одного из изгоев. Три раза, говорили, на состязании лучников в Ноттингеме
«Когда Робин бил из лука, Он всегда расщеплял прут».И когда он со своими друзьями перешел с простых мишеней на людей шерифа, пытавшихся схватить его в момент триумфа, городскому главе пришлось спасаться бегством под градом стрел. Всеми этими чертами Робин Гуд символизировал свой народ.
Даже во время войн про Ричарда Львиное Сердце английские лучники в Мессине говорили, что «любой, кто выглянул бы за дверь, получил бы стрелу прежде, чем успел закрыть ее». Но во времена Эдуарда III после полувека почти бесконечных войн с Уэльсом и шотландцами, мастерство стрельбы из лука широко -распространялось. Практика стрельбы по мишеням в деревнях после воскресной службы была предписана законом, а состязания лучников стали любимым развлечением общества в дни пиров и праздников, когда
«Они показали столь великолепную стрельбу из лука Расщепляя палочки и прутья».Часто, как рассказывается в балладах, они проходили в присутствии их воинственных лордов и князей. Робин Гуд приказывал своим людям:
«Согните ваши луки и стрелой с гусиным оперением Устройте такую потеху, какую вы устроили бы Для короля».Большой лук – изначально в родном Уэльсе его делали из грубого неполированного вяза – в Англии обычно изготовляли из тиса. Его натягивали не силой руки, но всего тела. Епископа Латимера в следующем веке, когда он был еще мальчиком, учили ложиться телом на лук, а по мере того, как он взрослел, лук становился все больше и больше, так как «люди никогда не будут стрелять хорошо, если они не воспитаны с луком в руках». Стрелы, длиной в ярд, с гусиным оперением, полученным от гусей, кормившихся на деревенских выгонах и лугах:
«Их стрелы, тонко заточенные, обернутые корой и оперенные, Хорошенько просмоленные, чтобы лететь в любую погоду, Закругленные и граненые, с раздвоенными наконечниками, Наполняли воздух свистом, слышным за милю».В некоторых версиях более позднего времени существует описание стрелка, бьющего в цель:
«Хорошо сложенный юноша С великолепным изяществом левой рукой Державший лук, принял устойчивую позу, Выставив левую ногу вперед; В правой руке уверенно раскачивал стрелу, Не сутулясь, но и не стоя навытяжку Левой рукой, чуть выше глаза, Упруго выбросил руку, Чтобы натянуть стрелу в ярд длиной».* * *
Ко времени вступления на престол Эдуарда III лук стал английским оружием par excellence, с которым ни один другой народ не мог так управляться, и которое сформировало телосложение англичан. Век спустя иностранный путешественник заметил, что луки, которыми пользуются островные жители, были «толще и длиннее, чем те, которыми пользуются другие народы, и они обладают большей физической силой, чем другие». В руках таких мастеров, как шервудские и чеширские лесники, это оружие стало еще более смертельным и точным, нежели поколение назад. Никто не понимал это, за исключением нескольких человек – одним из которых, по-видимому, был сам Эдуард – он привнес в жизнь нации элемент силы, который вскоре окажет воздействие не только на судьбу нации, но и на структуру английского общества.
Первые, кто почувствовал силу англичан, были шотландцы. Брюс и Дуглас умерли, и из патриотического трио, спасшего Шотландию, остался только Томас Рэндолф, граф Морея, управлявший королевством в качестве регента при шестилетнем сыне Брюса Давиде II. Хотя он и презирал Шотландскую независимость, Эдуард сначала и вида не показал, что собирается отречься от Нортгемптонского договора. Он также не мог пренебречь требованиями своих северных сторонников – «лишенных наследства», как их называли, – которые, по договоренности, в определенных случаях, получили обратно свои шотландские земли. Некоторые были друзьями, которые рисковали жизнями в coup d'etat против Мортимера, другие преданно сражались на стороне его отца или деда. Хотя почти все они были английскими аристократами, владевшими шотландскими имениями, либо приверженцами Комина или Баллиоля, противниками Брюса, владевшие но праву наследования имениями и титулами в Шотландии, которых правители страны, считавшие их предателями, не желали признавать, раздав поместья своим приверженцам.
Вскоре после того как Эдуард взял власть в свои руки, он попросил об их восстановлении. Пятнадцать месяцев спустя, когда ничего не изменилось, он вновь обратился к шотландскому регенту. Так как его просьбу игнорировали, он смотрел сквозь пальцы на то, как лишенные наследства взяли закон в свои руки, позволяя им готовиться к вторжению в Шотландию с английских земель. Он уже предоставил приют Эдуарду Баллиолю, сыну прежнего короля, и именно от имени Баллиоля и под его началом 31 июля 1332 года небольшое войско экспатриантов, включая англизированных графов Ангуса и Атолла, приплыло из Рейверспур. Их сопровождали несколько сотен английских лучников. Незадолго до их отплытия в Масселбурге умер регент, как некоторые говорили, от яда.
Высадившись в Кингхорне в Файфе и встретив лишь слабое сопротивление, захватчики взяли Дамфермлайн. Но 10 августа они наткнулись на крупные силы шотландцев в Даплин Муре, которыми командовал преемник Рэндолфа, граф Мара. Той ночью, пока шотландцы вспоминали битву при Бэннокберне и пели непристойные песни об англичанах, люди Баллиоля тайно пересекли воды Эрна и напали на них на рассвете. Стрельба английских лучников была столь быстрой и яростной, их стрелы так точно попадали в цель, что войска Мара были фактически уничтожены. «Груда погибших, – писал лейнеркостский хронист, – в высоту превышала длину копья».
После этой битвы победители вошли в Перт и короновали Эдуарда Баллиоля в Скуне. Однако коронация оказалась несколько зловещей, и на пиру те, кто принимал в ней участие, сидели в полном вооружении. Затем в Роксбурге, куда ему пришлось отойти, чтобы быть ближе к границе, Баллиоль тайно известил Эдуарда, что он признает его своим сувереном, и обещал уступить ему город и графство Берик.
Прежде чем закончился год, Баллиоль и его приверженцы покинули страну. В ответ на это, все еще уверяя о своих мирных намерениях, Эдуард переместил свой двор в Йорк и приготовился вторгнуться в Шотландию от имени Баллиоля. Весной 1333 года он осадил Берик. Два месяца город упорно держался, пока, не столкнувшись с голодом, его командующий не согласился капитулировать при условии, если его не освободят к 19 июля. Положение было точно таким же, в каком оказались англичане при Бэннокберне. Только теперь шотландцы должны были освободить осажденную крепость, а англичане – дать им бой, чтобы не допустить этого.
Когда 19 июля, откликнувшись на вызов, новый регент Арчибалд Дуглас, брат знаменитого сэра Джеймса, подошел к голодающему городу, он обнаружил англичан, преградивших ему путь на северном склоне Халидон Хилла. Они выстроились в длинную тонкую линию, состоявшую из спешившихся рыцарей и тяжеловооруженных всадников, разделенных на три бригады, между которыми и на флангах которых выступали клинья из лучников с огромными шестифутовыми луками и колчанами, полными стрел. Вершины этих четырех выступов выдвинулись вперед таким образом, что между каждыми двумя группами была постепенно сужавшаяся и поднимающаяся вверх воронка, на конце которой находился ряд вооруженных людей с флагами и знаменами, развевавшимися над блестящими пиками. За ними находился резервный отряд, чтобы пресечь любую попытку врага снести лучников на флангах, в то время как небольшие силы конных рыцарей и солдат были размещены поблизости, чтобы перехватить любого шотландского всадника, попытавшегося добраться до Берика, минуя холм. В тылу, защищенном повозками обоза, расположился лагерь, где находились лошади, ожидавшие призыва своих хозяев и охраняемые пажами и оруженосцами, присматривавшими за конем и оружием хозяина.
Именно доблестный Харклай – казненный несправедливым отцом Эдуарда – который десять лет назад при Бургбридже впервые использовал урок Бэннокберна, встретил спасавшегося бегством Ланкастера и его рыцарей выстроившимися в ряд спешившимися тяжеловооруженными конниками и лучниками. С тех пор, в злосчастной кампании 1327 года в Стенхоупском Парке, Эдуард для себя понял глупость пытаться атаковать шотландских пикенеров с помощью тяжелой конницы или преследовать их, убегающих на своих привыкших к зарослям вереска лошадях по северным холмам и долинам. В это время, убедившись, что они не могут добраться до Берика иным способом, он намеревался заставить шотландцев атаковать его. Он не хотел позволить прогнать себя, как было с его отцом, безжалостно надвигавшимися копьями в невыгодную для его людей позицию. Вместо этого он разработал поле боя, полностью отвечавшее его замыслам.
Ловушка, устроенная им, была смертельной, не то что болота Бэннокберна или рвы, вырытые Брюсом на дороге к Стерлингу. В руках английских лучников были длинные луки из Гвента, пришедшие с незапамятных времен, а Эдуард и его лорды-воины нашли возможность превратить их в военное оружие, обладающее мобильностью и убойной силой, о чем до сих пор они и не мечтали. Один из лордов, крестоносец Генрих Гросмонтский – сын графа Ланкастера, известный своим собратьям как «отец солдат» – сражался при Бэннокберне, и, возможно, именно этот одаренный богатым воображением и замечательный полководец первым разглядел, как использовать лук, чтобы коренным образом изменить военное искусство. Бесспорным казалось то, что в течение всех недель ожидания во время блокады Берика английской армией, лучники, которых военные комиссары Эдуарда собрали из северных и средних графств, совершенствовали свое мастерство в постоянных маневрах и упражнениях, так же, как пикинеры Брюса тренировались перед Бэннокберном, репетируя битву, которую он предвидел. Объединенные в отряды вместе с тяжеловооруженными конниками из их родных графств и муштруемые седыми ветеранами, изучившими воинское искусство среди валлийских и шотландских холмов, они учились действовать не только в качестве отдельных стрелков, но сплоченно в фалангах, из которых, по приказу командира, ритмично вылетали залпы стрел с невероятной скоростью, которые могли направляться сначала в одну часть атакующих, затем в другую, пока каждое живое существо не погибнет или не будет искалечено. В металлических шлемах и подбитых оленьей кожей куртках, этих легких, деятельных мужчин тренировали перестраиваться в расчлененный строй, обстреливать продольным огнем колонну с фланга и даже ряда, комбинируя стрельбу и движение, по сигналу горна или какому-либо другому, передислоцироваться под прикрытием своих товарищей в многочисленные шеренги, в которых так долго, насколько хватало боеприпасов, они были практически неуязвимы. Среди них – прощенные своим королем – находились объявленные вне закона Фольвилли и другие изгои из Шервудского леса. Они обладали мастерством незаметно подкрадываться к своему противнику и уничтожать его, но теперь их усилия были направлены не на главного недруга – ноттингемского шерифа – и его бейлифов, а на врагов короля[276].
Именно в это время – летним утром 1333 года – шотландская армия на собственной шкуре испытала, прибыв на склоны Халидон Хилла, то, что должно было случиться с другими и более знаменитыми армиями, находившимися в руках союза английских лучников и тяжеловооруженных конников под началом их молодого короля, наследника Плантагенетов, и его лейтенантов, большинство из которых заслужили славу, применяя ту же самую тактику на полях Европы. Когда пикинеры в своих плотных шилтронах и в сопровождении колонн конных рыцарей шли вперед по болотистой почве у подножия холма, они внезапно попали под град стрел. Когда стальные наконечники стрел достигли своей цели, погибли сотни шотландцев, проклиная триумф своих отцов, который они упорно пытались повторить. Склоняя свои головы под сверкающим ливнем и смыкая свои ряды, они инстинктивно стали осторожно отходить от лучников и карабкаться на холм. Прижавшись друг к другу с такой силой, что они почти задыхались, терзаемые выстрелами лучников и многочисленными залпами из строя, куда стрелки отходили при каждой попытке атаковать их, шотландцы упорно поднимались по склону по направлению к ожидавшему их строю закованных в броню английских воинов, единственному месту, куда не попадали стрелы. Затем, запыхавшиеся от подъема, выжившие бойцы достигли преграды из копий, рыцарей и тяжеловооруженных конников, свежих и жаждавших драки, которые тотчас начали рубить их огромными мечами и боевыми топорами, заставляя их спуститься со склона, где шотландцев вновь ждал град из стрел.
Та же участь была уготована конным лордам и рыцарям. Отряд, пытавшийся обойти фланги противника, чтобы добраться до Берика, был перехвачен конницей Эдуарда, а остальных разили стрелы, когда они старались направить своих испуганных коней взобраться на холм, и они падали друг на друга, превращаясь в спутанный клубок из извивавшихся людей и животных. Даже когда их бесстрашие не могло в большей мере угаснуть и они были сломлены, английские рыцари призвали своих пажей с лошадьми и преследовали шотландцев по холмистому Берикширу до самой ночи, «убивая несчастных, – по словам лейнеркостского хрониста, – железными жезлами». Сам регент был смертельно ранен и взят в плен, а шесть графов остались лежать на поле боя. Семьдесят шотландских лордов, пятьсот рыцарей и сквайров и почти все пешие воины погибли. Англичане потеряли одного рыцаря, одного тяжеловооруженного конника и двенадцать лучников. Одно-единственное утро положило конец кропотливому труду шотландцев, длившемуся четверть века, а паутина Брюса была разорвана английской дисциплиной и «серыми гусиными перьями».
Глава VII РЫЦАРИ ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ
«Существуют периоды, когда история войн является истинной историей народов, ибо они есть испытание государственного опыта».
Епископ СтаббсНе только Берик, но и Шотландия теперь находилась на милости Эдуарда. Он не включил ее в Англию, как это сделал его дед после Спотсмюра, но, возвращаясь к его изначальной политике, пожаловал ее, как верховный лорд, Баллиолю в качестве лена. Англо-шотландский парламент сторонников последнего отменил все акты династии Брюсов и ратифицировал все обязательства по отношению к английскому королю, сделанные в прошлом году. Графства Дамфрис, Селкирк, Пиблс, Роксбург, Берик и оба Лотиана были переданы «королю, короне и королевству Англии со всеми их городами и замками, правами и иными принадлежностями». От шотландского юга на заливе Форт остались только Стерлинг, Ланарк, Дамбартон, Эр и Галлоуэй. Эдуард также получил остров Мен, который он отдал своему другу и собрату по оружию Уильяму Монтэгю[277].
Однако каким-то образом Шотландия Брюса и Уоллеса выжила. Лишенные наследства ссорились из-за останков того, что было Шотландией, а презрение народа к Баллиолю сокращало его власть до территории несколько большей, чем то место, где ему случалось быть. В течение следующего года он был вынужден снова искать убежище в Англии, пока мальчик король Давид II был тайно переправлен его сторонниками во Францию. И хотя в 1335 году, когда Эдуард снова захватил Шотландию, большинство шотландских магнатов заключило мир с узурпатором и «никто, кроме детей в своих играх, не смел называть Давида Брюса королем», партизанское сопротивление продолжалось. Как только англичане строили форты, чтобы держать сельскую местность в страхе, шотландцы разрушали их. Подобно Уоллесу и Брюсу «они прятались в дикой местности, среди болот и в густых лесах, так что ни один человек не мог найти их». Сестра Брюса держалась в Килдрумме, и когда предатель граф Атолла осадил ее замок, наследник Дугласов, «черный рыцарь из Лиддесдейла», и сэр Эндрю Морей – третий регент поверженного королевства за три года – прибыли освободить ее и убили Атолла под дубом в Килблейнском лесу.
При этом именно Франция спасла Шотландию. Эдуард ничего не хотел от этой страны за исключением своих наследственных земель в Ажене, которые французские короли захватили под законным предлогом у его отца и так и не вернули. Он так сильно желал дружественных отношений со своим кузеном Валуа, что летом 1331 года переодетый купцом он совершил тайный визит в Аррас, где принес второй и полный вассальный оммаж от своего герцогства. Он даже предложил отказаться от своих гасконских доходов на несколько лет в обмен на правильное решение дела в отношении Ажене и предложил брак между своим сыном и дочерью Филиппа. Он также предложил отправиться с ним в крестовый поход.
В результате для рассмотрения спора была назначена англо-французская судебная комиссия. Но Аженский процесс, как его называли, хотя сначала начавшийся в духе мудрого расследования, вскоре вылился в правовые споры, под которым погибли все первоначальные попытки прийти к соглашению. Обе стороны, исключительно подозрительные, начали настаивать на гарантиях, на которые другая боялась согласиться и, как отметил хронист, «грызть кость спора зубами тупого кляузничества». Англичане отвергали предложение отказаться от определенных замков, а французский король угрожал гасконской знати на спорных территориях лишением наследства и даже смертью, пока они не выкажут полную преданность. Он также намекал, что он может захватить наследственные земли Эдуарда в Понтье – земли в северной Франции, которые было невозможно защитить, – пока он не отдаст замки. Проблема заключалась в том, что комиссары пытались не просто судить с точки зрения феодального права, но примирить претензии соперничающих государственных суверенитетов. Старые свободные феодальные отношения больше не удовлетворяли ни одну из сторон. Эдуард, суверен в Англии, желал им быть и в своих французских доминионах; Филипп и его юристы не были готовы признавать его иначе как на правах подданного. Не было достигнуто никакого соглашения, и спорные земли остались в руках французов[278].
А между тем обе страны поссорились по поводу Шотландии. После того как французский король оказал Давиду такое же гостеприимство, какое Эдуард предоставил Баллиолю, французский король настаивал, что шотландцы должны быть включены в любой договор между Францией и Англией. Франко-шотландский альянс семилетней давности стал реальностью. Если Эдуард желал быть хозяином Британских островов подобно своему деду, было совершенно очевидно, что сначала он должен решить этот вопрос с французским королем, а ценой такого решения был контроль над Францией.
Хотя феодальная идеология уступала место концепции единого государства, власть феодального лорда все еще представляла собой исключительно важную концепцию для средневекового сознания, поддерживаемую как церковными правилами, так и нормами рыцарства и чести. Часть земель, которые Эдуард рассматривал как принадлежащие ему по праву в силу договора, заключенного его прадедом и Людовиком IX, ныне отторгалась у него. При этом главный лорд, который совершал это, – его собственный кузен и принц, чье право на французский престол было, по мнению Эдуарда, не больше его собственного, – подталкивал шотландцев к отказу от своей лояльности. Всякий раз, когда Эдуард почти заставлял шотландцев признать его сюзеренитет и его вассала Баллиоля в качестве своего короля, Филипп тайно или явно приходил к ним на помощь. Когда летом 1336 года, получив субсидию на шотландскую кампанию от парламента, всегда больше готового давать деньги против шотландцев, чем кого-либо другого, Эдуард зашел на севере так же далеко, как и его дед, и сжег Абердин и Форрес, Филипп отправил из Средиземного моря в Ла-Манш суда, которые он собирал для крестового похода, и заставил его торопиться обратно на юг. Французские деньги и поставки помогали Роберту, сенешалу Шотландии, и Эндрю Морею бросить вызов англичанам, а графине Данбара – дочери Рэндольфа, – держаться много месяцев в замке своего мужа, расположенном на дороге между Эдинбургом и Бериком, против большой армии под командованием Уильяма Монтэгю. Когда ей сказали, что ее брат, граф Морея, находившийся тогда в качестве заложника у англичан, – будет убит, если она продолжит сопротивление, «черная Агнес», как ее называли соотечественники, ответила, что в этом случае она унаследует его графство. И когда осаждающие пробили стены таранами и камнеметательными орудиями, она и ее фрейлины появились на стенах замка, пышно разодетые, и начали протирать пыль своими косынками. Благодаря французским кораблям с провизией она смогла бросить вызов всем попыткам Монтэгю вытеснить ее из замка и в конце концов принудила его ретироваться. «Приди я раньше, приди я позже, все равно нашел бы Агнату у ворот», – жалуется Монтэгю в балладе шотландского барда.
Таким образом, неудивительно, что когда обиженный и изгнанный из Франции Роберт Артуа, нашедший пристанище у двора Эдуарда, молил его бросить вызов французскому королю, его без сомнения одобрили. Ему было даже разрешено в процессе лебединого праздника в Вестминстер-холле привлечь внимание к праву Эдуарда на французский трон, подав цаплю за королевским столом – трусливую птицу, которая, как он объяснил, подобно англичанам, никогда не будет драться за свое наследство. Ибо и другие страдали от агрессивности Филиппа Валуа и боялись его власти. С того времени, когда Генрих III заключил семейный договор с Людовиком IX Французским, на карте Европы произошли большие изменения. В те времена доминирующей светской властью была феодальная германская и итальянская империя Гогенштауфенов, тогда втянутая в борьбу с папством не на жизнь, а на смерть. Но когда эта борьба закончилась триумфом последнего, именно Франция пожинала плоды победы, которая разрушила как существование единой империи, так и папскую мирскую власть. Пока Англия была втянута в долгую дорогостоящую попытку завоевать Шотландию, Филипп Красивый Французский, в поисках расширения границ до Пиренеев, Альп, Рейна и Северного моря, подчинил себе Шампань, Брие, Франш-Конте, Лион, Наварру и большую часть Лотарингии. Когда он умер, в год Бэннокберна, независимыми фьефами из крупнейших лежащих вне Франции провинций оставались только Фландрия, Бретань и Гасконь – остатки когда-то огромного герцогства Гиеньского или Аквитанского.
В 1337 году Франция, безусловно, являлась самым крупным государством в христианском мире с населением более 12 миллионов человек, по крайней мере в четыре раза превышающим население Англии. Она превосходила все остальные страны Европы в культурном, художественном и военном отношении, обладая огромным сельскохозяйственным богатством и быстрорастущей промышленностью и торговлей. Папство было перемещено из Рима в анклав Роны, где в Авиньонском дворце череда французских пап, контролируемая коллегией французских кардиналов, держала в своих руках власть могущественных итальянских предшественников. Несмотря на германскую колониальную экспансию в Балтийский регион и Остмарк, а также торговые и художественные достижения итальянских городов, и Германия, и Италия потеряли свою политическую сплоченность. А мечта Данте о единой христианской монархии, сосредоточенной в Риме, поблекла перед уродливой реальностью города-государства, после того как государство попало под жесткий диктат некоего народного или олигархического тирана и стало вести войну против другого государства.
Именно на равнине между Пикардией и Рейнландом угроза французской агрессии была наибольшей. Каждые несколько лет какое-нибудь новое вторжение, правовое или военное, расширяло ее границы все восточнее или севернее. С момента французской победы при Касселе над фламандскими крестьянами и ткачами в 1328 году, которые за четверть века до этого разгромили французское рыцарство при Куртре, Фландрия стала французским фьефом в реальности, а не только на словах. И хотя ее граф и многие из ее богатых капиталистов, в страхе перед презренными представителями рабочей «белой кости» своих мануфактур, оставались верными лилиям и были готовы заплатить цену в виде эмбарго на английскую шерсть, другие провинции Нидерландов – фьефы, принадлежавшие не Франции, а империи, – имели общие интересы для сопротивления французской агрессии.
Именно с помощью коалиции этих провинций и князей Северной Германии Эдуард пытался обеспечить необходимую основу и людские ресурсы для смирения Филиппа Валуа. В начале лета 1337 года великолепное посольство во главе с епископом Линкольнским и графом Солсбери отправилось из Англии для переговоров о союзе с Гегенау, Брабантом, Гельдерландом и Юлихом, то есть со всеми теми правителями, которые уже были связаны с Эдуардом посредством брачных уз. Граф Гегенау, который также царствовал в Голландии и Зеландии, был его тестем; граф Гельдерланда и маркграф Юлиха были его шуринами. Герцог Брабанта приходился ему кузеном, а император или король германский лично, Людовик Баварский, чьими всеми официальными вассалами они были, был женат на сестре королевы Филиппы.
Кроме того, как обнаружил его дед, за европейские альянсы нужно было платить. Англичане, однако, теперь были гораздо больше готовы финансировать войну за свои фьефы, находящиеся в руках французского короля, чем во времена Эдуарда I. После унижений последнего царствования победы молодого короля над Шотландией, его благородство и галантность манер сделали его очень популярным, особенно среди столичных купцов, которые получали много выгод от непринужденных трат его великолепного двора[279]. Существовало общее чувство, что французский король обращается с ним подло. Осенью 1336 года большой совет государства даровал ему право на сбор десятой и пятнадцатой части доходов и, когда весною 1337 года Филипп объявил его французские фьефы конфискованными и послал в Гасконь и Понтье войска, парламент вотировал продление субсидии на три года, таким образом увеличив поступления в два раза, по сравнению с мирным временем. Одновременно ассамблея купцов согласилась на специальный налог на каждый экспортируемый мешок шерсти, дав королю возможность сделать заем у продавцов шерсти в обмен на монополию шерстяного экспорта через основную рыночную таможню, которая, для поддержки герцога Брабанта, была возрождена в Антверпене. Эдуард также получил субсидию от духовенства конвокаций Кентербери и Йорка. Чувство, что Эдуард I пытался вызвать тщеславие у англичан, наконец стало принимать ясные очертания. Люди больше не рассматривали заморские дела короля как частные феодальные обязательства, далекие от них самих. Осознавая общую судьбу, они считали своим долгом помочь ему.
Что же касается рыцарских классов, на которые должна была лечь основная тяжесть войны, они так же одобряли планы своего короля, как это делали их предки во времена Бигода и архиепископа Уинчелси, более того, наоборот, они жаждали доказать на поле боя тот героизм, который так часто выказывали на рыцарских турнирах. Весной 1337 года Эдуард созвал в свой парламент в Вестминстер блестящее собрание, на котором он пожаловал графские титулы, так же, как и поместья для их поддержания, шестерым из своих ближайших друзей, включая двух главных наместников в Шотландии: своему кузену Генриху Гросмонтскому, который был сделан графом Дерби, и Уильяму Монтэгю, который стал графом Солсбери. Он также пожаловал герцогство Корнуолла – новый для Англии титул – своему шестилетнему сыну, принцу Эдуарду. И в присутствии своих жен сорок молодых рыцарей-вассалов, все с шелковыми повязками на одном глазу, поклялись никогда не снимать их до тех пор, пока они не совершат какое-нибудь рыцарское деяние во Франции.
Король воззвал не только к рыцарским классам. Свое доверие он высказал всему народу. В манифесте, зачитанном в суде каждого графства, он подробно описал всю свою историю с переговорами с Филиппом и свои повторные попытки сохранить мир и предложил, что если кто-нибудь знает лучший способ, последовать ему. На конец сентября был назначен сбор войск и были запрещены все спортивные игры за исключением состязаний по стрельбе из лука.
Первые боевые стычки произошли в ноябре, был осуществлен специальный рейд в Кадзанд, расположенный в устье Шельды, под руководством сэра Уолтера Мэнни – галантного уроженца Гегенау, который был большим фаворитом Эдуарда и его супруги и который, приняв Англию в качестве своей родины, позднее стал основателем лондонского Чартерхауса[280]. «Когда англичане увидели перед собой город, – написал Фруассар, – они были готовы и им помогал как ветер, так и прилив. И так с именем Господа и Св. Георгия они приблизились и затрубили в трубы и установили луки перед собой и поплыли к городу». Лучники «стреляли так плотно», что фламандцы после упорной борьбы бежали, брат графа Фландрии был взят в плен. Но французы и их генуэзские и испанские союзники были сильнее на море, чем англичане, и этот рейд был окуплен с лихвой. Гастингс, Рай, Портсмут и Плимут были сожжены дотла. Саутгемптон пострадал особенно сильно, так как на него, напали пятьдесят галер, одна из которых была оснащена «железным горшком», стрелявшим железными стрелами в дома. «Они пришли в воскресенье утром, пока люди были на мессе и... грабили и мародерствовали в городе и резали прятавшихся и портили девственниц и насиловали жен и наполнили свои судна награбленным и так снова погрузились на свои корабли. И когда наступил прилив, он снялись с якоря и поплыли к Дьеппу и там поделили свою добычу и награбленное»[281].
Ни один из этих рейдов не испугал рыцарствующего короля. С щедрыми субсидиями его послы в Нидерландах заключали союз за союзом. Его кузену графу Брабанта было обещано 60 тыс. фунтов – сумму, равную двухгодовому доходу, получаемому Англией в мирное время, – и еще большая сумма была распределена среди семи других правителей, включая пфальцграфа и маркграфа Бранденбургского. Летом 1338 года «в хорошем сопровождении графов и баронов» Эдуард пересек Северное море, высадился в Антверпене и, путешествуя с великолепной и весьма дорогой помпой через Брабант к Кельну и оттуда вверх по Рейну в Кобленц, был облечен императором полномочиями главного наместника имперских земель к западу от Рейна на период войны с Францией. При этом, хотя все это казалось великолепным и обнадеживающим в то время, оно не давало результатов. Потребовалось больше года и огромные средства на пиры и турниры – «давая большие награды и драгоценности лордам, дамам и юным леди страны, чтобы заручиться их доброй волей» – пока Эдуард не склонил своих союзников к выступлению на поле боя. И когда в конце концов осенью 1339 года они это сделали, ничего кроме трат и разочарований это не принесло. Ибо хотя горя желанием повторить свои подвиги на Халидон-Хилле, король и его английские рыцари и лучники «выехали против тирана французского короля с поднятыми знаменами», опустошая пограничные деревушки и поля, мстя за сожжение норманнскими и бретонскими пиратами южных прибрежных городов, Филипп же просто наблюдал за этими действиями из-за амьенских стен. Несмотря на присутствие в своем лагере короля Шотландии и Наварры и герцогов Бурбона, Бретани, Бургундии, Нормандии, Лотарингии и Афин он проигнорировал все насмешки и вызовы Эдуарда. А после краткой осады Камбре – бывшего фьефа империи – представители Гегенау, Брабанта и германцы стали настаивать на возвращении домой к семьям по случаю зимы. «Наши союзники, – написал с отвращением Эдуард своему сыну, – большего не могли бы вынести».
К этому времени он задолжал 300 тыс. фунтов и не сделал ничего, чтобы показать, куда израсходованы деньги, тогда как французы взяли Бурк и Блайе в Гаскони, а шотландцы вновь заняли Перт. Даже его корона была заложена, а его десятилетний наследник был помолвлен с брабантской принцессой, чтобы отсрочить выплату долгов иностранным кредиторам. При этом Эдуард все еще упорствовал в своей мечте договориться с французским королем посредством крупного альянса. И зимой 1339/40 года он достиг неожиданного успеха. Ибо доведенный до отчаяния он наложил эмбарго на экспорт английской шерсти во Фландрию, а подстрекаемые богатым гентским купцом Яковом ван Артевельде – одним из демагогов патриотического толка, которые часто приходили к власти в итальянских городах-государствах[282], – население фламандских ткаческих городов восстало против своего профранцузски настроенного графа и изгнало его из страны. Затем под предводительством ван Артевельде они воззвали к Эдуарду принять корону Франции и стать их сюзереном и протектором.
Именно благодаря поражению французского рыцарства от фламандских горожан при Куртре Эдуард I получил возможность возвратить свои гасконские доминионы. Не обращая внимания на свои долги, его внук теперь обещал им оружие, перенос рыночной шерстяной таможни из Антверпена в Брюгге и субсидию в 140 тыс. фунтов. И чтобы легализовать их отказ от оммажа и защитить их от интердикта за нарушение клятвы феодальной верности, он выдвинул формальное требование на трон своих капетингских предков. 24 января 1340 года он въехал в Брюгге и был провозглашен бюргерами королем и верховным лордом. Две недели спустя, в своей прокламации к «прелатам, пэрам, герцогам, графам, баронам, благородным и простолюдинам, живущим в королевстве Франция», он объявил, что Филипп Валуа «навязал себя силой» французскому трону, пока он был «в нежном возрасте», и что он теперь твердо решил вернуть его и «с непоколебимой целью поступить по справедливости со всеми людьми»[283]. Впредь он стал помещать французские лилии перед английскими леопардами, сохраняя их на главном месте и на печати, и на мантии.
Укрепив свой союз, Эдуард стал торопиться домой, чтобы получить необходимые средства для его финансирования. Его положение было настолько отчаянным, что он вынужден был оставить свою жену и детей, а также графов Дерби и Солсбери в Антверпене в качестве заложников за свои долги. Его расходы к настоящему моменту почти истощили английскую казну. При этом его популярность была еще достаточно высока, чтобы поднять страну. Хотя осенью, после того как его Совет завил ему, что, пока они ему не помогут, он должен сам избавиться от своих иностранных кредиторов, Общины попросили время, чтобы посоветоваться с теми, кого они представляли, они теперь объединились с магнатами, дав ему десятую часть с каждого снопа, шерсти одной овцы на два года, и десятую часть дохода с королевских бургов и пятнадцатую с остального населения.
При этом они сделали свою субсидию зависимой от его ответа на четыре петиции, одна из которых, в конце концов прекращавшая королевское право облагать налогом торговую деятельность в зависимости от желания короля даже в королевских владениях, явилась важным шагом по пути к парламентскому контролю налогообложения. В обмен на разрешение Эдуарду собирать ненавистный maltote еще четырнадцать месяцев, они получили обещание, что он никогда не использует его снова «кроме как с общего согласия прелатов, графов, баронов и других лордов и общин королевства». Они также просили об ограничении права реквизиций для нужд королевского двора, для отмены древнего процесса против людей англосаксонского происхождения, называвшегося «предъявление английского происхождения», и для убежденности в том, что французский титул короля никогда не подчинит английский.
Получив субсидии для французской кампании, Эдуард готовился к возвращению на континент, где французы сжигали города и деревни Гегенау и угрожали Фландрии. В его отсутствие флот из около 200 французских, генуэзских и испанских кораблей расположился рядом со Слейсом у устья реки Цвин, чтобы воспрепятствовать его проезду и начать блокаду фламандцев. Весь прошлый год позиция на море и рейды по английским южным портам вызывали растущее беспокойство; осенью 1339 года несколько собственных кораблей короля было захвачено в Северном море. В своих дебатах парламент акцентировал внимание на слабости страны в военно-морском отношении и «как море должно охраняться против врагов, так чтобы они... не смогли проникнуть в королевство и разрушить его».
Когда оказалось, что король должен будет пробиваться назад во Фландрию, все корабли, которые могли потребоваться, были собраны в Оруэлле, и на них были помещены лучники и тяжеловооруженные всадники. Кроме нескольких королевских небольших суденышек и галер, специально построенных для военных нужд, – содержащихся обычно в Уинчелси и Портсмуте и находившихся в ведении Тауэра под контролем специального чиновника, называемого клерком королевских кораблей, – флот состоял из одномачтовых, однопалубных торговых и рыболовных судов, тоннаж большинства из которых не превышал ста тонн. Реквизированные шерифами прибрежных графств, они должны были быть переоборудованы для военных нужд посредством добавления марсов к мачтам для ведения огня и деревянных надпалубных сооружений на носу и корме корабля под названием «баки» и «юты», из которых лучники и пращники могли метать стрелы, дротики и камни в неприятельские войска и такелаж, а войска осуществить абордаж. В честь короля они были ярко раскрашены и украшены золотыми львами. Двумя самыми большими кораблями являлись флагман – судно «Томас» и 240-тонный корабль под названием «Михаил», пожертвованный Райем – одним из Пяти портов.
При этом Англия оставалась только второразрядной морской державой. Ее флот был гораздо хуже по сравнению с армадой, находившейся у фламандских берегов Предусмотрительным умам казалась полным безумием попытка короля пробиться через него к Слейсу посредством тарана и абордажа кораблей, более высоких и тяжелых по сравнению с английскими – а это был единственный известный тогда способ ведения боя. Испуганный недостатком денег и донесениями о том, что французы и испанцы собираются захватить в плен его венценосного господина, канцлер, архиепископ Стратфорд, молили его отменить этот поход. Оба адмирала поддержали просьбу архиепископа. Когда король отказался, то архиепископ, к его негодованию, отдал государственную печать. «Я поплыву, несмотря на вас, – сказал король, – и те, кто боятся на пустом месте, пусть остаются дома».
Флот вышел в море во вторник 22 июня 1340 года и достиг устья Цвина на следующий день. «Около полудня, – написал Эдуард своему сыну, – мы прибыли к фландрскому берегу у Блакенберга, где перед нами предстал враг, сгрудившийся в порте Слейса. И, увидев, что прилив не поможет нам приблизиться к нему, мы отложили все это до вечера. В субботу, в день Св. Иоанна, вскоре после полудня, на гребне прилива, с именем Господа и уверенные в нашей правой ссоре, мы вошли в порт против наших врагов, которые выстроили свои корабли в очень сильный боевой порядок». Их было так много, написал свидетель битвы, что «казалось, их мачты являют собой сплошной лес».
Обе стороны сражались, как будто они были на земле[284]. Англичане начали атаку, имея позади себя ветер, солнце и прилив, тремя колоннами, король находился во главе центральной колонны на своем корабле «Томас», а каждый корабль был укомплектован вперемешку лучниками и тяжеловооруженными воинами. Французские и испанские корабли были объединены в цепи и представляли собой четыре линии, пересекающие эстуарий подобно стенам замка. Построенные для плавания в Атлантическом океане с высокими бортами, они возвышались над своими противниками, их палубы были заполнены рыцарями, вооруженными копьями, а также камнеметателями и арбалетчиками.
Именно английские лучники решили исход сражения. Когда они вступили в дело, они выпустили такой шторм из стрел, что палубы противника были устланы мертвыми еще до того, как их достигла абордажная команда. Стрельба по своей меткости была настолько смертельной, что многие прыгали в воду, чтобы избежать ее. Тысячи были убиты или утонули, только генуэзцы, которые отказались встать на якорь, смогли сбежать в открытое море. К утру две трети союзного флота было взято в плен или разрушено.
Победа Эдуарда при Слейсе резко подняла его престиж. До настоящего времени он казался своим собратьям князьям всего лишь королем турниров да шотландских пустошей: теперь он показал себя в главной европейской битве. Хотя последствия ее нужно было реализовать, но он уже ликвидировал превосходство в Ла-Манше атлантических мореходов. Что волновало его больше всего в тот момент, так это появившаяся возможность захватить Францию. 10 июля он въехал в столицу ван Артевельде, Гент, как герой-победитель. Его жена находилась там, чтобы приветствовать его на руках с новорожденным сыном, который войдет в историю как Джон Гонтский.
Вместе эти два человека – король и ткач – разрабатывали планы освобождения городов Артуа от династии Валуа. В конце июля они пересекли французскую границу. Пока Роберт Артуа, изгнанный претендент на фьеф, осаждал Сен-Омер, Эдуард вместе с немецкими и нидерландскими князьями установил осаду Турне. Но вскоре между союзниками возникли ссоры. Когда с бесцеремонной нетерпеливостью выскочки ван Артевельде упрекнул герцога Брабанта за неудачный штурм стен, герцог, разозленный такой дерзостью со стороны простолюдина, пригрозил увести свою армию домой. Потребовался весь такт Эдуарда, чтобы удержать его. Тем временем, вместо того чтобы броситься на освобождение города, Филипп снова отказался от битвы. Когда английский король вызвал его на поединок, тот просто напомнил ему о нарушенном оммаже.
Последним ударом по надеждам Эдуарда явилось окончание средств, которые он должен был выплатить союзникам именно тогда, когда Турне, казалось, уже собирался сдаваться. В этот момент аббатиса Фонтенелльского монастыря – его теща и вдовствующая герцогиня Геннегау – появилась в лагере союзников с предложениями Церкви о перемирии. Поскольку не было больше надежды на английские деньги, все, за исключением Эдуарда, с энтузиазмом приветствовали ее миссию. Таков был ее огромный престиж, такое уважение чувствовалось к желаниям папы и такое страстное желание нидерландских князей вернуться домой к зиме, что Эдуард, в состоянии без единого пени, был не способен противостоять им. По Эсплешанскому перемирию стороны согласились отойти на год к своим собственным границам, оставив все так, как было до войны, все, за исключением денег английского короля и английских налогоплательщиков, о возвращении которых даже не упоминалось.
Разозленный, Эдуард обрушил свой гнев за все то, что произошло, на своих министров в Англии, которые не смогли обеспечить его деньгами, из-за чего кампания и провалилась. Двумя годами ранее, кода он впервые отплыл в Брабант, он выпустил в Уолте не, графстве Суффолк, серию административных ордонансов, которые фактически поставили крупные постоянные государственные должности, казначея и канцлера, под контроль королевских чиновников Гардероба и Королевской Палаты, которые сопровождали его за границу. Большая печать была доверена хранителю малой печати, Уильяму Килсби. Килсби являлся амбициозным и не очень-то скрупулезным клерком, который удовлетворял своего господина своими талантами во взимании денег. Он находился в плохих отношениях с канцлером Джоном Стратфордом – наставником Эдуарда в юности, кода тот только стал королем, – который с 1333 года являлся также архиепископом Кентерберийским. Эта ненависть была взаимной со стороны Стратфорда – сына горожанина из Стратфорда на Эйвоне – который вместе со своим братом епископом Чичестера и своим племянником епископом Линкольна образовывал могущественную семью в рамках Церкви и королевской администрации. Когда архиепископ отказался от канцлерства перед Слейсом, его преемником стал его брат и, после возвращения короля во Фландрию, они фактически остались ответственными за Англию.
Итак, образовалось два правительства, одно дома – представленное традиционными элементами, светскими и церковными, посредством которых обычно и управлялась страна, и другое – во Фландрии – состоящее из придворных-солдат и чиновников королевского двора. Но в глазах Эдуарда единственной функцией первого было обеспечивать его деньгами. В связи же с трудностями получения платежей с перегруженных налогоплательщиков и разочаровывающими результатами шерстяной субсидии, это теперь стало практически невозможным. Растущие задержки в пересылке средств из Англии и «страдания и опасность в которых король, королева и магнаты в целом оказались из-за недостатка денег»[285], сделало взаимодействие между двумя ветвями правительства все более желчным.
К концу ноября, ничего не получив кроме извинений в ответ на свои требования и упреки, не имея достаточно средств для содержания своих отрядов и королевского двора и донимаемый уже довольно долго своими кредиторами, Эдуард решил вернуться без всякого предупреждения в Вестминстер. Сбежав тайком из Гента только с восьмью человеками свиты – включая Килсби – он сел на корабль в Слейсе и после трехдневного беспокойного путешествия высадился в ночь на день Св. Андрея прямо перед тем как пропели петухи на пристани Тауэра. Его настроение отнюдь не улучшилось, когда он не нашел на месте губернатора. Он сразу же приказал его арестовать и начал яростное расследование ошибок своих министров. Среди тех, кого он в конце концов сместил, оказались канцлер, епископ Чичестера, и казначей, епископ Ковентри, главные судьи Суда Королевской Скамьи и Суда Общих тяжб и несколько других судей, так же, как и большое количество чиновников канцелярии и казначейства. Он также арестовал коммерсантов Уильяма де ла Поля и Джона Палтни, которые провалили продажу шерсти, которую он изъял по относительно высокой цене. Но весь свой основной гнев он изверг на архиепископа Стратфорда. Обвинив его в том, что тот посоветовал ему «отправиться за море без должного обеспечения деньгами и лошадьми»[286] и затем не обеспечил его ресурсами, чтобы довести его до падения, он только с трудом и после напоминания о неприятностях, которые могут последовать за таким произволом, удержался от насильственного отправления его и его собратьев епископов во Фландрию в качестве заложников за его долги.
Но так или иначе он выдвинул обвинение против примаса в измене и незаконном присвоении общественных денег и призвал его ответить перед судом Казначейства. На место смещенных министров он назначил казначея мирянина, сэра Роберта Парвинга, и канцлера мирянина – впервые в английской истории – сэра Роберта Бурсье. Оба до этого являлись рыцарями от графств, имели юридические должности и им можно было доверить исполнять его волю. Никогда снова, провозгласил он, он не назначит кого-либо главным министром, если он не сможет его повесить, найдя того виновным в тяжком преступлении.
Считая, или показывая, что его жизнь в опасности, Стратфорд укрылся у монахов Церкви Христовой в Кентербери. В кафедральном соборе в годовщину смерти Бекета он посвятил проповедь своему убиенному предшественнику. И в первый день 1341 года он обратился к королю со следующим письмом. «Вы одержали победу над своими врагами в Шотландии и Франции, – он писал ему, – и теперь являетесь наиболее выдающимся князем христианского мира. Прекрасно понимая ваши великие дела и сильных противников, которых вы имеете, и великую опасность, в которой пребывает ваша страна... не обижайтесь, сир, что мы посылаем вам [в этом письме] так много правды, ибо мы вынуждены сделать это из-за той большой любви, которую питаем к вам, из-за охранения вашей чести и вашей страны, и потому что она также принадлежит нам, тому, кто мы есть, хотя недостойны ими быть, примасу всей Англии и вашему духовному советнику».
Ибо пока архиепископ заявлял о своей любви к своему венценосному господину, что казалось весьма искренним, он не уклонился от того, чтобы поведать ему правду о внутренних делах. Хотя будучи поглощен земными интересами и желая примирения, он был также человеком смелым, который в прошлом перечил и Эдуарду II, и королеве Изабелле, а также рискуя своей жизнью, противостоял диктатору Мортимеру. Завуалированная угроза в его письме была безошибочной. «Наиблагороднейший господин, – написал он, – позвольте напомнить вам, что самое главное, что поддерживает королей и князей в должном и пригодном состоянии – это хороший совет. И пусть это не будет слишком неприятным напомнить вам, что в свое время из-за плохого совета, который наш господин ваш отец получил, он оказался захваченным, против законов страны и великой хартии, пэрами и другими людьми этой страны и позорно умерщвлен, а также и о других людях, имущество которых он повелел захватить... И то, что случилось с ним по этой причине, сир, вам хорошо известно»[287].
Архиепископ твердо решил не позволять основным конституционным спорным вопросам быть скрытыми под королевскими обвинениями в его нечестности или его спорами с придворными «наперсниками», которые отравляли ум короля. Получив степень доктора права в Оксфордском университете, являясь клерком канцелярии и деканом Церковного суда, он знал, как изложить предмет спора наиболее ясным и неоспоримым образом. Как в кризисе 1297 года и во времена Деспенсеров, основным принципом являлось может ли король Англии, плохой или хороший, управлять без обращения к установленным законам и тем, кто должен говорить от имени народа. «По плохому совету, – сказал он королю, – вы начали арестовывать различных клерков, пэров и других в этой стране. Вы возбуждаете тяжбу, весьма неподходящую и против законов королевства, с которыми вы связаны присягой, принесенной вами на вашей коронации, заключавшейся в том, чтобы хранить и соблюдать их, а также против Великой Хартии». Единственным местом для разбора таких обвинений, которые Эдуард выдвинул против своих главных подданных, был парламент – народное собрание, в котором английский король мог заглянуть в сердца и умы своих людей. «Ибо спасение вашего дела заставит привлечь к вам все величие и мудрость вашей земли... Заставит, сир, если угодно, таким образом, их собраться в подходящем месте, куда мы и другие могут свободно прийти». Архиепископ был обвинен своим господином; ему было дано право на суд пэров в парламенте.
Это было потрясающее требование, уходящее к корням проблемы, которую люди пытались решить со времен Великой Хартии, как предоставить королю преобладающую исполнительную власть, от которой зависели мир и спокойствие государства, и в то же время защитить права и свободы подданного. И хотя разгневанный король провозгласил Стратфорда «коварной змеей и хитрой лисой» и с помощью Килсби опубликовал ядовитый ответ, libellus famosus, вскоре стало ясно, что архиепископ изложил суть дела правильно. Снова, как в 1297 и в 1327 годах, магнаты, рыцари графств и лондонцы собрались вместе под руководством архиепископа, протестуя против королевской попытки управлять по личному желанию вместо установленного закона. Требование Стратфорда – быть судимым равными – было сильным ударом, ибо это было то право, которое каждый магнат желал сохранить в случае, если это коснулось бы его лично.
Таким образом, произошло то, что государственный кризис, возбужденный королем, был вынесен, как и предполагал Стратфорд, на обсуждение в «полном парламенте». Нужда Эдуарда в средствах, чтобы уплатить долги и продолжить войну с Шотландией, заставила его уступить, и в конце апреля магнаты и общины встретились в Вестминстере. Когда Килсби попытался не допустить примаса в Палату Лордов, Джон де Уоррен, граф Суррея, старейшина независимых магнатов, и его племянник, граф Арундела, вынесли протест, заключавшийся в том, что те, кто по своему рангу должен присутствовать в парламенте, исключены из него, в то время как те, которые не имеют права заседать в нем, присутствуют. «Господин король, – судя по отчету, сказал Уоренн в той же манере, как это сделал его дед при принятии знаменитого статута «quo warranto», – как будет проходить этот парламент? Точно не так, как обычно. Все теперь встало с ног на голову»[288]. Стратфорд так и не добился суда in pleno parlamento, которого он требовал, так как король опустил свои обвинения и позднее вообще аннулировал их как противные истине и здравому смыслу, принципу, за который он боролся, и который был таким образом победоносно доказан. Именно Эдуард, который нуждался в поддержке своего народа, должен был подчиниться решению парламента. Видя то, что если он хотел иметь народную поддержку для своих войн, он должен был принимать его во внимание, он уступил с честью и здравым смыслом.
Перед концом сессии в мае в ответ на петиции от Лордов и Общин было дано королевское согласие на акт, который не только признавал право пэров на суд равных им, то есть также пэров, в парламенте, до того, как их заключат в тюрьму или конфискуют имущество, но заставил всех министров и чиновников Короны отвечать за нарушение положений Великой Хартии Вольностей и других статутов перед тем же высоким судом. Общины также получили обещание, что парламентские комиссары будут проверять расход денег, вотированных на войну и что лорды будут принимать участие в назначении министров. Хотя магнаты затем и позволили королю отклонить это последнюю радикальную уступку как неприменимую на практике и несовместимую с обычаем и законом королевства и прерогативой монарха, Эдуард больше не делал попыток править без совещания с традиционными представителями народа и своими обычными конституционными советниками.
* * *
До настоящего времени, за исключением победы при Слейсе, война короля за возвращение своих французских фьефов потерпела дорогостоящее поражение. Также, с тех пор как Франция пришла на помощь Шотландии, его кампания с целью заставить шотландцев принять вассалитет шла не лучшим образом. Пока парламент обсуждал королевские обвинения против архиепископа, сын Дугласа, рыцарь из Лиддлсдейла, захватил Эдинбургский замок посредством старого приема, заключавшегося в блокировании подъемного моста телегой с провиантом. Спустя несколько недель сын Брюса король Давид, которому теперь исполнилось восемнадцать лет, вернулся из Франции. Когда в конце 1341 года закончилось перемирие, Эдуард начал против него военные действия, проведя рождество в Мелрозском аббатстве и затем «прогуливаясь» сквозь Эттрикский лес, в котором, как описывает хронист в это «очень дурное время года», его вторжение в эту истощенную войной, голодающую страну ничего не достигло. К февралю 1342 года шотландцы внезапно оказались не по свою сторону границы, совершив рейд через весь Нортумберленд, где они «уничтожили много посевов и лошадей». И к Пасхе Александр Рамсей из Далхаузи захватил Роксбург, последний английский оплот в Шотландии.
Однако в тот год, со смертью герцога Бретани, для Англии появилась новая возможность. Когда его младший брат Джон де Монфор посетил Виндзор для получения графства Ричмонда, наследником которого по английским законам он являлся, он добился от Эдуарда обещания поддержать его требование на Бретань против зятя умершего герцога Карла Блуасского, которого поддерживал французский король и франкоговорящая аристократия, противостоявшая кельтоговорящему крестьянству и горожанам, симпатизировавшим Монфору. Сильное сокращение французских военно-морских сил при Слейсе сделало возможным содержание английской базы в Бретани и весной 1342 года, после того как французская армия заняла герцогство и захватила в плен де Монфора, была отправлена небольшая экспедиция, чтобы спасти его жену, которая находилась в осаде в Эннебо. Прибыв как раз вовремя, командующий экспедицией сэр Уолтер Мэнни предпринял наступление. В конце лета он соединился с крупной армией под командованием Уильяма Боэна графа Нортгемптона. С ним прибыл и французский протеже Эдуарда Роберт Артуа, а также его кузен Генрих, граф Дерби, – наследник королевского графского титула Ланкастер и самый знаменитый английский воин своего времени.
В Бретани англичане не должны были ждать своих союзников, как во Фландрии. Они были вольны драться, когда захотят. Если враг и превосходил их по численности, они могли избрать тактику, которая привела их к победе при Халидон-Хилле – хорошо избранная защищенная позиция, тяжеловооруженные воины помещались в центре, лошади и обоз в лагере в тылу, лучники – на флангах, с выступающим сзади заслоном из колов, чтобы вести продольный огонь по вражеской кавалерии. Высадившись рядом с Брестом и заставив Карла Блуасского снять блокаду города, Нортгемптон осадил Морле. Здесь против французской вспомогательной армии, превышавшей по численности его собственную в семь или восемь раз, он сразился 30 сентября 1342 года и одержал первую английскую победу на континенте со времен Ричарда Львиное Сердце. Оттеснив их арьергард к лесу, его отряды были внезапно окружены, но со своими несравненными лучниками они вышли из окружения и заставили французов спасаться бегством. Морле почти сразу пал, а в это время в ста милях от него, используя десантные силы, Роберт Артуа захватил Ванн, второй крупный город Бретани. Через несколько недель этот бравый французский изгнанник с небольшой горсткой англичан был раздавлен превосходящими силами французов и умер от ран.
К тому времени Эдуард лично прибыл в Бретань. Прождав несколько недель в Сандвиче возвращения транспорта Нортгемптона, который задержался из-за неблагоприятного ветра, он направил свои отряды в Портсмут и конфисковал там достаточно кораблей для отплытия в Брест. Хотя уже был конец октября, он сразу же предпринял боевые действия. Стремительно продвигаясь через полуостров двумя колоннами, одна – под его личным командованием, он занял Ванн и осадил Ренн, пока небольшой летучий отряд достиг стен Нанта на Луаре.
Когда была потеряна южная Бретань, король Филипп был вынужден вмешаться. Собрав армию у Анжера, гораздо большую, чем та, что имелась в распоряжении Эдуарда, он отправился освобождать Нант и Ренн. Долгожданное испытание соперничающих королей казалось неизбежным, когда из Авиньона прибыли два кардинала для переговоров о перемирии. В обеих армиях теперь наступила нехватка провианта, и их миссия оказалась успешной. Трехлетним Малеструасским или Морбианским перемирием было согласовано, что обе стороны должны получить то, что они захватили. Сторонники де Монфора сохраняли южные и западные части страны, а сторонники Карла Блуасского – северные и восточные. Перемирие также касалось и клиентов главных участников, то есть Шотландии и Фландрии.
Хотя война продолжалась уже шесть лет, Эдуард все еще не производил на Францию никакого впечатления, пока Шотландия была почти такой же свободной, как и во времена Брюса. Он не вернул ни своих земель в Гиени, ни объединил Британию. При этом он все еще лелеял мечту об этом и также о том, чтобы покрыть себя бессмертной славой на поле боя. Возможно, именно во время своего долгого и неспокойного возвращения домой, когда он едва избежал кораблекрушения у испанских берегов, он выносил идею основать Орден христианского рыцарства, чтобы увековечить идеалы своего героя, короля Артура, а также дать выход своему желанию завоевать рыцарскую славу. Через девять месяцев после своего возвращения, в январе 1344 года, он созвал турнир в Виндзоре «для развлечения и утешения воинов, которые находят удовольствие в обращении с оружием». Во время турнира он со своими девятнадцатью самыми храбрыми рыцарями бился на поединках три дня против всех тех, кто бросит им вызов. «После окончания поединков, – написал ректор Рейсбери, – господин король велел провозгласить, что ни один лорд или леди не должны осмелиться отбыть [с турнира], но ждать до утра, чтобы узнать волю господина нашего короля... Около первого часа король принял торжественный вид, облачился в королевские праздничные одеяния и возложил корону на свою голову. Королева была также торжественно наряжена... Прослушав мессу, господин наш король вышел из часовни к месту, назначенному для собрания. В этом месте господин наш король, возложив персты на Евангелие, принес клятву, что он, пока его состояние будет позволять ему, обоснует Круглый Стол в той же манере, что и лорд Артур, бывший королем Англии... Для проведения этой торжественной церемонии, испытания и выбора рыцарей графы Дерби, Солсбери, Уорика, Арундела, Пемброка и Саффолка также принесли клятву. Что и было сделано, трубы и литавры зазвучали все вместе, гости поспешили на пир... ломящийся от богатства дичи, различных блюд и льющимся изобилием вин; удовольствие было неописуемым, удобство исключительным, наслаждение безропотным, а веселье беззаботным»[289].
Когда Эдуард Виндзорский отдал свое сердце этому проекту, его не останавливали никакие проблемы или расходы. В течение следующих нескольких недель рабочие покрыли мосты замка песком, чтобы протащить камень и дерево для строительства круглой башни, которая должна была венчать норманнский холм. 16 февраля королевские приказы были разосланы Уильяму из Рамсея, королевскому архитектору – создателю нового восьмиугольного фонаря в Или – и королевскому плотнику Уильяму из Херли, уполномочивая их выбрать так много строителей и плотников «из городов, поселений и других мест в Англии» сколько им потребуется. Было задействовано более семисот рабочих с оплатой, варьировавшейся от 4 шиллингов в неделю для строителей до 2 пенсов в день для рабочих[290]. И внутри замка был возведен огромный круглый стол, чтобы дать пристанище членам рыцарского братства на ежегодном пиру в Троицын день.
Однако судьба имела в запасе для английского короля больше, чем главенство на турнирах. Еще до конца года, борясь с тем же кельтским сепаратизмом в Бретани, с которым Эдуард боролся в Шотландии, Филипп захватил главных сторонников де Монфора и умертвил их. Сумев бежать в Англию, де Монфор принес оммаж Эдуарду как королю Франции и призвал его отомстить за нарушенное перемирие и вернуть его герцогство. Вызов был принят. Пока констебль, Нортгемптон, возвращался в Бретань с де Монфором, Эдуард, используя свою новую свободу передвижения на море, готовил тройное нападение на Францию с севера, запада и юга. Отправив своего кузена Дерби в качестве наместника Аквитании для сбора преданных людей в Гаскони, он поплыл в июле 1345 года во Фландрию, взяв с собой пятнадцатилетнего принца Уэльского, чтобы держать совет с ван Артевельде.
И снова союзники, на чью помощь он рассчитывал, подвели его. После соглашения с Эдуардом на борту его флагманского корабля в Слейсе о предпринятии совместного вторжения в Артуа, ван Артевельде по возвращении в Гент был растерзан толпой недовольных ткачей. Хотя связанные с Англией нуждой в ее шерсти фламандские бюргеры оставались на практике преданны их союзу, Эдуард был вынужден вернуться домой, осознавая, что его планы о нападении на Францию являются преждевременными. В Бретани также его надежды потерпели неудачу. Ибо хотя достигнув Бреста, наместник констебля сэр Томас Дагуорт быстро расправился с армией, захватившей южную Бретань, и, пройдя сотню миль за семь дней, нанес поражение французской армии рядом с Плермелем, де Монфор вскоре заболел и умер, в то же время его жена, расстроенная своими страданиями, впала в безумие, оставив англичанам вести войну в пользу ее шестилетнего сына.
Но при этом переплетение событий в юго-западной Франции приняло захватывающий характер. Высадившись в Байонне в июне 1345 года и дойдя до Бордо, Дерби с пятьюстами тяжеловооруженных воинов и двумя тысячами лучников был принят с огромным энтузиазмом гасконцами, которые после шестилетнего сопротивления французам развили прямо-таки страстную преданность своему отсутствующему английскому герцогу. Солдат в традиции Уильяма Маршалла, простой, благочестивый и куртуазный, Генрих, граф Дерби сражался в каждой английской кампании со времен Беннокберна и был крестоносцем на Кипре, в Пруссии и Гранаде. Ему было только 46 – возраст, в котором большинство мужчин тогда рассматривались как отслужившие свое. Но он не потерял ни задора, ни резвости юных лет. Собрав свою небольшую армию в Либурне, он внезапно обрушился в восточном направлении в Бержерак, что находился пятьюдесятью милями вверх по Дордоне, куда французы отошли после его высадки. Оставив бастионы на постоянный обстрел своих лучников, он начал штурм города в конце августа. Затем, захватив большую часть Ажене, он повернул на север против Перигора, где он установил форпост в Обероше, только в девяти милях от столицы, Периге, а затем вернулся в Бордо с добычей и пленниками.
Шестинедельная кампания Дерби произвела огромное впечатление на южную Францию, так же, как и его благородное обращение с пленниками и гражданским населением. Она также подтолкнула французские военные власти к действию. В начале октября французский отряд из 7000 осадил Оберош. Получив неотложную просьбу о помощи от его гарнизона, Дерби сразу же собрал 400 тяжеловооруженных воинов и 800 лучников и, приказав своему заместителю, графу Пемброка, следовать за ним, совершил марш-бросок с целью освободить город. Укрыв своих людей в лесу, он прождал Пемброка целые сутки и затем решил атаковать без него, нежели дать гарнизону сдаться. Убедившись, что каждый человек знает, что делать, он напал на осаждающих в тот момент, когда они готовили ужин, его лучники окатили их градом стрел, а его тяжеловооруженные войны выкатились из леса с криками «Дерби! Дерби!» В замешательстве, которое последовало, стало сказываться численное превосходство врага в тот момент, когда гарнизон атаковал врага с тыла. К ночи французский главнокомандующий и все остальные командиры были взяты в плен, включая восемь виконтов и большое количество лангедокской знати. «Было совершено много ратных подвигов, – написал Фруассар, – многие были захвачены, а многие снова освобождены... Если бы не пришла ночь, то никто не сбежал бы, как это случилось с немногими. Каждый английский рыцарь взял двух или трех пленников».
Показав себя еще раз, Дерби повернул на юг, чтобы захватить Ла Реоль в Гароннской долине, лежавший в тридцати милях выше Бордо. Без полной осады ему удалось это сделать через 10 дней, но не только захватить город – который на протяжении многих лет представлял из себя явную угрозу столице – но также уверить гарнизон, что под стены совершены подкопы, в то время как его минеры обнаружили, что стены являются настолько прочными, насколько и неприступными. В соответствии с Фруассаром, губернатор, сэр Агу де Бо, попросил о встрече с Дерби, на которой состоялся следующий разговор:
«Милорд, вам известно, что король Франции прислал меня в этот замок и город, чтобы сделать все возможное для их защиты. Вам известно также, как я выполнил свой долг и желал бы продолжить его исполнять. Если вы позволите нам уйти живыми, захватив наши пожитки, я и мои люди отдадим вам замок».
«Сэр Агу, вы не можете уйти так просто. Вас хорошо известно, что вы у нас в руках, а замок еле стоит. Сдавайтесь безо всяких условий, и мы примем вас».
«Милорд, если бы мы могли сделать это, я думаю вам хватило бы честности и благородства обращаться с нами галантно... Ради Господа Бога не пятнайте ваших знатных рыцарей сражением с теми солдатами никакого происхождения, которые находятся здесь и которые зарабатывают себе на бедную жизнь болью и риском. Ибо если самые низшие не смогут рассчитывать на милость, какую вы окажете благородным людям, мы, скорее, отдадим наши жизни».
На это Дерби и его помощник сэр Уолтер Мэнни отошли в сторону и там долго совещались, после чего вернулись с ответом, что гарнизон может покинуть крепость, взяв только свое оружие. Таким образом они стали хозяевами самой сильной крепости на Гаронне.
Когда Эгильон, находившийся в тридцати милях вверх по реке, был взят лордом Стаффордом, Аженуа полностью было очищено от французов. За четыре месяца две провинции и 50 городов и замков было отобрано с помощью нескольких тысяч лучников и рыцарей. Дерби, который этой осенью унаследовал отцовское графство Ланкастера, доказал, что Франция больше не является неуязвимой. В первый раз со времен потери королем Иоанном Нормандии французский король был вынужден серьезно признать английскую военную угрозу. К весне 1346 года все рыцарство южной Франции было мобилизовано и собрано в Тулузе под предводительством старшего сына Филиппа, герцога Нормандского, чтобы вернуть потерянные провинции.
* * *
Тем временем Эдуард, воспламененный успехом своих солдат и желающий разделить их славу, готовился к удару. Его блестящий кузен дал ему шанс, которого он ожидал девять лет. Пока дофин в апреле того года осаждал Эгильон, а Дерби, с небольшим количеством силы, ожидал в Ла Реоле подходящего случая для освобождения небольшого гарнизона, Эдуард начал собирать на гемпширском берегу самую большую армию, которая когда-либо отправлялась из Англии на континент. Он набрал ее, но не посредством феодального ополчения и даже не с помощью военных комиссий, которые Эдуард I приспособил для мобилизации милиции графства на войну, но предложив тем, кто желает сражаться за большое вознаграждение и еще более жаждет выкупов и грабежа, вступить в эту армию.
Он смог это сделать, потому что из собственного опыта знал ценность представительного налогового собрания, которое его дед создал из Большого Совета королевства. Уяснив формы парламентских совещаний и правления с помощью совета крупных чиновников Церкви и государства, которым налогоплательщики доверили представлять их интересы, он смог получить средства на сбор профессиональной армии, далеко превосходящей по качеству любую армию, которую феодальная Франция могла бы выставить против него. Развивавшаяся в течение последних пятидесяти лет в условиях жестокой борьбы между короной и налогоплательщиком, система налогообложения добровольно предоставила английскому королю финансовые ресурсы, неизвестные его сопернику Валуа, хотя последний управлял государством, гораздо более богатым и населенным.
Именно такая система обеспечивала короне максимум фискальной поддержки с минимумом трудностей для подданных. Определенная для каждого графства и города поименно местными комиссарами и к тому моменту общая для всех оценка имущества, предполагавшаяся намного ниже стоимости реального имущества облагаемого налогом и, таким образом, способная во времена увеличивающегося благосостояния повторяться без слишком сильного народного неодобрения, парламентская субсидия, состоящая из десятой части от королевских личных земель и бургов и пятнадцатой части от имущества остального населения приносила примерно 38000 фунтов. Десятая часть, предоставленная почти одновременно представителями духовенства, – вотированная, правда, не в парламенте, но как они предпочли, в своих местных советах – дала еще 13000 фунтов, пять шестых из которых предоставили Кентербери и остальную часть из Йорка.
Такие военные субсидии, как от мирян, так и от духовенства, вместе с продолжавшимся maltote[291], позволили Эдуарду получить кредит на гораздо менее тяжелых условиях, чем это было в прошлом. При этом он являлся все тем же неумеренным расточителем, отказываясь принимать во внимание любые соображения экономии ради исполнения дорогих ему стремлений, связанных с войной и рыцарским блеском и иными его проявлениями. Его итальянские кредиторы, разорившиеся из-за его займов, к настоящему времени уже являлись банкротами[292], но, предложив им монополию на экспорт шерсти через рынок в Брюгге, он получил заем в 100000 фунтов от группы своих собственных финансистов, в которую входили его старый слуга, Уильям де ла Поль из Гулля, лондонские купцы Уолтер де Шеритон и Томас де Суонленд, а также два крупных восточно-английских представителя Джон де Уизенгем и Томас де Мельчбурн из Линна.
С тех пор как была улажена ссора с архиепископом, Эдуард не делал дальнейших попыток обходиться без духовных советников. Его канцлеры, казначеи и хранители малой печати теперь снова являлись клириками. В 1344 году он назначил казначеем Уильяма де Эдингтона, который последние три года являлся хранителем Гардероба, а до того сборщиком налогов (девятой части от всего имущества) по южную сторону Трента. Уроженец запада, который, после того как получил винчестерский приход, начал реконструкцию соборного нефа и построил замечательную корпоративную Эдингтонскую церковь в своем родном Уилтшире, что является его неоценимой заслугой для своего времени и для страны, умный священнослужитель и государственный деятель, отучал короля от раннего и пагубного доверия поиска средства для войны своему личному отделению королевского двора – Королевской Палате. Ограничив ее функции до низшей финансовой части, предназначенной обслуживать действующую армию, и подчинив ее, так же, как и любую другую ветвь королевских расходов контролю казначейства, он обеспечил то согласие между короной и налогоплательщиком, правительством и парламентом, которое в последующей войне было основой английской силы. Следующие 19 лет он служил королю на самых высоких постах, сначала в качестве казначея, затем, после 1356 года, в качестве канцлера.
Имея государственные финансовые ресурсы, Эдуард смог превратить королевскую военную кампанию в дело национального масштаба. Он собрал свою армию посредством контрактов, заключаемых им с местными главами, у которых душа лежала к войне, по которым они и рекрутировали солдат, согласуя вознаграждение, имея заказ на определенное количество и вид воинов. Каждый контракт определял количество солдат, которое должно было быть предоставлено, время, на которое они нанимались, и налог, который взимался казначейством. Так, для первой Бретонской кампании Уильям Монтэгю нанял шесть рыцарей, двадцать других тяжеловооруженных воинов и двадцать четыре лучника за вознаграждение в 76 фунтов за каждые сорок дней службы и королевское содержание на время ведения боевых действий[293].
Армия, собранная таким образом, стала именоваться «свитой». Граф, которому платили 8 шиллингов в день за его службу, мог заключить контракт на наем, скажем, 60 тяжеловооруженных воинов, из которых десять должны были быть рыцарями, и 120 стрелков, полностью экипированных и обеспеченных лошадьми, на три месяца в год «за обычное вознаграждение», вместе с пажами, которые назывались valets aux armes, или вооруженных слуг, которые служили оруженосцами у рыцарей, чистили их вооружение и ухаживали за их лошадьми. Главнокомандующий, подобно графу Ланкастера, мог заключить даже более масштабный контракт; для одной из своих кампаний он обеспечил 6 знаменосцев, 90 рыцарей, 486 тяжеловооруженных воинов и 423 конных лучника.
Оплата была достаточно высока. Во времена, когда в некоторых местах земля сдавалась в аренду за такую мелочь, как 4 пенса за акр в год, конный лучник получал шесть пенсов в день, если у него была собственная лошадь или если нет, то 3 пенса. Даже валлийские копейщики, самая низшая ступень в военной иерархии, получали 2 пенса. Жалование тяжеловооруженного всадника было 1 шиллинг в день, рыцаря-вассала – в два раза больше. Знаменосца – 4 шиллинга или около 10 фунтов в переводе на современные деньги. Знаменосцами являлись наиболее храбрые и опытные рыцари, которые, выделяя наличие треугольного знамени, выстраивали и руководили войсками в бою, командовали замками и исполняли обязанности штабных офицеров при главнокомандующем. Среди них можно назвать Сэра Джона Шандо и Сэра Робера Ноллиса, чеширского йомена, который сделался одним из самых знаменитых военачальников своего времени и благодаря грабежу и выкупам одним из самых богатых.
Рыцари имели при себе треугольные вымпелы и руководили тяжеловооруженными воинами или вооруженными пехотинцами, которые, подобно им самым, обычно сами должны были обеспечить себе лошадь и необходимую для нее экипировку. Они были вооружены длинным мечом и либо копьем, либо боевым жезлом и кинжалом для рукопашного боя. Кольчуга теперь уступила место латам; рыцарь в сороковых годах XIV века носил короткую накидку, на которой был вышит его герб, и перевязь или пояс с мечом поверх металлического нагрудника, различные защитные пластины на руках и ногах[294] и тяжелый шлем на голове, увенчанный крестом и закрытый во время схватки забралом. На псалтыре Люттрела можно найти изображение одного рыцаря, который прощается со своей леди перед турниром, его боевой конь обряжен в великолепную по цветовой гамме геральдическую попону.
Лучники, которые в результате своих замечательных успехов составили большую часть английской армии, носили либо легкий стальной нагрудник либо обитую выделанной кожей кольчугу, грубые ворсистые плащи и стальные каски, непохожие на высокие каски современной пехоты. Вдобавок к лукам и колчанам со стрелами, отделанными гусиными перьями, у них были короткие мечи, ножи и стальные заостренные колья для строительства защитной изгороди против кавалерии. Хотя они сражались в отдельных отрядах или фалангах, с целью усиления дисциплины они также служили лордам или рыцарям, кото-рые платили им; армейской дисциплинарной единицей являлось «копье»[295] – профессиональная группа, очень похожая на современный летный экипаж, состоящая из рыцаря или тяжеловооруженного воина, двух лучников, меченосца или куртильера и пары пажей, вооруженных кинжалами.
Армию также сопровождали и вспомогательные подразделения: валлийские копейщики и невооруженные легкие всадники под названием хобелары – часто рекрутируемые из Ирландии – для разведки и терроризирования сельской местности; минеры из Дарема или Динского леса для осадных операций, кузнецы, оружейники и шатерщики, плотники для создания мостов, цементарии для строительства фортификаций и возничие для обоза. Короля сопровождала личная гвардия из собственных рыцарей и лучников и группа менестрелей – дюжина трубачей, горнист, скрипач, волынщики, один или два, игрок на литаврах, игрок на цистре и игрок на шоме или прообразе гобоя[296]. За свои заслуги по поднятию боевого духа армии они были приравнены к лучникам.
Такое управление английской армией и преодоление разницы в социальном положении и ранге способствовали обретению национальной гордости. Две трети тех, кто служил в ней, были йоменами, экипированными оружием, которое, как доказали Морло и Оберош, могло быть противопоставлено и даже более чем гордой феодальной коннице, которая господствовала в Европе на протяжении последних трех веков. Командовали этой армией представители всех крупных феодальных домов – Боэн и Бошем (Бичемп), Уоррен и Арундел, Мортимер, Деспенсер, Уффорд, Гастингс, де Вер – чьи амбиции и зависть в предыдущем поколении почти разрушили королевство, но кто, побежденные благородством и великодушием молодого короля, теперь объединились под его властью и были готовы следовать за ним повсюду. Среди них находились и бывшие тюремщики его отца – лорды Беркли и Мальтраверс, и шестнадцатилетний внук Роджера Мортимера, которого он восстановил в правах владения замком Рэднор и другими землями, конфискованными у предателя.
Вот таким было войско, подготовленное неустанными заботами и вниманием короля к военным делам, которое со своими яркими шатрами и знаменами расположилось лагерем в мае и июне того года на южном побережье, ожидая попутного ветра для переправки на континент. Некоторые предполагали, что их целью будет Бретань, где после удивляющего двадцатичетырехчасового зимнего марш-броска на сорок пять миль между Рошем и Даррейном, Нортгемптон и сэр Томас Дагуорт открыли летнюю кампанию молниеносным рейдом через все герцогство; кульминацией его была победа при Сен Поль де Леоне, когда лучники Дагуорта, окруженные сильно превосходящими силами противника во главе с Карлом Блуасским, проложили с помощью стрел путь из безнадежного положения. Другие думали, что король поплывет во Фландрию, где в тот июнь люди Гента, Брюгге и Ипра пришли к соглашению о вторжении в Артуа и к кому на помощь король недавно послал шесть сотен лучников. Но наиболее вероятным предположением было то, что король и его войско были нацелены на Гасконь, где граф Пемброка и сэр Уолтер Мэнни все еще держались в Эгильоне против огромной армии дофина и самой сильной осадной системы в Европе, пока Ланкастер с несколькими тысячами лучников и тяжеловооруженных воинов в Ла Реоле очищал дорогу в Бордо.
При этом в намерения Эдуарда не входил ни один из предполагаемых маршрутов. Когда наконец после долгого ожидания 11 июня 1346 года юго-западный ветер переменился и армада из семи сотен кораблей направилась из Сен Эленс, были вскрыты запечатанные приказы и обнаружилось, что целью является полуостров Котантен в Нормандии, богатом герцогстве, принадлежавшем когда-то норманнским предкам Эдуарда и потерянном при короле Иоанне. Один из представителей знати герцогства Годфрид д'Аркур, который нашел убежище при дворе Эдуарда, сказал ему, что население герцогства, не привыкшее к войне, будет не способно к сопротивлению, и что он найдет там огромные богатства и города, даже не обнесенные крепостной стеной. Опустошив герцогство и представляя таким образом угрозу Парижу, он смог бы отвлечь армию дофина от Эгильона и, объединившись с фламандцами в Артуа, ударить по Франции с трех сторон.
Эдуард держал французов в напряженных догадках, окружив свои планы тайной. Вынужденный охранять восемьсот миль побережья от Гаронны до Шельды, французский флот нигде не представлял опасности; флот же Эдуарда, сконцентрированный в одном месте, смог высадить армию 12 июля в Сен Ваасте рядом с Гаагой почти без всякого сопротивления. Высадившись, Эдуард не тратил времени даром. 18 числа, возведя принца Уэльского и нескольких его молодых вассалов в рыцарское достоинство, он начал марш на Руан. Перейдя границу на юго-востоке Котантенского полуострова, где его землекопы и плотники починили разрушенные мосты через реку Вир, он достиг Сен-Ло 22 числа. Расположив на левом фланге своей армии флот, обеспечивавший возможность для маневра, пока войска находились в сельской местности, мстя за рейды нормандских моряков, совершенные в южно-английские прибрежные города и заключавшиеся в сжигании кораблей и самих городов. Валлийские копейщики и ирландские хобелары особенно отличились при этих чудовищных набегах – обычное дополнение ведения войны в XIV веке – хотя после нескольких дней король как претендент на французский трон выпустил приказ, угрожающий смертью каждому солдату, который «подожжет любое поселение или манор,...ограбит церковь или иное святое место, причинит ущерб старикам, детям или женщинам этого королевства».
Новые французские подданные Эдуарда, однако, не проявляли достаточно большого энтузиазма по отношению к своему возможному суверену. Крестьяне в ужасе разбегались при его приближении, а когда 25 июля он призвал горожан Кана принести присягу, епископ Байе разорвал призывные грамоты и посадил в тюрьму посланца. При этом, хотя это был и большой город – гораздо больше, как написал хронист, нежели любой другой английский город за исключением Лондона, – захватчики взяли его через день после того, как лучники расстреляли арбалетчиков, защищавших переправу через реку Орн, а флот, прибывший из Уистреема, вступил в бой. Они взяли богатый улов пленников, а также захватили и договор, который был заключен королем Филиппом восемь лет назад с нормандскими властями для нападения на Англию. Договор Эдуард послал домой для прочтения в парламенте.
В последний день июля был возобновлен марш в сторону Сены. 2 августа армия достигла Лизье. Но в тот же день французский король вошел в Руан, находившийся в сорока милях впереди английской армии, и расположил свои войска между англичанами и их фламандскими союзниками, которые, в двухстах милях к северу только что вышли из Ипра. Как только его достигли новости о высадке Эдуарда, он поднял орифламму в Сен-Дени и, призвав своего сына из Эгильона присоединиться к нему, поторопился к нормандской столице, собирая по пути войска. Здесь Сена была шириной в триста ярдов и при усиленном гарнизоне англичане не имели никакой надежды на переправу.
Однако вместо этого, достигнув реки у Эльбефа, находившегося в двенадцати милях от Руана, они повернули вверх по течению в поисках более узкого брода. Сделав таким образом, они пренебрегли своими коммуникациями, но стали угрожать Парижу. В течение следующих шести дней враждующие армии маршировали на юго-запад по разным берегам Сены. Повсюду англичане находили разрушенные или, наоборот, усиленно охраняемые мосты. Но 13 числа, когда они были всего лишь в 12 милях от Парижа, Эдуард позволил французам обогнать себя и, совершив ложный маневр, вернулся в Пуасси, где находился лишь частично разрушенный мост, который почти не охранялся. Переправившись всего лишь по одной шестидесятифутовой балке шириной всего в один фут, Нортгемптон, констебль, получил часть войск на дальней стороне. Следующие два дня, пока происходил обстрел Сен-Клу и других деревень у западных стен Парижа, чтобы обмануть врага, плотники лихорадочно чинили мост. В то же время, хотя теперь превосходящий по силе, король Филипп оставался в безумной нерешительности, мечась между разными сторонами столицы, неуверенный, или англичане нападут на нее, или отправятся на юг освобождать Эгильон.
15 августа плотники закончили работу и всю ночь и утро армия вместе с обозом переправлялась через Сену. В следующие пять дней она промаршировала семьдесят миль прямо на север, надеясь пересечь Сомму между Амьеном и Абвилем и соединиться с фламандцами, которые осаждали Бетюн в пятидесяти милях от этой реки. Но, хотя короля Филиппа обвели вокруг пальца, когда он обнаружил, что англичане переправились через Сену, он действовал с завидной быстротой. Осознав наконец относительную слабость Эдуарда, он покрыл семьдесят миль от Парижа до Амьена за три дня, приказав феодальному ополчению севера там с ним соединиться. Его сопровождал цвет французского рыцарства, включая короля Богемии Иоанна и его сына Карла Моравского, номинально носящего титул короля Римлян, являвшегося также соперником, императора Людовика, бывшего союзника Эдуарда.
Положение англичан было исключительно плачевным. Между ними и их фламандскими союзниками в Артуа лежала заболоченная долина Соммы, при этом французский король находился в однодневном переходе от Амьена и все мосты были в его руках. Все связи с флотом, который со всей обычной для моряков недисциплинированностью вернулся в Англию, последовав за кораблями, которые перевозили в Англию больных и раненых после Кана, были потеряны. Запасы еды находились на исходе, и на последнем этапе своего марша отряды существовали только за счет неспелых фруктов. После прохождения трехсот миль их обувь вышла из строя, а лошади падали из-за недостатка фуража.
Однако Эдуард не был слишком смелым. Но он не показывал своего беспокойства, «его храбрость была так велика, – пишет о нем современник, – что он никогда, ни при каких обстоятельствах и проблемах не бледнел или изменялся в лице». 23 августа он двинулся на запад в надежде найти брод у Абвиля, но, поскольку эстуарий расширялся здесь до двух миль, перспектива была малообещающей. Едва он снялся с места, как пришли новости, что Филипп покинул Амьен и, двигаясь вверх по южному берегу реки с целью нападения, уже находится в пределах мили от Эрена, где англичане провели предыдущую ночь.
Отрезанный на чужой земле и без карт – военное преимущество, тогда еще неизвестное, – король приказал поместить пленников перед строем и предложил огромное вознаграждение тому, кто покажет подходящий брод. Один местный житель рассказал ему о скрытой дороге через эстуарий в Бланштаке, на полпути между Абвилем и морем, где при отливе можно было переправиться через реку по пояс в воде. Эдуард без колебаний решил рискнуть.
Прошло сто тридцать лет, когда прапрадед Эдуарда король Иоанн потерял весь свой обоз и казну при подобной переправе через залив Уош. Перед наступлением рассвета 24 числа, промаршировав шесть миль по направлению к броду в одну колонну, его авангард достиг реки. Противоположный берег находился в руках французской армии размером между 3 и 4 тысячами человек. Как только отлив дошел до уровня, достаточного для того, чтобы человек мог пройти через воду, армия начала переправу под командованием Хьюго Деспенсера, чей отец был повешен на пятидесятифутовой виселице матерью Эдуарда. Держа луки над головой, чтобы сохранить их сухими, лучники продирались полторы мили воды, пока рыцари следовали за ними на лошадях. За несколько сотен ярдов до северного берега они попали в зону досягаемости вражеских арбалетчиков, но продолжали продвигаться, пока не достигли линии огня на поражение. Затем, находясь по десять человек в ряд на гати и стреляя через головы друг друга, они потеряли способность к обычному плотному огню. Когда кончились стрелы, они отступили в более глубокое место и дали возможность всадникам выйти мимо них на мелководье, где после быстрого обстрела они заставили вступить в бой французскую конницу.
Тем временем на южном берегу арьергард Эдуарда сдерживал передовые отряды Филиппа, пока переправлялся обоз, содержащий драгоценный груз стрел и пушку, вода же начала стремительно подниматься. За исключением нескольких воинов, которые были погребены приливом, вся остальная армия успешно переправилась на тот берег. Враг, сдерживаемый поднимающейся водой, мог только наблюдать с изумлением происходящее[297].
После переправы через Сомму английская армия рассыпалась веером. Констебль преследовал врага до Абвиля, пока Хьюго Деспенсер давил врага в эстуарии до маленького порта Кротой, где он захватил несколько кораблей, перевозивших вино. К наступлению ночи вся армия стояла лагерем в лесу Креси, в нескольких милях севернее брода. Эдуард находился теперь в своих наследственных землях Понтье. И хотя его отрядам все еще недоставало пищи, моральное состояние армии улучшилось, ибо в те глубоко религиозные времена переправа через реку казалась просто чудом. Король, таким образом, решил остановиться и дать сражение. Перевес в силах противника был очень существенным, но с таким предусмотрительным противником такая возможность могла вообще не появиться.
Весь день в пятницу 25 числа, пока французы снова переправлялись через Сомму, Эдуард искал защитную позицию. И он ее нашел на низком гребне холма, с юго-западной стороны, между деревнями Креси и Вадикур. Сзади находился лес – Буа де Креси-Гранж – в который с правой стороны его лучники, обученные специально для лесистой местности, могли отойти в случае необходимости.
Утром 26 августа 1346 года, отслужив мессу и «доверив свое дело Господу и Святой Богоматери», Эдуард вывел армию на позиции. При учете всех потерь, теперь у него было 13 тысяч, более половины из которых составляли лучники, и, самое большее, три тысячи рыцарей и тяжеловооруженных воинов. По его указанию маршалы развернули их в три части или «армии», две из которых поместили немного ниже вдоль переднего склона холма, гребень которой длиной был около мили, а третья осталась под его личным командованием в резерве. Эдуард разместил свой наблюдательный пункт на ветряной мельнице в центре, откуда открывался полный вид долины, которую, вероятно, должны были пересечь французы. Часть на правом фланге находилась под командованием графов Уорика и Оксфорда при номинальном главенстве шестнадцатилетнего принца Уэльского, другая часть находилась в подчинении у констебля. Как обычно, рыцари и тяжеловооруженные воины спешились и выстроились в линию, а их лошади были уведены пажами в обоз.
Формируя четыре выступающих клина, на обоих флангах каждой из передовых частей находились лучники, с поддержкой валлийских копейщиков. Перед отходом к лагерю обоз был разгружен запасами стрел вдоль их строевых линий. Впереди для защиты от конницы они вбили колья со стальными наконечниками и вырыли ямы, как когда-то шотландцы научили их предшественников. Такой боевой порядок, подобно Халидон-Хиллу, был рассчитан на оттеснение нападавших в два сужающихся водостока (канавы), где они должны будут сражаться с английскими воинами, при этом находясь под продольным огнем лучников с флангов.
Когда все отряды были расположены, король проехал вдоль всех частей на маленькой лошади, держа белый жезл и одетый в пурпурную мантию с золотыми леопардами. За ним следовал сэр Гай де Бриан[298] с вессекским знаменем с изображением дракона, – штандарт, под которым англичане сражались при Гастингсе. Именно этот символ национального характера Эдуард дал своей армии – и он слишком отличался от штандартов феодальных войск прошлого. «Вслед за Господом, – было сказано о нем, – он доверился храбрости своих подданных». Норманны, анжуйцы, саксы и кельты, его люди все думали о себе как об англичанах.
После королевской проверки армия разошлась на обед, который повара приготовили в осадном лагере, тяжеловооруженные воины оставили свои шлемы, а лучники свои луки и стрелы, чтобы отметить место своих позиций. Было оговорено, что трубы должны оповестить всех при первом появлении врага, который, как считалось, двигался вверх из Абвиля. В течение второй половины дня пошел сильный ливень, который заставил лучников торопиться на позиции, чтобы уберечь тетиву на луках, каждый лучник снял тетиву с лука и, смотав ее, положил под свой шлем. Затем вышло солнце, и люди находились на своих позициях, выставив впереди вооружение. При этом не было никаких признаков появления врага и стало появляться ощущение, что битва в этот день уже и не состоится.
Но незадолго до четырех часов зазвучали трубы и все выстроились в боевой порядок. Выходившие из леса в тех милях юго-восточнее дороги все еще известной как le chemin d'armee (армейская дорога) люди являлись французским авангардом. Почти целый час англичане наблюдали, как огромная армия Филиппа появлялась перед ними, «ярко блестели латы, знамена развевались на ветру, все в полном боевом порядке, ехали легким шагом». В соответствии с самыми минимальными подсчетами, которые пришли из XIV века, их было примерно 40 тысяч человек, 12 тысяч из которых составляли рыцари и тяжеловооруженные воины. Они скакали впереди, расположенные в восьми следовавших друг за другом частях, так, что, казалось, нет им конца. Авангард находился под командованием слепого короля Богемии Иоанна – романтической фигуры и всемирно известного воина – которого сопровождал брат французского короля, граф Алансонский, граф Фландрский, которого союзники Эдуарда, бюргеры Гента, выгнали из его страны. Центром командовал герцог Лотарингский, при котором в качестве заместителя находился племянник Филиппа граф Блуа.
Король – «Филипп Валуа, тиран французов» – как называли его английские хронисты, следовал за ними в арьергарде, вместе с германским королем Римлян, Карлом Моравским и изгнанником королем Майорки. Здесь присутствовали почти два десятка правителей графств, французских, германских, испанских и люксембургских. Это была не столько национальная армия, сколько воплощение международного рыцарства, которое на протяжении последних трех столетий господствовало на полях брани континента, под командованием крупнейшего монарха христианского мира. Над ним развивалась орифламма – священное знамя, поднимаемое, когда ни одной пяди французской земли не должно отойти к врагу. Более того, предыдущим вечером начались споры по поводу распределения и выкупа пленников, и чтобы предотвратить ссоры по этому поводу король отдал приказание убивать всех попавших в плен.
Вдобавок ко всему этому рыцарскому войску в авангарде находилось шесть или семь тысяч генуэзских арбалетчиков, которые представляли собой самые подготовленные отряды на континенте и единственные профессионалы в войске. Остальная армия состояла из крестьянских ополчений – «коммун», как они назывались, – угнетенных сервов, которых считали не способными находиться рядом с благородными людьми, но весьма полезными для замыкания войска и окончательном разгроме противника посредством абсолютного превосходства в численности. Во французской армии презирали пехоту; в расчет принимались только рыцари или «высокошлемники».
Голиаф сражался с Давидом, но у Давида была праща. Давид также был более дисциплинирован, чем Голиаф, которому не хватало организованности. Когда французский авангард достиг долины и оказался перед английскими позициями, солнце уже стало заходить, а советники Филиппа молили его сделать ночной привал и начать битву утром. На это единственное разумное предложение король, который и не ожидал встретить англичан на своем пути, согласился. Но его вассалы были иного мнения. Увидев англичан на холме с развернутыми знаменами, молодые рыцари – самонадеянные и неопытные – устремились вперед, отдавая себя на милости соперника. Уже перед тем как нанести удар, французская армия вышла из-под контроля и начала нападение вне развернутого порядка.
Авангард, таким образом, направился вперед, пропустив только генуэзских арбалетчиков начать нападение. Со звуками труб и горнов они стали карабкаться на холм. Садящееся солнце било им в глаза, и было трудно установить цель, ожидая неподвижно и в полной готовности.
В этот момент, пишет Фруассар, «когда генуэзцы начали приближаться, они стали потрясать оружием и кричать, чтобы привести англичан в замешательство. Но те стояли прямо и не пошевельнулись от всего этого. Тогда генуэзцы снова во второй раз стали бесноваться и издавать ужасные крики и даже немного продвинулись вперед, а англичане так и остались недвижимы. И в третий раз они угрожали и кричали и приблизились на расстояние выстрела; затем они открыли жестокий огонь из своих арбалетов. Тогда английские лучники выступили вперед на один шаг и послали свои стрелы все вместе и так густо, что, казалось, пошел снег». Стреляя в четыре-пять раз быстрее, чем арбалетчики, они выгнали их с поля. Добавили замешательства и ужаса итальянцам две или три английские пушки – новинка из арсенала Тауэра, которую протащили через всю Францию и спрятали среди лучников, – они открыли огонь, посылая свои ядра из железа и камня[299] через плотные шеренги посреди огня и дыма.
Когда генуэзцы были отброшены, французские рыцари с криком «Дави мерзавцев!» бросились в атаку сквозь их шеренги, топча раненых и умирающих. Они скакали плотным строем с копьями наперевес, их латы сверкали, плюмаж развевался на ветру. Все ожидали, что они растопчут тонкую линию отряда принца Уэльского, находившегося на их пути. Но они так и не достигли его, ибо английские лучники вновь выступили вперед.
Когда их стрелы, направленные на нападавших, поразили цель, величавый авангард распался на беспорядочные кучи убитых и раненых лошадей и группы опешивших рыцарей, прикованных к земле тяжестью своего вооружения. Те, кто продолжал продвигаться пешими или смог провести своих испуганных животных через лавину стрел, оказались перед сильной шеренгой английских тяжеловооруженных воинов, таких же непоколебимых, как и лучники, которые продолжали обстреливать каждую новую волну атакующих, когда те пробивались на верх холма через сгущавшиеся сумерки.
Когда вторая французская волна напала на части констебля, битва превратилась в общее сражение. Но везде результат был один и тот же; конные рыцари пробивали себе путь к линии английских воинов, а лучники убивали их лошадей. Не было никого, кто отдавал бы им приказы и координировал их атаки. На протяжении пяти часов, хотя уже стемнело, рукопашный бой продолжался, волна за волной рыцарей вступала в битву только для того, чтобы найти в ней свою смерть. В один момент показалось, как будто слабый отряд принца Уэльского может быть прорван, и Годфрид д'Аркур помчался через ближайшую часть отряда констебля, чтобы просить командующего, лорда Арунделя, начать фланговую атаку, чтобы ослабить давление на принца. Но когда эта просьба достигла короля, он только заметил: «Дайте мальчику победить своими силами», ибо он знал, что момент для введения резервов в бой еще не наступил. Когда посланец вернулся, он обнаружил, что принц и его вассалы спокойно стояли, облокотившись на свои мечи, переводя дух, поскольку среди гор французских трупов они ожидали следующей атаки.
Вскоре после полуночи, после того как 15 или 16 атак закончились неудачей, французская армия начала терять силы. Мертвые теперь громоздились стенами перед английскими позициями. Среди них находились и слепой король Богемии, поводья его уздечки связали тех рыцарей, с которыми он наступал. Два архиепископа, граф королевской крови Алансон, герцог Лотарингский и графы Блуасский и Фландрский – все пали в бою. Сам король Филипп, когда его лошадь была застрелена, был вынесен с поля, как Эдуард II при Бэннокберне. Не было никакого преследования, ибо английский король, который ни разу не вышел из себя во время битвы, запретил своим людям добивать спасшихся.
Когда французы растаяли в темноте и больше не повторилось атак с их стороны, изможденные победители повалились на землю, голодные и жаждущие, уснув там, где сражались. Туманным утром, сосчитав погибших, они обнаружили тела более чем полутора тысяч рыцарей и 10 тысяч простых солдат[300]. Французской армии больше не существовало. Эдуард и его сын лично присутствовали на похоронах короля Богемии – паладина всем сердцем, которому было давно предсказано, что он погибнет в битве против храбрейших рыцарей мира. Его плюмаж из страусиных перьев с тех пор украшает герб принца Уэльского.
В западном мире появился новый феномен: английская военная мощь. «Сила королевства, – написал изумленный Фруассар, – более зависит от лучников, которые отнюдь не являются богатыми людьми». Впервые в Бретани, затем в Гиени и теперь на севере англичане показали, что самостоятельно они могут сражаться против любых армий и почти без потерь. Их потери при Креси были фантастическими низкими; по официальным данным – 40 погибло и только трое из них являлись тяжеловооруженными воинами.
В тот момент во власти Эдуарда было либо опустошить Иль де Франс до стен Парижа или отправиться на юг для соединения с Ланкастером. Но Франция была землей крепостей и замков, и их нельзя было подчинить без катапульт и других средств осады. После оставления Каа его изголодавшиеся люди находились без базы, и у них все еще не было никаких связей с Англией, ибо Кротой в эстуарии Соммы был слишком мал для этих целей.
Эдуард поэтому использовал свою победу, чтобы достичь первично поставленных целей. В 50 милях к северу от Монро, куда он привел свою армию после Креси, находился порт Кале. Доминирующий против Дувра, служивший пристанищем для пиратов, которые промышляли на пути между Лондоном и Фландрией, он являлся ближайшей континентальной бухтой к Англии. Если его можно было бы превратить в английское поселение, то островитяне теперь смогли бы иметь постоянно открытую дверь для входа во Францию.
В последний день августа король написал, запрашивая послать ему для осады Кале все доступные пушки Тауэра. К тому моменту его армия была уже по пути на север. К середине сентября город был окружен. Объединившись с союзниками, фламандцами и флотом из Англии, Эдуард установил блокаду города и вынудил его сдаться до того, как феодальные силы Франции могли прийти в себя и поспеть ему на помощь.
* * *
Пока на севере происходили все эти события, Генрих Ланкастерский возобновил наступление на юге. На протяжении пяти месяцев его заместители, лорд Стаффорд и сэр Уолтер Мэнни, удерживали Эгильон против всех феодальных войск южной Франции, пока Ланкастеру удалось из Ла Реоля, по крайней мере однажды, обеспечить город припасами. Но в августе, получив немедленный призыв своего отца, герцог Нормандский предложил перемирие, от которого Ланкастер презрительно отказался. Таким образом, французский наследник вынужден был оставить свой лагерь и припасы, которые достались англичанам. Это нанесло сильный удар по престижу Франции.
Обеспечив Эгильон припасами, Ланкастер выступил с тысячью тяжеловооруженных воинов и двумя тысячами лучников с целью отвоевать обратно Сентонж, приморскую провинцию, расположенную вдоль Гаронны. Переправившись через Шарант 20 сентября, он покрыл сорок миль всего лишь за один день и захватил Сен-Жан д'Анжели, где несколько английских солдат были арестованы за нарушение общественного порядка. «Мы взяли город, – написал он, – и победили благодаря Господу и освободили людей из темницы»[301]. Затем, завоевав хорошее отношение своей снисходительностью и терпимостью, он вторгся в Пуату, которую его прадед Генрих III потерял столетием ранее. Пройдя пятьдесят пять миль за три дня, он взял штурмом Лузиньян 3 октября и на следующее утро, пройдя еще пятнадцать миль, осадил столицу Пуатье. К вечеру, несмотря на мощные укрепления, он вторгся в нее с трех сторон под прикрытием обычного дождя из стрел. Когда город отказался принести клятву верности победителю, то был отдан приказ о его разграблении[302]. Но под страхом смерти было запрещено поджигать церкви и дома.
В конце октября Ланкастер вернулся в Бордо. «Граф д'Эрби», так его называли люди, именуя старым титулом, был теперь легендой. За три кампании, проведенные против сильно превосходящего в численности противника, он освободил четыре провинции, захватил половину Пуату и установил английскую власть почти до ворот Тулузы. Затем, завершив все, зачем он был послан и сделав даже гораздо больше, этот скромный, но выдающийся солдат передал свой пост наместника своему преемнику и в конце года отправился в Англию, чтобы вступить во владение отцовским графством и другими землями.
Annus mirabilis (удивительный год) 1346 – с которым не мог сравниться никакой другой год в английских военных анналах до времен Четама, – закончился еще одной победой. Чтобы спасти свою страну от общей угрожавшей ей катастрофы, Филипп заключил франко-шотландский альянс и воззвал к Давиду шотландскому вторгнуться на территорию Англии. В начале октября, убежденный в том, что Эдуард не оставил в стране никаких вооруженных сил, молодой король пересек границу. Спалив Лейнеркостское аббатство, он отправился на восток через торфяные болота в Даремскую долину. Здесь 17 октября, прямо перед стенами города, который после этого стал известным как Невиллз Кросс, он столкнулся с армией под командованием архиепископа Йоркского де ла Зуша, наместника пограничных земель, лорда Перси и лорда Невилла из Реби. Ибо благодаря своей предусмотрительности в военных делах, при наборе армии для Франции Эдуард освободил северных баронов.
В соответствии с Фруассаром, при этом присутствовала королева, которая перед битвой обошла все части, «желая, чтобы они исполнили свой долг и защитили честь ее господина короля Английского и, именем Господа, чтобы каждый воин был отважен и смел». Но, поскольку королева находилась в тот момент в Кале, возможно, это была кузина короля графиня Солсбери – девятнадцатилетняя принцесса Джоанна, которая, в отсутствие королевы, являлась первой леди страны[303]. И снова английские лучники оказались непобедимыми, по очереди истреблявшие каждую новую волну, когда с упрямой храбростью шотландские копейщики своими плотными рядами сталкивались с этим градом стали и гусиных перьев. Королевская гвардия сражалась почти до последней капли крови. В наступлению темноты и молодой король, раненный стрелой в лицо, и знаменитый Черный шотландский Крест находились в руках победителей. Среди убитых оказались констебль, маршал и два графа, а еще трех графов взяли в плен. Спасся только сенешал. Крест был вывешен вместе с королевским штандартом Шотландии перед мощами Св. Гилберта в Дареме, а король Давид был триумфально приведен в Лондон, где его определили в Тауэр. Компания закончилась тем, что лорд Невилл и лишенный наследства граф Ангуса вторглись на территорию Шотландии.
* * *
Тем временен Эдуард истощал Кале. Как и в летнюю кампанию, он превратил осаду в национальное дело, собрав экспедиционное войско в количестве более 30 тысяч человек и реквизировав более половины кораблей страны и 16 тысяч моряков. Чтобы расквартировать это войско на зиму, он построил город из деревянных хижин с кольцевыми улицами и рынком, на который сельские жители могли привозить свою продукцию. Здесь, в присутствии королевы и ее придворных дам, он руководил операциями со своей обычной дотошностью и вниманием к военным деталям. Его бюджет выдержал все расходы, даже содержание представителей различных рангов, от принца Уэльского, которому был положен фунт в день, и епископа Даремского и тринадцати графов, которым полагалось по шесть и восемь пенсов, до 15480 пеших лучников по три пенса и 4474 валлийских копейщика по два пенса. Так присутствовало также 5104 конных лучника и 500 хобеларов по 6 пенсов, пушкари для обслуживания железных бомбардир, которые кидали каменные ядра в стены города, плотники, инженеры, шатерщики и оружейники, которым полагалось на содержание от 3 до 12 пенсов в день, так же, как и виноторговцам, поварам и лагерной прислуге. Почти целый год припасы и другое обеспечение текло во Францию рекой – еда, фураж для лошадей, ткани, орудия, пики, копья, стрелы, а также селитра и сера для создания пороха.
Поскольку англичане не смогли пробить двойной круг стен города из-за окружающих его болот, Эдуард был вынужден прибегнуть к блокаде, чтобы преодолеть сопротивление благородного губернатора города. Когда весной флоту из Нормандии удалось прорвать блокаду, – которую было невозможно постоянно поддерживать кораблями того времени особенно во время приливов и отливов в Ла-Манше, – он построил форт на косе, который возвышался над устьем бухты, и установил там пушки. Он также приказал вколотить сваи по всему побережью, чтобы не допустить причаливания прибрежных кораблей и послал констебля и графа Пемброка в море, чтобы они держали адмиралов в постоянной боевой готовности. Флот из 44 кораблей с провизией, который сделал дальнейшую попытку достигнуть Кале в июне, был перехвачен посередине Ла-Манша и отброшен с тяжелыми потерями.
К этому времени также предпринимались попытки освободить город и по суше. К весне 1347 года французский король набрался достаточной храбрости, чтобы собрать новую армию в Аррасе. Но она была необычайно медлительна и не спешила вступать в боевые действия, и когда наконец в июле она двинулась с места, Кале уже голодал. Англичанами был перехвачен корабль, пытавшийся бежать из города, и на нем обнаружено следующее послание губернатора: «Все уже съедено – собаки, кошки, лошади – и нам ничего не остается для пропитания кроме как пожрать друг друга». Эдуард переправил его Филиппу, заставив его выбирать между вторым Креси или бесчестьем, которое последовало бы за падением города без боя. Когда 27 июля французская освободительная армия наконец появилась под Кале, англичане окопались на их пути и были практически недосягаемы. Три дня Филипп разбивал свой лагерь перед ними, пока его эмиссары тщетно пытались вести переговоры о перемирии, которое позволило бы обеспечить гарнизон провизией. Объявив, что он готов вести переговоры по любому другому поводу, Эдуард отказался вообще обсуждать положение в Кале. Вечером 2 августа французский король обстрелял его лагерь и удалился. «Когда защитники Кале увидели это, – написал оксфордширский клерк Джеффри ле Бейкер, – они спустили свой штандарт и в большом горе сбросили его с башни в канаву. И... Джон де Виенн, их капитан... открыв ворота города, выехал к королю Англии, верхом на маленькой лошадке... с веревкой на шее, и другие горожане и солдаты следовали за ним пешими, с непокрытыми головами и босоногими, с веревками на шее. Так, выйдя к королю, капитал поднес ему меч как главному князю войны среди христианских государей и тому, кто отвоевал город у самого могущественного христианского короля из знатного рыцарства. Затем он передал ему ключи от города. Моля о сострадании, он попросил прощения и предложил ему меч мира, посредством которого должно быть дано правильное наказание, к низшим и черни должно быть проявлено снисхождение и мягкость по отношению к благородным... Король, взяв то, что было ему предложено, послал капитана с пятнадцатью рыцарями и стольким же количеством горожан в Англию, одарив их богатыми подарками»[304]. По свидетельству ее соотечественника Фруассара королева Филиппа на коленях просила за них. Вряд ли можно понять жестокие войны четырнадцатого века без этого проявления рыцарственности.
Эдуард мог теперь сделать Кале не только базой для завоевания Франции, но английским городом. Он выслал тех жителей, которые могли бы оказать сопротивление его власти, на ближайшие французские территории и предложил английским торговцам различные поощрения при поселении в этом городе. Он оставил городу старую привилегию, по которой магистраты избирались первыми домовладельцами, обещав уважать городские обычаи, и назначил английского губернатора. Он также перевел туда рыночную таможню, сделав ее единственным портом для экспорта шерсти, олова, свинца и тканей в Северную Европу. Владея теперь обеими сторонами Па-де-Кале, он теперь мог по праву претендовать на титул правителя Ла-Манша и Ирландского моря. На своей новой золотой монете, нобле[305], которую он выпустил через четыре года после победы при Слейсе, он изображен стоящим на корабле с мечом в руках.
Еще до того как Кале пал, англичане одержали другую победу в Бретани. Смерть де Монфора и безумие его жены еще больше изменили ситуацию в пользу французов, Карл Блуасский осадил Ла Рош-Деррьен с огромной, хорошо оснащенной армией. Крепость, с небольшим английским гарнизоном, находилась в самом центре графства Карла. Но сэр Томас Дагуорт[306], отправившись 19 июня с менее чем тысячью человек из Карекса, находившегося в 45 милях от города, напал вечером на лагерь осаждающих и разгромил их[307]. Самого Карла взяли в плен и послали в Тауэр составить компанию королю Шотландии.
Получив Кале и обеспечив независимость Бретани, Эдуард был готов принять предложения Филиппа о перемирии. К этому моменту он отсутствовал в Англии более года и, уничтожив угрозу Гаскони и опасность шотландского нашествия, его преданные общины нуждались в передышке от налогов. Два кардинала из Авиньона пытались найти компромисс все лето и в сентябре, на основе того, что каждый владеет тем, что он завоевал, перемирие было заключено сроком до июня следующего года.
Таким образом, в октябре 1347 года Эдуард вернулся в Англию. На протяжении двух блестящих лет победа сопутствовала ей везде; несколько тысяч ее сыновей, большинство из которых являлись простолюдинами, с оружием, которое только они одни и могли использовать, снова и снова одолевали почти невероятные орды и втоптали в грязь рыцарство крупнейшего христианского королевства. Но Англия в тот момент была сильна не только оружием. Пока время становилось свидетелем ее триумфа в Пикардии, Аквитании и Бретани, благодаря гению ее мастеров по всей стране поднималось одно церковное здание замечательнее другого. Часовня Богоматери в Личфилде, галереи в Норидже, задние хоры и арки Св. Андрея в Уэллзе, капелла в Бристоле, изящно декорированный неф Экзетера – все они были частично или полностью закончены в то же десятилетие, что и Креси. Так, на севере появился великолепный фамильный склеп семьи Перси в Беверли, а также западное крыло и неф – законченный в год победы Эдуарда при Креси – кафедрального собора Йорка. А в Солсбери Ричард из Фарли увенчал собой церковь XIII века украшенную башней и шпилем, чьи пропорции так никогда и не удалось превзойти.
Именно в сороковые годы XIV века наблюдаются первые признаки нового архитектурного стиля – английской перпендикулярной готики. До сих пор широкие и приземленные английские соборы не искали сходства с рискованной высотой готических церквей Иль де Франса. Но теперь под руководством Уильяма де Рамси, который стал главным королевским архитектором в тридцатые годы, английская архитектура начала использовать новую технику, которая производила эффект высоты без ущерба для пропорции или безопасности здания. Подобно английской военной тактике это было искусство не массы, но линии, в котором вертикальные средники просторных треугольных окон тянулись вверх и вниз, чтобы сформировать, вместе с горизонтальными линиями, которые они пересекали, постоянные прямолинейные панели стен и стекла. Впервые предпринятая лондонскими строителями в новом хранилище документов и галереях собора Св. Павла и королевской часовне Св. Стефана в Вестминстере[308], целью английской готики – реакции на чрезмерные украшения стиля декоративной готики – было всеобъемлющее единение, в котором отдельные части, арка, колонна, свод, окно и стена, были подчинены единому целому.
Именно в западном аббатстве, которое приютило тело убиенного отца Эдуарда, можно увидеть самый ранний дошедший до нас пример этого нового стиля. С помощью даров пилигримов, приходивших к королевским мощам, монахи Глостера начали в 30-х годах перестраивать норманнский темный южный трансепт (поперечный неф), заменив торцевую стену восьмистворчатым окном, которое венчалось готическим сводом. В течение следующих десяти лет они перестроили хоры, объединив массивные норманнские базы с утонченными сводчатыми колоннами и заключив стены в каркас перпендикулярных панелей под верхним рядом окон, созданных таким образом, чтобы дать как можно больше света внутреннему убранству. А в восточном конце вместо норманнской апсиды они сделали самое большое окно в Европе, наклонив стены последнего внешнего эркера, чтобы увеличить его размеры. Эта великолепная стена из стекла, высотой в 70 футов и около сорока шириной, более чем с сотней оконных створок, была застеклена витражами, благодаря необыкновенной щедрости местного лорда, с изображениями гербов и портретами его товарищей, с которыми он сражался при Креси, короля и принца Уэльского в середине.
И над ними было изображение Христа, окруженного апостолами, ангелами, святыми и мучениками, поющими gloria in excelsis (слава Всевышнему – хвалебное песнопение в честь коронации Богоматери). На переднем плане, высоко над хорами, между блестящим интерьером и серым глостерширским небом строители вырезали на балках колонны пятнадцать ангелов, каждого с различным музыкальным инструментом, как бы аккомпанировавшим хвалебному песнопению, исполняемому фигурами, помещенными на витражах.
Окно Креси в Глостере – не единственная память о битве. Чтобы отпраздновать ее, Эдуард по своем возвращении продолжил свой проект по созданию Ордена или рыцарского братства. Теперь он должен был быть посвящен не королю Артуру, чьи победы он и его вассалы превзошли, но Св. Георгию – святому патрону всех христианских воинов и с этого времени Англии. Он должен был состоять из короля и 26 его самых известных рыцарей, связанных друг с другом клятвой внутренней дружбы для «продвижения благочестия, благородства и рыцарства». Учреждалась также и связанная с ними и помещенная в часовню Св. Георга и королевском замке в Виндзоре коллегия из такого же числа каноников и бедных рыцарей, избранных из более низших рангов рыцарства за храбрость и нужду. И в качестве символа и имени Ордена король, галантный в будуаре так же, как и на войне, избрал дамскую подвязку, которую случайно обронила на балу в Кале самая прекрасная женщина Англии, принцесса Джоанна Кентская – героиня Невиллз Кросса и жена графа Солсбери. Как гласит молва, когда Эдуард обвязал ею свое колено, он произнес бессмертные слова: «Honi soit qui mal у pense» (Пусть будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает)[309]. Спустя два месяца после возвращения из Кале он заказал для себя и первых рыцарей Ордена двенадцать подвязок королевского голубого цвета, украшенных словами и крестом Св. Георга.
Это собрание «рыцарей голубой Подвязки», состоящих из «храбрейших людей королевства» и посвятившее себя стремлению к «правде и чести, свободе и учтивости», в которую входила и учтивость по отношению к женщине, сделалась моделью практически каждого европейского рыцарского ордена. «Повяжи на свою ногу за твою славу, – такие слова произносил каждый рыцарь на посвящении, – эту благородную Подвязку; носи ее как символ самого выдающегося Ордена, никогда не забывай или не отрицай, что таким образом тебе предстоит быть смелым, и, сражаясь в справедливой войне... ты должен быть решительным и храбро и успешно побеждать». Рыцари надели эту эмблему впервые на турнире в Элтеме в январе 1348 года, когда девять рыцарей из основателей ордена сражались перед королем, среди них находились принц Уэльский, Генрих Ланкастерский, констебль Нортгемптон и молодой граф Солсбери, которого считали королевским бастардом. В течение 19 турниров, проведенных той зимой и весной, – в Бери Сент Эдмунде и Элтеме, в Кентербери, Личфилде и Линкольне, в Виндзоре для совершения церковного обряда над королевой после рождения ее младшего сына[310] – Орден Подвязки формально пошел в обиход. На одном из них поставщик королевского Гардероба выпустил для облачения Эдуарда «плащ, мантию, тунику и капюшон из длинной голубой ткани, усыпанный подвязками и оснащенный пряжками и подвесками из позолоченного серебра». Было также заказано 72 штандарта с королевским гербом, «украшенные и расписанные», 244 штандарта из камвольной и английской ткани с «леопардом на всем верху и гербом Св. Георга под ним» и «800 вымпелов с гербом Св. Георга для копий оруженосцев рыцарей (или сквайров) и других воинов». Даже девятилетний принц Лайонел, недавно помолвленный своим отцом с наследницей могущественного англо-ирландского дома Клэров[311], появился на поединках в Виндзоре в «камзоле из желтого и голубого бархата».
Это было время поединков, пиров и паломничеств, в которое знать и придворные дамы переехали в блестящие и пышные французские города и замки, переоделись в меха и шелка, драгоценности и златотканую одежду. На рождественской ярмарке в Гильфорде король появился в костюме из ослепительной белой ткани, а на его щите был написан девиз:
«Эй, эй, белый лебедь, Божьим духом я твой человек»На маскараде, который последовал за ярмаркой, было 84 человека в туниках из тонкого полотна различных пестрых цветов, 42 маски с головами слонов, драконов и сатиров, лебедиными головами и крыльями, туники, раскрашенные павлиньими глазами, звездами из чеканного золота и серебра. На закате 1348 года вся аристократическая Англия веселилась во дворце с Эдуардом, «своим» королем, «знаменитым и удачливым воином». По словам Сент-Олбанского хрониста, казалось, что новое солнце встало над землей, «из-за избытка мира, богатства и славы побед».
Глава VIII СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ
«Святая Церковь я, – сказала она.
Ты должен меня знать.
Я первая восприняла тебя от купели
И вере научила» [312] .
Уильям ЛенглендАнглийское королевство всегда управлялось главным образом и по большей части клириками, обеспеченными церковными бенефициями и почестями; с их помощью интересы не только королевства, но также и Церкви обсуждались со здоровой осмотрительностью и заботой о гарантиях от убытков для обоих.
Обращение к папе от имени королевских клириков, 1279Когда король приплыл во Францию накануне Креси, самый популярный проповедник в Англии – великий теолог Ричард Фицральф, декан Личфилда и избранный архиепископ Армаха – просил народ молиться, но не о том, чтобы он победил своих врагов, так как это было бы противно законам Христа и являлось бы грехом, но о том, чтобы он «был направляем благоразумным и здравым советом, дабы добиться справедливого и счастливого исхода и мира», с тем чтобы его подданные могли вести «спокойную и безмятежную жизнь... благочестиво и целомудренно»[313]. Ведь превыше верности королю или лорду для средневекового христианина была христианская вера и учение Церкви, которая была хранилищем Божественной мудрости.
В темные века после распада Римской империи племена Западной Европы в принятии общей религии и Церкви обрели разрешение взаимных конфликтов, истощавших, опустошавших и разрушавших их. Сформировавшийся союз веры был известен под названием Христианский мир. Он был несовершенным, так как ни одно общее вероучение не могло бы положить конец дикой и иррациональной вражде, жадности и недоверию, что разъединяют людей. Хотя он позволил им найти определенный выход из хаоса страха, неуверенности и жестокости, окружавших их. Какие бы войны ни вели христиане друг против друга, двери церквей были открыты для всех верующих. Путешественник в чужие страны не мог бы достичь какого-нибудь города в любой отдаленной части христианского мира, не повстречав на пути знакомый вид церковных башен и шпилей, высившихся над стенами и домами. Под сводами Церкви люди славили, используя одни и те же слова и ритуалы, самое главное событие, в которое верил каждый христианин, – страсти Господни, посредством которых в ежедневном таинстве мессы Церковь, называвшая себя преемницей Святого Петра, была посредником в спасении человека от неизбежной смерти и ада – то, что великий английский теолог называл «постоянной утратой образа Бога».
Несмотря на барьеры между классами, интересами и языками в годы примитивного сообщения, церковная доктрина и ордонансы были приняты повсеместно на западе – от Средиземноморья до кельтских и скандинавских островов в туманах Атлантики. У религии был свой международный язык – латинский, в который ученые-церковники вдохнули новую жизнь, восприняв его от павшей Римской империи, монополия в области образования, канонический закон, с помощью которого учились не только клирики, но и миряне. С утра до ночи, на протяжении всех семнадцати провинций и семисот епархий, ее колокола отмечали начало и конец дня и часы молитв – звук, который был столь привычен уху христианина, что когда в 1384 году итальянец Леонардо Фрескобальди сошел на египетскую землю, первое, что он отметил, было его отсутствие. «Мы не услышим его, – писал он, – во всем языческом мире»[314]. Нигде эта музыка не была столь продолжительной, как в Англии, «звонящем острове», чьи отливщики колоколов, как говорили, превосходили своим мастерством всех остальных, и где, за исключением пустынных болот севера и запада, обычно можно было услышать колокольный звон соседних приходов, раздающийся над пустынными районами и лесными массивами.
Внутри церкви проводником и правителей, и их подданных в духовной сфере была обширная иерархия клириков – кардиналы, архиепископы и епископы, аббаты и приоры, деканы и архидьяконы, монахи, беспрестанно возносившие молитвы и погруженные в благочестивые размышления; приходские священники и каноники, исповедники и капелланы, ученые мужи, разъяснявшие тайны универсума, единственным толкователем которых являлась церковь, бродячие нищенствующие монахи и отшельники. В Англии, с населением в три миллиона человек, существовало около восьми-девяти тысяч приходов, в каждом из которых по меньшей мере находилось по одному священнику или диакону, а кроме того, множество не имевших бенефиций капелланов; семнадцать-восемнадцать тысяч представителей черного духовенства – монахов, монахинь, каноников, монахов нищенствующего ордена, рыцарей госпитальеров и, до их падения, тамплиеров – живших по общим обетам и правилам[315]; и большое, но точно неизвестное число не имевших приходов священников и капелланов часовен. В Йорке, в котором обитало максимум десять тысяч жителей, была сорок одна приходская церковь и более пятисот церковнослужителей; в Норидже с населением около шести тысяч – двадцать церквей и сорок три часовни. Даже в переполненной столице на каждые пятьсот жителей было по церкви, в то время как среднее количество прихожан у приходского священника редко превышало триста человек.
Кроме священников и диаконов, принадлежащих к святым орденам, которым запрещалось жениться и которые одни со своими сопровождающими прислужниками совершали богослужение у алтаря или в восточной части церкви, скрытой от общины крестной перегородкой, существовало целое воинство клерков, принадлежащих к незначительным орденам. Церковь их награждала тонзурой – небольшим круглым участком, выбритым в центре головы исполняющим обязанности епископом, в напоминание о терновой короне Христа, – которая указывала, что хозяин ее находится под защитой церкви, гарантируя ему «привилегии духовенства». Среди них были прислужники, заботившиеся об освещении церкви и помогавшие священникам у алтаря, приходские клерки, чтецы, читавшие или певшие отрывки из Священного писания, экзорцисты, изгонявшие злых духов, привратники, приглядывавшие за церковью и колоколами. В круг этих лиц входили также и студенты университетов, число которых достигало по меньшей мере двух тысяч. Вероятно, каждый из пятидесяти человек был клерком. Налоговые списки 1381 года насчитывает более 29 тыс. младших церковнослужителей в Англии, за исключением монахов[316].
В королевстве было две провинции и семнадцать епархий, четырнадцать из которых находились под началом южной метрополии, а три – Йорк, Дарем и Карлайл – северной, чья юрисдикция была практически независима от южной и которая на своих обширных просторах обслуживалась ведомственными кафедральными священниками из Беверли, Рипона и Саутвела. Восемь епископов, включая примаса, были титулованными главами монастырей, все из которых, за исключением одного, являлись бенедиктинцами. В них епископским престолом была монастырская церковь, обслуживаемая монахами, во главе которой стоял настоятель, управлявший, ревностно следя за их независимостью, монастырем и собором, тем самым позволяя епископу заниматься своими епископскими обязанностями. В соборах девяти светских епископов служили каноники во главе с деканом. Кроме того, было еще четыре валлийских епархии – Св. Азафа, Св. Давида, Лландафа и Бенгора.
К середине XIV века папа, как «вселенский судья», теоретически имел право «снабжать» все вакантные епархии епископами. Он также требовал и осуществлял право на перемещение их из одной епархии в другую. Однако в Англии почти всех епископов назначал король и ни один из них не вступал в должность без его согласия. Так как все английские епископы являлись главными феодальными держателями – особенность английской Церкви, установленная еще Вильгельмом Завоевателем, – только государь мог даровать им церковные владения и доходы с земель, входящих в епархии, которые, как и остальные феодальные поместья, переходили в руки Короны в отсутствие епископа. Поэтому папе было бесполезно назначать того, кого не желал король, хотя он и мог отказать в назначении кандидату, не подходившему по церковным правилам[317]. Благодаря этому праву вето, выбор епископов предоставлялся по обоюдному согласию королю в обмен на то, что король обеспечивал папе право назначать кандидатов на бенефиции, которые менее заботили королевскую администрацию. Из уважения к принципу канонической независимости обычной процедурой для собрания каноников были выборы кандидата, чье имя было представлено на рассмотрение в королевском conge d'elire[318]. После рассмотрения и одобрения римским папой, он формально «обеспечивался» епархией и должен был выплатить некоторую сумму курии, а также аннаты, или первый доход со своей бенефиции.
По этому характерному для Англии компромиссу глава государства избирал духовного магната, являвшегося ex officio пэром королевства, в согласии с вето, главой государственной Церкви. Это предоставляло не только лидеров для английской Церкви, но и главных административных чиновников Короне. Процесс стал частью системы, которая везде финансировала лучшее управление Церкви и Государства в эпоху всевозрастающей административной сложности, которую более ранние вклады – созданные для более простой формы общества – не могли обеспечить. Вместо обложения пошлинами общину, мирскую или церковную, для обеспечения доходов растущему числу королевских и церковных чиновников, в которых нуждалась прогрессивная цивилизация, был найден наиболее приемлемый способ, заключавшийся в использовании для их содержания некоторых самых доходных церковных бенефиций, – епископств, диаконств, архидиаконств, кафедральных и коллегиальных должностей и пребенд, – что позволило возложить на бенефициариев обеспечение помощников для исполнения своих канонических обязанностей.
С незапамятных времен задача Церкви состояла в том, чтобы направлять и давать советы государству и его правителям, и казалось вполне естественным, что часть ее богатств следовало использовать для защиты прав тех, кто выполнял ее обязанности, и что потомкам князей и лордов, которые обеспечивали ее (делали вклады), следовало просить церковнослужителей о тех административных деяниях, которые могло дать только духовенство. Когда в 1340 году Эдуард III впервые назначил канцлером мирянина, ему пришлось выплачивать ему Ј 500 в год – более 25 тыс. на современные деньги – больше, чем он мог позволить, так что он мог поддержать свой чиновничий аппарат без жалования епископа[319]. Справедливым также казалось и то, что некоторые церковные пожертвования должны использоваться для подержания служителей и чиновников папства, чья работа по организации и регулирования церкви служила целям всех христиан. Бенефиции наиболее богатых кафедральных соборов и коллегиатских церквей, чьи обязанности по проведению литургии могли исполняться викарием и церковным хором, находящимся на постоянном жаловании, сильно использовались для этого как Короной, так и папой, в особенности папой, который должен был обеспечить не только для членов своего растущего двора, но для достойных служителей Церкви в каждой стране христианского мира, постоянную преемственность своей курии, лично или назначив доверенное лицо, чтобы иметь возможность просить о бенефициях.
Однако, шокируя умы современников, это изменение использования пожертвований на административные нужды церкви и государства давало бенефициарием – так как церковная бенефиция являлась пожизненным фригольдом – возможности для экономической независимости, что позволяло им стать чем-то большим, нежели простыми исполнителями воли своих дарителей. Используемые папой и государем, графом и бароном для вознаграждения тех клириков, которые служили им, бенефиции также помогали сохранить баланс в управлении обществом и обеспечить то ограничение деспотической власти, которое постоянно искала средневековая Церковь.
На протяжении XIV века более половины английских епископов было занято на государственных должностях. Многие из них получили свое назначение через административную службу при дворе короля. В 1300 году епископство было представлено только двумя гражданскими служащими, спустя четверть века их было уже 12, большинство из них служили в ведомстве Гардероба или являлись его бывшими чиновниками. При Эдуарде III епископы находились в наиболее привилегированном положении, занимая посты хранителя Малой печати, в 1350 году шесть из семнадцати епископов имели государственные должности[320]. Хотя в Англии никогда и не существовало аристократической монополии на высшие церковные посты, как в некоторых континентальных странах, около пятой части епископов происходило из землевладельческих и рыцарских семей, окружавших трон, – Бомонов, Кобемов, Беркли, Бергершей, Куртене. Большинство же являлось выходцами из средних слоев, а в некоторых случаях встречалось и низкое происхождение. Где-то каждые двое из трех имели университетское образование, обычное в области церковного права – предмета, наиболее полезного для исполнения обязанностей королевского и баронского чиновника.
Такие прелаты недолго задерживались в сельской местности, проповедуя и принимая крещение подобно первопроходцам из Рима и Айоны, первыми принесшим веру в Англию. Епископ являлся крупным местным магнатом, владея доходами с многочисленных маноров и рыцарских ленов, одеваясь с княжеской пышностью и пребывая в богатстве. Его доход в две или три тысячи фунтов в год был сказочным, по сравнению с годовым заработком пастуха или пахаря в сорок или пятьдесят шиллингов. Замок епископа Даремского на реке Уэр являлся самой мощной крепостью на севере; епископ Экзетерский только в Девоншире имел девять резиденций[321]. Архиепископский дворец в Бишопторпе, где Эдуард II восстанавливал свои силы после Бэннокберна, являлся всего лишь одним из двух десятков подобных домов, принадлежавших северной метрополии; епископ Линкольнский имел десять дворцов и сорок имений, включая, как и многие другие прелаты, особняк в Лондоне, из которого он осуществлял исполнение своих обязанностей в качестве пэра королевства и посещал собрания парламента и королевского совета. Когда епископ путешествовал, он восседал или верхом на лошади, или в носилках, имея свиту из тридцати или сорока конных клириков и других вассалов, включая рыцарей и тяжеловооруженных воинов, призванных из его земель для охраны его персоны от грабителей.
Даже при исполнении своих чисто церковных обязанностей епископ в XIV веке являлся администратором, управляя богатством и осуществляя правосудие в своем диоцезе и имениях, которой наделило его благочестие и набожность прошлых эпох. Если он был не занят на королевской службе, то он должен был посещать каждую часть своего диоцеза, выясняя либо лично, либо через своих чиновников положение дел в каждом приходе или религиозном доме, который не был высвобожден специальной папской буллой из-под его юрисдикции. Он должен был посвящать в сан священников и вводить вновь получивших в бенефицию, благословлять молодых, собирать синод клириков диоцеза, освящать церкви и выпускать лицензии для капелл и частных часовен, а также отлучать от церкви или каким-либо другим образом наказывать мирян, не платящих десятину, отказывающихся от наложения епитимьи за свои грехи или совершивших преступления или святотатственные действия на территории святого храма. Его должность заключалась не столько в том, чтобы учить и наставлять свою паству, сколько дисциплинировать ее. Он был обычным судьей – judex ordinarium – в своем диоцезе. Как его «Господь Отец» он должен был осуществлять проведение закона Церкви в жизнь и исправлять и наказывать грешников. Словами Ленгленда, его чиновники «собрались на краю, чтобы вытаскивать людей из Ада... и бросать туда грешников».
Ему помогало огромное количество различных судов, осуществлявших канонический или церковный закон. Его собственный епископский суд, под председательством либо его самого, либо его канцлера, рассматривал особо тяжелые церковные преступления и такие моральные провинности мирян, как лжесвидетельство, ростовщичество, нападения на монашек и нарушение права церковного убежища на неприкосновенность – права Церкви предложить ограниченное, а в некоторых случаях, и неограниченное убежище на Святой Земле для скрывающихся от правосудия. Дела, которые не требовали личного вмешательства епископа, рассматривались в суде консистории диоцеза под председательством ученого церковного юриста, который назывался принципалом, в то время как в главных отделениях диоцеза другой церковный дигнитарий, архидьякон, осуществлял, лично или через помощников, епископские функции по посещению и наказанию прихожан. В самом большом английском диоцезе – Линкольне, существовало восемь архидьяконств; в других же, таких, как Рочестер, Или или Карлайл, только одно. Более мелкие юридические подразделения, часто соотносившиеся с сотнями или вапентеками графств, управлялись сельскими дьяконами или деканами, чьи полномочия, однако, к изучаемому времени выходили из употребления.
Окружение епископа называлось фамилией или семьей и включало капелланов, регистраторов, нотариев, клерков, придворных рыцарей, йоменов и конюхов. Наиболее важным его членом был главный викарий, которому он делегировал все функции, которые он не мог исполнять лично, за исключением тех, для которых был необходим епископский сан, то есть рукоположение, конфирмация и освещение церквей. Для их исполнения, если он отсутствовал или был занят при дворе, он мог нанять викарного епископа, обычно из состава свободных епископов-миссионеров, которые, отправляясь по приказу папы в диоцезы языческих земель – «in pertibus infidelium» – или в дикие районы Ирландии, не могли осуществлять своих функций, но получали вознаграждение за свой приход[322]. Даже с такой помощью сознательный епископ, не занятый постоянно при дворе, должен был постоянно путешествовать по своему диоцезу, останавливаться в том или ином из своих епископских маноров или религиозных домах или ректорств. Оливер Саттон, прелат с глубоким осознанием своих обязанностей перед паствой, царствовавший над Линкольном на протяжении последних двух десятилетий XIII века, ночевал под разным кровом по крайней мере раз в неделю на протяжении практически всего времени нахождения в должности.
* * *
Между жизнью такого магнифика и бедным священником, который служил простым англичанам, пролегала такая же пропасть, как между Цезарем Августом и основателем христианской веры. Священник приходской церкви был обычно сыном крестьянина, ведущим такой же образ жизни, как и его паства. Обученный в лучшем случае в монастырской или грамматической школе достаточному знанию латыни, чтобы читать писание и произносить службу на языке, перед которым благоговели его прихожане, но недостаточного для того, чтобы понимать латинскую речь, будучи единственным образованным человеком в приходе, он жил подобно любому другому крестьянину, обрабатывая небольшой клочок земли или «пасторский двор» – держание, которое состояло из 50 или 60 акров и находилось на общинных полях. Он также получал взносы и подношения от прихожан за совершение крещений, свадеб, благодарений, посещений умирающих и похороны – традиционный взнос за упокой души у открытой могилы. К XIV веку почти в каждой деревне имелся собственный ректор или пастор – persona данного места – служивший в церковной административной единице под названием приход и обеспеченный законом получать с каждого прихожанина десятую часть имущества или десятину. Но в случае многих более богатых приходов право представления на приход или advowson, как его называли, отдавалось его патроном – возможно, потомком того, на чьи пожертвования была основана церковь, – монастырю, колледжу, кафедральному собору или другому церковному учреждению, которое, аккумулируя огромное количество своих доходов, платило специально назначенному лицу за осуществления обязанностей по исцелению страждущих. В других случаях владелец права представления на приход, представлявшего собой нечто вроде законной собственности, жаловал приход тому, кто имел наследственные права или обещающему молодому человеку, проявившему себя на ученом поприще, который получил епископское разрешение жить вне прихода, которому было позволено нанять викария или «постоянного куратора», пока он завершал свое обучение или исполнял более важные церковные обязанности где-нибудь еще. Обычно отсутствующий ректор получал «большую» десятину из доли урожая и скота, в то же время позволяя своему викарию обрабатывать приходской надел и получать «малую» десятину из свиней, гусей, дичи, яиц, овощей и фруктов, льна, меда и рыбы. В других случаях исполнявший обязанности приходского священника, который по церковному закону должен был по крайней мере обеспечить себе долю доходов с бенефиции для подержания существования, получал стипендию наличными деньгами и натуральным продуктом. Так, викарий Стиксвуда в графстве Линкольншир получал каждую неделю четырнадцать караваев и четырнадцать галлонов пива, плюс семь караваев хлеба худшего качества для слуг, которые помогали ему обрабатывать землю.
Именно таким образом большая часть богатств, которая была предназначена для исцеления страждущих, – главной задачи церкви, – была приспособлена к другим нуждам[323]. К концу царствования Эдуарда I около пятой части церквей страны находилось в таком владении. Тогда как около трети их дохода доходило до приходских священников, а так как предполагалось, что держатель паствы должен посвящать две трети своей десятины содержанию алтаря и помощи беднякам прихода, то как приходская беднота, так и церковные постройки, обычно находились в пренебрежении. Лишенный большой десятины, викарий склонялся к тому, чтобы выбивать из своих прихожан «малую» десятину – а именно она сильнее всего била по крепостным крестьянам и мелким землевладельцам – и тратить слишком много времени на обработку своего приходского участка земли и уходом за скотиной. Озабоченность простого приходского духовенства сельскохозяйственными делами постоянно отмечается в записях епископского двора того времени. Во время посещения архидьякона служка одной девонширской церкви жаловался, что викарий, хотя и во многих отношениях достойный человек, держит свою скотину на церковном дворе – «отчего он ужасно затоптан и сильно загажен» – присваивает церковный лес для строительства своей фермы и варит свой солод и хранит свое зерно в нефе церкви, «отчего его слуги, входя и выходя, открывают дверь и, во время бури, врывается ветер и обыкновенно срывает с церкви крышу»[324].
При этом существовала определенная компенсация. Для простого селянина церковь представлялась человеком из его класса, привыкшего с детства к тем же сельскохозяйственным занятиям и образу жизни, как и он сам. Хотя он, может быть, и не был способен толковать латинские проповеди и службы, он пел наизусть у алтаря, и хотя у него, возможно, и были некоторые трудности при посвящении в сан, чтобы удовлетворить епископские требования, но он владел необходимыми средствами или гарантиями, «титулом» как это называлось, чтобы предотвратить наложение повинностей на диоцез, ибо он понимал проблемы тех, для кого совершал богослужения. В рыночных городках и нескольких наиболее богатых сельских приходах приходским священником мог быть влиятельный человек, подобно чосеровскому пастору из Трамплингтона, который дал за своей дочерью – а по правилам, у него вообще не должно было быть детей – приданое, когда она выходила замуж за мельника. Обычно он был сыном мелкого фригольдера или отпущенного на волю виллана – ибо крепостной не мог вступить в ряды Церкви до тех пор, пока не получал вольную от своего лорда – со средним доходом в наиболее процветающих восточных графствах в 10 или 11 фунтов в год, что равно примерно той же сумме, но в неделю, по современным меркам. В некоторых случаях его заработок исчислялся только 3 или 4 фунтами в год, не более чем доход крестьянина с двенадцати акров возделываемой земли. Его симпатии и интересы совпадали с симпатиями и интересами прихожан, даже если его бедность иногда приводила к спорам о том, какие взносы они должны были платить, или втягивала их в наиболее нелюбимую форму приходского отлучения от Церкви, «отлучение за десятину».
Реформаторам нравственности, подобно великому проповеднику доктору Райпону из Дарема, или знаменитым философам и университетским докторам подобно Роджеру Бэкону из Оксфорда, такой бедный сельский пастор казался немногим лучше «дикой скотины», который, погрузившись в подсчеты зерна и приплода скота, едва может изложить какой-либо канон веры и пригоден только для «бормотания заутренних и месс». Своими прихожанами он наделялся мистическими способностями, на которые полагались их надежды на награду или страх наказания после окончания своей тяжелой короткой жизни на бренной земле. Когда при звучании святого колокола он стоял перед алтарем и вел мессу, осуществляя посредством своего сана таинственное превращение хлеба и вина в плоть и кровь Христову, он казался представителем почти иного мира. А когда приходила смерть и он торопился к постели умирающего с фонарем и колоколом, святой водой для окропления, маслом для помазания и дароносицей, в которой хранились святые дары, от него и его способности даровать отпущения грехов и осуществить таинство последнего помазания зависела готовность мечущейся и одинокой души пройти через спасение или вечные муки.
Страх гнева Церкви, который мог оставить грешника без исповеди и брошенного в пучину вечных мук, был очень хорошо знаком средневековому христианину. Его жизнь была короткой и ненадежной, смерть постоянно маячила перед глазами. Он знал, как жестока может оказаться природа и его собрат – человек; какие разрушительные силы сокрыты в них. К боли и страданиям этого мира воображение его языческих предков добавляло страх еще больших страданий по ту сторону могилы; древние языческие боги продолжали жить с ним, но под новыми именами. Его ум был охвачен мыслями о демонах, которые «летают в воздухе, как пылинки на солнце», о дьявольских искушениях, которые могут появиться в любой момент в любой личине, человека или животного – обезьяны, женщины, Паука, собаки, ведьмы, даже епископа на кафедре – и ввести его в какой-нибудь фатальный грех, который мог лишить его надежды на спасение. Эти страхи усугублялись картинами на стенах каждой церкви: преисподняя, в которой плавились грешники, где были «огонь и сера», «ядовитые черви и змеи» и черти со сверкающими глазами и фальшивым хохотом, поворачивавшие своих жертв вилами в горящей смоле в вечной пытке. «Некоторые будут гореть, – так начиналась одна из средневековых проповедей, – в пылающем огне, который в десять раз горячее, чем любой другой костер в мире; некоторые будут висеть за шею, а бесчисленное количество чертей будет выдирать их члены и жалить их тела тлеющими головнями... Там будут мухи, сосущие их плоть, а их одежда будет состоять из червей... И повсюду будут слышны рыки чертей, плач и скрежет зубов и вопли проклятых, кричащих: „Ура, ура, ура, как великолепно в этой темноте!”»[325]
Все это необычайно усиливало власть священника над своей паствой. Научившись понимать немного по-латыни, именно он являлся единственным толкователем библейской истории и иудейских и христианских истин, зафиксированных в этом труде, – единственном, к которому во времена, когда все книги должны были переписываться от руки и были сказочно дорогими[326], имели доступ только наиболее образованные представители духовенства и мирян. Именно он или его клерк или прислужник обучали деревенских детей основам веры, символу веры, заповедям, катехизису и латинским молитвам Pater Noster и Ave Maria на хорах, которые часто служили помещением для школы и находились над церковным крыльцом, они соединяли мужа и жену у дверей церкви на глазах всей общины, они принимали раз в год, обычно на Пасху, исповедь каждого прихожанина в исповедальне, после чего давали совет и если были удовлетворены искренним раскаянием, то даровали отпущение грехов. Были и другие случаи, когда под звон колоколов с деревенской колокольни он стоял перед своей конгрегацией, чтобы зачесть ужасный приговор об отлучении от церкви, изгоняя отлученного из лона церкви при помощи книги и свечи, когда он задувал слабоколеблющееся пламя и бросал огарок в конце своей анафемы на землю[327].
Каждое великое событие в жизни бедняка, все, что возвышало его над животным и наделяло красотой или смыслом, сосредотачивалось вокруг приходской церкви. Здесь каждое воскресенье и по важным праздникам, составлявшим тридцать или сорок дней в году, которые являлись его выходными и поводом для пирушек и постов, он слушал, с благоговением и обнаженной головой, «благословенное бормотание Мессы» и принимал участие в обрядовых драмах и процессиях, которые часто рассказывали непросвещенным людям евангельские истории – на Сретенье зажженные свечи обносились вокруг церкви, в среду на первой неделе великого поста происходила раздача и благословение золы, в Пост вешали постный покров перед алтарем, на Вербное Воскресенье раздавали вербные ветви, в Страстную Пятницу в темной церкви происходила сцена пресмыкания перед Крестом, на Пасху – триумфальный крестный ход в полном церковном облачении и с хоругвями, под колокольный звон и пение священных гимнов о Воскрешении Христа выносилось Тело Христово и Крест, от Гроба Господня, где они лежали со Страстной Пятницы к главному алтарю. На Троицын День со стропил церкви посреди облаков фимиама выпускался голубь, на праздник Тела Христова – появившегося в XIV веке в честь Истинного Присутствия[328] – вся община находилась в коленопреклоненном состоянии в церкви и на деревенских улицах, пока мимо них шла процессия с Причастием – Телом Христовым. Накануне Вознесения пастор благословлял поля, на Праздник Урожая[329] он представлял хлеб, символизировавший первые сборы, к алтарю, в Новогодний день он обводил своих прихожан вокруг яблоневых садов, чтобы благословить плоды приближающегося лета.
Некоторые из этих ритуалов и суеверий, неразрывно связанных с ними, были переняты Церковью из языческих дохристианских культов. Другие же, подобно изгнанию ведьм, духов и фей, а также жжение костров на Иванов день, так никогда и не стали частью церковной доктрины и ритуала, но молчаливо принимались приходским духовенством, которое росло с такими же верованиями и должно было примирить неискоренимую преданность им прихожан с христианской верой и учением, которые они были обязаны преподать им. Так, курение фимиама заняло место языческого сожжения жертвоприношений, святая вода – призрачных ключей л потоков, христианские заклинания – чары волшебников.
Несмотря на то количество руководств и инструкций, выпущенных епископами-реформаторами, демаркационная линия между религией и суевериями так и не была четко обозначена в средневековой религии. Церковные колокола звонили, чтобы предупредить о надвигающейся буре, потому «что дьявол, услыхав божественный трубный глас, который и есть колокола, может убежать в страхе и отказаться от насылания бури». Когда паразиты наводняли церковь или гусеницы – деревенские сады, священник мог провозгласить против них анафему, в то же время старухи, подозреваемые в ведьмовстве, часто обвинялись в краже священных даров с целью уничтожить паразитов в своих садах или наложить проклятие на соседей. Существовало всеобщее убеждение, что во время кульминационного момента мессы поднимается Тело Христово, а тот, кто посмотрит на него с чистым и раскаявшимся сердцем, избавится до конца жизни от всех несчастий и жизненных неудач.
За исключением Великого Поста и специальных случаев, предписанных конституциями архиепископа Печема, обычный деревенский пастор редко произносил проповеди. Четыре раза в год от него ожидали толкования символа веры, евангельских правил и десяти заповедей на английском языке и разглагольствования, подобно чосеровскому «бедному городскому пастору», по поводу семи смертных грехов и их последствий, семи добродетелей и семи святых таинств. В остальное время он полагался, как и любой другой приходской священник от Калабрии до Скандинавии, на драматические обряды католической церкви, ритуалы у алтаря, звучные латинские молитвы и заклинания, статуи, иконы и изображения Иисуса, распятого или вознесенного в величии, святых и мучеников, и ангелов, страшного суда и адских мук, запечатленных в великолепных цветах и ужасающих подробностях на алтарных сводах, библейских историй и Апокалипсиса, которые покрывали стены, окна и крыша любой, даже самой простой церкви.
В том, чтобы заставить язычника отречься от своих примитивных и кровавых верований, связанных с жестокостью и человеческими жертвоприношениями, главным достижением Церкви стало адаптирование и гуманизация концепции бессмертия. Повсюду человек сталкивался, как в Церкви, так и в придорожной часовне, с простыми и знакомыми напоминаниями о царстве небесном, которое он должен был заслужить с помощью добродетелей любви, веры, сострадания, смирения, правдивости, целомудрия, учтивости – добродетелей, которые доставались так тяжело, и в которых нуждались страстные, буйные, грубые люди. Были призваны помочь им обрести дорогу в Рай и заставить их избежать искушения изображения мужчин и женщин, которые, как говорила Церковь, боролись и преодолели недостатки человеческой натуры и теперь являлись, подобно своему Творцу, чьему примеру они следовали, благословенными духами, вознесенными на Небо и готовые вмешаться в борьбу за души простых смертных, которые взывали к их помощи. Святые были настолько человечными, как учили христиан, что они могли помочь людям в их самых простых нуждах. Так Св. Кристофер, который как-то нес Христа на себе, был патроном и защитником носильщиков; Св. Варфоломей, с которого живьем содрали кожу, – дубильщиков; Св. Аполлония, чья челюсть была полностью раздроблена в результате пыток, – покровителем тех, у кого болели зубы; Св. Иоанн, который был брошен в котел с горящим маслом, – покровителем свечных дел мастеров; Св. Эгидий присматривал за калеками; Св. Криспин – за сапожниками; Св. Екатерина – за маленькими девочками; Св. Евстахий и Св. Хьюберт – за охотниками; Св. Сесилия – за создателями музыки; Св. Блез – за теми, у кого болит горло. А поскольку Мария Магдалина натерла ноги Христа ароматными маслами, она считалась покровительницей парфюмеров. Если у кого-то болели быки, то обращались к Св. Корнелию, если свиньи, то к Св. Антонию, если куры, то к Св. Голлу. Существовал даже специальный святой, Св. Озит, для женщин, которые потеряли ключи.
Так, еще существовали святые для мест и стран – Св. Георг – для Англии, Св. Дионисий – для Франции, Св. Андрей – для Шотландии, Св. Патрик – для Ирландии; Св. Хьюго Линкольнский, Св. Суизин Уинчестерский, Св. Чад Личфилдский. Функцией святых было вместе с Христом ходатайствовать о прощении смертных, защищать тех от демонов, которые летали в поисках искушения их духа, помогать им в правом деле и являться, когда смертные взывали к их помощи. Их защиту нужно было заслужить раскаянием и молитвой, стоя коленопреклоненными перед их изображениями и алтарями или взывая к ним в тяжком труде или родовых муках, но те, кто искал их помощи со смирением, всегда получали ее. Английских детей обучали следующей молитве:
«Матвей, Марк, Лука и Иоанн Следите за постелью, на которой я лежу: Четыре угла у моей постели, Четыре ангела там расположились, Один в голове, один в ногах, И двое – чтобы проводить меня до небесных врат; Один, чтобы петь, и два – молиться И один, чтобы унести мою душу».Самым любимым ходатаем за человека была Богородица. Колокол Гавриила звонил по вечерам, чтобы созвать всех христиан прочесть Ave Maria, а пилигримы стекались, чтобы увидеть макет ее дома в Августинском аббатстве в Уолсингеме, веря, что небесная галактика, Млечный Путь, была специально создана, чтобы направить их сюда. Культ Девы Марии, умоляющей о прощении человеческих слабостей, которые могла простить только женщина, был тогда первым, достигшим пика популярности. Самые значимые события ее жизни – Благовещение (объявление о том, что она зачала от Святого Духа), Очищение, Посещение и Успение – прочно заняли свое место среди других праздников христианского года; на Очищение в феврале, известном как Сретенье Господне, все выходили на улицы со свечами, благословленными у алтаря в ее честь. О ней думали, как о воплощении всех женских добродетелей: нежной, чистой и любящей и настолько сострадательной, что даже самый отверженный мог надеяться на прощение с ее помощью. «Женщина, облеченная в солнце, с луной под ногами и венчанная короной из двенадцати звезд, – как назвал ее проповедник, – этот великий знак и символ проник даже в глубины Ада, ибо все черти там напуганы только одним именем славной Девы»[330].
Нигде Мария не была так почитаема, как в Англии, которую называли приданым Богородицы. Количество церквей и святынь, посвященных ей, было неисчислимым; никакое другое имя не фигурировало так часто в списках королевских подношений. Когда Уильям Викенгемский основал свои колледжи в Уинчестере и Оксфорде, он поместил их под ее защиту, и в обоих колледжах все еще можно застать епископа, высеченного в камне, коленопреклоненным, простирающим к ней руки и молящим о благословении своих пожертвований. Почти каждая сколько-нибудь важная церковь владела ее изображением в серебре, золоте или гипсе, поднесенным каким-нибудь дарителем, а вдоль дорог и путей паломничества располагались придорожные часовни, где путешественники могли прочитать свои молитвы и вознести свое Ave Maria Небесной Царице.
Не только английские воины вдохновлялись именем Девы. Большая часть английской лирической поэзии, которая дошла до нас от тех времен, написана в ее честь.
«Я пою о Деве Нет равных ей, О ею вскормленном сыне, Короле всех королей... Он пришел так безмолвно В жилище своей матери, Как роса в апреле, Падает на цветы».Никому не известен автор эти и других стихов в ее честь – английского варианта латинских гимнов, созданных специально для церковных служб, часто используемых с литургической фразой, часто вклинивающейся в родной язык:
«О Той, кто так прекрасна и ясна, Velut maris Stella, Яснее чем дневной свет, Parens et puella...»Имена приходов на картах, Ледигроув[331] и Ледимид[332], Мериз Уэлл[333] и Мерифилд[334], а также цветы, которые сельские жители назвали в ее честь, бархатцы[335] и манжетка[336] являют собой даже после четырех веков господства протестантизма свидетельство той преданности, которую наши католические предки питали к матери Христа.
Именно из этого культа Девы Марии в жестокие и суровые годы, когда правила сила, а насилие было всеобщим, выросло понимание того, что женщине необходимо отдавать дань уважения и почтения и что проверкой на цивилизованность является именно отношение к женщине. «Ни один мужчина, – провозглашал проповедник, – не должен держать женщину в пренебрежении, ибо нет мудрости в том, чтобы пренебрегать тем, кого любит Господь».
«Люби женщину всем сердцем, Она изменится к лучшему; Женщина хороша и от нескольких слов; Клянусь Девой Марией! Женщина замечательна, и этого не преуменьшить; От скорби и заботы она нас избавит; Женщина – вершина всего; Клянусь Девой Марией!»В описании своего путешествия по христианским землям ничто так не поразило благочестивого мавра, Ибн Юбаура из Гранады, как вид, среди отбросов и экскрементов Акры – «вонявших и мерзких, да разрушит ее Господь!» – христианской невесты, сопровождаемой, с оказанием всех возможных почестей, кортежем рыцарей. «Она была так горда, семеня короткими шажками, как голубка или как легкое облачко. Да защити нас Господь от соблазна!»[337] Не таким образом преданные политике гарема обращались со своими женщинами.
* * *
Именно такое соединение земли и неба, материи и духа, допущение, что потусторонний и земной миры находятся в постоянном взаимодействии, сделали средневековое христианство жизнестойкой и просветительской религией. Ибо для простого человека его приходская церковь была центром как духовной, так и земной жизни. Она была местом встречи всей общины. Ее нефы и приделы были устроены не только для молитв и литургических процессий, но и для объявлений и деловых переговоров. Ее крыльцо использовалось для коронерского дознания, оглашения помолвок и выплаты наследства; дубовый ящик – для хранения завещаний, хартий и документов, подтверждавших право собственности. На церковном дворе, где играли деревенские ребятишки и лежали умершие, составлявшие приходское кладбище, в ожидании воссоединения всех христиан в день Страшного Суда, прихожане встречались для обсуждения приходских обязанностей, проходили пиры и исполнялись мистерии теми сельскими актерами, в которых смешались несовместимые сельский достаток и грубая игра с благочестием истинной веры. Если нам такие развлечения представляются грубыми и языческими – как если бы пастухи в Бетлгеме прославляли местный эль или Господь появлялся в тиаре, бороде и позолотой на лице – это было потому, что христианская вера являлась частью жизни простого, темного человека.
Средневековое христианство являлось исключительно человеческой религией. В нем было место для комедии и фарса. В процессии на Вербное Воскресенье обычно одетый ангелом мальчик, стоящий на западном крыльце церкви, бросал лепешки, из-за которых дрались все прихожане, пока вдоль хора волочили деревянного осла, а за ним шел человек, лупивший его кнутом. Даже при проведении глубоко впечатляющей заутрени на страстной неделе когда одна за другой гасли свечи на алтаре, сельские певцы на хорах поддерживали свои силы вином и пивом, поставлявшимся им приходским смотрителем, пока вся конгрегация под звон колоколов приветствовала Воскресение Христово в Пасхальное утро. Совсем маленькие дети принимали участие в литургии; на день Св. Николая или день Избиения младенцев мальчики из кафедрального хора исполняли службу, а мальчик-епископ в митре и с епископским посохом произносил проповедь, пока декан и капитул молились коленопреклоненными, чтобы получить его благословение[338].
Даже для самых низших слоев – а многие жили настолько скудно, что их жизнь была немногим лучше, чем жизнь скотов, – Церковь предлагала питательную почву для двух атрибутов, которые возвышали и облагораживали человеческую природу. Вся корпоративная жизнь общины, которая заключалась не только в обеспечении экономического процветания, концентрировалась вокруг церкви и контролировалась церковными старостами – танцы на первое мая, когда дети обходили всю деревню, собирая деньги, костры, устраиваемые накануне дней святых, когда дома украшались свечами, а богатые устраивали застолья из вина и кексов перед своими дверьми для более бедных соседей, бдения в ночь на день Св. Иоанна и Св. Петра, когда дозором обходили весь приход, а в городах люди и ремесленники маршировали по улицам в ливреях своих гильдий. Именно церковные старосты – ежегодно избираемые прихожанами на пасхальном собрании прихожан – организовывали на церковном дворе или в церковном доме, если таковой имелся у прихода, благотворительные праздники в честь Церкви, чтобы собрать денег на приходские расходы, в честь невесты – чтобы помочь молодым начать свое хозяйство, торги для тех, кто находился в нужде и несчастье. Когда Церковь перестраивалась или расширялась – а в XIV и XV веках почти каждый город или деревня перестраивала или обновляла свою Церковь – церковные старосты собирали деньги, устраивая соревнования по стрельбе из лука или просто обходя всех прихожан. Они назначали деревенского «Робина Гуда» или «Малютку Джона» вести прихожан к стрельбищам после мессы по воскресеньям или святым дням и собирали взносы с участников соревнований, а также организовывали ежегодные сборы в «залоговое время», когда молодые люди и замужние женщины и девицы по очереди отправлялись друг к другу в дом, чтобы завлечь представителей противоположного пола и заставить их платить штрафы в пользу Церкви – «выкуп людей на Фоминой неделе», как называли это действо церковные старосты прихода Св. Эдмунда в Солсбери. Они также проводили ежегодную финансовую проверку церковных расходов, когда прихожане, собранные в соответствии со своими занятиями и названиями, по очереди представляли свои дары и взносы – «поступили от детей и девиц», «поступили от ткачей» – указано в счетах одного сомерсетского прихода[339]. Именно тогда старосты получали все наследства, оставленные приходу: запас корма для скота для бедных, улей для обеспечения воска для свечей и меда, женское обручальное кольцо, ткань для пошива риз и чехлов. Они также отвечали за украшение Церкви – весенними цветами на Вербное Воскресение и Пасху, гирляндами роз на праздник Тела Христова и падубом и плющом на Рождество.
Гордясь и заботясь о своем месте для богослужения, сельский прихожанин находил объяснение для другого атрибута, который отличал человека от животного: художественному творчеству. Во времена, когда большинство людей жило в простых почти без всякой утвари, грязных и сырых лачугах, размером немногим более сарая, в котором мелкий крестьянин сегодня взращивал свиноматку со своим выводком, богатство, которое дарили Церкви даже самые бедные деревеньки, казалось всего лишь мгновением чуда. Как показывают описи следующего века, мелкие и отдаленные церкви, у которых не было богатых жертвователей, владели потирами, дискосами, кубками, кадилами, канделябрами, сделанными из серебра и золота, обшитыми филенками и позолоченными запрестольными перегородками и алтарями, украшенными драгоценностями крестами и дароносицами для Тела Христова, вышитыми ризами и алтарными покрывалами из золотой ткани. Они были обставлены резными крестными перегородками, откидными стульями на хорах и боковинами скамей, каменными и гипсовыми статуями, великолепно отлитыми и гравированными колоколами, а также окнами, стекла из которых были привезены с verreur[340] Франции и Германии. Большинство этой утвари являлось искусством высшего качества, созданными вдохновением, полученным от веры и глубокой корпоративной гордости. И вся эта утварь оплачивалась и накапливалась из поколения в поколение деревенской общиной, многие члены которой – плотники, строители и кузнецы – помогали привести ее в порядок.
* * *
Своей цивилизаторской миссией приходская церковь и пастор пусть и несовершенно, но исполняли ту работу, которая в более раннюю эпоху осуществлялась монастырями, несшими христианскую веру в широкие слои общества. Крупные монастырские ордена, которые передали наследие христианства и латинской цивилизации военным классам Западной Европы, уже давно перестали быть теми, кто обращал в новую веру. То же самое произошло и с капитулами богатых каноников – черными августинцами и белыми премонстрантами – которые служили таким великолепным коллегиатским церквам, как Саутверк, Уолтем, Смитфилд, Св. Варфоломея, Уэлбек и Крайст Черч, в Гемпшире, хотя некоторые из них изначально были основаны, чтобы осуществлять миссионерскую деятельность. Монахи, рекрутируемые теперь не из людей с явными миссионерскими наклонностями, но в основном из младших сыновей мелких землевладельцев и горожан, далеко отошли от жизни крестьянства, чья десятина и ренты поддерживали их великолепные учреждения. В своих церквах они все еще продолжали исполнять обычный круг служб, молитв и песнопении. Но хотя венценосные и знатные персоны часто посещали более знаменитые обители, оставляя в память о своих визитах дары из драгоценностей и мощей, за исключением нескольких более крупных аббатств, где часть церкви использовалась для нужд прихода, обыкновенные миряне не принимали участия в их изолированном существовании. В Бери Сент-Эдмундс монахи построили две церкви по обе стороны ворот аббатства, одну для горожан и одну – для пилигримов, чтобы хранить свою святость для самих себя. Монахи Вестминстерского аббатства построили церковь Св. Маргариты, чтобы избежать использования южного придела для приходских богослужений. Этим аббатства отличались от мирских кафедральных соборов, где многие каноники и пребендарии не жили постоянно и чьи нефы местные жители использовали в качестве центров для своей публичной жизни. Экзетер, где внутри собора во время ярмарки и на день Св. Павла возводились киоски, где купцы устраивали свои сделки и даже проститутки предлагали свои услуги и где у каждой колонны находился барристер для консультации клиентов.
В отличие от тех, кто жил внутри своих иммунитетов и свобод и подчинялся только своей собственной юрисдикции, общественный контакт с такими крупными монастырями сводился к выплате ренты, десятин других служб их чиновниками и бейлифам, к аккуратно выверенному с точки зрения иерархии гостеприимству, предлагаемому им путешественникам различного социального происхождения, и к раздаче кусков мяса, которое раздатчики милостыни осуществляли у ворот монастыря. Их владения – включавшие большинство самых крупных пригодных для жилья помещений в округе – также иногда использовались для проведения парламентских сессий; зал капитула в Вестминстерском аббатстве являлся обычным местом заседания рыцарей и горожан Общин. В Глостере монахи вынуждены были освободить свое помещение и разместиться в палатках в саду, когда здесь проходили заседания парламента; другое заседание, назначенное в Кембридже, было проведено в приорстве Варнуэл, прямо рядом с городом.
В середине XIV века в Англии насчитывалось около 700 монастырей, коллегий каноников и женских обителей. Они располагались вниз по иерархической лестнице от великих и древних бенедектинских обителей подобно Крайст Черч в Кентербери, Редингу, Гластонбери, и Сент-Олбанс, включавшим около 60 или 90 монахов, до небольших обителей всего с четырьмя или пятью отшельниками. Еще столетие назад самыми крупными монастырями являлись цистерцианские обители, чьи монахи в белых рясах и их мирские братья или conversi жили и работали вместе, чтобы возделывать одинокие долы и вересковые пустоши севера и запада. Риво когда-то давал приют ста сорока монахам и 600 conversi; Фаунтинс примерно трети от этого количества[341]. Но хотя их здания были теперь гораздо больше, место мирских братьев было занято теперь наемными работниками и арендаторами, и бенедектинские учреждения возвратили свое былое лидерство. В то время как они также показывали небольшое сокращение в численности, богатство их было чрезмерным. Со своих маноров, ректорств и подношений к мощам святых Крайст Черч в Кентербери владел доходом в 3000 фунтов в год – таким доходом обладали тогда только самые могущественные графы, а по своей покупательской способности сегодня эту сумму можно сравнить с 150000 фунтов. Под управлением великого приора Томаса Чиллендена, который руководил аббатством в конце века, его доходы возросли до 4000 фунтов в год. До Брюсовских разорительных набегов на север Дареское аббатство получало такой же доход, хотя долгие и разорительные шотландские войны сократили его до половины. Хотя право мертвой руки регулировало поток наследства, который ранее угрожал подорвать феодальную систему королевства, под давлением растущих цен монастыри все еще управлялись тем, чтобы приумножить свое богатство, в основном путем обращения за разрешениями на строительство соответствующих церквей. Наводнения, засухи, ящур, повреждение посевов[342], большое количество путешественников и гостей, эпидемии и войны – все это использовалось как повод; после битвы при Невиллз Кроссе аббаты Исби и Эглестона получили дополнительное ректорство на том основании, что английская армия самовольно расквартировалась в аббатствах и использовала из запасы, «оставив их лишенными пропитания».
Монахи являлись членами исключительно замкнутого самовоспроизводящегося общества. Подчиненные правилам своих Орденов, и, за исключением редких случаев, когда их церковь подчинялась епископу, они избирали своего собственного главу и принимали в свои привилегированные ряды только тех, кого сами одобряли. Аббат или председательствующий приор крупного монастыря являлся пэром королевства, заседая подобно барону, в силу ценности земель своей обители, в парламенте. В некоторых экспериментальных собраниях Эдуарда I, частично состоявших из глав церковных обителей, более половины этих глав представляли цистерцианцев и премонстрантов в связи с их интересами в шерстяной торговле. Ко времени вступления на престол его внука большая часть белого духовенства перестала принимать участие в таких ассамблеях, а количество аббатов было стандартизировано около 30; вместе с епископами они все еще немного превосходили в количестве светских лордов, хотя их политическое влияние быстро сходило на нет. Кроме приора монастыря Св. Иоанна Иерусалимского и двух аббатов августинских обителей, Уолтема и Сайренсестера, – последний цистерцианский монастырь, Болье, перестал приглашаться в парламент после 1340 года – все они являлись представителями черного духовенства. Среди них, в дополнение к представителям крупных обителей, находились аббаты Питерборо, Колчестера, Абингдона, Глостера, Ившема, Рамси, Мальмсбери, Кройленда, Св. Марии Йоркской и Св. Августина Кентерберийского, а также приор Ковентри, чья церковь представляла собой объединенный престол или cathedra епископа Личфилдского. Почти все носили митры, пожалованные им папой или могущественными аббатами[343].
Эти сановники жили в царских палатах, развлекали князей за своим столом и, подобно епископам, имели парки, конюшни и сельские поместья, куда время от времени приглашались наиболее уважаемые члены капитула, чтобы восстановить свои силы, отдыхая и занимаясь спортом. В Сент-Олбанс аббат обедал на помосте, находившемся на высоте 15 ступеней от пола, в то время как монахи, прислуживавшие ему, пели молитвы на каждой пятой ступени. Аббат монастыря Св. Августина в Кентербери имели капеллана, сенешаля, гофмаршала, резчика, официанта, булочника, шталмейстера и раздатчика милостыни, а также полдюжины других слуг. При этом иногда такие могущественные люди, которые в силу положения своей обители обладали статусом лорда, жили в строгом аскетизме и благочестии, постясь, поднимаясь на полуночную молитву, спя на жестком покаянном ложе и нося жесткую рясу из конского волоса под своими великолепными одеждами, подобно Ричарду Уолингфордскому, сыну кузнеца, ставшему аббатом Сент-Олбанс в тридцать один и умершему молодым от проказы, и Томасу де ла Мару, который правил этой обителью почти полстолетия и выстроил ее замечательные ворота и Королевскую залу. Обогащать архитектурное наследие своей обители было обычным делом аббата XIV века; Симон Ленгем Вестминстерский, последний монах, который стал архиепископом Кентерберийским, обогатил аббатство хорами и большей частью современного нефа.
Эпоха монастырских святых ушла; теперь в монастырских кругах поклонялись высокопоставленному, остроумному светскому человеку, который хорошо сочетал отшельнические христианские добродетели с умелым соблюдением интересов своей обители. В хронике Найтона находим следующую картинку: Уильям Клаунский из августинского аббатства Св. Марии в Мидоус, графство Лестер. Друг как Генриха Ланкастерского, так и Эдуарда III, он управлял своим аббатством 45 лет, сильно приумножив его благосостояние.
«Он был любителем мира и спокойствия, исправителем ссор и упущений... добрым и любезным по отношению к тем, кто служил у него, и людям низших сословий, невыразимо дружелюбным к могущественным людям и магнатам королевства... В его дни было построено две церкви... приобретено два манора, так же, как ренты и другие владения. Он также получил хартию от короля для себя и своих преемников, освобождающую их от посещения парламента... К этому доброму аббату Уильяму Господь являл такую милость в глазах всех людей, как лордов, так и других, что вряд ли можно было бы найти такого человека, который отказал бы ему в его просьбе. В таких хороших отношениях находился он с нашим господином королем, что в шутку попросил его пожаловать ему право на ярмарку для покупки и продажи гончих и охотничьих собак всех сортов. Король-то думал, что он говорит серьезно, и такое право ему пожаловал; но он не настаивал на этом деле. В охоте на зайца он был признан самым выдающимся и искусным посреди всех лордов королевства, так что сам король и его сын принц Эдуард, а также многие другие лорды королевства ежегодно приглашали его поохотиться в свое удовольствие. Несмотря на эго, он часто говорил в узком кругу, что единственная причина, почему он находит удовольствие в таких презренных занятиях, так это из вежливости к лордам, чтобы лучше ладить с ними и в деловых вопросах всегда иметь их на своей стороне»[344].
За исключением нескольких удаленных приорств и обителей, где монахи со склонностью к одиночеству желали уединиться, и нескольких картузианских обителей – Ордена отшельников, где все еще превалировали старые строгие правила и монастырское безмолвие, и чьим девизом было «неисправляем, потому что неиспорчен», монахи больше не являлись людьми, посвятившими себя аскетизму, но они представляли собой хорошо устроившихся членов богатого холостяцкого братства, гордящегося своими корпоративными традициями и сокровищами и исключительно ревниво относящимися к своим правам. И хотя их жизнь большей частью была благопристойной и размеренной, но очень редко аскетичной. В теории, вегетарианская диета, молчание во время еды и строгие посты все еще были предписаны правилами; на практике, «скудная диета» из мяса и лакомств, еще недавно разрешенная только заболевшим монахам, стала частью нормального монастырского рациона, хотя, чтобы избежать осквернения столовой, приемы пищи по «мясным дням» обычно проходили в гостевой зале или в монастырской столовой, предназначенной для госпиталя. Стол богатого, хорошо оснащенного монастыря походил на стол любого оксфордского или кембриджского колледжа в XIX веке, ставшего синонимом хорошей еды и напитков. Монахи больше не работали руками; в небольшом приорстве Байстера двадцать пять прислужников работали на одиннадцать каноников. В более крупных обителях количество слуг превышало количество братии примерно три к одному. В Дареме прислуга приора, одетая в светло-зеленую и голубую ливреи, включала дворецкого, виночерпия, лакеев, пажей, конюхов, садовников, прачек и даже шута[345]. Не вели также теперь монахи и уединенную жизнь. В крупных обителях, с большим количеством маноров и удаленных поместий, было достаточно поводов и возможностей для путешествий для любого брата со способностями к ведению дел. Ленгленд описал их следующим образом:
«Наездник и рыцарь дорог, Первый на судных днях и скупщик земли, Шило на лошади, мешающий всем от манора к манору, А встречаясь с лордом, готов ехать на своре гончих».Монах в чосеровских «Кентерберийских рассказах», чьей страстью было инспектировать фермы и посещать охоту, «чью конюшню вся округа знала», и чья уздечка пряжками бренчала, когда он ехал верхом:
«Он не дал бы и ломаной полушки За жизнь без дам, без псарни, без пирушки. Веселый нравом, он терпеть не мог Монашеский томительный острог, Уста Маврикия и Бенедикта И всякие прескрипты и эдикты. А в самом деле, ведь монах-то прав, И устарел суровый сей устав...» [346]«Свисали щеки, и его фигура вся оплыла», в одеянии из мехов «был лучшей белкой плащ его подбит, богато вышит и отлично сшит», а его любимым блюдом был «лебедь с подливкой кислой».
Парадоксально, но, несмотря на все свое богатство, монастыри часто оказывали перед финансовыми проблемами, особенно более мелкие обители. В условиях падения рент и доходов от сельского хозяйства в конце XIV века, а также растущего королевского и папского налогообложения, даже крупные аббатства имели сложности в сведении концов с концами своего сложного бюджета и были вынуждены брать в долг под исключительно высокие проценты. Открытый дом, который они держали для своих богатых покровителей и путешествующих лордов – ибо не было места более комфортабельного, чем монастырь, – был тяжелым бременем для монастырских расходов; часто какой-нибудь благочестивый князь или граф мог заявиться в свое любимое аббатство на Рождество или Пасху с двумя или тремя сотнями слуг и, возможно, сворой гончих. Во многих случаях монастыри были обременены тем, что тогда называлось «пенсиями», заставляющих их принимать у себя большое количество праздных и иногда в высшей степени обременительных пансионеров, или родственников основателя[347], или посланников какого-нибудь крупного дарителя. Для обителей стало обычным делом в поисках денег продавать за большую сумму пожизненный пенсион или годовой доход, выплачиваемый за еду, напитки, одежду и проживание во время жизни пансионера, иногда даже это право могло перейти к его вдове.
Все это обычно делало монахов жесткими лендлордами, осуществлявшими свои права по отношению к своим держателям, вилланам и горожанам с необычайной жесткостью, так как они лучше справлялись с этой функцией благодаря своей привычке вести счета. Они являлись крупными сторонниками привилегий, которые всегда получали с незапамятных времен и которые они рассматривали как частную собственность святых, в чью честь их монастыри были основаны. Как позднее написал Тиндаль: «Они говорят, это не наше, а Господа; это ренты Св. Губерта, земли Св. Албана, наследство Св. Петра». Это сделало их непопулярными, за исключением удаленных, диких частей страны, где их обители все еще оставались центрами местной культуры, благочестия и благотворительности. Хотя их великолепные церкви и знаменитые раки были источником местной гордости:
«В Голландии в болотистых землях, Не забудь показать, где стоит Кройленд».Но в южной Англии они стали синонимом легкой жизни. «Орден Праздности» – вот какое имя было дано черному духовенству в одной сатире. Настоящим обвинением против них было то, что они больше не удовлетворяли значительной части государственного правления или оправдывали ту огромную часть государственного богатства, которое скопилось в их руках. Они даже перестали устанавливать художественные нормы, ибо, за исключением нескольких крупных бенедиктинских обителей подобно Глостеру и Или, они находились далеко позади как патроны архитектурного строительства и инноваций в этом вопросе богатых епископов, государственных деятелей королевского двора, в то время как большинство более мелких художеств, подобно украшению манускриптов, все больше и больше осуществлялось мирянами-профессионалами вместо монахов, как это было в прошлом. Монастыри лидировали только в написании исторических хроник. Они выжили и продолжали осуществлять великое социальное и до некоторой степени политическое влияние, потому что являлись неотъемлемой частью правящего слоя и продуктом самого общества и как таковые представляли неискоренимый законный интерес.
Все, что было сказано о монастырях, также относится, правда, в меньших масштабах, и к женским обителям. Большинство из них были очень маленькими, хотя некоторые, такие, например, как Уилтон, Ромси, Уэруэл и Семпрингем, были богатыми и знаменитыми; говорили, что если аббат Гластонбери мог бы жениться на аббатисе Шефтсбери, то их наследник был бы богаче короля. Женские монастыри внесли особый вклад в обучение, хотя иногда это было и очень тяжело, давая образование девочкам из хороших семей, а иногда устраивая школу для детей из близлежащей округи[348]. Они были известны также своим шитьем – сильно желаемым opus Anglicanum. Они обеспечивали достойное место для проведения последних лет жизни вдовам крупных лордов, убежище и дом для их незамужних дочерей и благочестивое окончание обучения для молодых леди. Так, печать, которая накладывалась на них в результате членства в фешенебельном монастыре, была очень значительной, и богатые купцы и Франклины заплатили бы любые деньги за принятие туда своих дочерей. Приоресса была обычно женщиной знатной и воспитанной, подобно чосеровской мадам Эглантине, которая носила элегантную монашескую робу, коралловый браслет, два ожерелья из зеленых четок – для вознесения молитв – и золотую брошь, на которой было выгравировано Amor vincit omnia.
«Все напевала в нос она обедню; И по-французски говорила плавно, Как учат в Стратфорде, а не забавным Парижским торопливым говорком. Она держалась чинно за столом: Не поперхнется крепкою наливкой, Чуть окуная пальчики в подливку, Не оботрет их о рукав иль ворот. Ни пятнышка вокруг ее прибора» [349] .Картина, описанная поэтом, когда она держала на своих коленях маленьких собачек, на которых изливала такую любовь, казалась взятой прямо из жизни. Епископские посещения обнаружили, как леди Одли привезла в монастырь в Ленгли «большое изобилие собак, и так много, что когда она шла в церковь, за ней следовала дюжина, производившая неимоверный шум». Как и можно было ожидать, в таких чисто женских заведениях часто была распространена любовь к красивым тканям, что было совместимо с религиозным отречением, и неискоренимая тенденция к сплетням и подлостям. Когда во время посещения епископа монашки обвинили приорессу Анкеруайка, Годстоу, в том, что она в общей спальне выделила себе личную комнату, на что она возразила, что ей всю ночь мешает спать болтовня монашек с оксфордскими школярами, которые без дела слоняются по берегу реки. Приоресса Истбурна в XV веке, которая могла быть сестрой мадам Эглантины, была обвинена своими монахинями в том, что довела монастырь до долгов в 40 фунтов, потому что «она часто выезжает верхом и показывает, что она делает это по делам монастыря – хотя это и не так – со слишком многочисленной свитой, и слишком много времени проводит вне стен монастыря; она устраивает роскошные пиры и когда находится на выезде, и когда пребывает в монастыре, и очень разборчива в выборе платья, до такой степени, что меховая отделка ее плаща стоит 100 шиллингов»[350]. Епископы часто пытались, хотя и тщетно, исправить данные недостатки религиозных дам.
Правда была в том, что как женские, так и мужские монастыри боролись с основным направлением процветающей и бурно развивающейся эпохи, в которую интуиция простого смертного должна была как можно глубже смешаться с миром и подражать его повышающемуся уроню жизни, уровню комфорта и элегантности больше, чем в ранние и более варварские эпохи, искать убежище от мира во всеобщем посвящении себя церкви через монастырь. Симптоматично было то, что во многих обителях не только аббат и приор, но большинство послушников имели отдельные комнаты. В Лонсестоне, епископ Экзетерский Грандиссон обнаружил, что каждый каноник владеет не только отдельной кельей, но и пажом, грядкой, голубятней и собакой. Личные расходы монахов на пряности, одежду и даже плата за услуги, оказанные монастырю, ослабляли бескорыстный дух обители; монастыри все больше и больше приближались к менее жестким идеалам белого духовенства и коллегиатских капитулов. Показательно то, что большинство монастырей, основанных в XIV веке, переняли этот более свободный образ жизни. Бок о бок с монастырями, чье население медленно сокращалось, расцветало огромное количество коллегиатских капитулов, чьи пребенды предлагали их основателям патронаж, подобный тому, который осуществлялся в белых церквях и который не мог предложить ни один монастырь, из-за своего основного правила обязательности жизни внутри его стен. Некоторые из них являлись учреждениями короны, подобно церквям Св. Стефана в Вестминстере и Св. Георга в Виндзоре, а также более старых королевских «приходов» Бридгнорта, Св. Марии Магдалины и Уимборнского кафедрального собора. Другие были основаны епископами подобно Уэстбери-на-Триме и Оттери Св. Марии, который был учрежден во время французской войны епископом Грандиссоном на конфискованные деньги, принадлежавшие декану и капитулу Руана. Крупные магнаты подобно графам Уорика и Ланкастера также жертвовали или сами учреждали подобные коллегиатские образования. Некоторые из них владели церквями, которые соперничали с кафедральными соборами монастырей[351].
Если монастырское духовенство слишком смешивалось с миром, которого, как предполагалось, они должны были избегать, белые же братья считали своим долгом находиться в миру. Ибо на каждого монаха на дороге приходилась дюжина нищенствующих братьев. Их можно было встретить при королевском дворе, в замке барона, в лавке купца, на сельском лугу, в пристанищах порока и глубочайшей нищеты. Говорили, что везде, где пролетит муха, можно увидеть «также и монаха». Именно они в дни Св. Франциска и Св. Доминика вывели христианство из укрытия на улицы и в поля. С тех пор, в конце XIII – начале XIV вв., они господствовали в теологической жизни нации. Но хотя монахи-попрошайки, как их называли, все еще оставались главными проповедниками эпохи, они уже не являлись бескорыстными и нищими святыми, «следующими нагими за Христом», какими впервые предстали сто тридцать лет назад. Следуя заветам основателей Ордена, они до сих пор просили подаяния повсюду на своем пути, хотя необходимость в этом давно отпала. Со своими великими международными орденами – францисканцы в серых одеяниях, доминиканцы в белых туниках и черных плащах, кармелиты, августинцы, все из них с сорока или более монастырями в Англии – они владели огромным богатством, монастырями и церквами; некоторые из них, как, например, знаменитая высотой в триста футов церковь Серых братьев в Лондоне, почти столь же великолепная, как и церкви гораздо больших аббатств. Более века пожертвования и завещанные наследства богачей лились в их сундуки и, будучи исповедниками королей, знати и купцов, они обладали огромным влиянием. Хотя самыми сильными в торгующих шерстью городах, чьи бюргеры заполнили огромные новые нефы, которые были возведены на их средства, их можно было увидеть повсюду, совершавшими богослужение как для богатых, так и для бедных, и используя популярные и даже сенсационные способы, чтобы обратить в свою веру и убедить внести пожертвование ордену.
Универсальная их привлекательность отчасти выросла из популярного стиля проповедования – искусства, которому они тщательно учились и в котором превосходили неграмотных и мало путешествующих приходских священников – и от понимающего и вкрадчивого способа, с каким они выслушивали исповеди, и готовности, с которой, по словам множества критиков среди светского и монастырского духовенства, они давали отпущение грехов, в особенности тем, чьи деньги соответствовали тяжести совершенных грехов. Они проявляли кипучую деятельность на обоих концах социальной и культурной лестницы, играя ведущую роль в обучении и теологических и философских спорах университетов Оксфорда и Кембриджа и угождая вкусам доверчивых и необразованных людей своими яркими и зачастую грубыми рассказами и сравнениями. Этот гениальный подход мирского человека сочетался с высоко эмоциональной привлекательностью, и они пользовались особым успехом у женщин, которым весьма импонировали их веселость, хорошее чувство юмора и «сегодня здесь, завтра там» подход, по словам их недоброжелателей, даже чересчур импонировали[352].
Из-за того, что их проповеди изменяли характер общедоступного богослужения, кафедры, возвышавшиеся на узких подпорках в форме перевернутых бокалов под яркими балдахинами, – в наше время их можно увидеть только в соборах и возле молельных крестов, находящихся под открытым небом, – стали частью сокровенной обстановки церквей богатых городов. С них монахи в капюшонах с помощью выразительных жестов произносили речи, приводившие в восторг паству, дамы в апостольниках и платках располагались вокруг на скамьях, в то время как их мужья стояли позади, прислонившись к колоннам, а простолюдины сидели на корточках или на камнях, покрытых тростниковыми подстилками. Во времена, когда не существовало газет, и лишь немногие умели читать, такие проповеди оказались весьма захватывающими, приправленными не только эффектными историями и остротами, но и новостями со всех концов Европы. Проповедники, читавшие их, умели как тонко льстить своим слушателям, даже когда те критиковали их, так и подвергать осуждению недочеты остальных, что делало их наставления – в своих лучших и проникновенных речах – не только религиозным переживанием (опытом), но и превосходным развлечением. В дошедших до нас записях XIV-XV вв., где некоторые сделаны на родном языке, а некоторые переведены на более благопристойную латынь, можно проследить за их техникой. «Вы хотите, чтобы я поведал вам о почтенных женщинах, – начинает один, возможно, подмигивая, чтобы выказать свой упрек. – Я собираюсь рассказать что-то кроме того, что я вижу ту старую даму, которая спит вон там... Ради Бога, если у кого-нибудь есть булавка, пусть он ее разбудит». Другой проповедник рассказывает о «маленьком черном бесенке», который бегает вокруг во время проповеди и «затыкает уши и закрывает глаза слушающим, делая их глухими и заставляя уснуть», или о крохотном старательном дьяволе, наполняющем целые мешки словами тех, кто «ведет пустые разговоры, болтает» в церкви и обходит стороной искренне молящихся[353]. Его можно увидеть за этим занятием в монастырской трапезной в соборе Или; искусный мастер, вырезавший его, должно быть, слышал такую проповедь.
Это проповедничество имело серьезные последствия. В дни широкой региональной дифференциации оно помогало создать общенациональное мнение, диалект и речь. Гораздо больше, чем могли писатели во времена, когда еще не было создано печатание, проповедники со своими сравнениями, высказываниями и остротами знакомили мужчин и женщин всех слоев общества со словами, пришедшими из половины западных языков и диалектов. И в эпоху поразительной социальной несправедливости и все более увеличивающейся разницы между богатыми и бедными они создали атмосферу внимания, в которой неравенство людей больше не могло считаться полностью неопровержимым. Церковь не учила, что люди равны; наоборот, она утверждала, что мир, как и небеса, является иерархичным, и каждый человек занимает предназначенное ему место и должен почитать и повиноваться тем, кто у власти. Однако живое изображение монахами судьбы, что ожидала неправедных людей, делало очевидным даже самым недалеким людям то, что никто, от короля до последнего нищего, не сможет спастись от адовых мук, если не соблюдает справедливость заповедей. Богатые, вещал в своих назиданиях доктор Бромиард, великий доминиканский проповедник, обманываются, думая, что они сами хозяева своего богатства, в то время как на самом деле они лишь его хранители на короткое время. «Все произошли от одних и тех же прародителей, и все пришли из одной же грязи». Где, вопрошал он, князья зла, короли и лорды, жившие в гордости и владевшие огромными дворцами, поместьями и землями, которые правили безжалостно и сурово, дабы обрести наслаждения мира? «Из всех своих богатств и лакомств у них сейчас ничего нет с собой, а черви пожирают их бренные тела. Вместо дворца, зала и комнаты их души будут томиться в глубоком адовом озере... Вместо ароматических ванн их тела будут погребены в узких могилах в земле, в ваннах чернее и омерзительнее, чем любая ванна из смолы и серы. Вместо бурных объятий их ожидают раскаленные адские угли... Вместо жен у них жабы, вместо огромной свиты и массы последователей их телами овладеют толпы червей, а их душами – сонмы демонов»[354]. Монахи нищенствующих орденов были лидерами эпохи, указывая разобщенному миру на мир вокруг них, где ныне брат не мог более пренебрегать требованиями брата.
Хотя монахи и имели огромное влияние в Церкви, они более не могли обладать всеми высшими должностями, как в дни Фомы Аквинского и Св. Бонавентуры. Затем череда великих университетских докторов с северного острова, читавших лекции в школах Парижа и Оксфорда, внесли вклад в самый поразительный расцвет абстрактной мысли со времен античности. Среди выдающихся философов того времени – Александр Гельзский, Адам Марш «прославленный доктор», Томас Йоркский и Роджер Бэкон; три других известных английских схоласта, двое из которых были монахами, Св. Эдмунд Рич, Килуордби и Печем, по очереди сидели на престоле Св. Августина в Кентербери[355]. И даже еще более знаменитый ученый, Дуне Скот, францисканец из Роксбургшира, высказавший предположение о вероятности существования Бесконечного Бытия, доказав математически, что бесконечность существует, – революционизировал философскую идею, успешно бросив вызов умозаключениям великого Св. Фомы Аквинского, «ангельского доктора», который намеревался примирить в едином разумном гармоничном целом все достоверные знания и скрытую истину. Другой францисканец, родившийся в одной из деревень Суррея в первые годы правления Эдуарда I, Уильям Оккам, доказав с неопровержимой логикой, которую никто не мог опровергнуть, невозможность построить мост через залив между разумом и верой, установив постоянную границу между натурфилософией и теологией и оставив Церкви усложненный способ размышления об одном и вере в другое, упрочил церковную власть как единственную основу религиозной веры: план, насыщенный угрозой веку скептицизма.
В течение XIV в. существовала реакция на чрезмерный интеллектуализм и остроты этого великого ученого. Главным вкладом университетов стало не столько воспитание философов и диалектиков, сколько людей, подходящих для высших должностей Церкви и Государства. Хотя неотступно следуя к своему логическому концу, – иногда так яростно, что архиепископу, папе или королю приходилось усмирять спорщиков, – теологические дискуссии ученых умов теперь затрагивали предметы, более понятные основной части христианской церкви: господство и милосердие, спасение некрещеных, предопределение и свободная воля, достоинство и опасности бедности и нищенства. В этих спорах братья более не добивались полной победы, им бросали вызов светские магистры, получившие образование в маленьких колледжах братьев-священников, недавно образованных в Оксфорде и Кембридже, в то время составлявших около трети от их размеров.
Эти колледжи не предназначались для множества недисциплинированных молодых людей – большинство из них едва вышли из детского возраста – которые, предаваясь учебным занятиям под номинальным контролем канцлера епископа епархии или magister scholarum, жили в подвалах и на чердаках или в переполненных меблированных комнатах или залах, нанятых регентами для своих учеников[356]. Их целью было обеспечить в шумной и убогой сумятице средневекового университета прибежище для нескольких серьезных ученых, большинство из которых уже получили степень, спокойную атмосферу, освободить от материальных проблем, подчинив церковной дисциплине. В теории Церковь была ответственна за передвижение голодных, одетых в лохмотья клерков, стремящихся к образованию или в надежде на выгодную должность, которые просили подаяния, пересекая всю Англию, дабы заполнить устеленные соломой, продуваемые всеми ветрами, похожие на сараи аудитории регентов. Получив базовое образование в обеспеченных постоянными доходами грамматических школах – только в Линкольншире было восемь таких образований – или в одной из кафедральных школ, учрежденных Латеранским собором при каждой крупной коллегиальной церкви, они находились под покровительством Церкви. Хотя практически ни церковь, ни светские власти, от которых их столь ревностно защищали, не имели никакого реального контроля над ними. Очень немногие без опоры на личное состояние или бенефиции могли завершить долгий изнуряющий курс диалектики, дискуссий и лекций – четыре года требовалось для получения степени бакалавра и семь – магистра, – требуемый для того, чтобы получить желаемое позволение от Церкви на преподавание. Нищета, болезни, таверны и публичные дома, ночные драки на ножах и дубинах на Гроп Лейн или под стенами Гаттер-Холла уносили многие жизни; то же делали и постоянно разражавшиеся кровавые стычки между различными группировками: между Оксфордом и Кембриджем, Севером и Югом, Англией, Уэльсом и Ирландией. По меньшей мере дважды – в 1264 году, когда многие учителя и студенты переселились из Оксфорда в Норгемптон, и в 1334 году, когда произошло подобное перемещение в Стэмфорд, – казалось, что может возникнуть третий университет. Но Корона и церковные власти запретили это и, поддержав монополию Оксфорда и Кембриджа, обеспечили то, что в то время как во Франции было пятнадцать университетов, в Англии оставалось только два – обстоятельство, в будущем обеспечившее создание в большей степени национальной, нежели провинциальной культуры для профессионального правящего класса.
Самые первые попытки внедрить стабильность в ученую жизнь были предприняты монахами, все четыре ордена которых учредили монастыри для собственных членов в обоих университетах. Однако, несмотря на растущее число епископских лицензий, гар оптированных молодым священникам с приходом, желавших посещать школы, почти ничего не было сделано для тех, кто собирался стать светским священником, за исключением нескольких элементарных предписаний для сохранения порядка в залах. Время от времени некоторые благочестивые прелаты или землевладельцы обеспечивали стипендию или учреждали университетский благотворительный фонд, чтобы дать возможность какому-нибудь юноше учиться там в обмен на мессу, отслуженную по его душе, и вплоть до конца правления Генриха III два маленьких корпоративных учреждения, Университетская Зала и Палата Баллиоля, были основаны на деньги, жалованные для этой цели. Событием, предопределившим будущий характер университетского образования в Англии – хотя никто в то время и не мог предвидеть этого, – стало обнародование в 1274 году епископом Рочестерским, Уолтером де Мертоном, статутов об Оксфордском колледже, который он основал и обеспечил средствами, полученными от своих суррейских владений с целью готовить выпускников для деятельности священника. Это касалось только около двадцати объединенных вместе ученых или собратьев, подобно монахам, разделявших общий зал, часовню и спальню, находившихся под началом собственных чиновников, пока они учились на высшую степень в университете. Но такой колледж стал моделью для некоторого количества подобных самоуправляемых колледжей, каждым из которых управлял выбранный директор, магистр, провост, ректор или начальник, обеспечиваемый достаточным количеством земель или соответствующими церквями, чтобы снабжать собратьев жильем, пищей, одеждой и материальным достатком, пока они не получат приход.
Самый первый кембриджский колледж, Питерхаус (Палата Св. Петра), был основан епископом Илийским, Хьюго Болшемом, лет десять спустя после мертоновского и по аналогичным правилам. Во времена Эдуарда II, а затем Эдуарда III были учреждены еще три оксфордских колледжа и семь кембриджских. В Оксфорде: в 1314 году Степлдон или Экзетер Холл (Экзетерская Палата), в 1326 – Ориель, вначале носивший название «дома схоластов Св. Марии», и Куинс колледж (колледж Королевы) в 1340 году; все они были основаны церковнослужителями, связанными со Двором, а два последних – под королевским патронажем. В Кембридже – Майклхаус (Дом Св. Михаила) в 1324 и Кинге Холл (Королевская Палата) в 1336 году – оба позже были объединены в тюдоровские времена в учреждение Тринити (Св. Троица) – были основаны, чтобы готовить клерков для королевской службы, первый – чиновниками и судьями казначейства, последний – на субсидии Короны. Клэр был основан в 1338 году последней наследницей Глостера, а Пемброк – в 1347 году овдовевшей герцогиней, чей муж возглавлял умеренную партию в дни Ордайнеров. Гонвилль или «колледж благословенного Благовещения Богоматери» и Тринити-холл (Палата Св. Троицы) основали церковники й 1348 и 1350 годах; Корпус Кристи (колледж тела Христова) – в 1352 двумя кембриджскими союзами, во главе которых стоял победитель при Обероше Генрих Ланкастерский.
Из двух этих маленьких колледжей d'elite крупнейших церковнослужителей, знающая толк в теологии и каноническом праве, вышла в мир, дабы сплотить и обучить своих собратьев-клириков и управлять королевством. Их число было невелико; в шести существовавших во времена Креси оксфордских колледжах было только сорок магистров, двадцать три бакалавра и десять студентов[357]. Во внимание принималось их положение. Создавая новый тип академических бенефиций, они поставили светских магистров и докторов на одну ступень с монахами, которые со своими лекциями и жилыми монастырями долгое время доминировали над университетами. Их вознаграждение не могло сравниться с пребендами крупных коллегиальных церквей, которых так добивались совмещавшие церковную и государственную службу чины, но этой суммы было достаточно, чтобы создать целый ряд замечательных ученых государственных мужей, одновременно теологов и законоведов. Только выпускниками Мертона стали четыре архиепископа Кентерберийских в период между 1328 и 1366 годами Другие, не менее известные личности, вышли из стен этого замечательного маленького колледжа, чтобы творить мысль эпохи, как, например, астрономы Саймон Бредон, Джон Модит и Уолтер Рид, чьи астрономические календари дали Оксфорду что-то из положения Гринвича сегодня; логик и комментатор Аристотеля Уолтер Берли – doctor planus et perspicuous – и теолог Джон Бэкингем, основавший учение «вечного предназначения, предопределения, предопределения воли и единения с Богом» «совместимого со свободной волей и добродетелью создания». Из Баллиоля вышел еще более знаменитый теолог, Ральф Фицральф, архиепископ Армахский, родившийся в Дандолке в части Ирландии, подвластной Англии, в начале века, который стал номинальным главой университета, когда ему было чуть больше тридцати, – человек, известный во всем христианском мире своим красноречием, благочестием и несокрушимой силой аргументации.
Хотя монахи сперва чурались энергичной интеллектуальной жизни университетов, они также учреждали обители или небольшие монастыри для своих членов, где специально отобранные монахи могли получить более обширные знания, которые они не могли получить в традиционной келье в монастыре и столь необходимые, чтобы они могли держать себя в проповедях и писаниях против своих соперников, монахов нищенствующего ордена[358]. Вслед за основанием в 1280 году цистерцианцами маленького аббатства Рьюли для белого духовенства в Оксфорде, черное духовенство епархии Кенербери построило колледж на земле аббатства Малмсбери. Известное как Глостер колледж, его лестницы – некоторые из них до сих пор являются частью Ворчестер колледж – сдавались в аренду различными монастырями в качестве жилья для своих монахов. Позже Томас Хатфилд, епископ Даремский, основал на окраине Оксфорда, где сейчас стоит Тринити колледж, Даремский колледж для восьми студентов-монахов из крупного северного монастыря и восьми бедных светских клерков, которые должны были стать их служащими и учиться с ними. Еще позже, в третьей четверти XIV века, архиепископ Ислип основал Кентербери-колледж для монахов Церкви Христа. Из всех этих учебных заведений выросли замечательные ученые, сыгравшие важную роль в интеллектуальных и теологических дискуссиях того времени. Один из них, Адам Истон, стал кардиналом и после унизительного заточения и пыток во время папской ереси (схизмы) был погребен в церкви Св. Цецилии, Траствер, оставив после себя шесть баррелей книг – впоследствии освобожденных королем от таможенных пошлин – своему старому монастырю в Норидже. Другой знаменитый ученый-монах был из Нортумберленда, Утред Больдонский, который начал свою университетскую карьеру в качестве светского клерка и, после того как познакомился с нравами Дарема, возвратился в Оксфорд в качестве директора Дарем-колледжа и регента. Позже, будучи субприором Дарема и трижды приором его гостиницы, Финчел, он прославился как один из самых великих проповедников и полемистов эпохи и оставил после себя не менее девятнадцати религиозных трудов.
* * *
Хотя «семь гуманитарных наук» – риторика, грамматика, логика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка – оставались основой курса обучения, который проходили все студенты, прежде чем получить степень по грамматике, искусству, теологии, праву или медицине, больше всего внимания уделялось теологии и каноническому праву. Докторская степень по теологии была пропуском к церковной известности и продвижению, а по каноническому праву – к широкому полигону доходных должностей. Вся организация католической церкви – не только ее отношения с мирянами и светскими властями, но и со своими бессчетными учреждениями и орденами – ее финансы, налогообложение, утверждение своих прав, как духовных, так и мирских, зависело и регулировалось этой запутанной формальной наукой.
Отчасти основанное на праве имперского Рима, отчасти – на предписаниях христианской совести и здравого смысла и правосудия – справедливости, как его называли – каноническое право затрагивало каждого чиновника и служащего церкви и всех христиан. Выросшее в сложности прогресса цивилизации и увеличения бюрократических функций, оно действовало с помощью восходящей иерархии судов, простиравшейся от самого скромного сельского прихода до курии в Авиньоне или Риме и с правом обжалования на каждой ступени вплоть до самого Святого Отца. Каноническое право искало способ разрешать споры между нациями, так как Церковь была величайшим творцом порядка и мира в христианских государствах; оно расследовало и пресекало ересь; оно имело дело с моральными проблемами, нанесением оскорбления и правами князей и правителей. Оно пыталось, хотя и с меньшим успехом, применить добросовестность и беспристрастность в экономических вопросах и разрешить и ввести в действие идеал честного вознаграждения и жалованья. Его служащих касалось каждое дело, затрагивавшее проблемы спасения душ.
Во многих отношениях каноническое право затрагивало жизни простых людей гораздо ближе, нежели королевские суды, которые обычно рассматривали дела уголовных преступников и собственников. В компетенции церковных судов были свадьбы, двоеженства и разводы, отсутствие завещания, составление его и официальное утверждение завещания судом[359], обеспечение вдов и сирот, клевета, лжесвидетельство и недобросовестность, а также сексуальные оскорбления, включая адюльтер, прелюбодеяние и содержание публичных домов. В их ведении также были такие преступления, как святотатство, богохульство, неуплата церковной десятины и пошлин, непосещение мессы и преступления, связанные с симонией или торговлей церковными должностями. Преступления, совершенные на освященной земле, также подпадали под юрисдикцию церковных судов. Их амплитуда колебалась от браконьерства и вырубки деревьев до посягательства на права убежища, за которые могли налагаться огромные штрафы. В таких случаях Церковь была одновременно и тяжущейся стороной, и судьей и могла быть тираном, как и в делах, касавшихся спасения.
Так как церковные суды также обладали широкими, а в некоторых случаях первостепенными полномочиями в делах, затрагивавших личные права клириков, и так как клириками считались не только те, кто был посвящен в духовный сан, но каждый, кто мог провозгласить «неподсудность духовенства светскому суду» с помощью простой уловки, переведя с латинского стихотворную строфу псалма[360], известного как «вешательный стих»[361], миряне часто страдали от того, что они считали вопиющей несправедливостью из-за односторонней снисходительности церковных судов. Среди тех, кого защищало каноническое право, были студенты университетов – чрезвычайно буйный класс – учителя, профессионалы, например, доктора, и почти все школяры. Не только клерки малых орденов несли угрозу обществу. Каноник Уолсингема был признан виновным в краже вещей у келаря, вторжении в комнату ризничего в соседней церкви и изнасиловании.
Хотя в некотором отношении каноническое право было более милосердным, нежели законы королевского суда, в других случаях оно было менее справедливым. По гражданским законам человек считался невиновным, если не была доказана его вина свидетельскими показаниями. В христианском суде его могли заставить дать клятву очищения и тем самым осудить самого себя или прибегнуть к лжесвидетельству. Пойти против церкви и ее судебных чиновников не представлялось возможным. Церковные суды могли наложить штраф, заключить в темницу на всю жизнь, приговорить к порке кнутом и плетьми, отлучить от церкви – устрашающее наказание, влекущее за собой отстранение от причастия и от всех контактов с собратьями-христианами под угрозой подобного наказания для них самих, а в случаях стойкого упрямства – вечного проклятия. Церковь также могла налагать целый ряд епитимий. Единственное, что не могли делать духовные суды, – выносить смертный приговор, так как каноническое право запрещало церковнослужителям проливать чью-либо кровь. В случаях же, когда смерть представлялась единственно возможным наказанием, церковники могли передать преступника в руки светского правосудия и обратиться к Короне с просьбой разобраться с ним.
Именно инквизиторские методы христианских судилищ и вмешательство в повседневную жизнь людей вызывали негодование. Мирян могли осудить за драку в церковном дворе, за пропуск богослужения, за непочтительное поведение в церкви и неуважение к духовенству, за работу по воскресеньям и в дни церковных праздников. Даже работа на церковь не могла извинить оскорбления догмата о соблюдении священного дня отдохновения, в качестве свидетельства можно привести письмо, написанное в конце правления Эдуарда I ректором Харуэлла, Беркшир, своему архидьякону, с жалобой на то, что жнец епископа Винчестерского вызвал к себе всех держателей ректора утром в воскресенье, чтобы заготавливать сено в парке епископа.
«Для этой цели, в то время как мы завтракали, он вызвал их на работу, подав сигнал с помощью большого рога, пройдя по всей деревне, как он имел обыкновение делать по рабочим дням. Это показалось мне невыносимым, посему я не медля послал сэра Томаса, моего коллегу, приходского священника, дабы предотвратить это, но они не послушали его и не прекратили работу. Так я предупредил их три или четыре раза и затем угрожал им отлучением, если они продолжат, но напрасно; так вышеупомянутый Н... ответил мне насмешливо, что он будет собирать сено, нравится мне это или нет, что он не собирается прекращать работу, и не позволит другим прекратить из-за моих угроз или предупреждений. Посему я, встревоженный, собрал их и приказал... предстать перед Вами в Вашем собрании, назначенном на среду, накануне дня св. Джеймса, дабы выслушать и вынести решение, которое Ваша прозорливость справедливо провозгласит. По сей причине взываю к Вашей прозорливости вынести им соответствующий приговор, наказав таким образом, дабы другим не повадно было в свете приговора последовать их примеру, и позвольте жнецу принять наказание за обычную работу в святые праздники и поощрение к этому других. Он влиятельный человек»[362].
Епитимьи, которым подвергали людей, были самыми унизительными. Человека могли приговорить к порке у дверей церкви, несколько воскресных дней подряд появляться босиком и в постыдных одеждах, стоять перед алтарем со свечой в руках, в то время как во всеуслышание объявляли о его преступлении. Так, за то, что они косили в праздник Св. Освальда, двух работников приговорили к четырем ударам хлыста и заставили ходить по деревне на следующий праздник одного из святых, нося с собой стог сена. А две женщины, стиравшие белье в день Св. Марии Магдалины, были наказаны «двумя ударами мотком пряжи для белья». За более серьезное преступление – нападение на священника с заступом в руках – мужчина из Taunton был отлучен и, когда он подчинился наказанию, был приговорен «в процессии идти с непокрытой головой и босиком, одетым только в рубашку и штаны, держа в руке заступ, вокруг церкви Св. Марии Магдалины в течение двух воскресных дней, а в следующее воскресенье обойти часовню Джеймса и также один раз обойти вокруг рынка, и когда он придет в его центр, стоять тихо некоторое время на усмотрение священника с кнутом в руках, кто следует за ним»[363].
Чаще всего простому человеку приходилось сталкиваться с судом архидьякона. Никто особенно не любил архидьяконов – их называли «глазами епископа» – даже их собратья-церковнослужители; существовала старая церковная шутка по поводу того, может ли архидьякон попасть на Небеса. Обученный каноническому праву законовед, которому пришлось платить за долгое и дорогостоящее обучение в Болонье или какой-нибудь другой правовой школе, едва ли мог уклониться от совмещения службы в нескольких приходах. Остальную часть его дохода составляла прибыль от феодальных поместий, которую он, его заместители – если, как чаще всего и случалось, он был владельцем многих приходов – и поверенные, представлявшие его интересы в суде, как считали в народе, расширяли, разжигая тяжбы. Епископ нанимал его, дабы расследовать и наказывать случаи хищения и злоупотребления церковных средств, непристойного поведения церковнослужителей и мирян и нарушения христианских законов. Чосер нарисовал одного из таких должностных лиц за работой:
«...эрхедекен, человек высокой должности, Который нагло вершил смертную казнь»В расследовании дел, связанных с преступлениями на сексуальной почве, чиновники архидьяконов, если не сами архидьяконы, широко подозревались во взяточничестве. Это главным образом касалось дел, заведенных против сельского духовенства, представители которого зачастую вопреки каноническому праву, но в соответствии с древним английским обычаем, содержали незаконных жен, обычно под видом экономки – foccaria или домашняя подружка, как их называли[364]. Хотя такие союзы в целом принимались общинами – так как редко был недостаток в прихожанах, предлагавших свои услуги в качестве свидетеля, дабы взять обратно обвинения в «распущенности» своего пастыря – они навлекали на своих пасторов обвинения путем шантажа через его недоброжелателей, особенно во время периодических визитов архидьякона. Не менее четверти приходских священников из семидесяти двух приходов епархии Херефорда, время от времени подвергавшиеся инспектированию, обвинялись в распущенности. Большинство из них смогли избежать публичного наказания, заставив свидетелей поклясться в их невиновности, но многие были признаны виновными, как показывает следующая запись:
«Сэр Уильям Уэстхоуп был невоздержан с некоей Джейн Стейл, которая постоянно находилась в его доме... Он пришел, отверг обвинения, и ему назначили день, дабы оправдался с помощью пяти compurgators: ему также посоветовали отказаться от сожительства с ней в следующие шесть дней»[365].
Несмотря на повторные внушения и штрафы, такие союзы продолжали существование; утверждалось, что Долишский священник имел сожительницу в течение десяти лет и более; и хотя часто ему указывали на это, закоренело упорствовал в своем». Англия была достаточно терпимой страной, и в случае когда штрафы исправно выплачивались и демонстрировалось подчинение декрету епископа, власти были удовлетворены. На священника, в чьем доме рождался ребенок, обычно налагался штраф в пять шиллингов, как его называли «родильная крона».
Главным доверенным лицом и зачастую подстрекателем таких гонений, как на церковников, так и на мирян, был пристав суда архидьякона. Его ненавидели больше всех других церковных чиновников. Обычно это был клерк из малого ордена, он слишком часто оказывался человеком низкого нрава, привлекавшим к своему делу агентов-провокаторов (agents provocateurs), включая падших женщин, и занимался исключительно подглядыванием и шантажом. Такой субъект из «Кентерберийских рассказов» Чосера, с пьяными задиристыми замашками и красным лицом, карбункулами, прыщами и угрями, знал секреты всей округи и мог
«за кварту эля разрешить блудить пройдохе...».Хотя мог и обобрать до последней нитки любую из своих жертв, кто не готов дать ему взятку. «Кошель, – говорил он обычно, – хороший архидьякон ада», имея в виду, что любой преступник может избежать епитимьи и наказания, если хорошо заплатит. Обычная цена за эту, как ее называли, «грешную плату» составляла два фунта в год.
Церковь, конечно же, не одобряла такие злоупотребления, но своей практикой прощала их. Нуждаясь в каждой дополнительной монете, дабы содержать огромный бюрократический аппарат и великолепный двор, папство одобряло различные пути получения денег, вылившиеся в массовую торговлю индульгенциями, отпуская грехи в обмен на деньги. В теории, индульгенция, столь же древняя, как и сама Церковь, была наказанием за грех, который может отчасти быть прощен с помощью ходатайства Церкви, любому искренне кающемуся грешнику, получившему отпущение грехов и принявшему подходящую епитимью. С развитием цивилизации церковные власти постепенно заменяли телесные наказания, порку и пост, такими полезными актами публичной службы и милосердия, как строительство и ремонт церквей, пожертвования для молитвенных домов, школ и больниц и обеспечение строительства мостов и придорожных часовен. Один из старейших оксфордских колледжей, Баллиоль, обязан своему существованию епитимье, наложенной на богатого барона северной страны, Джона Баллиоля, отца шотландского короля, за совершенное им святотатство[366]. Епитимья могла также иметь форму денежных выплат священникам, дабы они молились и служили мессы по преступнику, гарантируя, при условии, что он исповедуется в своих грехах и выкажет искреннее раскаяние, прощение многих дней в чистилище – «промежуточном положении», в котором, как верили, было предназначено оказаться всем, кто после смерти не сразу попадал в рай или ад, и находиться там до тех пор, пока не искупят свои грехи и обретут вечное блаженство. Такое профессиональное ходатайство за другого в память о его добрых деяниях могло, как считалось, гарантировать более раннее прощение страдальца и сократить его страдания. На практике же оно оказалось шагом к молчаливому предположению неправедных людей о том, что не только наказание может миновать их, но и сам грех может быть прощен, а они даже могут купить у Церкви разрешение грешить.
В дни Эдуарда I, когда уровень священнослужителей был довольно высок, индульгенции жаловались очень редко и только в одобренных случаях и уж никогда не были предметом массовой распродажи[367]. Но в русле общего морального упадка следующего века для церковных авторитетов искушение получить деньги таким образом было чересчур велико, чтобы отвергнуть его. Среди постоянных путешественников, которых можно было встретить на дорогах Англии во времена царствования Эдуарда III, были продавцы папских индульгенций, освященные торговцы с папским или епископским письмом, разрешавшим продавать индульгенции за любую цепу каждому, кто пожелает купить их. Такие продавцы со своими бумажниками, «битком набитыми прощениями, еще горячими, привезенными из Рима», не только продавали свой товар, но, хотя сами и не принадлежали святым орденам, читали проповеди, рекламируя его. Иногда они продавали индульгенции в обмен на вклады, оставленные на мессы, или на богоугодную работу по возведению больниц, ремонта церквей или создание нового витражного окна; иногда они являлись настоящими шарлатанами, утверждая, что у них есть власть отпускать любые грехи, и путешествуя с пачками фальшивых индульгенций вокруг шеи. Так, например, один торговец позже был приговорен проехать через весь Чипсайд, повернувшись лицом к хвосту своего коня и в шляпе из бумаги раскаявшегося на голове[368].
В дополнение к основному товару они также предлагали поддельные реликвии, которые, как предполагалось, принесут своим покупателям избавление от наказания или защиту от несчастья. У Чосера такой торговец предлагал подушку,
«которая, как утверждал он, была покрывалом Богоматери: Он сказал, что у него есть кусок паруса Святого Петра... ...крест латунный, весь в камнях, И в стакане у него – кости свиньи»Подобные подделки продавали и паломникам к мощам святых – например, маленькую свинцовую ампулку кентерберийской воды, которая, как считалось, была окрашена чудесно неисчерпаемой капелькой крови Бекета, или в Дареме воду из раки Св. Кутберта. Возможно, их просто считали в большей степени сувенирами, доказывавшими подлинность совершенного паломничества, нежели частью истинной реликвии. Так как само паломничество было еще одной возможностью получить снисхождение в чистилище. Для настоящего раскаяния грешник мог испытать епитимью наиболее опасную, один, попрощавшись с родными и домом на много лет, возможно, навсегда, повернувшись лицом к неисчислимым трудностям и опасностям, пускаясь в путь пешим и без оружия к Святой Земле или в другие отдаленные места[369]. Многие, однако, обзаводились такими добродетелями с помощью других, нанимая профессиональных странников или «паломников», как их называли, оснащенных широкополой шляпой, крестом поверх холщового одеяния, посохом, сумой, сосудом для подаяния, чтобы те отправились в далекий путь вместо них, как, например, поступил сэр Ричард Арундел, когда в своем завещании он наказал своим душеприказчикам после его смерти найти человека, чтобы он совершил ради спасения его души путешествие в Рим, к Гробу Господню и к Святой Крови в Германии. Также и Джон Блейкни, лондонский торговец рыбой, оставил двадцать марок, чтобы нанять священника совершить паломничество в Рим «и там оставаться в течение одного года, чтобы проводить церковные службы и молиться о моей душе и душах тех, о ком я обязан молиться».
Для большинства паломничество, хотя и видевшееся средством получения прощения, было поводом для отдыха; в него отправлялись, как правило,
«когда апрель сладкозвучными ливнями Засушливость марта пронзит до корней».Каждую весну и лето покрытые травой дороги в Кентербери или Уолсингем, Глостер или к распятию Бромгольма в Норфолке переполняли веселые компании обоих полов, совершавших путь к выбранной святыне с проводниками, в приятном обществе, развлекаясь, как в «Кентерберийских рассказах» Чосера, интересными историями, пением и игрой на волынках. Хозяева гостиниц вдоль дорог, идущих к святым местам, вели оживленную торговлю, убеждая путешественников остановиться в их доме и там, по словам проповеди одного из бромиардовских монахов, «болтали и играли с ними, пока не подходило время подводить итог». В других местах были общежития для пилигримов, предоставляемые благотворительными организациями или корпорациями. «Колокол» в Тьюксбери, «Новая гостиница» в Глостере, «Георгий» в Гластонбери были специально построены для таких целей. К середине XIV века обслуживание паломников стало широко развитой индустрией. В церкви Христа в Кентербери их встречал монах в пролете специальной двери и, обрызгав их святой водой, проводил странников в северный неф к алтарю, обращая их внимание на место, где был убит Св. Томас. Затем, осмотрев мощи святого в склепе и поцеловав запекшуюся кровь на мече его убийцы, на коленях поднимались по ступеням к его гробнице – до сих пор можно увидеть изношенные ступени – и подносили свои дары, драгоценности и золото, хранителям этого чуда, в обмен получая крохотную ампулку кентерберийской воды, в то время как Страдающие ревматизмом терли свои конечности об окружающие камни[370].
Как и во всех областях человеческой жизни, в паломничестве тоже были модные святыни; самой популярной была гробница Бекета: в течение только одного года монахи церкви Христа получили Ј 954. 6. 3 р. в дар, в то время как близлежащая святыня Богоматери приносила Ј 4. 1. 8 р.[371]. Тех англичан, которые хотели совершить паломничество за границу, как магнитом, притягивали мощи Св. Иакова Компостельского на северо-западе Испании, гораздо больше, чем более доступная Богоматерь Булонская или голова Св. Иоанна Крестителя в Амьене. Бристольские капитаны кораблей обеспечивали постоянные летние рейсы в галисийские порты, располагая их рядами на своих крохотных судах, и те вытягивали ноги к центру, как рабы-негры более поздней эпохи. Дискомфорт поездки, занимавшей по меньшей мере неделю, красноречиво описан в стихотворении того времени:
«Тем временем паломники лежат, И сосуды рядом с ними, И после горячей мальвазии кричат: „Помоги нам вернуться!”... Когда мы отправимся спать, Помпа будет возле изголовья, Человек что добрый, что мертвый Издает зловоние».Несмотря на все эти страдания, каждый год более двух тысяч разрешений выдавалось в Англии на посещение испанских мощей, и иногда более тридцати английских паломников одновременно можно было увидеть в гавани Корунны.
* * *
Роль мирян в культе и религиозной деятельности неуклонно возрастала. В прежние времена Церковь единственная несла ответственность за почти всякую благотворительную деятельность – больницы, образование, забота о стариках и нищих, подаяние в воротах монастыря, даже мосты и мощенные дороги для путешественников. Теперь, хотя такие деяния и совершались от ее имени, участие мирян становилось все более значительным. Наиболее популярной формой пожертвований в XIV веке было строительство небольших часовен, как возведенных в пределах существующей церкви, так и иногда построенных для этой цели, где предполагалось вечно служить мессы, молебны и песнопения за душу жертвователя в обмен на финансирование продолжительных благотворительных работ – молитвенный дом, школу, ежегодную раздачу пищи и щедрых даров старикам и убогим, обеспечение приданым нуждающихся девушек или платой за обучение сирот, строительство моста или гостиницы для паломников. Иногда такие дары делал один человек, как, например, часовня с восьмью священниками, которую гай Бошам, граф Уорика, основал в замке Элмли в Вустершире за несколько лет до убийства Гавестона. Гораздо чаще их финансировали самовосстанавливающиеся гильдии или общины набожных мирян, которые, приобретя разрешение от Короны на передачу земли «мертвой руке», наделяли ею своих общих наследников для использования в милосердных и религиозных целях. Наиболее популярными такие пожертвования были среди городских купцов, которые, разбогатев, жаждали не в меньшей мере, чем лорды или землевладельцы, использовать свое состояние с целью гарантировать будущее благоденствие своим душам. Так, например, в 1343 году Джоном Энфилдом и другими жителями Лондона было основано братство, чтобы отреставрировать крышу и колокольню церкви Всех Святых, а также лондонскую стену. В это же время группа богатых торговцев рыбой учредила общество, чтобы в церкви Св. Магнуса каждый вечер исполнялся гимн Salve Regina, а также на возведение Лондонского моста «в честь Господа и его преславной матери, Девы Марии... дабы побуждать людей к молитве в такой час, в какой заслуживают их души»[372].
К концу века в большинстве крупных и малых городов существовали подобные объединения. В Ладлоу – центре торговли шерстью западного Шропшира – братство, основанное в честь евангелиста Св. Иоанна, возвело больницу или alms-house для тридцати бедняков и дом для священников, а другое объединение обеспечило строительство школы и деньги на жалование школьному учителю. Грамматическая школа, в которой некогда должен был учиться Шекспир, была основана союзом Святого Креста города Стратфорд-на-Эйвоне. Иногда такого рода объединения учреждались и рабочим людом, как, например, одно из обществ, посвященных Божьей Матери в Элсмире, в котором каждый женатый мужчина платил четыре пенса в год, а каждый служащий, зарабатывавший более пяти шиллингов в год, – два пенса; или же общество Св. Елены и Св. Марии в Беверли, чьи члены шли в процессии к церкви на день Св. Елены, возглавляемые стариком, несшим крест, еще одним – с лопатой, и юношей, одетым королевой Еленой, а затем, прослушав торжественную мессу, каждый вносил пенни[373].
Все это было симптоматично для отношений между Церковью и мирской общиной, гораздо более тесных, нежели в любом государстве Европы. Ecclesia Anglicana была частью католической церкви в христианском мире, а также и частью английского государства. Епископы и аббаты были не только отцами во Христе, но и феодальными магнатами, главами локальных сообществ и королевскими советниками. Клирики, управлявшие канцелярией и казначейством, заседали на судейских скамьях, возглавляли дипломатические миссии и занимались налоговыми сборами. Король и общество осыпали и продолжали осыпать Церковь дарами, однако, поступая таким образом, делали церковнослужителей, так же, как и духовных лидеров королевства, владевших землей и собственностью государства, субъектами того же общего права, что и все остальные. Англия была страной, в которой неприкосновенность (святость) канонической доктрины и права добросовестно почиталась так долго, пока она не стала попирать права Короны и подданных. Каждая церковь была частной, чей хозяин-мирянин, получив ее, сохранял право даровать выгоды от нее любому сведущему священнику, соответствовавшему духовным требованиям Церкви.
Повсюду существовало молчаливое согласие между божественными и королевскими законами, которые, скорее, не противоречили друг другу, а совпадали. Не логику искали англичане в лидерах церкви и государства, но дух соглашения и компромисса. Они поддерживали друг друга; любое возобновление великой Хартии начиналось с гарантий свобод и прав Святой Церкви, в то время как кто-либо, посягавший на Великую Хартию Вольностей или на лесные хартии, навлекал на себя наказание в виде отлучения от церкви. От короля и примаса до самого скромного священника и его платящих десятину прихожан все понимали, что лучше работать вместе, нежели настаивать на каждой букве несовместимых и противоречивых прав.
Церковная система изобиловала аномалиями и несообразностями, основанными на личных правах, как церковнослужителей, так и мирян, глубоко уходящими корнями в историю. В Чичестере – месте пребывания епископа – городе и территории, прилегающей к собору, существовали «специфические» или частные юрисдикции декана и капитула, окраины были частью кентерберийской епархии, а земли, примыкавшие к епископскому парку, принадлежали каноникам Бошама, свободный королевский придел находился под духовной юрисдикцией епископа Экзетера[374]. Ни на одно из них, хотя его собственный дворец находился на этой территории, не простирались права епископа, за исключением чужаков. Такая очевидная абсурдность не представляла сложностей для английского церковника; он привык к подобным несообразностям со дня своего вступления в лоно Церкви.
В таких делах поэтому каждый стремился сохранять добрососедские, но осторожные отношения с конфликтными правами своих собратьев и делал их предметом компромисса и сделки. Переговоры были жесткими, но обычно они сопровождались христианской учтивостью. Когда канцлер и казначей Англии захотели отдать уилтширский приход правительственному чиновнику, они написали владелице данного прихода, аббатисе Уилтона, которая, несомненно, имела своих протеже и виды на это место, следующее:
«Благороднейшей и самой благочестивой даме святой религии. Мы слышали, что в скором времени церковь, находящаяся под Вашим покровительством, и ваш монастырь Берик Сент-Джон, будут вакантными, как говорится, так как теперешний настоятель очень стар и слег с таким серьезным недугом, что нет никакой надежды на его выздоровление, так говорят. Посему мы умоляем Вас, благочестивая леди, даровать вышеупомянутую церковь, как только место настоятеля будет свободным, нашему дражайшему и любимому другу Г. X. (Генри Харборо), клерку, и составить письмо представления на приход на его имя, учитывая... что таким деянием мы хотим быть обязанными Вам и будем готовы в следующий раз сделать что-либо приятное для Вас Благороднейшая леди, пусть благословенная Троица хранит и поддерживает Вас ради хорошего руководства святой религией»[375].
* * *
Такой была Святая Церковь – наиболее почитаемая и ценная вещь в английском государстве, как казалось простым людям после побед Эдуарда III в Европе. Она создала общество и государство, неотъемлемой частью которых являлась. Полные несовершенств ее промахи были известны и признавались всеми, но они не затрагивали, или, казалось, что не могли затронуть, законность ее веры и институтов. Множество личных ошибок рождали критику церковнослужителей. Но ни ошибки, ни критика не могли поколебать мощь Церкви. «Нечто, на что каждый человек мог отозваться и на всех уровнях». Сэр Морис Поуик написал, что она сохранялась в течение веков, принималась всеми, и это работало.
Однако выпало на долю христианского и триумфального английского королевства, с его великолепными церквями, религиозными организациями и победоносными рыцарями, тяжелое испытание, гораздо более серьезное, чем то, что случилось с Джобом, когда существовала страна Оз, окруженная преградами, когда все его труды благословлялись, налетел сильный ветер из диких краев и поразил все четыре угла его дома, уничтожив состояние и детей.
Глава IX ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ И ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ
Затем пришла смерть и всех повергла в прах
Королей и рыцарей, кесарей и пап...
Многие прекрасные леди и бравые рыцари
Падали в обморок и теряли голову
В страдании от знаков смерти...
У. ЛенглендЛето 1348 года было исключительно влажным. Лестерский хронист, Генрих Найтон, объяснял постоянные ливни развратным поведением дам на турнирах. Одетые в мужские одеяния «в разноцветные туники, либо одного цвета либо с одним узором справа и одним – слева, с короткими капюшонами, которые имели подвески подобно веревкам, обернутым вокруг шеи, и подпоясанные ремнями, богато усыпанными золотом или серебром, – жаловался он, – группа женщин могла даже участвовать в спортивных играх, иногда их количество достигало сорока или пятидесяти дам, самых прекрасных и хорошеньких (хотя я бы не сказал, что из самых лучших) среди всего королевства. Там они проматывали все свои владения и утомляли свои тела дурачествами и развратным шутовством... Но Господь от этого дела, как и от многих других, нашел замечательное противоядие, ибо Он опустошил места и помешал времени, назначенному для таких суетных дел, открыв небесные ворота и пустив потоки воды с помощью дождя и грома и пылающих молний и необычных порывов бурного ветра».
При этом монастырский историк был скор на вывод, что дождь, который сорвал турниры в честь Ордена Подвязки, был меньшим из зол, которые ожидались в Англии тем летом. Господь приготовил более ужасное наказание для нее. За восемнадцать месяцев до этого, когда англичане осаждали Кале, другая армия за две тысячи миль от него блокировала маленький генуэзский порт в Крыму, через который шли поставки хлеба, и где группа торговцев шелком, подходя к концу семитысячемильного пути из Китая, нашла убежище от татарских степных кочевников. Внезапно осаждающие были поражены эпидемией, которая, распространившись по всей Татарии и став известной как «смерть», началась, как считалось, из-за гниения огромного количества трупов, не захороненных после землетрясения в Китае. До того как начать осаду, говорят, что татары подбросили несколько зараженных трупов в город.
Так или иначе, совершенно очевидно одно: болезнь была принесена в Европу в конце 1347 – начале 1348 года генуэзскими кораблями, торговавшими с Черным морем. Никто не знал ее причин или даже ее природы, но теперь считается, что это была бубонная чума – эпидемия, переносимая блохами, которые жили на черных крысах[376], наводнивших Европу из Азии во времена крестовых походов и которыми кишели деревянные торговые корабли той эпохи. К тому времени, когда корабли, заходившие в Крым, достигли Босфора и Средиземного моря, чума мгновенно распространилась среди их команд, и в каждом порту, в который они заходили, оставалась чума. Она пришла так внезапно, что никто не смог укрыться от нее; в Константинополе среди ее жертв числился наследник византийского императора. Симптомами являлись гангренные воспаления в легких, рвота и плевание кровью, отвратительное зараженное дыхание и появление на второй день темных твердых бубонов под мышками или в паху, которые почти всегда являлись вестниками смерти. Мало кто, подхватив болезнь при ее первом распространении; дожил до третьего дня.
К концу января 1348 года чума свирепствовала во всех крупных портах южной Европы, включая Венецию, Геную, Марсель и Барселону. В Средиземном море находили корабли, полные трупов, которые дрейфовали в открытом море. Один за другим, несмотря на яростные попытки изолировать себя от внешнего мира, итальянские города падали перед эпидемией. Везде ходили ужасные истории сверхъестественного происхождения; о том, как «на востоке, рядом с Большой Индией, огонь и вонючий дым спалили все города» или как «между Китаем и Персией пошел сильный дождь из огня, падавший хлопьями, подобно снегу, и сжигавший горы и долины со всеми жителями», и сопровождаемый зловещим черным облаком, которое «кого бы ни увидело, тот умирал в течение половины дня». Оттуда, принесенная «нечистым порывом ветра с юга», инфекция наводнила Европу.
Весной, превратив Венецию и Геную в мертвые города, чума достигла Флоренции. В предисловии к своему «Декамерону» Боккаччо оставил собственноручный рисунок ее ужасов: беспомощность докторов, зловоние больных, предусмотрительное запирание в домах, пока не проявлялась инфекция, и безрассудное пьянство в тавернах день и ночь, множество тел, лежащих непокрытыми перед каждой церковью, и ямы, в которые штабелями складывались мертвые. Бедняки мерли на улицах или в полях, свиньи, которые копались в уличной грязи, падали замертво, поскольку они терлись носом о то тряпье, которое выбрасывалось после пораженных чумой, и кучи быков, овец и козлов – «и даже собак, наиболее преданных друзей человека» – бродили неухоженные по полям. За умирающими не ухаживали, мертвых вытаскивали из домов и сбрасывали на обочинах дорог, дома тех, кто сбежал, были открыты для всех, «священная власть законов, божьих и человеческих, была почти полностью разрушена и исчезла». Повсюду можно было встретить одну и ту же картину: в Сиене, Пьяченце, Парме, Римини, где хронист, Агнолио ди Тура, своими собственными руками похоронил своих пятерых маленьких сыновей.
Пока чума опустошала Италию, она распространялась все шире и шире в пограничные с Италией государства: в Истрию и Венгрию, а также через Альпы в Баварию, на запад через Испанию, где она настигла королеву Арагона и, намного позже, короля Кастилии, и на север из Марселя[377] вверх по Роне. Она разразилась в обители кармелитских братьев в Авиньоне прежде чем кто-либо осознал, что это, убила Лауру, обожаемую поэта Петрарки, и аббата крупного Кентерберийского монастыря Св. Августина, который навещал курию в тот момент. «Когда кто-либо, зараженный ею, умирает, – написал фламандский каноник Марселя, – все, кто видит его в его болезни и навещает его или просто везет его к могиле, вскоре следуют за ним. Болезнь разносится их родственниками так же, как и собаками; еда и питье ставятся у кровати для них, чтобы вкусили ее и утолили жажду, после того как все убегут... Священники не слушают их исповеди и не причащают их». «Милосердие мертво, – докладывает врач папы, который сам заразился чумой, но был одним из немногих выживших, – даже доктора не смеют навещать больных. Что до меня, так вот, чтобы избежать бесчестья, я не смел отказать им, но я все еще нахожусь в непрекращающейся лихорадке». Папа лично, приказав, чтобы трупы анатомировали, чтобы найти причину болезни, бежал в свое имение рядом с Валенсией, где закрылся в одиночестве в комнате, постоянно жег огонь, чтобы выкурить инфекцию, и никого к себе не допускал.
Все лето 1348 года Черная Смерть подбиралась к Англии все ближе и ближе. Весной она достигла Гаскони, где забрала младшую дочь короля принцессу Жанну, которая направлялась в Испанию для сочетания браком с наследником кастильского трона. Вскоре после этого чума достигла Парижа, где умерло огромное количество человек, включая королев Франции и Наварры. К июлю, пробираясь на север через Пуату и Бретань и вдоль побережий, она была уже в Нормандии, где «было такое критическое положение, что нельзя было никого найти, чтобы тащить трупы в могилы. Люди говорили, что наступил конец света». Пока тучи и непрекращающийся дождь поливали Англию и, в конце месяца, когда люди наблюдали за портами, архиепископ Йоркский Зуш написал своему заместителю, приказывая в каждом приходе дважды в неделю провести процессии и литании, «чтобы остановить эпидемию и инфекцию». Ибо только молитвой, провозгласил он, можно отвести бич Господень.
Архиепископ – победитель при Невиллз Кроссе – говорил о жизни человека как о войне, где «те, кто сражается среди несчастий этого мира, обеспокоены неясностью будущего, то благоприятного, то нерасположенного, Господь Всемогущий, разрешивший тем, кого он любит, быть наказанными, так что сила внушением Божественной милости может быть совершенной в слабости». Но хотя епископ Батский и Уэллский, также напуганный, приказал также проводить крестные ходы и сборища во всех церквах, чтобы «защитить людей от эпидемии, которая пришла с Востока в соседние королевства», жизнь в Англии тем летом, казалась, текла в обычном русле. В дни, когда новости передавались из уст в уста, из деревни в деревню, вдоль дорог братьями и коробейниками, народ изолированного северного острова, вероятно, меньше слышал о предполагаемом конце света, чем жители христианского мира по ту сторону пролива. Поглощенные своими внутренними делами, они более были обеспокоены погодой, уничтожением посевов и ящуром, который разразился среди скота и овец. Даже король, который, должен был быть полностью осведомлен об опасности, казался полностью увлеченным своими великолепными строительными проектами по размещению коллегии своего нового Ордена Подвязки. 6 августа он выпустил приказ о превращении часовни Св. Эдуарда Исповедника, находившейся в Виндзоре, в часовню «соответствующего великолепия» и для обеспечения места для проживания дополнительных каноников и 24 «беспомощных и бедствующих рыцарей», которых он и его компаньоны должны были представить ко вступлению в Орден на следующий день Св. Георга «в честь Господа Всемогущего и его матери Марии, славной Девы и Св. Георга мученика».
Вероятно, именно в этот день, несмотря на все предосторожности портовых властей, чума пересекла пролив. Именно в августе она разразилась в маленьком прибрежном дорсертширском городке Мельком Регис, теперь он называется Уэймутом, «почти полностью лишив его жителей». Через несколько недель она достигла Бристоля, возможно, по морю, превратив его в кладбище. Чума обращалась с Англией точно так же, как и с Западной Европой, и англичане реагировали точно так же. В Бристоле «живые едва могли похоронить мертвых» и «жители Глостера не позволят жителям Бристоля войти в город». Но даже стража констебля не могла остановить стремительно бегущих крыс, заражающих друг друга, или паразитов, живущих на них, перебегающих с их гниющих тел на живых людей. Ни у кого не было даже предположения, что вызывало смерть: бледность, внезапная дрожь и рвота, внезапные алые язвы и черные нарывы – «Божьи знаки» – бред и непереносимая агония, которые приходили без предупреждения и забирали своих жертв за несколько часов.
В течение той осени чума поражала одно южное графство за другим. Дорсет и прилегающие графства ужасно пострадали; Пул был настолько пустынен, что смог возродиться только через более чем столетие – сто лет назад выступающая полоска земли, известная как Бейтер, все еще указывалась на карте как кладбище жертв Черной Смерти. В некоторых деревнях, таких, как Бишопстон в Уилтшире, едва ли одна душа выжила, а когда жизнь возродилась после чумы, это место так и осталось пустынным. Когда посевы гнили в полях, церковные колокола молчали, везде трупы скидывались, черненные и воняющие, в ямы, вырытые на скорую руку. В своем епископском маноре Вайвлискомб, где он и его фамилия оставались во время объезда, епископ Батский и Уэллский назначал бесконечную череду священников на вакантные бенефиции – некоторые, подобные приходу Св. Лоренса в Шефтсбери, лишились своего священника более чем один раз, а другой приход, Св. Николая в Уинтербурне, не менее чем три раза. В своем послании к прихожанам он приказал больным исповедоваться мирянам, если не смогут найти священника, и, если это будет необходимо, даже женщине. Когда таинство Чрезвычайного Помазания не смогло быть осуществлено, он заключил «веры должно, как и в других делах, быть достаточно».
В соседнем диоцезе, Винчестере, включавшем в себя графства Гемпшир и Суррей, которые каким-то чудом избежали эпидемии почти до Рождества, епископ Эдингтон, казначей, приказал собранию каноников читать семь покаянных и пятнадцать обычных псалмов дважды в неделю и по пятницам проводить крестный ход духовенства и людей по улицам и рыночным местам, босоногими и с непокрытыми головами, «пока с благочестивыми сердцами они повторяют свои молитвы и, отложив бесполезные разговоры, произносят так часто как только можно „Отче наш“ и „Тебя Дева Славим“. Новости, исключительно печальные, провозгласил он, достигли его; жестокая чума, которая превратила города Европы в „логова диких животных“, „начала поражать берега английского королевства“. Города, замки и деревни „были лишены своего населения эпидемией, более жестокой, чем двуручный меч, и стали жилищами ужаса... Мы поражены самым горестным страхом, который запрещает Господь, как бы начавшаяся эпидемия не опустошила наш диоцез“. А она уже распространялась через Экзетер, ударив сначала, как и везде, сначала по морских портам и эстуариям и затем следуя по рекам и островам. Духовенство и миряне Девоншира и Корнуолла ложились, подобно колосьям под серпом жнеца, в цистерцианском аббатстве Ньюэнгем двадцать монахов и трое мирских братьев умерли и выжили только аббат и двое других братьев. В приорстве августинцев Бодмине выжили только двое каноников, чтобы рассказать затем об этом; аббаты Хартленда, Тевистока и Св. Николая Экзетерского, все погибли, последний монастырь потерял двух глав друг за другом.
Чума достигла Лондона в начале ноября – «примерно на День всех святых». Она унесла с собой крупного финансиста Сэра Томаса Палтни, который четырежды избирался мэром и построил приходскую церковь Литтл Ол Хэлэуз на Темз стрит, дядю принцессы Джоанны Кентской, лорда Уэйка из Лид-дела, четырех старост компании золотых дел мастеров и аббата и 26 монахов Вестминстера. Прилегающий к нему госпиталь Св. Якова остался без обитателей, все братья и сестры умерли; возможно, подобно храбрым монахиням в Отель Дье в Париже, «обращаясь с больными со всей любезностью и сдержанностью, оставив весь свой страх»[378]. Из братии епископа Рочестерского умерли 4 священника, 5 оруженосцев, семь прислужников, шесть пажей и десять слуг. Суды Королевской Скамьи и Общих Тяжб пришли в бездействие; парламент, созванный на январь, был распущен на неопределенное время. Всю зиму чума бушевала на наводненных крысами улицах и аллеях, пока, унеся почти половину населения, «благодаря вмешательству Святого Духа на Пятидесятницу она не ушла». «Кладбища, – писал хронист, – не были достаточно большими, и поэтому поля должны были приютить умерших... Мужчины и женщины несли своих собственных детей на плечах в церковь и сбрасывали их в общие могилы, из которых простиралась такая вонь, что вряд ли кто-нибудь смел подойти». Участок земли рядом со Смисфилдом, выделенный епископом Лондонским для захоронения умерших, получил имя кладбище «прощения»; другой, прямо перед северной стеной города, купленный защитником Эгильона, сэром Уолтером Мэнни, был подарен картезианской обители, которая должна была стать местом Чартерхауса и крупной лондонской школы, которая все еще носит это имя.
Благодаря скорости распространения чумы, самое худшее было позади на юге, до того, как чума разразилась в центральных графствах и на севере. К весне 1349 года она достигла Норфолка. В Аклской церкви современные латинские надписи имеют отношение к тому, как тем летом «жестокий бич чумы» свирепствовал «час за часом»; нориджские доминиканцы умерли все до одного[379]. В Хеверингленде умерли все члены приорства; в небольшом маноре Корнард Парва исчезла сразу 21 семья. В Олд Ханстентоне умерли 172 держателя земель манора, 74 из них не оставили мужского потомства и 19 – вообще кровных родственников. Здесь, как и в других местах, если хоть одно домохозяйство было поражено чумой, тенденция была одна и та же. Центральные графства пострадали также сильно; Лестерский хронист зафиксировал, что в небольшом приходе Св. Леонарда умерли 380 человек, в приходе Св. Креста – 400, в приходе Св. Маргариты – 700. В Оксфорде, где школы были закрыты из-за недостатка студентов, два мэра умерли в течение месяца.
До того как закончилось лето, чума пересекла Хамбер. В Вест Ридинге священники почти половины приходов умерли; в Ист Ридинге примерно столько же. Крупное цистерцианское аббатство Мо в Холдернессе потеряло аббата и всех, кроме 10 из 42 монахов и 7 мирских братьев; Фаунтинс был настолько разрушен, что один из двух очагов в отапливаемой зале, где проходило кровопускание раз в три месяца, был постоянно замурован. Шотландия, защищенная сотнями миль болот, держалась до конца года. Сначала шотландцы приписывали несчастья соседей их слабости, клянясь «грязной смертью Англии» и поздравляя друг друга со своим своеобразным иммунитетом. Но когда они собрались в Селкиркском лесу, чтобы разорить пограничные земли, «их радость превратилась в плач, когда карающий меч Господень... обрушился на них яростно и неожиданно, поражая их не менее чем англичан гнойниками и прыщами». В следующем году наступила очередь Уэльских гор и долин, и «наконец, как будто плывя дальше, чума достигла Ирландии, поразив огромное количество англичан, проживавших там» и разрушая непрочную манориальную систему Ирландии. «Она едва затронула чистых ирландцев, которые проживали в горах и горных территориях до 1357 года, когда она неожиданного уничтожила их повсюду самым жестоким образом». Ибо Черная Смерть не разбирала национальности, вероисповедания, но несла несчастье всему человечеству. После того как она опустошила богатые города Рейнланда, масса евреев, выносимая из их домов суеверными и кровожадными толпами, бежала на Восток через Европу на польские равнины, где просвещенный король, менее жестокий, чем его товарищи христианские короли, предложил им убежище.
Хотя Черная Смерть посетила каждую часть Англии, ее действие было неравномерным. Некоторые деревни, такие, как Тилгарсли в Оксфордшире и Мидл Карлтон и Эмбион в Лестершире – место будущей битвы на Босвортском поле – настолько обезлюдели, что они так и не были снова заселены. Другие места, кажется, остались совсем нетронутыми. В Сент Олбансе умерли аббат, субприор и 46 монахов; а в Крайст Черч, Кентербери, только четыре. Больше всего пострадали бедняки, жившие в переполненных лачугах, и приходское и черное духовенство. Знать, жившая в сравнительно чистых и просторных условиях, легко отделалась; в Англии по крайней мере они получили огромное количество предупреждений об опасности. Изолировавшись в отдаленных имениях и строго охраняя себя от чужаков, они смогли заставить чуму обойти их стороной. Всего несколько человек заразились инфекцией; три архиепископа Кентерберийских умерли в тот ужасный год, один из них, Джон Стратфорд, в конце августа 1348 года, возможно, умер по естественным причинам, но двое других – точно от чумы. Остальные представители епископата, заточившись в своих манорах, избежали болезни, хотя Джинуэл, епископ Линкольнский, преданный великим традициям своего диоцеза, как обычно совершил объезд всех восьми графств, несмотря на эпидемию. Из приходского духовенства умерло почти сорок процентов, большинство из них, вероятно, при исполнении своих обязанностей, хотя отправление их вело к смерти. Другие, как мы знаем из свидетельства современника, поддались общей панике и бежали. Епископальные записи – самые полные и лучше всего сохранившиеся в Англии, нежели в других странах, – говорят о том, что, включая монахов и братьев, чума унесла почти половину служителей Господа[380].
Что касается остального населения, то невозможно точно подсчитать количество умерших; вердикт современной науки следующий: первая вспышка унесла каждого третьего жителя. Современные хронисты и свидетельства считают, что количество умерших гораздо больше: Томас Уолсингем из Сент Олбанса подсчитал, что «это почти половина всего человечества», другие считают, что две трети и даже три четверти. Поскольку авторы таких первичных обзоров в большинстве своем находились в тех местах, где чума была наиболее свирепой и из которых многие жители уже сбежали, уровень смертности тех, кто остался, возможно, и был таким высоким, как они полагали. Совершенно ясно то, что однажды попав в почву, чума оставалась здесь надолго, то есть становилась эндемической. Оставаясь в пассивном состоянии, возможно, и десяток лет, она могла внезапно вспыхнуть, сначала в одном городе, затем в другом, по крайней мере, раз в поколение. На протяжении трех сотен лет – ровно столько времени отделяет нас от последней вспышки чумы в царствование Карла II – красный крест на двери дома, пораженного чумой, повозка, полная трупов по пути к чумной яме, крик «Вытаскивайте ваших мертвецов!» формировали периодически повторяющуюся часть подоплеки существования англичанина. В течение трех столетий со времен норманнского завоевания население Англии, вероятно, удвоилось. Поколение, рожденное в середине царствования Эдуарда III, увидело его поредевшим в два раза.
Тому, кто не испытал этого, трудно осознать влияние катастрофы на цивилизованное общество, когда умирал каждый третий, возможно, даже каждый второй. Ее непосредственным последствием, так же, как и шока, и ужаса, который сопровождал эту ситуацию, явился хаос. В своем грязном и убогом средневековом существовании люди привыкли к инфекционным болезням, но эта не являлась обычной эпидемией. Пока она продолжалась, прекратились все формы деятельности. Урожай не собирался, налоги или ренты не взимались, рынки не устраивались, а правосудие не исполнялось. На суде гамота епископа Даремского в Хогтоне 14 июля 1349 года было записано, что «никто не желает платить пошлины ни за какие земли, которые находятся в руках лорда, из-за страха перед чумой; и все таким образом провозглашаются не выполнившими своих обязательств, пока Господь не принесет какое-нибудь избавление»[381]. По всей стране наблюдались незанятые и необработанные земли, в тот момент было почти невозможно что-нибудь продать. По словам лестерского хрониста, «все шло по низким ценам из-за страха смерти, ибо мало кто беспокоился о богатстве или о любом виде собственности. Человек мог получить лошадь, которая стоила 40 шиллингов, за пол-марки, жирного быка – за 4 шиллинга, корову – за 12 пенсов, телку – за шесть пенсов, жирного валуха – за 4 пенса, овцу – за 3 пенса, барана – за 2 пенса, большую свинью – за 5 пенсов, стоун шерсти – за 9 пенсов. Овцы и скот бродили брошенные по полям и среди посевов, и никто не сдерживал или пас их; из-за недостатка ухода они умирали в канавах или под изгородями в огромных количествах». Ухудшая ситуацию, ящур, приписываемый в народе к виду капельных инфекций, унес огромное количество скота; только в Лестершире погибло более 500 голов овец, «настолько прогнивших, что ни одно животное или птица не тронула бы их».
Действительно, для некоторых непосредственные последствия Черной Смерти казались почти такими же зловещими, как и сама чума. «Выжили только отбросы людские», – написано неизвестным на камне Эшуэлской церкви напротив даты 1349. «На протяжении всей той зимы и весны, – написал рочестерский монах, – епископ, старый и немощный человек, оставался в Троттерсклиффе, горюя и печалясь о внезапном изменении времен. И в каждом маноре епископские здания и стены лежали в руинах. В монастыре была такая нехватка припасов, что община была сильно озабочена недостатком еды, так что монахи были вынуждены молоть свой собственный хлеб». Когда епископ посетил аббатства Меллинг и Леснес, он нашел их в такой нужде, «что, как считалось, с настоящего времени до Судного Дня они никогда не смогут прийти в себя»[382].
Не оказала эпидемия и очищающего влияния, на которое надеялись моралисты, о том, что люди будут работать больше и станут более милосердными и полезными друг к другу. Несколько серьезных христиан было подвигнуто к хорошей работе и великим мыслям, подобно одаренному воину Генриху Ланкастерскому, который не только одарил коллегиальную церковь в Ланкастере, но, после того как отправился в крестовый поход против балтийских язычников, написал в 1354 году посвятительный трактат под названием Le Livre de Seyntz Medicines – аллегорию самоосуждения, «написанную, – как он указал, – глупым несчастным грешником, который называет себя Генрихом герцогом Ланкастерским – да пусть Господь простит его преступления»[383]. Но мир в целом не изменился к лучшему. «Люди, – по словам французского хрониста, – стали потом более жадными и скупыми, даже когда они владели большим количеством имущества этого мира, чем прежде. Они стали более алчными, раздражая себя вздорными ссорами, раздорами и судебными исками... Милосердие также стало сходить на нет, а злоба со своим спутником безразличием все более свирепствовала, и мало кого можно было найти, чтобы они могли или желали учить детей началам грамматики». Рочестерский монах Уильям Дин рассказывает такую же историю: «Люди в большей своей части стали хуже, более подвержены любому пороку и более склонные перед грехом и злостью, не думая ни о смерти, ни о прошлой чуме, ни о своем собственном спасении... Священники, мало ценящие жертву духа раскаяния, отправились туда, где они могли бы получить большие стипендии, чем в собственных бенефициях, и поэтому многие бенефиции остались без священников. День ото дня, угроза душам, как духовенства, так и мирян увеличивалась... Рабочие и искусные работники были проникнуты духом мятежа, так что ни король, ни закон, ни правосудие не могло обуздать их».
Для большинства людей именно проблема с работой составляла основную проблему после чумы. «Так велик был недостаток работников всех видов, – написал Дин, – что более чем треть земель оставалась необработанной». При следствии по поводу земель уилтширского землевладельца, который умер в июне 1349 года, жюри обнаружило 300 акров бесполезных пастбищ, потому что все держатели умерли. В другом маноре рядом с Солсбери только три держатели остались в живых, все остальные погибли во время чумы. В Клиффе в Холдернессе общая рента с обычных и свободных держателей, обычно стоимостью в 10 фунтов 5 шиллингов в год, принесла просто 2 шиллинга. В Дрейклоу в Кентербери только 13 шиллингов и 9 и три четверти пенсов было собрано с 74 держателей, а урожай, вместо того, чтобы убираться бесплатно в качестве обычной повинности, стоил 22 фунта 18 шиллингов и 10 пенсов – более чем тысяча фунтов по современным меркам – за наем рабочих.
В эпоху, когда вся работа была ручной, а богатство правящих и сражающихся классов покоилось почти полностью на сельском хозяйстве, последствия недостатка рабочей силы вызывали коренные изменения. В течение нескольких месяцев цены за вспашку, покос и жатву, за выпас скота и перевозки удвоились, а в то же время ренты и ценность земли катастрофически упали. Борьба за рабочую силу повлияла как на земельные владения, зависимые от наемного труда, так и на более древний тип манора в деревнях восточной и средней Англии, где выращивалась пшеница, в которых земли лорда обрабатывались не наемными работниками, а крепостным крестьянством, чьи индивидуальные полоски на общих полях держались взамен барщины, заключавшейся в работе на лорда либо нескольких дней в неделю, либо в течение целого сезона, под руководством бейлифа и манориального суда. Официально позиция виллана и его обязанности не изменились; на практике же, подобно свободному наемному работнику, он обнаружил себя в состоянии улучшить свое положение и в обезлюдевшей общине получить свободу, если он был готов бросить свой дом и отправиться в какой-нибудь дальний, но нуждающийся в рабочей силе район, где его не знали. Хотя более пожилые работники с сильными семейными узами оставались в своих привычных домах и рабстве, более молодые и более активные, а также безземельные работники ухватились за эту возможность.
В июне 1349 года, когда чума все еще свирепствовала на севере в центральных графствах, Совет выпустил необходимый ордонанс против того, что называлось «злой умысел работников». Усиленный последующим ордонансом в ноябре, дававший право тем, кто платил заработную плату больше, чем было установлено в предчумные годы, изъять переплаченные деньги со своих рабочих, чтобы оплатить налоги, ордонанс постановил, что «каждый мужчина и каждая женщина... какого бы состояния они не были, свободного или крепостного, крепкие телом и в возрасте до шестидесяти лет, не живущие торговлей и не занимающиеся ремеслом и не имеющие собственности, с которой бы они жили, ни собственной земли, возделыванием которой могли бы быть заняты»[384], должны браться за любую работу, подходящую к их статусу и за заработную плату, которая была принята в данной местности до чумы. Если неисполнение этого положение будет доказано двумя заслуживающими доверия людьми перед шерифом, бейлифом, лордом или констеблем, каждый нарушитель будет сразу же арестован и отправлен в ближайшую тюрьму. Если же он оставил свою службу до конца установленного срока без какой-либо разумной причины, никакому другому работнику это место было отдать нельзя. Любой, предложивший ему заработок выше, чем установленная норма, должен был заплатить изначальному работнику в два раза больше.
Эта властная попытка установить контроль над временем апеллировала не только к работникам, работавшим на земле, но и к «седельным мастерам, скорнякам, кожевенникам, сапожникам, портным, кузнецам, плотникам, каменщикам, кровельщикам и лодочникам». Ордонанс также предпринял попытку регулировать цены для «мясников, торговцев рыбой, конюхов, пивоваров и хлебников, торговцев домашней птицей и продавцов съестных припасов». В каждом графстве были назначены специальные судьи по рабочим, чтобы ввести ордонанс в действие.
Одно дело было выпустить правило, совсем другое – заставить их соблюдать. Когда в феврале 1351 года парламент встретился первый раз после чумы, общины подали петицию короне о принятии формального статута о рабочих, усиливавшего штрафы против тех – как нанимателей, так и наемных работников – которые везде не подчинялись ордонансам. Автором статута, который был принят, считается сэр Уильям Шершулл, главный судья суда Королевской скамьи и сам оксфордширдский землевладелец[385], а запрос на этот статут исходил от рыцарей графств, которые представляли значительный свободный или фригольдерский средний класс – менее способный чем магнаты со своими огромными пастбищами платить высокие зарплаты. В своей петиции они подробно остановились на «злонамеренности слуг... не желающих служить иначе как за чрезмерную плату» и на том, что они не принимают ничего во внимание, кроме как «свою праздную и исключительную алчность». «Каждый возчик, пахарь, погонщик при плуге, пастух овец, свинопас, скотники и все другие слуги», было установлено, должны получать тот заработок, который платился сразу перед чумой и должны служить годами, но не днями. Никто не может платить за сенокос более чем пенни в день, за покос луга более чем 5 пенсов, за жатву пшеницы – более чем 3 пенса «без питья и еды и другого угощения». Работники, ищущие работу, должны были посещать то, что стало известным как «статутные сессии» в ближайших рыночных городах, неся в руках свои инструменты и «нанимались в публичном месте и отнюдь не в частном»[386]. Те, кто откажется, должны были быть закованы в колодки, которые было приказано выставить в каждой деревне, или помещены в тюрьму, пока не смогут оправдаться.
Насколько непопулярными были эти правила, можно увидеть из судебных разбирательств, специально назначенных для проведения их в жизнь. Они были созданы, чтобы побороть одну из самых крупных сил в мире – упрямство и независимость настоящих англичан, которые, пережив три столетия иноземного господства, стали еще более упрямыми и независимыми, чем прежде. Так, констебли Керкби в Уорикшире передали в магистраты, что Уильям Мартин долгое время не работал, а работать мог, «но наотрез отказался это делать». В Линкольншире была такая же история: Уильям, де Кеберн из Лимберга, пахарь, не шел на службу, кроме как только на несколько дней или месяц, не ел солонины, но требовал свежего мяса и, так как «никто не смел нанять его, он привык наниматься в нарушение статута нашего господина короля», он незаконно покинул город. Настолько ненавистен был механизм приведения этого закона в действие, что в Тоттенгеме в Мидлсексе, так же, как и в Нортгемптоншире и Линкольншире, судьи изгонялись из своих мест толпами разозленных рабочих. И личные интересы побуждали рабочих так же, как и работодателей, нарушать закон. «Присяжные сотни Барличвея, – говорится в протоколе Уорикширской ассизы, – представляют, что Алиса Портрив, жена Уильяма Портрива из Хенли, платит чрезмерное жалование прядильщицам. Там же, они представляют, что Джеффри де Уэлнфорд, ректор Кинетонской церкви, заплатил своим двум дворовым слугам за зиму восемь шиллингов вместе с их содержанием и ежедневной едой, которую они имели в его собственном доме»[387].
Исключительно эгоистичное, каковым такое законодательство и было, и за это очень резко осуждалось, принимая во внимание повсеместное падение ренты, землевладельцы, в особенности мелкие, столкнулись с очень серьезными трудностями. В 1353 году, спустя четыре года после Черной Смерти, 25 нортумберлендских приходов все еще были не в состоянии платить какие бы то ни было налоги, в то время как на другом конце страны управляющий принца Уэльского в Корнуолле докладывал, что на протяжении двух лет он не смог получить какие-либо поборы в любой части герцогства из-за «недостатка держателей, которые умерли во времена смертельной болезни». В том же году шериф Бедвордшира и Бекингемшира потребовал назад из казначейства деньги, выплаченные в предыдущем году сотнями за фермы, бейлифы же этих сотен, в свою очередь, отказались собирать их на обычных условиях из-за падения своих доходов[388].
При этом даже в 1354 году вице-шериф Камберленда жаловался, что большая часть манориальных земель королевского замка Карлайл все еще находилась в запустении и лежала необработанной «по причине смертельной болезни, недавно свирепствовавшей в этих землях», замечательный показатель того, как быстро страна оживала после этого испытания. Несмотря на то, что смертность была выше, чем ожидаемая сегодня от ядерной войны, Англия показала удивительную стойкость. В произведении величайшего английского поэта той эпохи присутствует только одно упоминание, да и то косвенное, о Черной Смерти, которая три раза пронеслась по Англии во времена его юности и ранней зрелости. Но люди тогда были гораздо больше привычны к смерти, нежели теперь, а Чосер вырос в качестве пажа при королевском дворе, который почти полностью избежал судьбы, постигшей остальную часть общества. Даже в день Св. Георга 1349 года, когда чума все еще свирепствовала в Лондоне, первая служба Ордена Подвязки состоялась в Виндзоре, каждый рыцарь с плюмажем и в голубой мантии подвязки занял свое место; великолепный двуручный меч, с которым король появился в этот день, все еще висит позади алтаря церкви Св. Георга.
Не позволил бодрый и сумасбродный король Англии повсеместной нехватке рабочей силы остановить свои строительные проекты. Вместо умершего Уильяма де Рамси был призван мастер-строитель из Крайст Черч в Кентербери; пять сотен каменщиков, плотников, стекольщиков и ювелиров были затребованы шерифами южных графств для работ в Виндзоре, они были экипированы алыми колпаками и ливреями, чтобы не могли сбежать и наняться куда-либо в другое место[389]. В год, когда Черная Смерть утихла, английские художники под руководством Гуго Сент Олбанского – современника Джотто – начали расписывать стены королевской часовни Св. Стефана в Вестминстере фресками ангелов с павлиньими крыльями и изображениями Иова и Товии, а также поклонения волхвов, фигур, облаченные в современное придворное платье и помещенных на заднем плане позолоченных скульптур. По стенам размещались аркады из посеребренных и позолоченных статуй, самой великолепной из них было золотое изображение Девы Марии – знаменитой многими легендами, которые сопровождали ее создание, – и портрет короля и его сыновей, представляемых перед Божественным престолом Св. Георгием работы Гуго Сент Олбанского.
В других местах также после перерыва возобновилась работа по строительству церквей. В Глостере крытые галереи, самый ранний пример английского веерного свода и шедевр новой перпендикулярной готики, были начаты в 1351 году под покровительством аббата Хортона – «прекрасные, – как написал Стакли, антиквар XVII века, описывая их, – лучше всего, что я видел». В следующем году покрытые изящной резьбой фигуры Церкви и Синагоги – один из немногих образцов среднеанглийской готической скульптуры, сохранившейся до времен пуритан-иконоборцев, – были помещены перед входом в Рочестерский собор, в то время как два года спустя в нефе Йоркского собора был воздвигнут веерный свод. Началось строительство в Экзетере, Винчестере и Или.
В других местах недостаток денег и рабочей силы приостановил церковное строительство; и в Вустере, и в Честере работы в кафедральном соборе аббатства прекратились на годы. В Клее в Норфолке великолепная новая церковь, начатая в 1330 году, была закончена только в следующем веке. А влияние Черной Смерти на религиозную жизнь государства было печальным и очень длительным. Из черного и приходского духовенства половина умерла, а проблема заполнения такого количества вакансий людьми, обладающими необходимым качествами, была достаточно значительной; как и безземельные рабочие, низшие ранги духовенства просили о повышении вознаграждения. Доведенные до нищеты сокращением размеров своих конгрегации и доходов, священники многих наибеднейших приходов отказывались от обычного образа жизни и пускались на поиски более прибыльной работы, как, например, места клерка в часовне или капеллана.
«Попы из сел епископа молили Позволить в Лондон перебраться им, – С тех пор как по стране прошла зараза, Приходы их погрязли в нищете» [390] .Широко распространенная бедность духовенства также усиливала растущее чувство недовольства папским каноническим правом назначать иноземцев на наиболее доходные должности. Хотя папские назначения представляли собой значительную часть церковного механизма для продвижения достойных церковников, и хотя большинство из тех, кого папа представлял к постам, были англичанами, значительная часть самых богатых бенефиций каноников и деканств обычно уходила к иноземным кардиналам и другим папским сановникам. Это стало вызывать растущее негодование, особенно после того как папский престол переехал в Авиньон и началась война с Францией. Во времена Креси около трети высшего духовенства являлось иностранцами, отсутствовавшими в стране на своих постах, включая половину каноников Йорка; один кардинал был регентом хора в Личфилде, казначеем Йорка и архидиаконом одновременно Бекингема и Ноттингема.
Трижды в десятилетие перед чумой Общины направляли петиции короне против злоупотреблений, написав в 1343 году вежливый, но твердый протест папе лично, жалуясь на вторжение в английские приходы иностранцев, не знающих ни языка, ни обычаев страны. Это, как они заявили, иссушило поток домашнего милосердия, истощило государственную казну и выставило свою «наготу» на поругание врагам короля. Когда в 1351 году парламент встретился после Черной Смерти, одним из его первых действий явилась петиция короне с требованием принятия законодательных мер для прекращения отчуждения самых богатых бенефиций страны. Нуждаясь в деньгах для финансирования военных действий, король удовлетворил желания Общин Статутом о Провизорах, по которому любой, привезший в страну папскую буллу о назначении, мог быть заключен в тюрьму до тех пор, пока она не компенсирует владельцу права распределения приходов и бенефиций потери этого права пожалования бенефиция и представления на приход. Два года спустя, в 1353 году, другой парламент получил от короны статут о Praemunire[391], который добавил объявление вне закона и конфискацию имущества к существовавшим наказаниям за разбирательства в иностранном суде дел, чья юрисдикция принадлежит королевским судам. Но хотя эти акты оказали влияние на сокращение количества богатых бенефиций, уходивших в руки иноземных кардиналов и членов папского двора, и хотя они усиливали короля при сношении с Авиньоном, но он применял их только в том случае, если ему это было нужно, что случалось, когда курия выдвигала претензии на патронаж, принадлежавший либо ему, либо кому-нибудь из его поданных мирян. Нуждаясь в папских провизиях для назначения епископов и других королевских ставленников, Эдуард не предпринимал попыток, которые бы помешали его молчаливому взаимопониманию с папством по поводу исключительно духовного патронажа. Реальное значение статутов заключалось в их признании права парламента участвовать вместе с короной в регулировании церковных назначении[392].
Другой жертвой Черной Смерти стала иностранная рыночная таможня, которая сильно оживилась в начале войны. Одним из непосредственных последствий чумы было полное банкротство капиталистов, которые ссужали деньги короне в обмен на монополию экспорта шерсти. Не способные более предложить никаких ссуд или даже просто выполнить свои обязательства, представители крупных синдикатов Лондона и портов восточного побережья – Шеритоны, Везингемы и Суонленды, которые в сороковых годах заменили семьи Перуцци и Барди в качестве королевских банкиров, – перестали подобно своим иноземным предшественникам быть полезными королю. Вместо них он обратился к производителям шерсти и мелким торговцам, которые были представлены не собранием крупных купцов, но рыцарями графств и бюргерами в парламенте. В своем обращении к парламенту 1351 года канцлер подробно останавливался на благодарности Эдуарда своим магнатам и Общине за любовь, которую они питают к нему, и за ту помощь и субсидии, которые они предоставили, на его осознании того, что они все претерпели для обеспечения ведения войны и защиты королевства, и его желание сделать все, что в его власти для их «покоя, удобства и благосклонности».
Жалобы на «незаконные субсидии» в виде налогообложения купцов в отличие от сделанных «в полном парламенте» стали усиливать недовольство Общин, не потому, что они видели в них посягательство на свои конституционные права – они еще были слишком покорны для этого – но потому, что монополии, данные короной взамен, давали право крупным экспортерам шерсти снижать цены за шерсть для производителя и вообще исключить мелких торговцев из рынка. В обмен на отмену данных монополий Общины в 1351 году дали короне субсидию из ненавистного maltote на срок более двух лет. Признавая, что король не может вести без него войну, они приняли продление этого налога как цену за свое право контроля над ним. В следующем парламенте, собранном в 1353 году и состоящем из одного рыцаря от каждого графства и двух бюргеров от 38 крупнейших торговых городов, король признал то, что стало известным как Ордонанс о Рыночной Таможне в обмен на продление шерстяных субсидий еще на три года. Этой мерой, чтобы предотвратить любое возобновление монополий, английским торговцам было запрещено экспортировать шерсть, рыночная таможня во Фландрии была закрыта, иностранным купцам было дано разрешение свободно конкурировать друг с другом в покупке шерсти у домашних производителей англичан до несения ими полного бремени maltote. Впредь налог взимался с них и только на пятнадцати внутренних рынках – 10 в Англии, 1 в Уэльсе и 4 в Ирландии[393].
Этот эксперимент по свободной торговле пришелся по вкусу непосредственным производителям шерсти, которые, продавая ее конкурирующим друг с другом иностранным покупателям, могли поднимать цены. Экспорт шерсти достиг 40000 мешков в тот год, бросив вызов той великой эре свободной торговле при Эдуарде I, и в среднем стал исчисляться 32000 мешков в год в течение последующих десяти лет. Пока война с Францией финансировалась на самом низком уровне, как в годы, непосредственно последовавшими за эпидемией, и король мог обойтись без крупных займов, эти изменения были на руку короне и, привнеся поток иностранной покупательской способности в страну, помогли восстановить ее истощенные запасы золота и серебра. Обратной стороной этого процесса было то, что, отдавая экспортную торговлю иностранным купцам, он препятствовал строительству кораблей в Англии и таким образом сократил военную мощь Англии на море. Прошло некоторое время, пока проявились его последствия, и они были достаточно серьезными.
* * *
Хотя и Франция, и Англия лишились трети своего населения, война не прекратилась. Пока Черная Смерть свирепствовала, перемирие, заключенное в 1347 году, было продлено до лета 1350 года при обоюдном согласии. Но той весной короля Эдуарда, находившегося в Вестминстере, достигли слухи о французском заговоре с целью неожиданно нагрянуть в Кале и отбить город. Ломбардский рыцарь, посланный к губернатору, который умер от чумы, был подкуплен, чтобы провести французский отряд ночью в замок. Но заговор был раскрыт, и именно нападавшие и были захвачены врасплох. Ибо, тайно переправившись через пролив, замаскированные и с отрядом избранных воинов, Эдуард и принц Уэльский напали на незваных гостей, когда тех вели в замок и взяли всех их в плен. После король-победитель угостил своих пленников и, особо отличив рыцаря, который долго сопротивлялся ему в сражении, увенчал его венком из жемчуга и отправил на свободу.
В августе того же года король и принц приняли участие в более серьезном деле, на этот раз на море. Кастильский флот, перевозивший мериносовую шерсть во Фландрию, воспользовался тем, что Пять портов обезлюдели, чтобы грабить английских купцов в проливе. Для того чтобы перехватить его на обратном пути, в Сандвиче собрался небольшой флот из 50 мелких кораблей и пинасов, укомплектованный цветом английского рыцарства. Среди, них были почти все изначальные члены Ордена Подвязки; и даже десятилетний сын короля Джон Гонтский был там. Отплыв из Сандвича, они встретили испанский флот рядом с Дангнессом в полдень 29 августа и сразу же напали на него. «Их корабли были настолько больше наших, как замок больше хижины», – написал Джеффри ле Бейкер. «Облаченный в черную бархатную куртку и бобровую шляпу, которая очень шла ему», король поднял свой флаг на флагмане «Томас», пока молодой Джон Шандо и королевские волынщики развлекали его в минуты ожидания боя новым германским танцем. Как и при Слейсе битва стала триумфом английских лучников, которые, расстреляв испанских арбалетчиков и метальщиков, превратив их палубы в руины еще до того, как рыцари и тяжеловооруженные воины вскарабкались на борт, чтобы закончить бойню. Хотя и корабль короля, и корабль принца затонули, день закончился захватом 17 галеонов и бегом оставшихся в живых, пока толпы подбадривали победителей у скал Уинчелси. Тем вечером королева, которая провела весь день за молитвой в Бетлском аббатстве, воссоединилась с Эдуардом и сыновьями в замке Пивенси, «где лорды и леди провели ночь в большом веселье, беседуя о войне и о любви».
Победа помогла восстановить английские морские коммуникации со своими истощенными гарнизонами в Гаскони. Ибо чума оставила страну в опасном недостатке военной силы. Чувствовалась нехватка моряков, чтобы управлять кораблями, лучников и тяжеловооруженных воинов для охраны земель в Гиени и Бретани. Маленькая страна страдает от истощения сильнее, чем большая, и диспропорция между населением Франции и Англии теперь играла большую роль. В 1353 году каждому держателю земли с годовым доходом в 15 фунтов было приказано явиться для посвящения в рыцари и несения соответствующей военной службы, в противном случае он должен быть оштрафован как нарушитель, и двумя годами спустя половина мужчин в возрасте, пригодном для несения военной службы, из двух Дербиширских деревень, была на войне[394]. Когда население сократилось до двух-трех миллионов, Англия была вынуждена пополнять свои иностранные гарнизоны гасконцами, бретонцами, фламандцами, ирландцами и германцами.
В августе 1350 года, за неделю до победы Эдуарда на море у Уинчелси, только что взяв себе невесту 18 лет, Филипп Валуа умер в возрасте 58 лет. Ему наследовал его сын, Иоанн II – «Le Bon» или «Добрый». Ярый приверженец идеи рыцарства и военной славы, в отличие от своего отца, он отказался возобновить перемирие. Война, таким образом, продолжилась в довольно беспорядочной манере, пока обе страны приходили в себя после Черной Смерти. На юге французы медленно создавали большую армию, которая в начале 1353 года захватила Сентонж. Генрих Ланкастерский, находившийся в крестовом походе в балтийских землях вместе с тевтонскими рыцарями[395], был недоступен, чтобы защищать южные доминионы своего суверена. Но губернатор Кале сэр Джон Бошам – брат лорда Уорика – был послан на защиту провинций, над которыми нависла угроза. Достигнув осажденной столицы Сентеса, прибыв вовремя, он одержал 7 апреля еще одну поразительную победу против огромной армии. Два французских маршала были в числе захваченных в плен, победители составили себе состояние только на одних выкупах. Затем, торопясь обратно на свой пост в Кале, Бошам нанес поражение французам при Ардре.
В Бретани, имея Карла Блуасского своим пленником, а претендента де Монфора еще малолетним, попытки англичан управлять страной от имени их протеже становились все более непопулярными. Ибо бретонцы вынуждены были не только платить за содержание их гарнизонов, но в придачу терпели постоянные грабежи с их стороны. По английскому престижу был нанесен серьезный удар в 1351 году в рыцарском столкновении под названием «битва тридцати», когда тридцать франко-бретонских рыцарей нанесли поражение тридцати англо-бретонским, гасконским и германским рыцарям, убив девять из них. Но в 1352 году, когда французская армия под командованием маршала де Неля захватила герцогство и после приобретения Ренна подошла к Бресту, ее остановил у Морона сэр Уильям Бентли 14 августа. Бентли, который сменил сэра Томаса Дэгуорта в должности наместника Бретани в связи со смертью последнего в засаде, долгое время тщетно пытался получить подкрепления из Англии. Но, хотя под его началом был всего лишь небольшой отряд, он расположил его, использовав одну из тех сильных английских диспозиций, на которые Англия всегда полагалась, спешив тяжеловооруженных воинов и выстроив их в линию и поместив лучников клиньями на флангах. У него не было даже людей для резерва. Французы напали в 4 часа жарким летним днем; те, кто ждал на гребне горы, еще потом долго вспоминали гудение пчел в зарослях вереска. Хотя первая атака оттеснила лучников на правом фланге, их товарищи слева устроили обычную экзекуцию французским лошадям, добивая затем спешившихся всадников мечами, когда те пытались подняться. В то же время тяжеловооруженные воины справа, отойдя к задней части холма к деревьям, устроили такую крепкую драку, что враг также застрял и там. Когда Бентли, опасно раненного, уносили с поля, он кричал: «В бой! В бой!», командование принял его заместитель сэр Роберт Ноллис, грубый чеширский рыцарь, он и закончил разгром противника. Маршал де Нель был среди убитых, более чем 600 рыцарей и представителей знати были убиты или захвачены в плен, среди них оказалось 45 рыцарей Ордена Звезды – нового рыцарского ордена, который король Иоанн основал в противовес Ордену Подвязки.
Морон сохранил за Англией господство над Бретанью. Он принес тем немногим, что сражались в этой битве, большое богатство. Когда два века спустя Шекспир написал о другой победе Плантагенета против бесчисленной армии противника: «людей чем меньше, тем большей чести куш», он мог справедливо заменить слово «выкуп» словом «честь». Ибо английская армия во Франции существовала по тому же принципу, что и акционерное общество. Ее офицеры и солдаты получали плату от своего короля или капитана во время ожидания битвы или маршей, но основным стимулом для них служить в армии или умереть было осознание того, что выжившие разделят плоды победы – добро любого взятого штурмом города, а также любому, кто взял пленника, две трети выкупа, остальная часть отходила командиру, который, в свою очередь, платил треть своей добычи короне[396]. Так, использование длинного лука и железной дисциплины были секретом английского успеха. Насколько сурова была дисциплина, было видно после победы при Мороне, когда Ноллис казнил тридцать лучников за бегство.
Возможно, сразу после эпидемии Черной Смерти англичане имели во Франции больше чем 10 тысяч человек. Их гарнизоны существовали только за счет рекрутирования людей из любых других государств. Но все они, от графа до лучника, были искателями приключений, рискующими своей жизнью за возможность грабежа самой богатой страны в Европе в качестве приза. Рыцарская честь, существовавшая в высших слоях, преданность капитану или товарищу, даже некоторый сорт зарождающегося надменного патриотизма среди простых англоговорящих тяжеловооруженных воинов и лучников играли не последнюю роль в проявлении их храбрости. Но самым сильным чувством был азартный дух и страсть к наживе, которую они унаследовали от своих предков викингов и которая поощряла их на любой риск. Лучник по имени Джон Данкастер, являвшийся пленником во французском замке Гин, не имея денег, чтобы заплатить выкуп, получил частичную свободу, работая на починке стен. Узнав от своей любовницы, прачки, что существует затопленная стена, пересекающая ров в двух футах под водой, он вошел в контакт с отрядом из тридцати английских дезертиров, который находился в городе у замка. Эти «невыгодные для короля пленники» сделали штурмовые лестницы нужного размера, пересекли ров ночью в черненном вооружении и, забравшись на крепостные валы, убили дозорных и перебрались через стены. Затем они напали на гарнизон, солдаты которого играли в шахматы, и рискнули вломиться внутрь. «Ворвавшись в комнаты и башни, напав на спящих дам и рыцарей, они таким образом скоро стали хозяевами всего, что было в пределах замка». Освободив пленников англичан из темниц, они заперли там французов и связались с местными командирами войск обеих стран с целью получить выкуп за замок. Граф Гина, как нам рассказывают, «потребовал ответить... от чьего имени они его держат. Как они утверждали, они держат его от имени Джона Ланкастера, он спросил их, является ли указанный Джон вассалом короля Англии или принесет ему присягу и...предложил за замок, кроме всех сокровищ, которые там можно найти, много тысяч крон в обмен на вечный мир с королем Франции. На это защитники ответили, что, перед тем как захватить замок, они принадлежали к английскому народу, но из-за своих изъянов были изгнаны из мира короля Англии. По этой причине место, которое они на данный момент держат, они охотно продадут или обменяют, но только после того, как их естественный король Англии, которому, как они сказали, продадут свой замок, чтобы признать их мир, купит его. Но если он не купит его, тогда они продадут его королю Франции или кому-либо другому, который даст больше всего за замок. Граф, таким образом, был отвергнут, а король Англии купил замок»[397].
* * *
Хотя война и принесла богатство многим английским воинам, но она становилась все более тяжким бременем для налогоплательщиков. Когда, договорившись о годовом перемирии с измученной войной Францией, король в 1354 году через своего лорда камергера (чемберлена) спросил собравшихся лордов и общины в парламенте, желают ли они вечного мира, они ответили в один голос: «Oeil! Oeil!» – предвестник криков «aye, aye»[398], которыми Палата Общин до сих пор выражает свое согласие. Борясь с беспорядками в экономической сфере, вызванными чумой, страна вынуждена была сражаться не только против Франции, но и против Шотландии, с которой время от времени она находилась в состоянии войны почти полвека. Эта бедная, незащищенная, истощенная войнами земля, с пленником-королем и предательской знатью, вечно ссорящейся друг с другом, все еще определенно не хотела признавать английское господство и сражалась до последнего, чтобы его избежать. Когда за два года до этого, обеспечив временное признание оммажа от своего пленника, короля Давида, Эдуард послал его домой под честное слово, шотландский парламент единогласно отклонил такие условия и позволил ему вернуться в плен.
Не больше Эдуард преуспел и в том, чтобы убедить французского короля отказаться от своего требования принести ему оммаж, так же, как и заставить шотландцев признать его право на их оммаж. Ибо когда зимой 1354 года благодаря посредничеству нового папы он начал мирные переговоры с Францией, его посланники, прибыв в Авиньон, обнаружили, что французы, несмотря на все свои поражения, не желают отказаться от абсолютного право на сюзеренитет своего суверена, даже что касается самой мелкой частички завоеванной англичанами земли. Эдуард предложил, что в обмен на отказ от своих прав на французский трон король Иоанн должен отказаться и от своих претензий на обязательность оммажа для Гиени, Понтье и тех городов, которые он захватил в Бретани и Нормандии. Он также дал своим послам секретные инструкции, что он также, возможно, будет готов и к отказу от своих требований на Нормандию в обмен на господство во Фландрии. Его условия были презрительно отклонены. Несмотря на двадцать лет войны, ни один из монархов не был готов отказаться от своих главных целей – английский король от абсолютной власти над своими доминионами вдоль пролива, французский – от полной власти над всей Францией.
Война, таким образом, продолжилась. И снова, как и десять лет назад, Эдуард планировал тройное нападение, из Гаскони, из Кале и, под свои собственным руководством, из Нормандии, чей самый крупный землевладелец Карл Наваррский предложил попытать своего счастья вместе с ним. Раздраженный зять французского короля и потомок Капетингов, как и сам Эдуард, Карл предложил, что они должны идти на Париж вместе и поделить наследство Валуа между собой. В сентябре 1355 года, предваряя объединенные военные операции, запланированные на следующее лето, принц Уэльский соответственно отправился в Бордо с отрядом в 3500 человек, включая хорошо выученные отряды чеширских и дербиширских лучников. Его приняли с большим энтузиазмом, как принимали десять лет назад Ланкастера. Его задачей было вернуть назад территории и города, которые граф д'Арманьяк захватил в юго-западной Гиени.
Принц был воспитан в той же военной школе, что Ланкастер и Дагуорт. Теперь ему было 25 и он находился на вершине своих возможностей. Его способ сражения с превосходящими силами противника заключался в том, чтобы ударить по ним с исключительной дерзостью и скоростью. Ведя войну в богатой провинции Лангедок и опустошив ее из конца в конец, он намеревался заставить д'Арманьяка плясать под свою дудку. Хотя по рыцарским обычаям ведения войны сезон для проведения кампаний был закончен, принц отправился из Бордо 5 октября в grande chevauchee (большая прогулка – фр.) с англо-гасконской конницей из 5000 человек. Через сотню миль он достиг юга и вторгся на французскую территорию 11 числа. Затем он повернул на восток по направлению к Тулузе, пересекая страну тем же самым путем, по которому три с половиной столетия спустя пройдет армия Веллингтона. Стояла замечательная погода, и кавалькада являла великолепное зрелище, каждый из ее капитанов, как Фруассар описал сэра Джона Шандо, скакал «держа знамя перед собой, а свой отряд вокруг себя, с щитом на груди, великолепным и широким, на котором был вычеканен его герб». Отмечалась суровая дисциплина, и в то время как постройки, амбары и посевы сжигали в соответствии с планом кампании, церкви, монастыри и простолюдины оставались нетронутыми. При этом ни одного дня в этой богатой местности не было проведено без какого-нибудь богатого купца или местного землевладельца, притаскиваемого в лагерь английскими разъездами. Все, вплоть до самого последнего лучника, находились в приподнятом настроении, ибо здесь был и выкуп и достаточно добра для грабежа.
Армия была оснащена переносными понтонами для переправы через реки южной Франции, но не было осадных механизмов для захвата укрепленных городов. Таким образом, они проскакали мимо Тулузы, пока д'Арманьяк, не смевший дать сражения, наблюдал из-за ее стен дым от спаленных деревень. Через пять дней марша англичане оказались в Каркассоне, где они сожгли нижний город. 8 ноября они достигли Нарбонны, находившейся всего в 10 милях от Средиземного моря. Вся южная Франция находилась в панике; папа в Авиньоне за сотню миль оттуда забаррикадировался в своем дворце и послал посольство к принцу с переговорами о мире.
К этому времени две французские армии находились в боеспособном состоянии. Граф Бурбонский двигался на юг из Лиможа, чтобы перекрыть переправу через Гаронну, в то время как под давлением возмущенного общественного мнения д'Арманьяк в конце концов выбрался из Тулузы. 10 ноября, таким образом, принц повернул назад, намереваясь сразиться с д'Арманьяком до того, как армия Бурбона сможет соединиться с ним. Но хотя обе армии превосходили численностью противника, ни один из французских командующих не смел дать сражение, ибо память о Креси еще была свежа. Даже когда обе армии соединились, они оставили англичан в покое.
2 декабря принц вернулся в Ла Реоль, отяжеленный добычей, после того как он покрыл за девять недель около семисот миль. В это же время его отец совершал такую же chevaucheeв северной Франции. Прождав все лето сведений от Карла Наваррского, который теперь уладил свою ссору с французским королем, он пересек пролив и высадился в Кале в конце октября. Но ничего не могло заставить короля Иоанна покинуть свое убежище в Амьене, и марш Эдуарда через Артуа под ноябрьским дождем по колено в грязи оказался весьма отличным от кампании его сына в Лангедоке. Зима наступила на фландрских равнинах, когда он был вынужден из-за недостатка фуража вернуться в Кале.
Здесь его приветствовали новостями, что регент Шотландии Уильям Дуглас нарушил перемирие и с помощью небольшого французского экспедиционного отряда осадил Берикский замок, захватив город. Поскольку и наместник марок, и епископ Даремский отозвали свои войска с границы, чтобы присоединиться к нему в Кале, Эдуард был вынужден вернуться в Англию и торопиться на север. Обеспечив парламентские субсидии, он выкупил несостоятельное требование Баллиоля на шотландский трон за 2000 фунтов и пенсию. Затем, получив от своего пленника, короля Шотландии, признание своего сюзеренитета, он подготовился к тому, чтобы преподать шотландской знати хороший урок. В январе 1356 года, глубокой зимой, он пересек границу, чтобы вступить во «владение», как он это назвал, «своим королевством».
При этом, имея двойные знамена обоих королевств выкинутыми перед собой, Эдуард превращал в золу каждую деревню и ферму на своем пути в Эдинбург, выгоняя их жителей на торфяные болота, покрытые снегом, «горелое Сретение», как это долго еще называлось в Шотландии, не произвело никакого эффекта кроме резко усилившейся ненависти к Англии. Как и Брюс, регент Дуглас очистил страну от всего, что было годным в пищу, и растворился в холмах и лесах. Ведение военных действий в подобных условиях было бесполезным делом, особенно после богатых французских равнин, и ни у кого сердце к этому не лежало. Штормы задержали корабли с провиантом, и к марту ничего не оставалось как возвращаться домой или голодать. Шотландцы, все еще уклонявшиеся от битвы, нападали на фланги отступающей армии и убивали больных и отставших, пока англичане поджигали великолепную монастырскую церковь в Хаддингтоне – «свет Лотиана». Не было победивших. Все оказались проигравшими.
Защитив свои северные границы, Эдуард возобновил планы по захвату Франции. К тому времени непостоянный Карл Наваррский снова поссорился с французским королем и был арестован за измену на банкете в Руане. Но его брат Филипп обратился за помощью к Англии. В тот момент, вернувшись из крестового похода в Литву, где он принял участие в битве при Тремиссене[399], Генрих Ланкастерский был на пути из Саутгемптона в Бретань, чей молодой герцог, которому теперь исполнилось 16 лет, желал немедленно вступить во владение герцогством. Имея при себе 500 тяжеловооруженных воинов и 800 конных лучников, которых он взял с собой, чтобы усилить английские гарнизоны, Ланкастер был внезапно направлен в Нормандию с приказом освободить три мятежных города – Эвре, Пон Одемер и Бретель – которые осаждала французская королевская армия.
Высадившись в Ла Хоге 18 июня, старый воин воссоединился с небольшим норманнским отрядом и Робертом Ноллисом, прославившимся под Моро-ном, который привел 300 английских тяжеловооруженных воинов и 500 лучников. Ланкастеру, которого наградили за его заслуги герцогским достоинством, было теперь 50, но он был таким же энергичным, как и прежде. 22 июня с 2500 всадниками он отправился освобождать восставшие города, все они находились более чем в 130 милях, и им угрожала армия короля Иоанна, собранная в Дре для наведения на них страха. Покрыв 16 миль в первый день и 30 во второй, он достиг Лизье 28 июня. На следующий день, отмаршировав 23 мили, он освободил Пон Одемер, внезапно появившись и захватив все осадные средства противника. Снабдив город провизией и усилив гарнизон несколькими английскими тяжеловооруженными воинами и лучниками, он снова выступил 2 июля и к утру 4-го, пройдя еще 50 миль и взяв штурмом замок Конш, освободил Бретель.
Поскольку Эвре пал к этому времени, герцог завершил свою миссию, ударив в тот же день по Вернелю, второму крупному городу Нормандии. Использовав средства для осады, захваченные при Пон Одемере, он в тот же вечер захватил стены, но одна башня продолжала держаться до 6 числа. Затем, 7 июля, с большой добычей и кучей пленников, он отправился домой. Ибо армия короля Иоанна, находившаяся всего в 12 милях, представляла для него смертельную опасность.
К этому моменту французский король уже выступил в поход. В Турбеф прибыли два герольда с вызовом на бой. «После чего, – написал один из офицеров Ланкастера, – милорд дал ответ, что он пришел в эти земли разобраться с определенными делами, кои он успешно завершил, благодаря Господу, и возвращается назад в то место, где у него также есть дела, и что, если указанный король Франции желает помешать ему, он будет готов встретиться с ним в бою».
С 2000 человек, нагруженных добычей и пленниками, даже Ланкастер не мог надеяться победить армию в 20000 человек. Той ночью, молча, хитрый старый герцог исчез, оставив только небольшой арьергард, чтобы обмануть французов, когда те утром развернут свои войска для битвы. К позднему вечеру он был уже за тридцать пять миль в Аржантене. 9 числа он прошел еще 52 мили и 10-го, переправившись через Вир, с целости и сохранности вернулся на Котантен, пройдя 330 миль за 15 дней. В своем лагере он обнаружил, что Роберт Ноллис с небольшим отрядом тяжеловооруженных воинов нанес поражение местному ополчению, которое пыталось устроить ему засаду, перебил их всех, кроме трех наиболее богатых землевладельцев, которых взял в плен с целью получения выкупа.
Оставив французского короля заново начинать осаду теперь уже усиленных восставших городов, теперь Ланкастер отправился на юг в Майн, пока в трехстах милях от него, в Бержераке, принц Уэльский двигался на север, чтобы соединиться с ним. Между собой эти два английских полководца надеялись отрезать четверть у французского королевства и, объединившись на Луаре, отобрать обратно анжуйское наследство, которое их предок, король Иоанн, потерял полтора столетия назад.
С начала своей grande chevaucheeЧерный Принц был занят тем, что отвоевал почти 50 городов и замков на северных и восточных границах Гиени, захваченных французами в те годы, когда английские гарнизоны были ослаблены Черной Смертью. К середине лета 1356 года, установив английскую власть на севере до Перижье, он был готов нанести решающий удар. 4 августа, пока Ланкастер осаждал Домфрон, подготавливая нападение на Анже, тот вступил в Дордонь с 6000 человек. Продвигаясь со скоростью примерно 10 миль в день, он пересек старую аквитанскую границу и оказался на территории Франции в конце месяца и начал опустошение городов и деревень Турена. «Позаботившись о том, чтобы послать вперед сэра Джона Чендоса, сэра Джеймса Одли и других искусных воинов для проверки дорог и обнаружения состояния вражеской местности, чтобы наши люди не попали внезапно в засаду, – написал капеллан, который сопровождал армию в походе и рассказал затем подробности Джеффри ле Бейкеру, – он двигался днем, как будто враг был близко, защищал свой лагерь по ночам выставлением дозорных... И продвигался только с разведчиками впереди, позади и на флангах армии».
Пройдя 320 миль за месяц, принц достиг Луары у Амбуаза в первую неделю сентября, надеясь войти в контакт с Ланкастером. Обнаружив, что все мосты заняты или разрушены, он повернул вниз по течению к Туру, перед которым он и разбил свой лагерь, пока его фуражиры опустошали соседние замки. Погода стала портиться. Пошли дожди, и река вышла из берегов. В это же время французский король, заключив быстрое соглашение с восставшими городами в Нормандии, спешил на юг, чтобы противостоять захватчикам. Из Шартра он выступил во вторую неделю сентября, чтобы послать авангард через Луару.
10 сентября, когда Иоанн почти добрался до Блуа, принц отдал приказ об отступлении. Его запасы подходили к концу, а Ланкастера все не было видно. Без моста переправа через реку была вне обсуждения, а его маленькая армия находилась далеко от дома и обременена награбленным добром. В течение следующих четырех дней обе армии спешили на юг по параллельным дорогам, французы – собирая подкрепления и пытаясь отрезать англичан от главной базы. При этом даже теперь принц не терял надежды встретиться с Ланкастером. 15 сентября, несмотря на риск, он задержался на два дня в Шательро на реке Вьенн, ожидая известий с севера, пока французский король продолжал продвигаться впереди него по направлению к Пуатье, куда он вошел 17 числа.
В тот вечер произошла стычка между разведчиками принца и арьергардом короля Иоанна на дороге Шовиньи-Пуатье, англичане захватили в плен двух графов и управляющего двором. Но им не хватало не только еды, но и воды, а их двухдневное ожидание Ланкастера – который, хотя и захватил к тому моменту Домфрон, но застрял под Рейном, – поставило их в смертельную опасность. Они, однако, вели себя храбро и 18-го – в воскресенье – заняли оборонительную позицию на хребте у Нуаля, прямо над деревенькой Мопертюи в восьми милях от Пуатье.
Французам казалось совершенно очевидным, что англичане испытывают судьбу слишком часто. Весь день два кардинала, посланные папой для переговоров о перемирии, слонялись туда и обратно между армиями, обсуждая условия капитуляции. Положение англичан было настолько безнадежным, что принц Уэльский предложил отказаться от своей добычи и пленников и даже, в соответствии с одним свидетельством, не появляться во Франции семь лет. Но французы, которые теперь превосходили его численно примерно пять к одному и становились каждый день все сильнее, отказались позволить ему уйти так легко. Ничего, кроме безусловной капитуляции его и сотни его лучших рыцарей, не могло удовлетворить их.
В тот вечер английские военачальники держали военный совет. Они решили, что скорее будут ждать французов на своей оборонительной позиции и примут бой, и затем, если нападение французов не удастся, ускользнут ночью и отступят, нежели примут такие условия. Принц принял меры предосторожности, отправив обоз и награбленное добро через Нуальский мост к Муассону, а дневная задержка могла дать ему рискованный шанс выбраться оттуда. Когда, таким образом, на рассвете 19 сентября кардиналы прибыли в английский лагерь с окончательными условиями французского короля, им было сказано, что решать будет меч.
Перемирие закончилось в 7.30 утра в понедельник. Англичане располагались на низком хребте холма, повернутого к северо-западу, на пересечении двух дорог, из Пуатье, в неровной лесистой местности небольших холмов, покрытых виноградниками. Перед ними лежала долина, слева от которой находилось болото, защищавшее их левый фланг. Вдоль хребта находилась густая живая изгородь, за которой принц расположил своих спешенных рыцарей и тяжеловооруженных воинов, распределенных следующим образом: часть Солсбери справа и часть Уорика слева. Лучники были размещены, как и при Креси, вдоль виноградников по флангам каждого дивизиона и защищены от конницы кольями. Небольшой резерв конных рыцарей оставался вне видимости за хребтом. На краю правого фланга, чтобы предупредить обходной маневр противника, принц построил укрепленный пункт из повозок и траншей.
Поскольку нужно было напоить лошадей в долине, прошло еще несколько часов до того, как армия была полностью размещена на позициях – обстоятельство, которое заставило французских дозорных предположить, что англичане уже начали отступление. Когда все были в сборе, принц объехал ряды, обращаясь к своему войску. Его слова были записаны хронистами. Рыцарям и тяжеловооруженным воинам он сказал: «Теперь, сэры, хотя нас мало, не позволим ввести нас в замешательство. Ибо победа лежит не только в количестве, но там, куда Господь пошлет ее. Если сегодня победа будет за нами, мы будем самыми заслуженными во всем свете; а если мы погибнем в нашей правой драке, то у меня есть король, мой отец и братья, а у вас добрые друзья и родственники, которые отомстят за нас. Поэтому, сэры, именем Господа, я призываю вас, исполните ваш долг в этот день». Лучникам он объявил: «Вы доказали, что вы достойные сыны и родственники тех, для кого, под главенством моего отца и его предков, королей Англии, всякая работа была по силам, всякое место преодолимо, любые горы доступны, любые башни сокрушимы, любая армия не слишком многочисленна... Честь и патриотизм и возможность богатой французской добычи взывает к вам сильнее, чем мои слова, следовать по пятам своих отцов. Идите за штандартами, повинуйтесь беспрекословно телом и душой приказам своих командиров. Если победа застанет нас все еще живыми, мы всегда останемся настоящими друзьями, будучи едины сердцем и духом. Если же завистливая фортуна определит, что запрещает Господь, что в этом сегодняшнем деле мы должны будем последовать дорогой всех смертных, ваши имена никогда не будут запятнаны бесчестьем, и я и мои товарищи испьем ту же чашу, что и вы».
Французский авангард появился только в середине дня. Армия шла разделенной на две части под командованием коннетабля и двух маршалов Франции, каждая часть следовала по одной из двух дорог из Пуатье. Левофланговая колонна сначала имела успех, пробившись через пролом в изгороди, пока не была отброшена контратакой отряда графа Солсбери. До того как она достигла вершины, правая колонна уже была разбита на части лучниками, которые двигаясь вниз с превосходящей военной дисциплиной по болотистой почве с фланга противника, осыпали таким градом стрел, направляемых особенно в лошадиные крупы, что почти каждый всадник падал на землю, а маршал, командовавший колонной, был захвачен в плен. На обоих флангах выжившие в замешательстве бежали с поля боя. Английская дисциплина была настолько железной, что ни один воин не дрогнул.
Теперь же подходила основная часть французского войска, разделенная на три последовательные колонны под командованием дофина, молодого герцога Орлеанского и короля лично. Каждая часть при своем появлении казалась одинаковой по размерам со всей английской армией. По предложению ветерана шотландских войн, Уильяма Дугласа, который служил французам, рыцари и тяжеловооруженные воины оставили своих коней в Пуатье. Но длинный переход и тяжесть вооружения явились причиной их разброда, и к тому времени, как они достигли поля боя, между колоннами образовался довольно большой промежуток.
Колонна дофина атаковала первой. Несмотря на огонь, а стрелы к настоящему моменту стали подходить к концу, она достигла изгороди. Здесь состоялась длинная и отчаянная стычка. «Они подошли к ней храбро с обеих сторон, – написал Джеффри ле Бейкер, – с криками „Святой Георг“ или „Сен Дени“, которые поднимались к небесам». Но французские рыцари, которые по совету Дугласа обрезали свои двадцатифутовые копья до шести футов, не привыкли драться без лошадей и вскоре начали уставать. В конце они также отступили в замешательстве.
После их отхода образовалась долгая пауза. К счастью, для англичан, колонна герцога Орлеанского вообще не дошла до поля боя, но либо из-за оплошности, либо из-за осознания, что битва проиграна, колонна направилась не в том направлении. А пока вымотанные защитники меняли свои сломанные копья, пополняли запасы стрел и ходили за водой к реке у долины, унося наиболее серьезно раненных в тыл и размещали их под кустами и изгородями. «Не было никого, – написал хронист, – кто не был бы ранен или не измотан тяжелым трудом».
И вот здесь, когда англичане начали думать, что битва окончена, самая большая и последняя французская колонна под командованием короля Иоанна появилась на хребте по другую сторону долины. Эффект, который это огромное войско, сверкая сталью и знаменами, произвело на уставших защитников, был ошеломляющим. Почти все, кроме командиров, осознали, что битва проиграна. Колеблющиеся стали покидать поле, во главе с ранеными, а остальные стали готовиться к смерти. «Затем, – пишет хронист, – появилась грозная орда арбалетчиков, закрывшая небо плотным облаком стрел, посылаемых ими, по они были отражены веселым штурмом английских стрел, потому что лучники пришли в состояние злобного исступления от безысходности. На них летели стрелы смерти, которые остановили французов, когда те подошли достаточно близко, но французское войско, состоявшее из плотных отрядов, защитилось щитами, выставив их перед собой близко друг к другу и спрятав свои лица за ними».
Но как только они начали идти вверх по холму, Черный Принц показал, что он действительно был великим полководцем. Вместо того чтобы ждать, когда подойдет превосходящий противник, он решил атаковать по всему фронту. Приказав привести боевых лошадей из арьергарда, он заставил своих измотанных рыцарей и тяжеловооруженных всадников сесть на коней и с криком «Знамя, покрытое именем Господа и Святого Георга» выстроил их в открытую линию против врага, встав во главе. Одновременно он послал небольшой отряд конницы, который находился в резерве, обойти врага с левого фланга, под командованием гасконца каптала[400] де Буша, одного из рыцарей – основателей Ордена Подвязки.
Лучники отбросили свои луки и присоединились к рукопашной, поражая французов своими короткими мечами. Внезапно, в решающий момент схватки, отряд де Буша ударил француза в тыл. Результат был разрушительным. Зажатые с обеих сторон и сражающиеся на неровной земле против конных воинов, французы пустились в бегство, преследуемые английскими рыцарями, убивавшими их до самых стен Пуатье. «Фортуна повернула свое стремительное колесо, и принц Уэльский вломился в ряды врага и, подобно льву в благородной ярости, щадил низших, но низвергал сильных и взял в плен короля Франции». С ним были один из его младших сыновей, архиепископ, 13 графов, 5 виконтов, 21 барон и почти две тысячи рыцарей. Такого богатого потенциального выкупа еще никто не получал. Еще две с половиной тысячи рыцарей и тяжеловооруженных воинов были найдены мертвыми на поле боя перед английскими позициями, там нашли еще двух герцогов. Только орифламма – самый священный знак Франции – была спасена.
Тем вечером победитель принимал у себя в шатре за ужином короля Франции, который прислуживал ему, стоя на перевязанном колене со словами, что «он не настолько достоин, чтобы сидеть за столом с таким великим принцем». С утонченной вежливостью тот успокоил его, восхваляя его галантность. «Вы получили, – сказал он, – величайшую известность и в этот день превзошли в бесстрашии всех других в своем войске». Как-то во время пира принц был вызван теми, кто подбирал умерших и раненых, и сказал, что они принесли сэра Джеймса Одли, одного из героев дня, которого нашли раненым на поле. Принц-рыцарь пожаловал ему ежегодную ренту в пять сотен марок, а когда он узнал, что Одли, рыцарь Подвязки, передал его четырем чеширским оруженосцам (сквайрам), которые очень мужественно сражались бок о бок с ним – Даттону из Даттона, Делвзу из Доддингтона, Фулхерсту из Бартомли и Хокстону из Райнхилла, – он удвоил награду.
* * *
Когда новости о Пуатье и пленении французского короля достигли Англии, беспокойство сменилось радостью. Победа, одержанная принцем, превзошла даже Креси. «Самый доблестный принц во всем этом свете, – таким он показался современнику, – который когда-либо существовал со времен Юлия Цезаря и короля Артура». Англия сама по себе поднялась на новую ступень славы. Иностранцы отмечали: «англичане везде имеют гордый вид»; «когда благородный Эдуард получил Англию в молодые годы, – писал льежский хронист Жан ле Бель, – все были не высокого мнения об англичанах, никто не говорил об их могуществе или храбрости... Теперь они самые лучшие и достойные воины, известные человечеству». Найдя то, что казалось надежным путем к победе над почти любым войском, они видели перед собой бесконечные возможности получения выкупов, добычи и других выгод. Земля Франции была для них закрыта, пока английский длинный лук не отворил ее.
Ибо выигранное богатство было чрезмерным. Цена, установленная за короля Франции, равнялась 300 тыс. крон. «Я такой могущественный господин, – сказал принц своим офицерам после Пуатье, – что я вас всех сделаю богатыми». Даже самые последние солдаты вернулись, имея на продажу боевых коней, мечи, драгоценности, платья и меха. Вряд ли по всей Англии можно было найти женщину, как говорили, без какого-либо украшения, кубка или куска тончайшего льна, принесенного домой завоевателями. Те, кто был достаточно удачлив и взял в плен крупного магната, сам стал лордом. Сэру Томасу Дагуорту было предложено 4900 фунтов – огромные деньги – в качестве выкупа за Карла Блуасского. Оруженосец (сквайр) из северного графства, взявший в плен короля Давида при Невиллз Кроссе, получил годовую ренту в 500 фунтов – что равняется годовому доходу в 20000 фунтов сегодня – и ранг знаменосца.
Возможно, наиболее романтичным было приобретение состояния на французском поле боя Томасом Холландом, младшим сыном из весьма незнатной ланкаширской семьи. Он, довольно рано завоевав благосклонность дам на турнирах, но не богатство, стал миллионером, как теперь это можно назвать, взяв в плен графа О при штурме Кана в 1346 году. Однако его успех на этом не закончился. Поощряемый своим богатством, он стал претендовать на руку – а сердцем он уже владел – красавицы принцессы Джоанны Кентской, с которой, еще когда она была девочкой 12 лет, он заключил тайный брак, о котором она побоялась объявить, когда ее кузен, король, заставлял ее выйти замуж за графа Солсбери. И, хотя случился большой скандал, а ее муж заточил ее в темницу, богатства Холланда оказалось достаточно, чтобы получить папский декрет, аннулирующий ее второй брак, вернуть ее Холланду и вместе с ней титул графов Кентских.
Великолепие, летом 1357 года сопровождавшее прибытие французского короля, затмило даже основание Ордена Подвязки. Следуя за ним на маленькой черной верховой лошади, принц провез своего пленника по лондонским улицам на белом боевом коне, пока звонили колокола, фонтаны извергали вино, а тысячи ливрейных членов гильдий маршировали вслед за своими конными старшинами и олдерменами по улицам, увешанным гобеленами. Когда процессия достигла Вестминстер-холла, король Эдуард поднялся со своего трона, чтобы обнять своего товарища суверена. Помещенный в новом дворце герцога Ланкастера, Савое, – перестроенном на свою долю добычи, полученной в Гиени, – поверженный монарх принял участие, вместе с пленным королем Шотландии, в череде пиров и турниров – как говорили, самых великолепных со времен короля Артура. Бедняга не имел никаких иллюзий насчет назначения этих празднеств: «он никогда не видел или не знал, – говорит он, – чтобы такие королевские праздники и пиры обходились без дальновидного расчета на золото и серебро». Когда деньги, потребованные за него в качестве выкупа, не пришли, его перевели из Савоя в Сомертонский замок в линкольнширской глуши.
Если шотландцы и были способны выкупить своего короля, хотя бы посредством продажи от его имени полного экспорта шерсти, то Франция была не в состоянии удовлетворить требования англичан. Не только восстания в Нормандии и на севере против правительства восемнадцатилетнего дофина ставили ее в такое положение, но и орды профессиональных солдат, проигнорировавших двухлетнее перемирие после Пуатье, отказались вернуться домой, нанимаясь к любому, кто мог им платить, продолжали жить на вольных хлебах в сельской местности. Одна такая банда наемников или «свободная компания», под командованием чеширского рыцаря Роберта Ноллиса, устроилась в богатой сельской местности к югу от Парижа и стада хозяйкой сорока замков. Обуглившиеся крыши, которые знаменовали их продвижение, стали известными как «ноллисовские митры»; «qui Robert Canolle prendera, cent mille moutons gagnera» («Роберта Кнолля (Ноллиса) в плен кто возьмет, наживет 100 тысяч золотых монет»), написал этот свирепый англичанин на своем знамени. Другая банда под командованием валлийца Джона Гриффита опустошала долину Луары, пока гасконец по кличке «архидьякон» опустошил Прованс, заставив даже папу заплатить деньги. Французский приор, вынужденный скрываться в лесах, оставил следующую картину жизни этих ненавистных банд. «В год от рождества Господа нашего 1358 англичане пришли в Шантекок, захватили замок и сожгли все окрестности. Затем они подчинили себе все эти земли, приказали всем землевладельцам как крупным, так и мелким, платить выкуп за свои жизни, имущество или угрожали сжечь их дома. Растревоженные и запуганные, многие пришли к англичанам и согласились выкупить себя, если те прекратят на некоторое время свои преследования... Некоторых они держали в тайных тюрьмах, угрожая им каждый день смертью, а некоторых они беспрестанно пытали, давая плетей, избивая, моря голодом и держа в страшной нужде. Другие, которым ничего не оставалось, как бежать,...делали себе шалаши в лесах, там ели в страхе, печали и горе свой хлеб... Среди них и я, Гуго де Монжерон, приор Брайле в приходе Дома,...ежедневно видел и слышал о грязных и ужасных поступках наших врагов, о сожженных домах и о многих убитых, оставшихся лежать в деревнях и хуторах».
«Виноградники, – написал другой свидетель, – не обрезались и сохранялись от гниения трудом человеческих рук; поля не засеивались и не вспахивались, не было ни скота, ни дичи в полях. Мелодичный звук колоколов раздавался, но не как призыв к молитве, но чтобы предупредить людей о том, что им нужно скрываться»[401]. Поэт Петрарка, посетивший Францию, писал, что она была настолько опустошенной, что он едва мог поверить, что это была та же самая страна, которую он знал.
Из-за всех своих несчастий, пленения короля и большого количества знати, Франция впала в гражданскую войну и анархию. Пока дофин со своим правительством боролся против мятежа бюргеров в Париже, восстало голодающее крестьянство Иль де Франса и Пикардии и стало мстить своим правителям убийствами, пытками и насилием. При таких обстоятельствах все попытки выкупить короля и заключить мир с Англией потерпели неудачу. Единственное условие, которое Эдуард принял бы во внимание, был отказ от французских прав на все земли, которые он завоевал. И хотя, в обмен на отказ от его прав на французский трон, король Иоанн был теперь готов даже на это, подданные Эдуарда в парламенте, опьяненные его победами, настаивали на уступке им Пуату, Анжу, Майна, Турена и Нормандии. Это было больше, чем французское правительство могло уступить, несмотря на безвыходное положение.
Эдуард таким образом готовился к тому, чтобы показать противнику, на что еще он был способен. «Он просто заявил, что его намерением является отправиться обратно в королевство Франция и не возвращаться до тех пор, пока он не закончит свою войну либо не заключит мир, соответствующий его достоинству и выгоде»[402]. Чтобы привести свои слова в исполнение, он предложил пойти маршем на Реймс и короноваться там в качестве короля Франции. И снова он собрал великую армию. Под ее знамена, мечтая о добыче в случае победы, стекались не только англичане, но и фламандцы, гегенаусцы, брабантцы, германцы и даже французы. В Сандвиче было собрано 1100 кораблей и беспрецедентное количество еды и запасов. Там насчитывалось шесть тысяч повозок и телег, передвижные мастерские для оружейников и кузнецов. Ручные мельницы и полевые пекарни, даже складные рыбачьи лодки с Северна для того, чтобы обеспечивать армию рыбой из французских рек во время Великого Поста, а также тридцать соколов и шестьдесят пар грейхаундов для забавы короля. В противоположность всем правилам ведения войны в средние века Эдуард намеревался начать поход осенью и провести зимнюю кампанию.
В начале октября 1359 года авангард под командованием Ланкастера высадился в Кале. Король прибыл вслед за ним в конце месяца. Никогда еще, как говорили, «из Англии не отправлялась такая армия, так хорошо организованная». Присутствовали почти все видные представители английского рыцарства – королевские сыновья, Эдмунд Вудстокский, Джон Гонтский, Лайонел Кларенский и Эдмунд Ленглийский; графы Уорика, Саффолка, Херефорда, Нортгемптона, Стаффорда, Солсбери, Марча и Оксфорда; лорды Деспенсер, Перси, Невилл, Моубрей, Грей, Фитцуолтер, Гастингс, Берерш, Кобем и рыцари Орена Подвязки Джон Чендос и Джеймс Одли. В начале ноября они выступили, отправившись из Кале «со всеми своими людьми и обозом в самом лучшем порядке, в котором когда-либо находилась армия вне городских стен; было радостно, – пишет Фруассар, – наблюдать их. У констебля было пять сотен вооруженных рыцарей и тысяча лучников впереди своего войска. Затем шел король со своим войском из трех тысяч тяжеловооруженных воинов и пяти тысяч лучников, в полном порядке двигавшихся вслед за констеблем; а затем шли все повозки, длиной в две лиги, включившие более пяти тысяч колесниц и телег, в каждой телеге по крайней мере четыре хороших лошади, привезенных из Англии, обеспечивавших все необходимые припасы для армии. Затем шло войско принца и его братьев, где насчитывалось две тысячи копейщиков на хороших конях и богато украшенных... и пять сотен слуг с киркомотыгами и топорами, чтобы делать ровную дорогу для прохода обоза».
Весь день шел дождь. Они проехали через Артуа и мимо города Арраса, через известковые верховья Соммы, все эти города однажды должны были стать полем боя другой и еще более великой английской армии. «Страна, – писал Фруассар, – уже долго лежала в нищете и была сильно разорена и это было самое унылое время года во французском королевстве и сильный голод прошел во всей стране... Также в это время года шел сильный дождь и было мокро, что доставляло им много трудностей, а также их лошадям, ибо большую часть дня непрерывно шел дождь, так что вино в том году мало ценилось». Однако несмотря на то, что существовала жесткая дисциплина и армия держалась в постоянной готовности к бою, враг так и не появился. Дофин учился на глупости своего отца, а его приказы были таковы, что никто не рискнул встретиться с англичанами в открытом бою. Когда после четырехнедельного марша они прибыли, промокшие и падшие духом, к воротам Реймса, они нашли их запертыми. Никто, несмотря на повторные призывы, ни архиепископ, ни жители и не собирались их открывать.
Англичане все еще могли уничтожить любую армию феодальной Франции, которую та могла выставить против них. Но они не могли захватить хорошо укрепленный город, кроме как взять его внезапностью или голодом, и они стали Готовиться к долгой осаде Реймса. Почти два месяца при плохой погоде они занимали окрестные высоты, пока дозорные отряды проводили разведку местности до самых парижских стен, пытаясь вызвать соперников на бой. Но никаких сражений не последовало. В поэме Уильяма Ленгленда «Видение о Петре Пахаре», первая часть которой была написана вскоре после этих событий, аллегорическая леди «Мид» – дух порока на суде перед королем – обращается к своему обвинителю как к одному из тех, кто служил в этой горькой кампании, браня его за то, что пока он там
«Крался в убежище, ибо замерзли твои пальцы, Думая, что эта зима продлится вечно, И трясясь от страха умереть из-за ливня»...«Город был силен и хорошо оборонялся, – пишет Фруассар, – король Англии не позволил бы ни одной атаки, потому что он не стал бы ни мучить, ни ранить своих людей. У них не было никакого комфорта, ибо они были там в самый разгар зимы, во время Св. Андрея, когда дуют сильные ветры и идет дождь... и невозможно достать фураж для лошадей».
В середине января, не имея больше возможности сохранить свою армию на замерзшей шампанской равнине, Эдуард отказался от своей идеи короноваться в Реймсе и направился на юг в Бургундию, надеясь найти ранние пастбища для своих лошадей. Но зима 1360 года оказалась самой длинной за все столетие. Захватив город виноделов Тоннер, он оставался в бургундских нагорьях почти весь Великий Пост, занимаясь соколиной охотой и соблюдая пост, пока бесполезно ожидал появления травы. В конце концов, получив контрибуцию в 200 тыс. флоринов и заключив трехлетнее перемирие с герцогом Бургундским, он вновь направился на север к Парижу, все еще надеясь, что погода изменится и дело ускорится. По пути он узнал, что норманнские пираты разграбили и сожгли королевский порт Уинчелси, изнасиловав нескольких несчастных дам, которые нашли убежище в церкви Св. Томаса, и убили несколько сотен горожан перед тем, как были изгнаны местным ополчением. В ярости, пока он стоял в Корбеле в течение страстной недели, возмущенный король сжег все французские деревни в пределах видимости французской столицы.
Но хотя после Пасхи он продемонстрировал свою армию в полной боевой готовности под стенами парижан, гарнизон даже не пошевелился. Дофин был мудрее своих лет. Прождав четыре дня, когда герольды посылали вызов за вызовом, Эдуард вновь был вынужден отступить. Ибо, так как апрель был таким же холодным, как и май, не было фуража для лошадей и только благодаря «свободным компаниям» люди еле-еле были обеспечены едой. Единственным выходом для него было искать местность с более мягким климатом на юго-западе в долине Луары или Бретани, где можно было бы сделать новые запасы для армии, пока он будет в состоянии начать осаду Парижа этой осенью. Однако ему пришлось вынести не только зиму, даже теперь, в первый день отступления, 13 апреля, надолго запомнившееся как Черный Понедельник – «отвратительный день, полный тумана и града, настолько холодный, что многие умерли, сидя в седле» – ледяной шторм обрушился на армию, и они вынуждены были бросить много повозок. Две недели спустя, уже по пути к Луаре в Шартр, гроза с градом величиной с голубиное яйцо, нанесла армии такой же ущерб, как если бы на них кидали каменные ядра: «Такая буря грома, молнии и града, что, казалось, наступил конец света». Беспомощные в своих латах, говорят, что в тот день молнией было убито больше рыцарей, чем погибло при Креси и Пуатье вместе взятых. Именно этот шторм, как говорит один хронист, явился причиной того, что английский король «направился к церкви Богородицы в Шартре и поклялся перед девой Марией, что примет условия мира».
Даже отступая, Эдуард делал попытки вызвать французов на бой. «Некоторые рыцари из свиты герцога Ланкастера, – писал Гай Хетонский, – переодетые в бригандов или мародерствующих солдат, без копий, ехали, делая вид, что у них нет оружия, чтобы заставить врага напасть на,них... Некоторые... довели свой маскарад до такой степени... что они попали в беду и были взяты в плен». Именно при таком нападении в начале того года молодой оруженосец по имени Джеффри Чосер, из свиты принца Лайонела Кларенского, был взят в плен, и затем выкуплен за 16 фунтов вместе с другими офицерами королевского двора.
Но если Эдуарду не удалось короноваться в Реймсе и довести дофина до еще одного Креси, французы, в свою очередь, больше не могли продолжать войну. Почти все, что угодно, казалось лучше, чем эта неопределенная продолжительность войны, ибо, пока оставались англичане, страна не могла самостоятельно избавиться от бригандов, а также несчастий и анархии, которым они являлись причиной. Даже перед тем, как Эдуард высадился в Кале, Ноллис предложил ему услуги своей «большой компании» и ему вернули милость, и после этого по всей Франции он и ему подобные продолжали свои гнусности.
Таким образом, в конце апреля в лагерь Черного Принца в Шартре прибыли послы. На этот раз они были готовы признать принцип, за который Эдуард боролся почти четверть века – полную независимость его французских доминионов. И благодаря своему печальному опыту в ту зиму и умиротворяющему влиянию Ланкастера англичане наконец были готовы к резонным решениям. «Мой господин, – сказал старый мудрый герцог, по преданию, – эта война, которую вы ведете, возможно, замечательна для всех ваших людей, но она не так благосклонна к вам самим! Если вы будете упорствовать, она будет последним делом в вашей жизни, и мне кажется сомнительным, что вы достигнете свои желаний. Вы напрасно тратите свое время».
Переговоры начались 1 мая в деревне Бретиньи. Неделю спустя, «восемь дней в прекрасном месяце мае, – как говорит об этом герольд Чендоса, – когда птицы оправились от ужаса», были объявлены условия временного договора. По ним Эдуард отказывался от своих претензий на французский престол, а также на Нормандию, Анжу, Майн, Турень, Бретань и Фландрию. Он также обещал отдать все замки и города, которые принадлежали ему в этих провинциях. Взамен он должен был получить в безусловное владение, свободное от суверенных прав французского короля, Кале, Понтье и всю Аквитанию – почти четверть Франции. Она включала Лимузен, Ажене, Ангумуа, Пуату, Перигор, Керси и Руэгр, а также города Лимож, Пуатье, Ангулем, Кагор, Тарб и Ла Рошель, центр европейской торговли солью. Франция также согласилась заплатить все 300 тыс. крон золотом в качестве выкупа за своего короля в шесть приемов, первый взнос должен был гарантировать его освобождение в обмен на заложников королевской крови. Франция должна была разорвать союз с Шотландией, а Англия с Фландрией. Вопрос о бретонском наследстве оставался открытым. Были также обеспечены условия для подданных обоих государств обучаться в университетах обеих стран.
* * *
Утром 29 мая 1360 года Эдуард и Черный Принц вернулись в Вестминстер, после того как неслись галопом всю ночь из Рая. Это был день звона колоколов, молитв и праздников. Эдуард лично объявил хорошие новости своему королевскому пленнику. «Вы и я, – провозгласил он, – теперь, благодаря Господу, находимся в полном согласии». Спустя пять недель, после трех с половиной лет плена король Иоанн покинул его в Элтемском дворце. Но по прибытии в Кале он вынужден был вновь находиться под стражей еще три месяца из-за задержек в исполнении условий временного договора. Даже когда 25 октября оба короля формально ратифицировали договор, преклонив вместе колена перед алтарем церкви Св. Николая и поклявшись в вечной дружбе, передача территорий еще не была завершена, население Ла Рошели оказалось особенно строптивым, что касается подчинения другому сюзерену. Впоследствии как отказ Эдуарда от претензий на французский престол, так и отказ французского короля от претензий на оммаж были выпущены из договора и оставлены для специальных ратификационных писем, которыми должны были обменяться позднее. С этого момента началось огромное количество проблем, хотя ничего, казалось, их не предвещало, по крайней мере со стороны англичан. Трое сыновей французского короля сопровождали Эдуарда назад в качестве заложников, но впоследствии были освобождены под честное слово в обмен на обещание еще 200 тыс. крон.
Ибо английский король чувствовал, что он может себе позволить благородство. На пятидесятом году своей жизни он получил от Франции все, что хотел, – военную славу, превосходящую даже все его романтические мечты, и доминион, состоящий из территорий, гораздо больших тех, которые он унаследовал. Он виделся как иностранцам, так и своим собственным подданным, самым победоносным, рыцарственным и великолепным королем христианского мира – казалось, что король Артур принял его облик. Сохранился его портрет тех времен, нарисованный современным хронистом, «его лицо, сияющее подобно облику Господа, так что зреть его или грезить о нем облекалось в радостные картины». Никогда еще, за исключением небольшого периода времени после падения Кале и до Черной Смерти, Англия, так не процветала. Ее знать и общины – рыцари, свободные землевладельцы и купцы – объединились под сенью своего суверена и под твердой рукой его рассудительного канцлера и бывшего казначея, Уильяма Эддингтонского епископа Уинчестерского, управление государством осуществлялось более ровно, чем когда-либо.
Глава X КАРАЮЩИЙ МЕЧ ВОЙНЫ
Многие кричат: «Война, война», но они мало разумеют, что война есть такое. Война с самого начала так величественна и успешна, что любой может поучаствовать в ней, когда ему захочется, и легко найти войну. Но, поистине, какой конец ей предстоит, не дано знать.
МелибейСплоченные боевым товариществом, пятнадцатилетним периодом побед и блеском королевских турниров и пиров, достойных короля Артура, магнаты сделались единой семьей под главенством своего короля. Даже свирепые Деспенсеры и Мортимеры Марчские, которые тридцать лет назад затравили друг друга до смерти, теперь стали братьями по оружию и товарищами по рыцарскому Ордену Подвязки. Провозглашенный впервые, когда Эдуард получил всю полноту власти в день своего восемнадцатилетия, его идеал делового партнерства между ним и знатью был победоносно реализован. Царствования его предшественников были полны раздоров между короной и магнатами. Король Иоанн умер затравленным и доведенным до отчаяния человеком из-за постоянных вооруженных выступлений своих баронов, Генрих III был взят в плен де Монфором, и даже Эдуард I, самый могущественный монарх своего времени, вынужден был позорно капитулировать перед своими лордами, которые создали дерзкий De Tallagio non Concedendo. Все это случилось после двадцати трагических лет раздоров, поражений и национального позора времен царствования собственного отца Эдуарда, закончившегося революцией и цареубийством. При этом на протяжении целого поколения победитель при Креси достиг полной гармонии со своей знатью. Он не пытался господствовать над ними подобно первому Эдуарду в последние годы царствования, но руководить ими. Желая не ослаблять их, а наоборот, благодаря своему благородству, богатству и силе, он привязал их к себе посредством любви и преданности. Для людей этого времени, хорошо помнивших участь его отца, это казалось почти чудом.
Это партнерство основывалось не только на устарелых феодальных узах, внутри которых содержался неразрешимый конфликт по поводу прав и обязанностей вассалов и их лордов, но на концепции государственной монархии, при которой магнаты участвовали, подобно рыцарям круглого стола короля Артура, в достижениях и славе своего суверена. Именно здесь боевое товарищество короля, лордов, рыцарей и йоменов представляло весь народ. Преданность и несение определенных обязательств по отношению к короне, вытекавшее из данной концепции, были закреплены Актом о Государственной Измене 1352 года, введенного по просьбе как Лордов, так и Общин. По этому закону изменником признавался тот, кто замышлял или предполагал умерщвление короля, его супруги или наследника, который начал войну против него или оказывал помощь его врагам, кто подделал его печать или монету, или убил его канцлера, казначея или главного судью «при исполнении служебных обязанностей». Освободив себя от своих собственных обязанностей по принесению оммажа за свои французские доминионы, Эдуард, в отличие от своих предшественников, мог позволить объявить изменой любое действие своего подданного, связанного с ведением войны против короны. При этом статут защищал не только короля и его министров, но и подданных от быстрых политических процессов предыдущего царствования, в которых, на основании «узурпации» королевской власти, противники монарха произвольно приговаривались к смерти за подразумеваемую измену. Ни один человек, как указывалось в акте, не должен был страдать от наказания за измену, сильно отличающуюся от уголовного преступления или другого правонарушения, или просто за «открытое или тайное выступление на коне во главе вооруженных людей против какого-либо другого человека, чтобы убить, ограбить или захватить его в плен и держать до тех пор, пока тот не уплатит выкуп». Также не должен быть вынесен обвинительный приговор по какому-либо обвинению в измене, если такая измена не оговорена в акте, кроме как по объявлению ее таковой актом парламента.
Однако казалось, что в Англии не может быть каких-либо изменников, поскольку она при своем «милостивом короле» наслаждалась долгим периодом внутреннего спокойствия, как никогда в своей истории. «Провозвестник мира в своем народе», вот как эпитафия описывает Эдуарда в Вестминстерском аббатстве[403], и именно таким его подданные и видели его. Были времена, когда самая большая угроза власти суверена в Англии и миру его королевства исходила от его собственных сыновей; первый Плантагенет был изведен ими до смерти. Сыновья Эдуарда были преданны ему. Существенной частью его политики государственного умиротворения являлось женить их на наследницах крупных феодальных фамилий. Из четырех выживших младших сыновей старший Лайонел Антверпенский был помолвлен с единственным ребенком графа Ольстера, Уильяма де Бурга, который также представлял по женской линии крупный дом маркграфов – дом Клэров. Вскоре после заключения договора в Бретиньи молодого принца послали управлять Ирландией, поставив перед ним двоякую цель: защитить доходы с огромных, но больше иллюзорных в наследственном отношении, поместий его собственной жены, а также восстановить порядок в этой неспокойной стране, которая с той поры, как она была захвачена Брюсами после Бэннокберна, находилась в состоянии анархии, но большей, чем обычно. Его младший брат, Джон Гонтский, заключил еще более блестящий брак со своей кузиной Бланкой, дочерью и сонаследницей Генриха Ланкастерского. После смерти последнего, а вскоре после него и второй сонаследницы, он получил все наследство Ланкастеров, включая графства Ланкастера, Дерби, Линкольна и Лестера. Спустя годы на свое пятидесятилетие Эдуард сделал его герцогом Ланкастера, а его брата Лайонела – герцогом Кларенса. В то же время он возвел своего четвертого сына Эдмунда Ленглийского в достоинство графа Кембриджа. Самый младший сын, Томас Вудстокский, которому было тогда еще восемь лет, женился позднее на старшей сонаследнице состояния последнего из рода Боэнов графов Херефорда.
При этом в своей матримониальной политике король претерпел одно, но очень больше разочарование. Старший сын, принц Уэльский, которому теперь было тридцать – герой Пуатье и любимец народа – оставался холостяком. Желание Эдуарда, женив его на наследнице графа Фландрии и Бургундии, гарантировать в пользу корону наследование двух богатейших французских провинций, не отвечало идеям самого принца. Подобно многим другим он долгое время был поклонником своей кузины Джоанны Кентской, в честь чьей голубой ленты, оброненной на балу, был назван Орден Подвязки, и которая являлась героиней такого скандала двенадцатилетней давности, когда ее брак с графом Солсбери был объявлен недействительным и она вышла замуж за лорда Холланда. Смерть Холланда в ноябре 1360 года оставила ее тридцатидвухлетней вдовой с двумя детьми. Спустя шесть месяцев, к ужасу своих родителей, принц объявил о своей помолвке с ней. Их поженили той же осенью в церкви Св. Георга в Виндзоре, благодаря папскому разрешению – ибо они были двоюродными братом и сестрой – так как папе дали понять, какой ожидается скандал в случае его отказа.
Осень 1361 года принесла Англии и ее королю еще большие проблем, чем брак наследника. В августе вернулась чума. До того как прекратиться в следующем мае, она унесла весь цвет другого поколения. На этот раз она была менее разборчивой, забрав трех героев – «доброго герцога» Ланкастера, графа Херефорда и Лорда Кобема – и четырех епископов, включая епископа Лондонского. В этот раз особенно беспощадной чума была к детям; ее стали называть «детская смерть», чтобы отличить от предыдущей. Пока она свирепствовала, 15 января 1362 года страшная буря обрушилась на страну. «Ужасная, беспощадная и жестокая», – написал неизвестный автор на стене Эшуэлской церкви, – «несчастные люди выжили, чтобы засвидетельствовать это, а в конце наступил жестокий ветер с May русскими грозами во всем свете»[404].
Наступившие так быстро после больших побед, эти катастрофы казались думающим умам знаком Божественного недовольства. В ранней версии своей поэмы, «Видение о Петре Пахаре», возможно, написанной в следующем году, Уильям Ленгленд приписал их семи смертным грехам – гордыне, роскоши, зависти, гневу, алчности, чревоугодию и праздности – в которые, пресыщенные награбленным за время французских войн, впали его соотечественники. В особенности досталось греху скаредности и наживы – леди Мид[405], аллегорично представленной соблазнительной, но злой девой:
«Наряженную в меха, самые красивые на земле, увенчанную короной, лучше которой нет и у короля. Ее пальцы были изящно украшены золотой проволокой, А на ней красные рубины, красные, как горящий уголь... Она неустойчива в своей верности, вероломна ее речь, И многое множество раз заставляет людей творить неправду: Ибо она – распутница сама по себе, невоздержанная на язык, Общедоступная, как дорога, для каждого проходящего слуги. Из всякого сорта людей простых и богатых, – провозглашает Ленгленд, – Выдавать замуж эту девицу собралось много людей, Кто из рыцарей и из клириков и другого, простого народа, Так и из судебных заседателей и судебных приставов, шерифов и их клерков, Судебных курьеров и бейлифов и торговых маклеров, Закупщиков провианта и продавцов съестных продуктов и адвокатов из суда под арками... И Герцогство Зависти и вместе с ней Гнева, С небольшим замком раздора и бестолковой болтовни. Графство жадности и все окружающие его области, То есть лихоимство и скупость... В торговле и маклерстве, за полным ручательством воровства; И все поместье разврата в длину и ширину».И когда Мид была привлечена к суду и найдена виновной в развращении королевства, Ленгленд заставил Разум произнести проповедь с крестом перед королем:
«Он доказывал, что эти моровые язвы были посланы исключительно за грехи, А юго-западный ветер в субботу вечером – Очевидно, за гордость, а не за что другое. Груши и сливы были пригнуты к земле В назидание вам, людям, чтобы вы поступали лучше. Буки и толстые дубы были согнуты до земли, А корни их выворочены кверху в ознаменование ужаса, Что смертный грех в день суда погубит их всех».Хотя поэт заклеймил как двор, так и город и, на самом деле, весь народ, он ни разу не позволил себе поносить или даже критиковать короля. Для Ленгленда, как и для большинства англичан того времени, Эдуард был выше всяких упреков. Он изобразил его в своей поэме как куртуазного, милосердного и справедливого правителя, досконально честного в выслушивании обвинений против леди Мид и только порицающего ее и наказывающего изгнанием из королевства, тогда как обвинение против нее было полностью доказано и находилось вне всяких сомнений со слов ее обвинителя Совести. При этом у Эдуарда имелась и ахиллесова пята, о которой хорошо знали близкие к нему люди. Для соседа Эдуарда по Виндзору, ректора Рейсбери – восторженного хрониста его царствования, – казалось, что нет на всем свете земли, которая произвела бы монарха «такого благородного, такого великодушного, такого удачливого, благоразумного и рассудительного в совете, любезного и вежливого в искусстве речи, сострадающего несчастным и щедрого в дарах и дарованиях и расточительного в тратах». При этом даже восхищенный де Муримат вынужден был согласиться, что «он не контролировал, даже в старости, распутные желания плоти». Терпимый к другим король был прежде всего снисходителен к самому себе. Именно этот недостаток самообладания подавал пример все остальному двору. В сборнике правил, написанном примерно в это время, английский доктор церковного права предостерегал священников, чтобы, слушая исповедь любого рыцаря, они не справлялись, «мучает ли его гордыня, или совершил ли он адюльтер или какое-либо другое распутство, поскольку они все суть погрязли в этом, а также пренебрегает ли он своей женой»[406]. Ибо именно в этом современный Камелот в Виндзоре и Элтеме походил на литературный идеал, по образу которого он сам себя и создал.
«Милостивый и добрый, приветливый и вежливый по отношению ко всем», как описал его де Муримат, Эдуард не являлся железным человеком подобно своему деду. Его главной целью было доставить себе удовольствие и превзойти остальных, и, будучи способным, смелым и исключительно энергичным и обладавшим огромным обаянием, он в этом полностью преуспел. Но проблемы начались, когда он стал более и более склонным двигаться по пути наименьшего сопротивления; обещать, а когда выполнение обещания становилось невозможным, уклоняться и увиливать. В это время то ли потому, что он желал получить временное преимущество, то ли из-за какой-то необъяснимой невнимательности, он стал делать фатальные ошибки. В феврале 1361 года, имея четверых сыновей французского короля в качестве заложников на своей стороне, он открыл парламент, который ратифицировал договор в Бретиньи, сначала отправившись к Вестминстерскому аббатству, где Симон Ислипский, архиепископ Кентерберийский отслужил большую мессу в честь Святой Троицы. При этом одно из существенных условий, за которое Англия боролась почти четверть века, осталось нератифицированным, по очевидной причине французской задержки в исполнении выплаты обещанного выкупа и передачи определенных городов и территорий, оговоренных по договору. Окончательная дата, зафиксированная для обмена взаимными отказами в претензиях на сюзеренитет, была 1 ноября 1361 года. При этом когда за два дня до этого французские посланники прибыли в Англию, им было сказано, что король не готов отказаться от своих претензий на французскую корону, пока не будут выполнены все условия договора. Посланники, таким образом, отказались объявить об одностороннем отказе своего короля от сюзеренитета над Аквитанией[407]. В результате самое важное достижение этого мира было потеряно, а вопрос об окончательном сюзеренитете был оставлен без решения, испортив таким образом будущие англо-французские отношения. Без решения этого вопроса для Англии была бесполезной как передача территорий, так и огромный вьжуп, даже если когда произошли задержки в графике выплат, а один из французских заложников королевской крови – ему было дано временное разрешение навестить свою жену в Булони – нарушил свое слово и не вернулся[408], король Иоанн благородно сдался опять в плен. Вернувшись в Англию в начале 1364 года, возможно, не без облегчения сменив свое собственное опустошенное войной и бедностью королевство на роскошь и блеск английского двора, он умер там этой же весной в возрасте 45 лет.
Французы, таким образом, получили другой и лучший предлог, о котором они только могли мечтать, для отказа от выполнения условий договора. Ибо хотя роспуск и отзыв «свободных бригад» был одним из его главных условий, когда, по словам Фруассара, «их капитаны покинули самым вежливым образом те крепости, которые они держали... и отпустили своих людей», те «думали, что возвращение в свою собственную страну не будет таким выгодным – возможно, поэтому не рискнули это сделать, а не из-за тех мерзких преступлений, в которых их обвиняли. Так они собрались вместе и назначили новых капитанов и избрали самого худшего и самого несчастного из всех и отправились вперед... и встретились снова». После этого они продолжали себя вести как обычно, то есть так, как будто и не было подписано никакого мира. «Они опустошали всю страну безо всякой на то причины и грабили без разбору всех, кто только попадался им, и насиловали и оскорбляли женщин, старых и молодых без всякой жалости, и убивали мужчин, женщин и детей без прощения».
Ибо английская армия, от которой французы так хотели избавиться, не была ни феодальным войском, связанным социальными обязательствами, ни народным ополчением, защищавшим свои земли. Это было сборище частных военных отрядов, рекрутированных на контрактной основе предприимчивыми представителями знати и рыцарства в целях собственной выгоды. И когда пресыщенные свей добычей крупные акционеры отбыли, более мелкие остались полными хозяевами. Хотя многие из этих «отъявленных мародеров» были не англичанами, но германцами, брабантцами, фламандцами, гегенаусцами, гасконцами и даже французами, они все служили английскому королю, и потому все проклятья за их жестокости посылались в его адрес. Даже после того как их капитаны, ставшие теперь богатыми и респектабельными, отбыли, повинуясь приказам своего короля, многие их тех, кто остался вместо них, были англичанами. Один из них, лучник по имени Джон Хоквуд – сын эссекского дубильщика – разграбив южную Францию, повел свою банду головорезов на Авиньон, «чтобы поглазеть», как они это объясняли, «на папу и кардиналов». Затем он переправился в Италию, где на протяжении тридцати лет жил тем, что предоставлял свою хорошо выученную и дисциплинированную банду – «белую компанию», как она называлась – в распоряжение городов-государств, нуждавшихся в военной силе. После того как он нажил таким образом огромное состояние и женился на незаконной дочери Бернабо Висконти, тирана Милана, он умер в 1394 году, на службе у Флоренции, чье благодарное правительство устроило ему похороны в кафедральном соборе и создало замечательную конную фреску работы Паоло Уччелло в память о нем[409].
Спустя два года после окончания войны с Англией «бриганды» были все еще очень сильны, чтобы разгромить французскую армию под командованием герцога королевской крови в Бринье рядом с Лионом. Но вступление на престол в 1364 году двадцатипятилетнего дофина Карла V изменило ход событий для Франции. Спустя несколько недель грубый бретонский рыцарь, обладавший большими военными способностями, Бертран дю Геклен одержал победу при Кокереле в Нормандии над силами изменника Карла Наваррского и английского свободно-наемного капитана Джона Джуила. Это была первая решительная победа французов за последнее поколение, и она закончила восстание в Нормандии. В Бретани, где разразилась гражданская война, сэр Джон Чендос вновь; показал с несколькими сотнями добровольцев той осенью при Орее абсолютное превосходство своих соотечественников в высотных боях, разгромив и убив Карла Блуасского и взяв дю Геклена в плен. Но новый французский король свел на нет все его достижения, признав претензии на герцогство де Монфора в обмен на оммаж. Сделав таким образом, он получил обратно Бретань и закончил войну в том графстве и с ней все дальнейшие оговорки по поводу английской интервенции.
Карл V не унаследовал от своего отца склонности к рыцарским приключениям. После своего раннего опыта при Пуатье он больше никогда не принимал участия в других битвах. Он был утонченным молодым человеком, повзрослевшим благодаря своим несчастьям, с острым носом, недоуменным взглядом, а под его школярской внешностью скрывалась железная воля. Набожный, ученый и исключительно умный, он великолепно знал людскую породу; именно он вознес младшего сына бретонского оруженосца до командования французской армией. Он любил общество ученых и художников и старался сделать свой двор и Париж снова центром и властителем западной цивилизации, отождествив свой трон с величественной церемонией, которая напоминала, в более роскошную эпоху, его героя и прапрадеда Св. Людовика. При этом, управляя больше из библиотеки и из счетной палаты, чем из седла, он оказался самым успешным военным руководителем своего времени, достигая своих целей с минимальными затратами человеческих и денежных ресурсов. Точно зная, чего он хочет, он осуществлял свои желания с хитростью, терпением и твердой решимостью. За шестнадцать лет своего царствования он вырвал Францию из глубин поражений и бедности и снова сделал ее богатой и великой.
Более того, он искал пути понять нужды и надежды своего народа. Его главной целью являлось объединить всех французов под сенью своего единого трона и закона. Там, где феодальная знать со своей надменностью и эгоистичным сепаратизмом оставила Францию широко открытой для прихода любого врага, этот молодой король продемонстрировал, что от самого высшего до самого низшего защищенность жизни и имущества может быть достигнута только объединением вокруг короны. Шаг за шагом он двигался к своей цели, позволив Эдуарду оставить нератифицированным отказ от своих требований французского престола и, вместе с этим, своего права на беспрепятственный сюзеренитет над Аквитанией, а с Англией был мир, выставлял или подкупал «свободные бригады» для того, чтобы те убрались из страны. Одновременно восстанавливая порядок и процветание измученной французской деревни, он построил заново ее финансовые ресурсы и реорганизовал армию. Цена, которую он вынужден был заплатить, была достаточно велика; gabelle или соляная монополия, которую он сделал постоянной, а также введенная им система откупа налогов привела к сильным общественным злоупотреблениям и налоговому гнету. При этом бедняки видели в нем чуть ли не защитника от англичан и солдат, творивших беззакония и долгое время грабивших их, и, когда он умер в возрасте 38 лет, говорили, что лилии отпечатались в сердце каждого бедняка.
* * *
Хотя возвращение чумы в 1361 году с такой же жестокостью поразило и Францию, унеся с собой не менее восьми кардиналов из Авиньонского двора, но снова больше всех пострадала меньшая из двух стран. При этом территория, которую Англия должна была контролировать при своих ограниченных людских ресурсах, увеличилась благодаря ее завоеваниям втрое. В 1363 году, столкнувшись с трудностями в поиске лучников для своих иностранных гарнизонов, правительство выпустило прокламацию, сожалевшую об упадке страны и предписывавшую использовать стрельбу из лука в качестве развлечения в дни святых и праздники всем, кто был способен держать оружие[410]. Около этого времени Эдуард также попытался предотвратить любое возможное нападения из Франции и Шотландии, использовав бедность и внутреннюю анархию последней, чтобы убедить короля и знать о необходимости вступить в союз с Англией. Он сделал, если подумать, великодушные уступки ее купцам и пилигримам, открыл английские университеты для шотландских студентов – ибо Шотландия до сих пор не имела своих собственных университетов – и осенью 1363 года предложил простить оставшуюся часть выкупа за короля Давида и отдать шотландцам Берик, Роксбург и Едбург, а также Скунский Камень в обмен на признание шотландцами его или одного из его сыновей наследником Давида в случае, если тот умрет бездетным. Шотландский король, который научился любить хорошую придворную кормежку у Плантагенетов, был готов согласиться, так же, как и его главный противник граф Дуглас, который надеялся вернуть свои английские владения. Но когда договор[411] был представлен шотландскому парламенту весной 1364 года, его члены оказались более достойными великого Брюса и Дугласа, чем их выродившиеся потомки. Несмотря на «темные и тяжелые дни», через которые проходила сейчас страна, они провозгласили, что «ни в коем случае не дадут своего согласия» и отвергли условия как «нестерпимые». Спустя несколько лет дело, как его видели шотландцы, было изложено Джоном Барбуром, архидьяконом Абердина, в прологе к своей эпической поэме «Брюс», в которой он написал историю шотландского освободителя:
«Свобода, ты одна даешь На смысл и радость в жизни, кто ж Тебя захочет потерять, Рабом и трусом подлым статье ...Уж лучше смерть в бою принять, Чем в рабстве черном увядать...» [412]Надежды Эдуарда, таким образом, ничем не увенчались, и Шотландия, бедная, но гордая и измученная постоянной гражданской войной, так и оставалась независимым государством, которым ее сделали Брюс и Уоллес, а также в результате и постоянной угрозой английскому тылу. В то же время по ту сторону пролива Англия продолжала сохранять свою огромную военную империю, вновь обретенные земли которой, в отличие от все еще лояльной Гаскони, каждый год становились все более враждебными к своему высокомерному и хищному доминиону. В прошлом английские короли – потомки старинной ветви княжеского дома Анжу и Аквитании – вели себя как французы и управляли своими французскими провинциями с помощью местной знати и бюрократии. Но в связи со своими победами над королями дома Валуа и растущим отождествлением английских франкоговорящих лордов со своим англосаксонским йоменством – союз, скрепленный пролитой кровью на полях сражений, – правители Англии становились все более замкнутыми на своем острове. Гордость тем, что все они англичане, и вместе с ней презрение к иностранцам начали выходить за рамки класса, речи и идеологии, которые так долго отождествляли их с прародиной по ту сторону пролива. В октябре 1362 года главный судья суда Королевской Скамьи впервые открыл заседание парламента на английском языке – прецедент, которому последовал канцлер при открытии следующего парламента. В том же году было введено, что рассмотрение всех дел должно вестись на родном языке на том основании, что французский был «слишком мало известен в королевстве» и что «люди, которые предъявляют иски или которым предъявляются обвинения в судах, не знают, что говорится за, а что против них их адвокатами или судьями». И хотя недостаток точности выражения языка – который очень долго являлся презираемой речью «горцев» – технически сделал это непрактичным, и на протяжении еще нескольких веков юристы продолжали при разборе дел использовать французский, чтобы выразить точные понятия, которые требовала профессия, судебные же споры в королевских судах с тех пор проводились на английском языке. Старый романтический язык западного рыцарства стал теперь речью правящего класса; а спустя поколение высокорожденная аббатиса у Чосера говорила по-французски, но «не забавным парижским торопливым говорком», который был ей неизвестен, но «как учат в Стратфорде атте Боу».
В 1363 году, частично чтобы доставить удовольствие гасконцам, а частично чтобы обеспечить стабильное положение вновь приобретенного государства, наследник престола был послан в Аквитанию в качестве суверена и независимого правителя, который подчинялся только власти своего отца. Здесь он держал блестящий двор, при котором, по слова чендосского герольда, «обитая в полном величии, радости и веселье, щедрости, благородстве и честности, все его подданные и все его люди нежно любили его». При этом как бы сильно гасконцы ни наслаждались своим новым герцогом как идеалом рыцаря и первым воином своего времени, они не любили ни налогов, которые он установил, чтобы содержать свой расточительный двор, ни толпу английских лордов и чиновников, которых он привез собой для управления герцогством. Еще меньше это чувство испытывали простые люди новых французских провинций, отошедших к Англии. Новым великим сенешалем Аквитании стал чеширский рыцарь сэр Томас Фелтон; сенешалем Пуату – его кузен сэр Уильям также Фелтон; Сентонжа – сэр Болдуин Тревиль; Керси – сэр Томас Уолкфер; Лимузена – Лорд Рос; Руэгра – сэр Томас Уитенхол; Ангумуа – сэр Генри Хей; Ажене – сэр Ричард Баскервиль. Даже рыцарственность, здравый смысл и умеренность нового великого коннетабля Аквитании всеобщего любимца сэра Джона Чендоса не могли затмить чувство стыда, испытываемого гордой гасконской знатью от того, что иноземцы должны занимать самые высшие посты их древнего герцогства.
«Мы будем отдавать англичанам почет и повиноваться им», – сказали горожане Ла Рошели после договора в Бретиньи, «но наши сердца никогда не изменятся». При этом не многим менее века назад тот же город жестоко сопротивлялся продвижению французов в глубь плантагенетской Аквитании. Чувство оскорбленной нации и страстное желание мести, возникшее в галльском крестьянстве и купечестве поколения, пережившего завоевание и грабеж английских лучников, распространилось из Франции на юго-запад и даже начало давать ростки по ту сторону Гаронны. Растущее антианглийское, профранцузское настроение деревни, которая до сих пор предпочитала отдаленное управление франкоговорящего английского герцога контролю Парижа, открыто проявилось благодаря романтической расточительности и воинственности Черного Принца. В 1366 году королевство Кастилии стало ареной одной из тех периодических гражданских войн, которые отражают неспособность к компромиссу, страстную приверженность и исключительный героизм испанского темперамента. Ее королю дону Педро «Злому» был брошен вызов своим сводным незаконным братом доном Энрико Трастамарским. Брошенный большей частью своих людей, отлученный папой от церкви и противостоящий, хотя и без открытой интервенции, французскому королю, который, видя возможность избавиться от бригандов, послал как можно больше их под командованием Бертрана дю Геклена, чтобы помочь Бастарду, в котором он видел будущего союзника против Англии, Педро был изгнан из своей столицы. Найдя убежище в Корунне, он обратился к Черному Принцу за помощью. Вызов его рыцарскому чувству, так же, как и воззвание к принципу законности, все это было более чем достаточно для того, чтобы принц был не способен сопротивляться. Он видел себя странствующим рыцарем христианского мира, ведущим праведную войну. «Это неправильный путь для истинного христианского короля, – провозгласил он, – лишить прав законного наследника и наделить таким правом, посредством тирании, бастарда... Франция привыкла быть главной землей христиан. Теперь Господь Бог желает, чтобы у нас было достаточно храбрости завоевать этот титул». Получив неофициальное согласие своего отца и обещание помощи от своего брата, молодого герцога Ланкастера, он собрал армию в Даксе и зимой 1366-1367 гг. был готов пересечь Пиренеи.
Хотя более половины армии составляли гасконцы, костяк все же был английским. За принцем в его рисковом рыцарском предприятии последовали главы многих воинственных англо-норманнских семей, а также капитаны наемников, Колвли, Ноллис, Фелтон, Уинстенли, чьи банды ветеранов стекались под его знамена из всех уголков Европы. Объединившись с Джоном Гонтским и его тысячью лучниками из чеширских лесов и с севера, принц оставил свое беспокойное герцогство, долги и ожидание французского короля, и в феврале 1367 года пересек Ронсевальский перевал, направляясь со своими до отказа нагруженными людьми, лошадьми и повозками через холодные расселины Наварры к кастильской границе. «Был жуткий холод, – пишет чендосский герольд, – дул сильный ветер и шел снег;...холод и град были такими, что все пришли в полное уныние». В Памплонской долине дорогу им преградила испано-французская армия, которая заняла неприступную позицию над дорогой, ведущей в Бургос. По совету дю Геклена, Бастард даже не сдвинулся с места, оставив противнику на выбор, либо ретироваться, либо умереть с голоду. На протяжении трех недель, на пронизывающем ветру, дожде и ветре, люди Черного Принца ждали «в этом негостеприимном месте и в это неприветливое время года», надеясь все же, что испанцы будут атаковать, пока дизентерия прошлась сквозь их ряды, а орды жестокой легкой кавалерии – копьеметальщики хинетос, прошедшие выучку в мавританских войнах, – обрушивали на них смертельные удары с близлежащих высок. Затем, когда его запасы полностью истощились, а эпидемия предстала во весь рост, принц исчез ночью в горах и, после блестящего обходного марша через Сьерра де Кантабрия, появился через два дня в долине Эбро в Найере.
Изменив позицию испанцев, инициатива была в его руках, и именно враг теперь должен был выбирать, давать ли бой, чтобы сохранить Кастилию от захвата, или совершить стратегическое отступление в поисках более благоприятных позиций. Зная, что несколько тысяч английских лучников и тяжеловооруженных воинов могут долго держаться, дю Геклен настойчиво советовал последнее. Только неделей ранее отдельный английский отряд под командованием обоих Фелтонов разгромил армию, в двенадцать раз превосходившую его силы на холме, до сих пор известном, а прошло шесть веков, как «Английский холм», сражался почти до последнего человека, но вызвал огромные потери у врага, прежде чем сдаться. Но отступление перед лицом врага не являлось маневром, приемлемым для гордого, плохо дисциплинированного феодального кастильского войска, и на совет француза не обратили внимания. Было известно, что англичанам не хватает еды и они потеряли много людей. Поэтому Бастард предложил бой.
Той ночью «испанцы расслаблялись и отдыхали, ибо у них было огромное количество еды и всякого другого, а англичане находились в большой нужде, но все равно ими владело желание сражаться до победы или до смерти». Когда занялся день 3 апреля, Черный Принц объехал отряд за отрядом, чтобы подбодрить своих голодных, уставших людей. «Было очень красиво, – написал Фруассар, – наблюдать войско и вооружение, сияющее на солнце». Перед началом сражения «он обратился к небесам и сложил свои руки» и предложил молитву:
«Истинный Господь, Иисус Христос, который создал и сотворил меня, разреши своим благостным милосердием одержать мне победу над моими врагами, поскольку то, что я делаю, – это правая битва... Потому что сердце мое стремится к жизни по чести, достойной, Я молю, присмотри за мной и моими людьми в этот день».Затем он кликнул знакомый клич: «Поднять знамена! Именем Господа и Св. Георга!»
Хотя битва была «лютой и жестокой», в исходе не было сомнений. Испанское рыцарство сражалось верхом, как они и привыкли, и английские лучники убивали лошадей тысячами, а затем расстреливали и седоков, когда они лежали беспомощно на земле. Перед железной дисциплиной и меткостью луков феодальная знать другого европейского королевства дрогнула под градом железа и перьев. Основное сопротивление было оказано французами, которые, обученные прошлыми неудачами, сражались плотной фалангой пешими. Но в конце и их также одолели, «когда они почувствовали острый блеск стрел посреди себя», и к наступлению ночи 16 тысяч мертвых испанцев лежало на поле боя и на дороге в Бургос, а «вода, которая текла мимо Наварета, была красного цвета, то есть цвета крови людей и лошадей». Среди взятых в плен оказались испанский историк Айала и дю Геклен, который был пленен своим давним соперником по Бретонским войнам сэром Джоном Чендосом. В духе рыцарских правил ведения войны выкуп за него был заплачен чеширским рыцарем Хьюго Колвли, который до поступления на службу к принцу служил со своим свободным отрядом в армии Бастарда и рассматривал себя как его «брат по оружию» при дележе военной добычи[413].
Испанский поход Черного Принца имел славное начало; но закончился он разочарованием и катастрофой. Король, которого он восстановил на престоле, попытался убить своих пленников и отказался от всех своих обещаний. Все лето победители ждали на спаленной солнцем кастильской равнине золота, которое он должен был заплатить за их услуги, пока дизентерия, причиной которой явилась стоячая вода, продолжала косить их ряды. Когда осенью принц повел оставшихся в живых обратно к Пиренеям, они являлись лишь тенью того великолепного войска, которое отправилось отсюда в начале года. Каждый пятый, как говорят, больше никогда не увидел Англию. Все, что принц мог предъявить за свою победу, была горстка драгоценностей[414], которую удалось изъять у дона Педро вместо обещанного миллиона крон.
В тридцать семь, истощенный дизентерией, Черный Принц вернулся в Бордо. Его отрядам не заплатили денег, а его герцогство становилось все более неспокойным из-за налогов. При этом настолько беспокойными были остатки бригандов, которые он теперь вынужден был расквартировать за счет своих подданных, что, когда он созвал штаты герцогства в маленьком горном городе Сент-Эмильон, представители Руэгра были вынуждены вернуться назад из-за «компаньонов», которые опустошали Дордоньскую долину. Вдобавок ко всем несчастьям, восточная граница Аквитании подвергалась постоянным набегам, а ее герцог летом потерпел поражение – испанский Бастард, который, найдя убежище в Лангедоке, получил помощь от папы и французов, смог совершить поход с целью отмщения.
В начале 1368 года, оставив без внимания совет Чендоса, принц смог уговорить штаты наложить новый налог – пятилетний фураж или подомный налог на все герцогство, чтобы выплатить военные долги. Против него решительно выступили два ведущих магната Гиени, граф д'Арманьяк и граф д'Альбре, которые до этого времени принимали взаимоотношения с англичанами. Когда принц «настаивал, что, правым или нет, вассалы должны подчиняться его приказам», они отказались разрешить взимание налога в своих доменах и апеллировали сначала к королю Англии и затем, не дождавшись ответа, к королю Франции.
Именно этого Карл и ждал. При этом он повел себя со своей обычной осторожностью. Лично обещая жалобщикам рассмотреть их дело, он при этом ничего не предпринимал, тянул время и с помощью папы гарантировал освобождение последних заложников у непредсказуемого и теперь уже пожилого Эдуарда – в обмен, как было сказано, на папское одобрение на назначение любимого министра короля, Уильяма Викенгемского, епископом Уинчестера. Продолжая претендовать на невмешательство в испанские дела, он послал назад только что выкупленного дю Геклена, чтобы восстановить Бастарда в его правах и, посредством союза с Кастилией, Арагоном и Наваррой, окружить южные доминионы Англии врагами. Заставив французского папу отказать в диспенсации[415] на основании близости родства, он уже расстроил планы Эдуарда на женитьбу его сына, Эдмунда Ленглийского на фландрской наследнице. Теперь, когда английская политика потерпела дальнейшую неудачу из-за смерти в Италии принца Лайонела Кларенского после его брака с племянницей Бернабо Висконти Миланского, он совершил следующий очень удачный ход, склонив графа Фландрии отдать свою дочь за его собственного сына Филиппа Смелого, герцога Бургундского, таким образом включив Фландрию в орбиту французских королевских интересов. Все это время, занимаясь параллельно искусством и строя проекты создания национальной библиотеки, он следовал букве, но нарушал дух договора в Бретиньи. Реформа же французских финансов и военного управления теперь была полностью завершена.
К концу 1368 года он был готов. Карл уже позволил гасконским жалобщикам изложить свое дело перед Парижским парламентом, заключив с ними секретный договор, что если дело дойдет до военных действий, они будут держаться вместе. Зная, что еще более сотни подданных Черного Принца жаждут пожаловаться ему, теперь он объявил, что его судьи обнаружили, что поскольку Эдуарду не удалось ратифицировать отказ от своих претензий на французский трон, то отказ его собственного отца на сюзеренитет в Аквитании никогда не вступал в силу и что провинция, таким образом, все еще является частью Франции. И как ее суверен, он уполномочен и морально обязан вершить правосудие и рассматривать жалобы по справедливости.
В январе 1369 года Карл формально призвал Черного Принца как пэра Франции лично прибыть в Париж. Это застало принца врасплох. Когда он осознал, что все, за что боролись он и его отец, оказалось тщетным, он принес страшную клятву. «Мы добровольно, – сказал он, – прибудем в назначенный день в Париж, ибо король Франции посылает за нами. Но только в шлеме на голове и с шестьюдесятью тысячами людей за спиной».
Однако угрозы победителя при Пуатье сильно отличались от его реальных возможностей на данный момент. Обиженным был не он, но его недовольные вассалы и французский король. Прошли те времена, когда при приближении англичан французы «прятались за стенами крепостей и бежали, как жаворонки при приближении сокола». Все военные отряды вокруг 800-мильной границы Аквитании стекались, чтобы помочь своим соотечественникам, а священники взяли на себя руководство в побуждении к восстанию через проповеди. За несколько недель более 900 замков и городов отреклось от своих подданнических обязательств по отношению к англичанам; большая часть Арманьяка, Лимузена, Родеза, Керси и Ажене была потеряна без борьбы.
При этом французский король все еще действовал осторожно. В марте его войска помогли кастильцам одержать решающую победу над доном Педро, который был взят в плен и убит. Вернув Бастарда на трон, Кастилия вместе со своим флотом, вместе с Арагоном и Наваррой, теперь объединились против Англии. В конечном итоге, в мае 1369 года, Карл предпринял решающий шаг, сначала объявив Черного Принца не подчинившимся решению суда за то, что тот не явился перед Парижским парламентом, и затем информировав английского короля о том, что, поскольку тот нарушил букву договора, его французские земли конфискованы. Одновременно он захватил Понтье.
В гневе Эдуард обратился к парламенту за деньгами и вновь принял титул, от которого отказался девять лет назад, титул короля Франции. В этот момент в Англии опять началась Черная Смерть, уже в третий раз. Среди тех, кто умер тем летом, были епископы Нориджа, Херефорда и Экзетера, графы Саффолка и Уорика, а также молодая герцогиня Ланкастера – леди Бланш[416], жена Джона Гонтского. Только осенью стало возможным собрать хоть какие-нибудь войска против Франции, когда, чтобы предотвратить захват острова Уайт, Ланкастер отправился в Кале с 600 тяжеловооруженными воинами и 1500 лучниками. Ударив по Артуа и Пикардии, он прибыл как раз вовремя, чтобы остановить погрузку на суда армии в Нормандии под командованием брата французского короля. Но хотя он дошел до ворот Арфлера, сжигая и грабя все на своем пути, он не смог вызвать французов на бой. Ибо Карл определенно не делал давать английским лучникам шанса повторить холокост, совершенный ими поколением ранее. К ноябрю, не способный более обеспечивать свою армию, герцог вернулся в Англию и обнаружил, что он потерял не только жену, но и мать: королева Филиппа умерла месяц назад в Виндзоре. «Добрая королева, – написал о ней ее соотечественник Фруассар, – так что много хороших деяний совершено в ее царствование, и она помогла многим рыцарям и обустроила многих дам и девиц».
Если 1369 год был сплошной катастрофой для Англии, то это только спасло Шотландию. Не имея должного количества людей для защиты своих северных границ и в то же время для обороны Аквитании, Англия была вынуждена согласиться на четырнадцатилетнее перемирие. Но за это, принимая во внимание голод, войны между баронами и кланами, а также разорительные налоги, с помощью которых королевство должно было выплатить выкуп за своего короля, северное королевство могло быть вынуждено принять условия Эдуарда и признать его наследником Давида. Когда оно было заключено, шотландцы, свободные от угрозы с юга, хотя Англия все еще контролировала Берик, Роксбург и Аннандейл, смогли подавить восстание Хозяина островов, которое грозило распадом их стране. Когда спустя 18 месяцев, в феврале 1371 года, король Давид умер, сын дочери Роберта Брюса, Роберт Сенешаль, наследовал по условиям соглашения, принятого полстолетием ранее. Если бы не тяжелая война с Францией, Англия никогда бы не признала этого.
Кампания в Гиени в 1370 году проходила не лучше, чем это было в 1369 году. Англичане не могли все время сражаться против государства, которое несколько раз превосходило их в численности и размерах. Хотя они все еще не осознавали этого, возможность, которой они воспользовались когда-то, теперь была не на их стороне. Они больше не могли финансировать войну за счет военной добычи, которая, поскольку они все пожгли, разграбили и опустошили, теперь была в сильно ограниченном размере. Напрасно они созвали свои «свободные компании» – Хьюго Колвли из Испании и «Роберта Страшного» Ноллиса из Бургундии – и наняли их для защиты герцогства; не получающие денег и вынужденные жить за счет сельской местности бриганды лишь ухудшили ситуацию, возбудив ненависть каждого крестьянина или горожанина. Тщетно они совершали «прогулки» в своей старой манере, пытаясь спровоцировать французов к принятию боя. Летом 1370 года с 1500 тяжеловооруженных воинов и 4000 лучников Ноллис промаршировал от Кале до Труа и оттуда, проходя под стенами Парижа, в Бретань. Но единственным результатом был дальнейший рост французского национального самосознания, в то время как молодые английские лорды, чувствовавшие себя униженными из-за недостатка успеха, обиженно роптали на необходимость служить под началом такого низкорожденного командира; «старый бандит», так они его называли.
Стратегия французского короля идеально подходила его средствам. Она заключалась в том, чтобы избежать битв, особенно на возвышенностях, любой ценой использовать численное превосходство и растущее сочувствие французов к вассалам Черного Принца для освобождения сначала одного района, затем другого, и, укрепляя оборону каждого замка, находящегося в руках французов, сделать невозможным для англичан восполнять свои потери. Ушли те дни, когда несколько смелых англичан могли внезапно напасть и штурмовать предположительно неприступный, но слабо охраняемый замок; единожды инженеры Карла привели оборонительные укрепления всех замков и городов в порядок, так что никто не мог взять их штурмом, кроме как большая армия с хорошей осадной техникой. А это было выше возможностей англичан.
В начале 1370 года сэр Джон Чендос – самая любимая фигура в обоих лагерях – пал в схватке рядом с Пуатье. «Куртуазный и милостивый, дружелюбный, великодушный, доблестный, мудрый и честный во всем, – писал о нем Фруассар, – нигде не найти было рыцаря более любимого и более прославляемого, чем кто-либо другой». Его смерть вызвала переход на французскую сторону тысяч гасконцев, которые, пока он был констеблем, оставались верными англичанам. С его уходом Черный Принц потерял самого мудрого из своих советников и последнюю надежду на примирение с французским королем.
Тем летом Муассак, Ажен и даже Эгильон, который двадцать лет назад противостоял французской армии месяцами, пали всего после нескольких дней осады. Граф д'Арманьяк был в менее 50 милях от Бордо. В конце августа англичане пережили окончательное унижение, когда город Лимож был сдан герцогу Беррийскому своим собственным епископом после того, как горожане подняли восстание и захватили маленький английский гарнизон под командованием сэра Хьюго Колвли. Горько обиженный – ибо епископ являлся одним из самых близких друзей – Черный Принц восстал с ложа болезни в Ангулеме и, на носилках посреди своей собственной армии отправился в поход на город. Пробив стены с помощью подкопов, он взял город штурмом той же ночью. В процессе грабежа, который последовал за штурмом, творились ужасные вещи, хотя история о поголовном истреблении, рассказанная Фруассаром, возможно, не является истинной и была изъята из его более поздних описаний падения города[417]. Но месть, предпринятая Черным Принцем и его распущенной армией, потрясла даже ту не особо гуманную эпоху и сильно подорвала его репутацию в среде рыцарства. Она также нанесла англичанам неисчислимый урон.
Месяц спустя французский король сделал Бертрана дю Геклена коннетаблем Франции и главнокомандующим всех ее войск. Этот низкорослый, приземистый, грубый ветеран, имевший большой опыт в наемных делах, был именно тем заместителем, в котором нуждался Карл для своей фабианской стратегии уничтожения захватчиков. В дни, когда господствовала высокомерная феодальная знать, умиравшая при Креси и Пуатье, такое повышение было немыслимым. Теперь, после гражданских войн и анархии, оно оказалось неизбежным, ибо бретонский рыцарь стал героем Франции. Но главная честь в уничтожении до сих пор непобедимых англичан принадлежала невоинственному, незаметному суверену, который очень точно разбирался во всем и так хитро использовал все возможные средства для их поражения.
В ноябре 1370 года, спустя два месяца после разграбления Лиможа и через три года после своей победы в Найере, Черный Принц, больной и раздавленный человек, передал командование и управление Аквитанией своему брату Джону Гонтскому. В январе 1371 года он отплыл в Англию, где обнаружил своего отца, тогда также героя Европы, глубоко погрязшим в любовной зависимости от своей любовницы Алисы Перрерс, бывшей фрейлины королевы. Заперевшись в Беркхемстедском замке и не принимая никакого участия в общественной жизни, он наблюдал со смертного одра закат английского успеха.
Его отъезд ничего не изменил в ходе войны. Джон Гонтский, амбициозный, торопливый и обычно неудачливый человек, был не больше способен сопротивляться французскому продвижению, чем его брат. В конце лета 1371 года, после шестимесячной кампании, он также оставил командование и передал управление того, что осталось от английского доминиона гасконскому ветерану Пуатье капталю де Бушу. А спустя несколько недель он женился на старшей дочери и сонаследнице почившего дона Педро и в результате чего стал все больше втягиваться в дела, касаемые кастильского трона.
И хотя герцог теперь называл себя королем, единственное приданое, которое принесла ему его жена, были «замки в Испании». Французская помощь к настоящему моменту снова возвела Бастарда на трон и связала его постоянным союзом против Англии. С этого времени главным фактором войны стал кастильский заокеанский флот. Со своим навязчивым стремлением к военной славе англичане забыли о необходимости быть сильными на море, а преимущество, которое Эдуард получил после победы при Слейсе и которое позволило ему разграбить Францию, ускользнуло из его рук. С тех пор как первая вспышка Черной Смерти истощила морские ресурсы страны посредством вербовки кораблей и моряков и пренебрежением выплатой им жалования, в то время как предоставление иностранным купцам монополии на экспорт шерсти привело к упадку английского судостроения, Эдуард все еще владел обоими берегами Дуврского пролива и называл себя господином на море, но в Атлантических водах между Англией и Гасконью кастильские галиасы все больше и больше мешали сообщению. Осенью 1371 года Гай де Бриан – знаменосец при Креси и рыцарь-основатель Ордена Подвязки – выиграл сражение против французских пиратов при Роскофе рядом с побережьем Бретани, где снова разразилась гражданская война после ссоры между герцогом Джоном и его французским сюзереном. Но 22 июня 1372 года, когда гораздо больший по численности английский флот попытался освободить Ла Рошель под командованием нового наместника Аквитании графа Пемброка, он был разбит объединенными флотами Франции и Кастилии, а сам Пемброк и большая часть его подчиненных попали в плен. Последняя попытка Эдуарда III и Черного Принца собрать новую армию для освобождения Гаскони под своим личным началом провалилась из-за ужасного осеннего шторма, в котором после шести недель дрейфа в устье пролива погибли тысячи моряков. Это было последнее появление короля на войне.
Поскольку Ла Рошель находилась в руках французов, а кастильский и французский флоты контролировали Бискайский залив, дело англичан во Франции было проиграно. Гасконская винная торговля была разрушена, так же, как в одно мгновение разорвана многолетняя связь между Англией и Гароннской долиной. Летом 1373 года Джон Гонтский попытался по суше сделать то, что должно было быть сделано по морю, отправившись из Кале 4 августа с армией в 15 тысяч человек и совершив поход через всю восточную Францию, который закончился под Рождество в Бордо после зимнего марша через Овернь. Эта проверка на прочность, в которой погибло огромное количество лошадей, рассматривалась как «делающая англичанам честь» и, возможно, спасла Бордо, но поскольку французы уклонились от сражения, она оказалась напрасной.
С падением Ла Реоля в начале 1374 года все, что осталось от английской заморской империи, было Кале и тонкая полоска побережья между Бордо и Байонной – меньшая, чем даже при вступлении Эдуарда на престол. Побудив французов к национальному самосознанию, ее король и принцы не могли больше сопротивляться естественному объединению французов. Но англичане все еще не могли этого видеть; после стольких побед поражения казались им карой за грехи их правителей. Они с ужасом наблюдали своего короля – когда-то бывшего идеалом христианского рыцаря – наряжающего свою конкубину в драгоценности умершей королевы и указывающего ее в турнирных списках как Леди Солнца. Они с жалостью узнали о состоянии великого воина, его сына, прикованного к постели в своем замке в Беркхемстеде. И они поносили королевских министров, а когда появлялась возможность, через своих представителей в парламенте, отлучали их должности.
Первыми почувствовали этот гнев придворные епископы, с помощью которых Эдуард, с момента своей краткой ссоры с архиепископом Стратфордом тридцать лет назад, осуществлял управление королевством. Место Уильяма Эдингтонского, великого епископа Уинчестерского, который был правой рукой короля в славные годы побед при Креси и Пуатье, было отдано в середине шестидесятых не менее способному администратору Уильяму Викенгемскому – клерку низкого происхождения, который был посвящен в сан священника только в 37 лет, но который стал необходимым королю в качестве смотрителя за работами в Виндзоре и руководителем всех строительных проектов. В 1364 году Викенгем стал хранителем Малой Печати, а в 1367 – канцлером и епископом Уинчестерским. К несчастью для него, его пребывание в должности совпало с убыванием английского успеха во Франции и, хотя он и не был ответствен за ее военные неудачи, его сместили с должности в 1371 году в связи с парламентским протестом Общин и группы магнатов под руководством герцога Ланкастера и молодого, но амбициозного графа Пемброка, который вскоре сам потерпел поражение и унижение в битве рядом с Ла Рошелью. Это был первый настоящий раскол в национальном единстве за последние тридцать лет. Следующие несколько лет страна практически управлялась ставленниками Ланкастера, из которых были последовательно назначены два светских канцлера сэр Роберт Торп и сэр Джон Нивет[418] – оба юристы – и светский казначей – лорд Скруп. Но когда катастрофы во Франции не закончились, они также вскоре стали непопулярны и обвинялись общественным мнением, раздраженным военными налогами, во всех видах коррупции и злоупотреблений.
* * *
Весной 1376 года, управляя Англией уже три года без сбора парламента, Ланкастер был вынужден его созвать под угрозой государственного банкротства. Возмущенные унизительными условиями перемирия, которое он заключил с Францией как раз в тот момент, когда военные действия в Бретани под командованием его брата графа Кембриджа стали более успешными, а также тратой огромных сумм, собранных на военные нужды, народные представители были в решительном настроении. Их поддерживали два члена королевской семьи – принц Уэльский и Эдмунд Мортимер граф Марча, муж принцессы Филиппы, внучки короля. Десятинедельное заседание парламента – самое долгое в истории – было отмечено дерзостью Общин, которые доминировали при разборе дел. Призываемые в парламент не поименно, как это делалось с лордами, а посредством общих призывных грамот, направляемых шерифам, 74 рыцаря графства и примерно 200 горожан, которые с начала царствования Эдуарда призывались почти на каждое заседание, вели себя до настоящего времени, как с ними и обращались, как очень скромные партнеры в universitas королевства. В 1348 году они перестали давать королю советы по поводу ведения войны, поскольку они «слишком невежественны и глупы давать советы по таким важным делам». Их функцией, как она определялась в традиционной формуле королевской призывной грамоты, было «с полным и достаточным правом за себя и свои общины совершать и советовать о тех вещах, которые в нашем парламенте будут определены» – другими словами, передать налогоплательщикам решение о принятии тех субсидий и налогов, которые король потребует.
При этом они с таким упрямством настаивали на своем праве отказывать во введении любой новой формы налогообложения – это касалось не только прямых налогов на имущество, но после 1340 года и таможенных пошлин в королевских владениях[419], – что при постоянной нужде правительства в дополнительных ресурсах дохода для ведения войн они сделались существенной частью государственного механизма под названием «совет и согласие». Без полной реализации этого принципа, их право отказа делало их необходимыми для управления государством до тех пор, пока продолжались войны и увеличивались расходы правительства. Постоянная нужда короны в деньгах на войну на протяжении целого поколения стала причиной того, что представители от двух различных социальных групп, воинов-рыцарей, владеющих землей, и горожан, занимающихся торговлей, объединились для обсуждения финансовых вопросов. Однако нерешительные сначала, они выработали привычку встречаться вместе для обсуждения тех дел, которые касались обеих групп. Поступая таким образом, они неосознанно и случайно создали единую ассамблею – вызываемую к жизни каждой успешной встречей парламента – представлявшей общину графства и города. Являясь уникальным объединением среди жестко отделенных друг от друга сословий или «штатов», которые составляли парламенты других европейских королевств, они к концу царствования Эдуарда III уже сформировали постоянную организацию, которая в следующем веке станет известной как Палата Общин. Заседая отдельно от лордов в своей собственной палате – одно время это была Расписная Палата Вестминстерского дворца, другое – Палата для собрания каноников Вестминстерского аббатства – в течение около пятидесяти парламентов, собранных в царствование Эдуарда, они пришли к совершенствованию своей собственной процедуры организации дел, отличной от более ранних времен, когда такая процедура была создана единственно для удобства короля и Совета. Это случилось в большинстве своем благодаря юристам, которые часто избирались в качестве представителей местными общинами, поскольку имели профессиональную квалификацию, и которые внесли в работу этого выделяющегося института свои обычаи точного мышления и строгого соблюдения процедуры и прецедента[420].
Большинство парламентских дел было сосредоточено вокруг петиций к королю, взывавших к справедливости и реформе закона, которые в больших количествах приходили в начале каждой сессии парламента и которые теперь все больше и больше отсылались королем и его советниками на рассмотрение Общин. Те, которые касались скорее публичных, нежели частных интересов, после отсеивания и проверки направлялись к возбуждению законодательных исков, которые посылались с рекомендацией – обычно со словами «о чем общины молят разобраться» – клерку парламента для представления их перед королем. Если он одобрял их, они становились предметом или королевского ордонанса или, в более важных случаях, статута, формально утверждавшегося как магнатами, так и Общинами, и вносились в парламентские свитки как постоянная норма закона, принятая к использованию в королевских судах. Иногда такие петиции становились предметом торга между короной и парламентом, Общины вотировали налоги и субсидии при условии, что король соглашался на те законы, которые им требовались.
Сверх того, члены Общин приобрели корпоративное чувство и обычай совместных действий. Хотя благодаря превосходству своего социального статута рыцари графств заняли лидирующее положение в дебатах, они составляли единое сословие – общины или народ королевства, весьма далекое от лордов, а не отдельные сословия рыцарей и горожан, как в континентальных парламентах. Они представляли не классы или их название, но местность, действуя вместе для «общего блага», ставя корону в известность о нуждах и взглядах своих местных общин, и привнося свое влияние в орган, на котором зиждилась власть в Англии – королевский Совет или, исходя из настоящей тенденции в условиях большого кризиса в политической жизни государства, короля в парламенте. Их влияние и престиж были больше, потому что даже когда, что иногда случалось, они были младшими сыновьями баронских семей, рыцари заседали вместе с горожанами как простолюдины. Как Лордам, так и Общинам легче стало действовать сообща, монархии – труднее покушаться на свободы подданных посредством натравливания одного класса на другой. Без этого тенденция к абсолютизму, являющаяся неотъемлемой частью растущего могущества национальной монархии, могла бы стать слишком сильной и способной к сопротивлению, как это произошло практически в каждом европейском королевстве между XIV и XVII веками.
Когда в конце апреля 1376 года канцлер сэр Джон Нивет обратился к собравшимся лордам и Общинам в Расписной Палате в присутствии короля и его сыновей, советников и судей, все понимали, что государственные дела приняли скверный оборот. Провозгласив, что государство находится в смертельной опасности и враги в лице Франции, Испании, Гаскони, Фландрии и Шотландии уже наготове, он попросил налог в размере десятой части доходов с духовенства и пятнадцатой части доходов с мирян и дополнительные пошлины на шерсть и другие товары для обеспечения защиты от вторжения и ведения войны с Францией. В соответствии с обычаем, он закончил прямым обращением к рыцарям и горожанам, взывая к их верности и угрожая конфискацией имущества, что если есть что-либо к улучшению и исправлению или если государство плохо управляется, или даются вероломные советы, по их доброму совету они должны принять меры[421]. Обеим палатам было затем приказано разойтись по своим местам: Лордам – в Белую Палату королевского дворца, а Общинам – в зал для собрания каноников Вестминстерского аббатства, и там «обсудить и посоветоваться друг с другом».
Когда Общины встретились на следующее утро, они прежде всего поклялись во взаимной преданности, а также сохранить все услышанное в тайне. Затем «рыцарь из южного графства» направился к аналою в центре зала и, ударив по нему, дал выход тому, что было у каждого на уме. «Вы слышали, – сказал он, – как печальны наши дела в парламенте, как наш господин король просил духовенство и общины о налоге в десятую и пятнадцатую части дохода и пошлин на шерсть и другие товары. По моему мнению, это слишком много, ибо общины и так слишком ослаблены и обнищали из-за различных поборов и налогов, которые они платили до настоящего времени, и чего они более не в силах выдержать. Кроме того, все, что мы давали на ведение войны долгое время, мы потеряли, потому что эти деньги были растрачены и разворованы. Так что было бы неплохо рассмотреть вопрос, как наш господин король может жить и управлять своим королевством и вести войну на доходы со своих доменов, а не требовать выкуп со своих вассалов. Также я слышал, что есть некоторые люди, которые, о чем не знает король, имеют в своих руках имущество и богатства на большую сумму золота и серебра, и что они обманом утаили эти указанные богатства, которые приобрели через вероломство и вымогательство».
После этого оратор за оратором выходили к аналою, чтобы выразить общее мнение, что лорд Латимер, королевский управляющий и финансовый агент, лондонский купец и исключительно непопулярный спекулянт по имени Ричард Лайонс получили огромные прибыли от того, что рыночная таможня была перенесена из Кале, от того, что без нужды авансировали королю деньги под вопиюще высокие проценты и от того, что выкупали старые долги короны у ее кредиторов за десятую или даже двенадцатую часть их номинальной стоимости и затем убеждали своего дряхлого господина полностью возмещать их. Все, однако, чувствовали, что перед лицом таких могущественных людей, как Ланкастер и Латимер, общинам бесполезно будет действовать без, как кто-то правильно заметил, «совета и помощи тех, кто могущественнее и мудрее». Было, таким образом, предложено обратиться к лордам и испросить назначение комиссии из четырех епископов, четырех графов и четырех баронов для консультации с ними по вопросу о внесении улучшений и исправлений.
Эти прения, длившиеся целый день, закончились речью управляющего графа Марча, рыцаря графства от Херефорда по имени Питер де ла Map. Он подвел итог дебатам и мнениям, высказанным Общинами, да так умело, что он был единодушно приглашен быть оратором от Общин или их спикером. Именно он первым занял эту должность. «Не страшась угроз со стороны своих врагов, – как свидетельствует Сент-Олбанский хронист, – стойкий к интригам завистников», он исполнял свои обязанности с твердостью и решимостью. Когда Общины прибыли к дверям Белой Палаты и только их лидерам разрешено было переступить порог, остальные же были оттеснены назад, де ла Map, не испугавшись неудовольствия герцога Ланкастера[422], отказался говорить до тех пор, пока все члены палаты не будут впущены в зал. Он не пошел также ни на какие уступки, когда герцог, столкнувшись с его упрямым молчанием и «большой неловкостью», заметил: «Сэр Питер, нет необходимости для того, чтобы так много представителей Общин присутствовали здесь для ответа, но достаточно двух или трех, согласно существующему обычаю». В конце концов, когда стало ясно, что у короны нет никакой надежды получить субсидии до тех пор, пока Общины не будут удовлетворены, герцог согласился, и те, кого оставили за дверями, вошли.
Удовлетворив свое требование в назначении комиссии лордов под руководством врага, как графа Марча, так и герцога Ланкастера, епископа Уильяма Викенгемского, 12 мая Общины вернулись к делу. Через своего спикера они настояли на том, что перед тем, как обсуждать королевскую просьбу о даровании субсидий, те, кто виновен в растрате и присвоении уже вотированных налогов, должны быть лишены должностей и наказаны за «то, что воспользовались своей хитростью для обмана короля». Когда Ланкастер спросил: «Как это и кто те, кто воспользовались обманом?», де ла Map храбро довел свою атаку до конца, обвинив Латимера в его присутствии, так же, как и его агента Лайонса и всемогущую любовницу короля Алису Перрерс. Латимер, способный и грозный, сражавшийся при Креси и Орее, указал на то, что перенесение рыночной таможни было санкционировано королем и советом. Но его обвинитель, «готовый перенести любые страдания ради правды и справедливости», ответил, «что это произошло вопреки закону Англии и вопреки статуту, принятому парламентом, и что то, что было утверждено в парламенте статутом, не может быть отменено без согласия парламента и что он предъявит им статут». После чего он извлек книгу статутов и зачитал данный статут «в присутствии всех лордов и Общин, так, чтобы никто не смог ему противоречить».
В результате Общины, поддержанные большинством лордов, добились восстановления рыночной таможни в Кале, смещения виновных министров и высылки любовницы короля, которую описывали как «даму или девицу, имеющую каждый год из доходов нашего господина короля две или три тысячи фунтов золота и серебра без какого-либо видимого возвращения обратно в казну и к его большому вреду». Когда Латимер и Лайонс отказались признать выдвинутые против них обвинения и потребовали судебного разбирательства, де ла Map от имени Общин объявил, что они будут отстаивать свои обвинения в качестве истца «в полном парламенте» перед судом пэров, товарищей Латимера по палате. Это закончилось тем, что Латимер был объявлен бесчестным – возможно, несправедливо, ибо его дело был весьма спорным, – «общим приговором парламента». Таким образом, состоялся первый в английской истории процесс импичмента, парламент же приобрел новую юридическую функцию, или, скорее, вернул себе старую функцию в новой форме, где лорды выступали в качестве судей, а общины – обвинителей. Это было возможным только потому, что в результате политики Эдуарда III по умиротворению и жалованию своих магнатов, они стали теперь основной составляющей королевского Совета в парламенте – высшего трибунала в королевстве – заменив его министров и профессиональных советников и судей, которые проводили в Совете интересы своего господина во времена Эдуарда I. В этом судебном процессе, проведенном на самом высшем уровне против одного из главных министров и советников короля, сам король не принял участия, хотя обвинение было выдвинуто от его имени. Обращение к короне за принятием меры как делом чести было заменено юридическим процессом, который, так как лорды и общины объединились против него, ни король, ни его советники не смогли предотвратить.
Именно после этого появилось осознание – впервые предварительно выраженное магнатами за семьдесят лет до настоящих событий в ходе оппозиции Гавестону – разделения между королем как человеком и короной, осуществляющей власть по отношению ко всем в определенных вопросах по совету и с согласия народных представителей в парламенте. Именно эту концепцию робкие Общины теперь быстро усвоили, как и ланкастерские лорды во времена Эдуарда II. Никаких нападок не было осуществлено ни на старого короля, ни на его сына и воспреемника Джона Гонтского, который на практике вел себя как король последние три года. После того как лорды решили, что обвинения Общин против Латимера обоснованны и его подельники были выявлены, короля почтительно информировали, что «по совету Общин и с согласия лордов он должен прогнать от себя тех, кто был ни хорошим, ни полезным и не доверять вероломным советникам и злоумышленникам. Король милостиво сказал лордам, что он желал бы делать только то, что будет полезным для его королевства, и лорды поблагодарили его, превознося его истинно великолепное правление, и что он назначит трех епископов, трех графов и трех баронов» – названных парламентом – для укрепления своего Совета. «И король ответил терпеливо, что он охотно последует их совету и доброму указу». В то же время лорд Латимер и два других члена Совета, сэр Джон Невилл и сэр Ричард Стаффорд, были изгнаны от двора, Алиса Перрерс разделила их участь, король же принес «присягу в присутствии лордов, что указанная Алиса никогда не появится в окружении снова».
Пока заседало это важное собрание, вошедшее в историю под названием «добрый» парламент, Черный Принц умер в своем маноре Кеннингтон, расположенном на берегу реки. Хотя он и находился в дружеских отношениях со своим братом, Ланкастером, которого он назначил своим душеприказчиком, он все-таки совершил путешествие в Лондон из Беркхемстеда на носилках, чтобы оказать поддержку противникам его плохого управления и процветающей коррупции. Его смерть 8 июня 1376 года лишила Общины главной опоры. Их почти последний акт перед парламентом закончился петицией к королю, в которой говорилось, что «королю доставит удовольствие, а также к большому удобству всего остального королевства вызвать благородное дитя Ричарда Бордоского, сына и наследника лорда Эдуарда явиться перед парламентом, чтобы лорды и Общины могли увидеть и оказать ему почести как истинному наследнику королевства» – требование, которое, несмотря на то, что оно подразумевало поражение Ланкастера, было удовлетворено. Их кумир и герой – «главный цвет рыцарства всего света», как назвал его Фруассар, – был похоронен осенью в Кентербери, рядом с мощами Св. Томаса. Его изображение, плакированное в золотом стальном вооружении, все еще находится на его могиле из Пербекского мрамора в кафедральном соборе. Там он стоит с открытым забралом, руками, сложенными в молитве, у ног его сидит преданный пес, а над пологом прикреплен его шлем, мантия и щит, латные рукавицы и меч.
Перед тем как парламент был распущен, 10 июля рыцари графства дали пир в честь своих товарищей – горожан. Король пожертвовал две бочки красного вина и восемь оленей, а лорды пожаловали «большую сумму золотом и много вина». Но как только члены парламента обратились за обычными приказами на выдачу им жалования[423], после чего как они, так и магнаты отправились в свои графства, правительство Джона Гонтского и дряхлый король насладились местью. Петер де ла Map был брошен в застенки Ноттингемского замка, а Уильям Викенгемский, который вместе с графом Марча являлся главным противником правления Ланкастера, был вызван на Совет в Вестминстер, обвинен в присвоении общественных средств в те времена, когда он был канцлером, то есть пять лет назад, и, после двухдневного суда, лишен своих церковных владений и доходов – акт политической мести, который остановил строительные работы в Уинчестерском соборе и разрушил новый колледж, который был недавно основан в Оксфорде для бедных студентов. Граф Марча, несмотря на свои родственные связи с королевской семьей, был вынужден оставить свою должность маршала, лорд Латимер был восстановлен в должности, финансист Лайонс выпущен из тюрьмы, а Алиса Перрерс вернулась на свое доходное место в королевской постели. «Добрый» парламент был провозглашен недействительным и все принятые им акты аннулированы[424].
Все это, однако, сделало Джона Гонтского еще более непопулярным. Правитель Англии вместо своего быстро стареющего отца, претендент на Кастильский трон, герцог Ланкастера и самый богатый человек в королевстве, оказалось, что после смерти брата он претендует на наследование престола. Хотя в Рождество девятилетний сын Черного Принца Ричард Бордосский был формально признан наследником престола и пожалован титулами своего отца – принца Уэльского, герцога Корнуолла и графа Честера, недоверие народа не было успокоено. Несколько недель спустя оно вылилось в события перед собором Св. Павла, где церковный суд присяжных, состоящий из его оппонентов епископов, допрашивал по обвинению в ереси протеже герцога по имени Джон Уиклиф, доктора и лектора Оксфордского университета, чьи радикальные взгляды на церковную реформу и возвращение к апостольской бедности вызвали нападки со стороны Уильяма Викенгемского и его прелатов. Когда в попытке повлиять на ход процесса и внушить лондонским подмастерьям благоговейный страх, Ланкастер и его новый граф маршал лорд Перси попытались применить свою власть в пределах городских стен, они были вынуждены спасаться бегством через реку и прятаться в маноре принца Уэльского Кеннингтон из-за бешеного взрыва жестокости лондонской толпы. В то же время подмастерья подожгли Маршалси и попытались разграбить резиденцию Ланкастера Савой. И хотя с помощью тенденциозно подобранного парламента под председательством своего сенешаля герцог мог восстановить свои позиции и отомстить лондонцам, в его северных владениях его власть зависела только от продолжительности жизни короля.
21 июня 1377 года выживший из ума старик с длинной белой бородой, брошенный своими слугами и ограбленный своей преданной любовницей, Эдуард III умер после полувекового пребывания на троне. Его смерть обозначила конец эпохи, ибо он был рожден всего лишь через несколько лет после смерти своего деда Эдуарда I, который сам был правнуком первого Плантагенета. На последнем этапе своего царствования, по словам историка XVII века, «он увидел все свои великие приобретения, добытые так дорого, таким тяжелым трудом и пролитой кровью, ускользнувшими от него». Еще до того, как его тело могло быть погребено в Вестминстерском аббатстве рядом с остальными, разразилась война с Францией и французы высадились в Райе.
Глава XI ВИДЕНИЕ ПЕТРА ПАХАРЯ
Ибо некий Питер Пахарь нас всех опроверг
И свел все науки только к любви навек.
Уильям ЛенглендПроблема, с которой столкнулась Англия в конце царствования Эдуарда III, носила моральный характер. На нее обрушилась череда катастроф: поражение в войне, потеря завоеванных территорий, смерть принцев. Урожаи упали, цены на шерсть резко снизились, эпидемия чумы вернулась в четвертый раз. Правители государства обвиняли друг друга в измене и присвоении общественных земель, и, хотя дворцы сияли богатством, бедняки стонали под гнетом налогов. Теперь, имея ребенка на троне, снова разразилась война, и французы приближались к Англии, находясь на подступах к ней, сжигая ее корабли и порты и угрожая вторжением.
Этому могло быть только одно объяснение. Королевство нарушило заповеди Господни и страдало в наказание. Ибо средневековый человек верил, что Божественное правосудие правит миром и что рано или поздно каждое нарушение его будет наказано. Мысль об этом захватила каждого, от короля до последнего крестьянина. Истинные звери в воняющих городских alsatias[425], объявленные вне закона в лесах, наемники, когда они убивали, жгли и грабили в соответствии со своей жестокой профессией не могли избежать его настойчивых, беспокоящих напоминаний.
Господь повелел людям жить в гармонии с Божественным порядком; задачей же тех, кто правит, было следить за соблюдением этого порядка. Функция короля как высшего судьи покоилась на этом тезисе; его судьи, хотя теперь и не священники, носили, как и теперь, духовное одеяние[426]. Правитель, который не справился с осуществлением правосудия, являлся тираном, тем, чья гордыня, скупость или амбициозность ввергли его королевство в несчастья, которые последовали за нарушением Божественного порядка, – вот что епископ Рочестерский Брайтон, читая проповедь перед молодым королем в соборе Св. Павла в день его коронации, назвал «открытой местью Господа; избиение могущественных, голод, смерть, штормы и ветры, не считая внутренних усобиц и войн».
Чтобы определить справедливость – justitia или правоту – средневековый человек обращался к церкви. Религия пронизывала любое политическое действие. Когда король выпускал статут «по просьбе своих Общин и по их ходатайству», в преамбуле говорилось, что статут выпускался «во славу и к удовлетворению Господа, для исправления тяжких правонарушений и притеснений, от которых страдают люди, и для облегчения их состояния»[427]. Когда Общины обсуждали состояние королевства в «добром» парламенте, они сидели в зале для собрания каноников Вестминстерского аббатства подобно монахам в кругу, тогда как каждый оратор начинал свою речь с аналоя словами «Jube Domine benedicere» – «Тебя, Господи, славим» – и заканчивал ее одной и той же знакомой по литургии фразой «Tu, autem, Domine, Miserere nobis» – «Господи, помилуй нас». А когда спикер палаты вступал в должность он провозглашал, что будет исполнять их «из почтения к Господу».
При этом Церковь существовала для того чтобы учить людей, как жить по справедливости, но было совершенно очевидно, что это именно то, чего не выполняли так много ее министров. Она не стояла над миром, как хотели святые; она являлась частью его. Так как каждое мирское деяние совершалось с именем Христа и с благословения церкви, получалось, что христианство стало истинно мирской религией. Чем богаче становилось общество и чем больше людей обогащалось, тем более материально настроенной становилась и Церковь. Официальное христианство превратилось в гигантское крупное предпринимательство. Именно оно сделало существование богаче и полнее, поощряло художественные и интеллектуальные достижения, и, во времена, когда жизнь была суровой и опасной, а смерть – постоянным гостем, внушала миллионам чувство надежды и защищенности. При этом многие, если не большинство из тех, кто служил церкви, были простыми мужчинами и женщинами, без особого чувства призвания вступавшие в нее, потому что священничество являлось единственной профессией, предлагавшей продвижение для всех, кто не являлся воином, землевладельцем или купцом. Служение Церкви было дорогой к богатству, власти и высокому положению, а также к любому просвещению и знанию.
Обычный клирик и мирянин рассматривал драму жизни Христа, смерть и воскрешение, абсолютно не подвергавшихся сомнению, скорее, как удивительную историю успеха, в чью честь и была придумана вся эта блестящая доктрина средневековой религии, нежели как способ достижения духовных целей. Великолепные церкви и их сокровища, процессии, мистерии и захватывающие обряды, знакомая компания ангелов-хранителей и святых, готовых помочь всем тем, кто умилостивит их, и Святая Церковь лично, следящая за духовными успехами человека подобно мудрому и дальновидному банкиру, наблюдающему за ценными бумагами своих клиентов, – все это было предназначено для его обогащения. И основываясь на принципе, что те, кого следует наделить прежде всего, – это богатые и успешные в делах люди, «собственники», кому Церковь больше всего и предлагала.
Ибо хотя вступление в ряды священничества было открыто для всех, и даже для сына последнего крестьянина, если его господин жаловал вознаграждение, мог вознести его, с необходимым участием и патронажем, на блестящую вершину его профессии, образовывалась непреодолимая пропасть между избранными и общей массой простых клириков. Обязан ли был удачливый претендент своим успехом рождению или аристократическим связям, или его таланты сделали его известным власть имущим, хотя сам он был низкого происхождения и имел темное прошлое, выбор правильной церковной бенефиции мог дать ему возможность платить за свое образование и обеспечить ему комфортабельную или даже роскошную жизнь. Поскольку до настоящего времени это обеспечивало финансовую независимость талантливым людям, система имела много положительных сторон и привлекала выдающиеся таланты к служению церкви и государству. Но она несла в себе и тяжкие злоупотребления. Лорды и богатые землевладельцы, имевшие младших сыновей, непригодных к военному делу или склонных к церковному служению, могли представлять их на приход еще до того, как они достигли совершеннолетия; брат графа Глостера в царствование Эдуарда I, который вступил в церковные ряды, таким образом скопил в процессе своей далекой от благочестия карьеры не менее чем 24 бенефиции, в дополнение к высоким должностям в двух монастырях и трех других коллегиях и соборах.
Не существовало также никаких связей между темными приходскими священниками и великолепно образованными церковнослужителями, к концу XIV века полностью монополизировавшими все высшие церковные должности. В своих утонченных занятиях теологическим и философским анализом и классификацией, выражаемых языком, доступным только тем, кто был обучен диалектике, оксфордские и кембриджские магистры были слишком заняты диспутами друг с другом, чтобы иметь время для популяризации своих знаний перед простым духовенством, от которого девять из десяти англичан и перенимали веру. Бесформенный образ, вызываемый в воображении суеверных прихожан очарованием мессы сельских священников, мало походил на высоко интеллектуализированный образ Бога ученых докторов. Не беспокоилась церковь также и по поводу двойного стандарта в понимании доктрины и обучении священничества[428]. С беспечным невниманием к своему собственному церковному закону Церковь продолжала распоряжаться приходскими пожертвованиями так, как будто обучение и компетентность приходского духовенства были делами последней важности. Из 376 ректоров, которым один епископ пожаловал бенефиции, находящиеся в ведении мирян, только 135 были посвящены в сан; в другом диоцезе из 193 инспектированных приходов более трети держались in absentia (в отсутствии). Разрешение на отсутствие в приходе выдавалось епископами свободно на тот срок, на какой владелец бенефиции делал необходимые обеспечения для нормального функционирования прихода без него. Для епископов было обычным делом выпускать лицензии для молодых священников на обучение в университете. Так, Филиппу де Стентону, ректору прихода Кодфорд Св. Петра, был пожалован год для изучения теологии или права в Оксфорде с условием, что он должен навестить свой приход во время страстной недели и предоставить капеллана к дню Св. Михаила. Поскольку лицензия была выпущена в январе, это означало, что его паства осталась без приходского священника – положение дел, кратко выраженное в проповеди того времени, описывающей стадо без пастуха: «Он либо при дворе, либо на учебе или проживает еще где-либо, и больше нигде его нельзя найти»[429].
Это разделение между простым приходским духовенством и высшими церковниками – настолько наносящее ущерб мирским интересам – усугублялось и благодаря спросу со стороны короны на клириков-клерков для растущего государственного аппарата управления. Как государственная необходимость воспринималось то, что Церковь должна обучать и поддерживать в достойном состоянии своих самых способных сынов для службы королю; один из клерков казначейства в царствование Эдуарда I держал 21 приход. Обслуживание нескольких приходов виделось почти гражданским подвигом; «клирики, находящиеся на королевской службе, – как было установлено статутом, – должны быть освобождены от обязанности присутствия в приходе»[430]. Представители крупной знати также нуждались в слугах церковниках, не только для духовных, но и для мирских целей; немногим позже описываемого времени граф Нортумберленда имел 10 священников у себя на службе, в том числе клерка, заведующего печатью, клерка, следящего за рабочими на землях графа, землемера, личного секретаря и секретаря своего собственного малого совета, все они были священниками. Благодаря благочестивым завещаниям своих предков таким территориальным магнатам редко недоставало права распределения приходов для их обеспечения.
Так, хотя Церковь владела такой большой частью земельного фонда страны – в соответствии с подсчетами итальянца Андрея Тревисона, который посетил Англию в следующем веке, церкви принадлежало 28015 рыцарских ленов из 96230 – спрос на пожертвования в пользу Церкви был больше чем забота об укреплении души. Веками богатые и могущественные изливали свое богатство на Церковь; и для нее было естественным чувствовать, что она обязана компенсировать им их пожертвования. Если богатый человек, жаждущий спасения, предлагал постоянный доход часовне, колледжу, госпиталю, на постоянную мессу за души его самого и его родственников, дарил окно с витражами, перестраивал Церковь или обеспечивал придорожный алтарь или место для отдыха пилигримам, Церковь не могла сделать ничего иного, как принять это. При условии, что богач подтверждал свое соблюдение церемоний и придерживался догмы, Церковь приберегала для таких благодетелей место в небесном царстве, такое же, как и в земном, обеспечивая специальные взаимоотношения между ними и Господом. Пожертвованиями на заупокойные мессы, литургии и частные часовни, великолепными дарами приходу и монастырским церквам, состоящим из драгоценностей и мощей, алтарных покрытий и статуй, виражей Церковь подстрекала их к покупке пропуска на небеса. Стих того времени изображает этот процесс:
«Ты падешь на колени перед Христом В зале, отделанной золотом, И на запад с широким окном, С адвокатами в центре суровыми; И Франциск Святой, В ризу тебя облачив свою, Представит тебя перед Троицею И молиться будет за твой покой» [431] .Также и францисканец в «Петре Пахаре» подбадривает погрязшую в грехе леди Мид:
«У нас есть окно: вставить в него стекло будет стоить очень дорого. Если ты хочешь вставить стекла в этот щипец и вырезать на них свое имя, Мессы и заутрени будем мы за Мид возносить, Быстро и со всем сердцем, как за сестру нашего Ордена».В Норфолкской церкви Бернем Нортон до сих пор можно увидеть местных дарителей за кафедрой проповедника, делящих ее с четырьмя виднейшими докторами средневекового мира Св. Августином, Св. Григорием, Св. Иеронимом и Св. Фомой Аквинским.
Гордыня и привилегии не только помогали поднять и поддержать церковное производство; они проникли в святая святых. Вместо того чтобы исповедоваться низкородным приходским священникам, знать обращалась к исповедникам благородного происхождения, и лорд манора и его жена осуществляли богослужение вместе с представителями духовенства в алтарной части, а не со всей остальной конгрегацией в нефах. Даже в момент, когда все христиане, живые или мертвые, должны были объединиться в таинстве причастия, и когда перед святым причастием pax-brede или изображение распятого Спасителя передавалось по кругу, чтобы поцеловать его в знак братской любви, все равно все толкались и пихались, борясь за первенство в исполнении обряда. Такая помпа и тщеславие – грех superbia или гордыни, как называли его теологи, – наиболее часто встречались в прекрасных новых городских церквах, построенных на деньги купцов и знати. Один возмущенный проповедник говорил о «могущественных лордах и дамах, которые приходят в Святую церковь в богатых одеяниях из золота и серебра, жемчугов и драгоценных камней и других мирских почтенных одеждах и так предстают перед Господом нашим Всемогущим», каждая прекрасная леди, «поднимая своим шлейфом пыль, заставляя добрых мирян, клириков и священников всех пить за это и опуская свой шлейф на алтарь Господень»[432].
Это отождествление Церкви с богатством и властью имело своим результатом печальную потерю духовного влияния на паству. Поскольку Церковь наследовала имущество и настаивала па сохранении своей собственности, довольно большой части от имущества кесаря, она была вынуждена воздать кесарю то, что полагалось Господу. Поскольку ее прелаты являлись крупными землевладельцами и магнатами, она вынуждена была уступить короне право назначать их. Миряне рассматривали их как слуг государства, нежели церкви, и таким образом как представителей государственных притеснений и несправедливости. Каковы бы ни были их достижения в области мирского положения в обществе, владение чрезмерным богатством и купание в роскоши, сопровождавшие его, способствовали потере уважения со стороны истинных христиан. Ибо ценности, которые предполагали погоню за богатством, не являлись христианскими ценностями; в соответствии с собственными доктринами церкви, они исходили от дьявола. Епископ Уинчестера был долевым собственником Саусверкских публичных домов; даже замечательный новый неф Уинчестерского собора и основанные Уильямом Викенгемским колледжи Уинчестер и Нью-Колледж в Оксфорде были таким образом частично финансированы за счет прибыли, полученной с проституции. Такое смешение мирских и духовных ценностей пронизывало всю церковную структуру сверху донизу; среди ее прихлебателей существовали разновидности людей, известных как chop-churches, которые занимались продажей и обменом бенефиций, «ибо симония, как написал поэт, сладкая вещь». А в самом низу, далеко от внушительного истэблишмента, находилась голодная и неуправляемая толпа бесприходских клириков, побиравшихся с псалтырем и букварем, бормоча молитвы за богатых патронов и злобно сражающихся за место под солнцем.
Церковная одержимость своим богатством – «землей Христа», «имуществом христовым», «собственностью христовой» – имела и другие последствия. Она стала жирной и консервативной. Она больше не была в пути, как в дни Св. Бернарда или Св. Франциска; она отдыхала за счет пожертвований. «Собственники», наслаждавшиеся своим богатством, не приняли бы никаких изменений. Религия в их руках стала материалистичной и механической; теперь в служении значение имело количество, но не духовность. Спасение измерялось количеством произнесенных молитв и месс – сколько «Отче наш» в час, сколько Ave Maria, сколько свечей сожжено, сколько отблесков Господа упало на алтарь, сколько пожертвований сделано Святой Церкви. Могущественные люди торопились в церковь сразу перед причастием и затем торопились дальше, совесть и общественное мнение были удовлетворены тем, что они отдали должное в этот день. Везде можно было встретить наружное проявление веры, но внутреннее и духовное благочестие было забыто.
Поскольку Церковь являла собой мирской институт и большинство тех, кто претендовал и называл себя христианами, были простыми участниками или зрителями в пышном зрелище, о смысле которого они никогда не задумывались, она не осознала, что провалила свою миссию по донесению учения Христа до верующих. Она, возможно, и смогла передать его многим, но, как и в любую другую эпоху с момента появления христианства, истинных последователей было очень мало. Однако пронизанные на протяжении веков языческого варварства ложью, полуправдой и суевериями, анналы христианства все еще побуждали мужчин и женщин пытаться строить свою жизнь в соответствии с примером Христа. Смирение и долготерпение, истина и честность, рыцарство и благородство по отношению к слабым, ненависть к насилию и жестокости – вот те ценности, которые появились благодаря христианству, и все это совокупно влияло на учение Церкви и культ, которые и побуждали людей к этому. Христос присутствовал на земле, но не на троне Св. Петра, а в сердце каждого христианина; при этом без трона Св. Петра вряд ли можно было бы найти много сердец, пустивших к себе Христа.
О том, что представляла собой Церковь конца XIV века в своем лучшем проявлении, мы имеем свидетельство Чосера. Ибо когда при описании своей процессии мирских пилигримов, светских и духовных, он дошел до простого деревенского священника, этот циничный, толерантный, но исключительно честный наблюдатель современной ему жизни сделал паузу в своем забавном каталоге человеческого порока, чтобы нарисовать портрет того, кто более всех приблизился к житию согласно заповедям христианства:
«Священник ехал с нами приходской, Он добр был, беден, изнурен нуждой. Его богатство – мысли и дела, Направленные против лжи и зла. Он человек был умный и ученый, Борьбой житейской, знаньем закаленный. Он прихожан Евангелью учил И праведной, простою жизнью жил. Был добродушен, кроток и прилежен И чистою душою безмятежен. Он нехотя проклятью предавал Того, кто десятину забывал Внести на храм и на дела прихода. Зато он сам из скудного дохода Готов был неимущих наделять. Хотя б пришлось при этом голодать. Воздержан в пище был, неприхотлив. В несчастье тверд и долготерпелив. Пусть буря, град, любая непогода Свирепствует, он в дальний край прихода Пешком на ферму бедную идет, Когда больной иль страждущий зовет Примером пастве жизнь его была: В ней перед проповедью шли дела Ведь если золота коснулась ржа, Как тут железо чистым удержать?.. ...Благочестивый, ласковый и скромный, Он грешных прихожан не презирал И наставленье им преподавал... Не ждал он почестей с наградой купно И совестью не хвастал неподкупной; Он слову Божью и святым делам Учил, но прежде следовал им сам» [433] .Именно его прихожанин и брат, пахарь, который делил с ним и старым рыцарем крестоносцем честь быть единственными истинными христианскими образами в этой компании исповедовавших христианство. Однако неудовлетворительными, какими могли быть приходские священники – а это была в основном вина церкви, что их было достаточно много, – хороший священник все еще мог создать христианскую деревню.
Хотя их и было меньшинство, но не было недостатка в преданных мирянах в XIV веке. Это была эпоха тайных отшельников, и духовного сана, и мирян, но в особенности последних – кто, отказываясь от мира в пользу религиозного уединения, находили во внутреннем сердечном переживании новое откровение. Некоторые из них оставили трактаты и книги, сохранившие их переживания для пользы своих христианских собратьев, чтобы научить, как один из них написал, «простых мужчин и женщин, имеющих добрую волю, правильному пути на небеса»[434]. Таков был безымянный автор – один из отцов-основателей английской прозы – двух великих классических благочестивых трактатов «Тьма незнания» (The Cloud of Unknowing) и «Книга личных наставлений» (The Book of Privy Counsel), и Уолтер Хилтон, каноник августинец из Тергартона в Ноттингемшире, который написал в своем трактате «Путь совершенства» (The Scale of Perfection): «He надобно ехать ни в Рим, ни в Иерусалим, чтобы найти Христа, но надобно обратить мысли твои к своей собственной душе, где Он сокровенен... и искать его там». Таков был также и неизвестный поэт, оставивший потомству великолепное лирическое наследие «Жалоба Христа своей сестре» (Christ's Complaint for his Sister), «Человеческая душа» (Mans Soul), со своим западающим в память рефреном Quia Amore Langueo:
«Я есть любовь, вовеки не бывшая ложью, Таковой и сестру свою душу любил. И поскольку расставаться с нею негоже, Я оставил славное царство свое и удел; Я воздвиг для нее дворец драгоценный, Но бежала она, я последовал с ней. О, Я любил ее так, что страданья чрезмерны Quia Amore Langueo» [435] .Другое такое же красивое стихотворение «Песнь о страстной любви», возможно, вышло из-под пера йоркширского отшельника, Ричарда Ролла из Хемпоула – «пленника любви», как он себя называл, – который переложил псалтырь на английский язык в прозе и в своем одиноком прибежище на ричмондширских болотах, учил себя слушать духовную музыку и, почитаемый соседями как святой, умер во время первой вспышки Черной Смерти. Из той же избранной компании была и странствующая евангелистка Маргарита Кемп – домохозяйка средних лет из Линна, которая совершила паломничество в Иерусалим и к половине мощей святых в Европе, босоногой и пешком – и Юлиана Нориджская, отшельница, которая, запершись в своей келье в монастыре Св. Юлиана в 1373 году, не выходила оттуда почти семьдесят лет, оставив свои «Откровения Божественной Любви» (Revelations of Divine Love) в качестве первого произведения английской литературы, написанного женщиной. Любовь Христа казалась Маргарите Кемп настолько реальной и постоянно присутствующей, что однажды, войдя в церковь в Норидже и увидя «прекрасный образ Богородицы под названием „pieta”», она начала «громко кричать и горестно рыдать, как будто она умирает в смертных муках». А когда священник попытался остановить ее, говоря, «Христос уже давно умер, мадмуазель», она ответила: «Сэр, его смерть так же реальна для меня, как будто он умер в этот самый день, и я думаю, что она должна быть таковой и для вас, и для всех христиан. Нам следует всегда помнить о его доброте и всегда думать о той страдальческой смерти, которой он умер за нас»[436].
Именно среди истинных христиан неудовлетворенность церковью была самой сильной. Контраст между жизнью Христа в бедности и богатством и слабостью ее первосвященников был слишком велик, чтобы его не замечать. Лучшие представители духовенства постоянно привлекали к этому внимание. Уильям Риминтонский, приор Цистерцианского аббатства в Солее и бывший некоторое время канцлером Оксфордского университета, спрашивал в проповеди, как священник может исправлять мирян, если он есть «раб обжорства и разврата, преданный презренному металлу... и поглощенный тщетными или недозволенными делами?»[437] В рукописных проповедях, дошедших до нас из тех времен разочарования, можно почувствовать накал недовольства, вызываемого дракой за приходы и унижение тех, кто был втянут в нее, – молодые подающие надежды ученые, «бедные и часто поначалу абсолютно невинные, которые, перед тем как разбогатеть, были верны посещению церквей, своим молитвам и всем тем обещаниям, которые давали Господу, но которые, как только продвинулись выше и сделались жирными и богатыми, пренебрегли Господом, своим создателем».
«Они говорят: „Если бы только я имел одну церковь или одну пребенду, мне больше ничего было бы не нужно”. Но когда они получают ее, они начинают жаловаться, что это место в плохом окружении, или слишком близко к главной дороге, которая поставляет им слишком много гостей, или слишком далеко от хорошего города, или чего-либо еще, потому что там нет хорошего пастбища или леса, или реки. Таким образом, они должны иметь и другое место, где у них были бы пастбища для лета и двора на зиму, и третье, где бы они могли проводить пост и иметь рыбу. И вдобавок они должны иметь еще одну пребенду в своем собственном районе»[438].
Это чувство разочарования духовенством было усилено Черной Смертью. Ее нашествие подорвало христианское общество; католическая церковь в средневековой Англии никогда полностью так и не оправилась после нее. Очень часто были те, кто оставался на своих постах, те, кто умирал, и те, кто выживал, чтобы дискредитировать и предать свою веру. То, что священник, из страха за свою жизнь, мог отказать в последнем обряде умирающему и ограбить их в их надежде на спасение, было настолько разрушительным для средневекового ума, что оно ударило по самым корням веры.
На этом, однако, не закончился урон, нанесенный Черной Смертью церкви. Деморализацией слабых созданий она привела людей к лихорадочной жажде удовольствий, включая и многих представителей духовенства. «Где, – спрашивал один проповедник, – вы найдете священника в наши дни?.. Не скорбящими между факелом и алтарем, но сладострастно развлекающимся с проституткой или в борделе; не поющим в хоре, но праздно шатающихся по рынку; не в церкви, но в таверне или пивной, где иногда они так набираются, что они не могут вести ни вечерню, ни заутреню, как полагается». Популярный стишок[439] того времени был более убедительным:
«На боях и на поминках, В пабах песни распевая, Первые в драке, на рынках, Плясать и кричать успевая, На ярмарке – свежи, от пьянства уставши, В обжорстве и ссорах навеки погрязши; Семь таинств готовы продать на торгах, Кому мы вручили ключи от райских врат?!» [440]Монахи, однако, более всех потеряли в общественном мнении. Приходской священник мог избежать поветрия только открытым бегством, и большинство из них, возможно, из-за своих естественных страхов, умерли на своих постах. Для монаха, который находился в постоянном странствии, было легко уклониться от своих христианских обязанностей; те, кто исполнял их, были самыми смелыми, сворачивая со своего пути, чтобы помочь больным и умирающим, но почти постоянно погибали, в то время как трусы выживали. Это выживание самых худших наносило нищенствующим монахам большой вред. Их репутация и вместе с ней моральные устои стали подвергаться повсеместному поношению. В источниках того времени, и в возобновившемся в 50-е гг. споре об апостольской бедности, и проявилось почти всеобщее недовольство нищенствующими братьями; великий даремский бенедиктинец Утред Болдонский провозгласил, что нищенствование мешает распространению слова Господня. Ричард Фицральф, архиепископ Армахский – знаменитый англо-ирландский проповедник и теолог, который попытался помирить Рим и армянскую церковь и из чьих работ Уиклиф перенял свою доктрину власти – неистово осуждал в своих трактатах и проповедях у Креста Св. Павла нищенствующих монахов за их вмешательство в действия приходского духовенства по исцелению душ страждущих и за их злоупотребление тайной исповеди[441].
Поскольку нищенствующие монахи были абсолютно всем для всех, они повсюду имели врагов. Поскольку у них не было в избытке тех недостатков, которые имели их братья священники, их едкое упоминание десятин и приходов вызывало большое негодование среди владельцев последних, негодовали они еще и потому, что проповедники были и самыми бесстыдными попрошайками того времени. Их считали лицемерами и подлизами, которые отвергали деньги, но льстили богатым людям, чтобы получить их, – «подлизывающиеся гончие, виляющие хвостами, не преданные пастушьи псы, но комнатные собачки, питающиеся лакомыми кусочками, которые лорды и леди кидают им»[442]. «Их Орден был основан в бедности, – писал один клирик. – Я расскажу вам, как они ищут бедность. Когда они путешествуют по стране, они останавливаются только у самого могущественного барона или рыцаря, но, клянусь Св. Петром Римским, они никогда не остановятся у бедняка до тех пор, пока в округе можно найти богача»[443]. «Более откормленных рож, – написал другой, – я ни у кого не видел, кроме как у этих нищенствующих монахов». Таким же и Чосер изобразил одного из этого племени:
«Притворяясь бедным, но питаясь Отличными деликатесными лакомствами, И попивая хорошее дорогое вино, Проповедуя нам в то же время бедность и воздержание, И себе делая на этом богатство».Это была клевета, но в нее многие верили.
На самом деле, хотя монахи долгое время занимали самые высокие церковные и государственные посты в церкви и использовались в христианском мире как специальные посланники папы в распространении веры, их духовные оппоненты не могли найти для них соответствующих им бранных слов. «Монах лжец и народ того же сорта», – вот кем они казались поэту Ленгленду. Когда монах в прологе пристава церковного суда из Кентерберийских рассказов спросил ангела, кто сопровождает его в путешествие через Ад и почему там нет монахов, его проводник приказал Сатане поднять свой хвост:
«Приподними свой хвост, о Сатана! – Промолвил ангел, – покажи до дна Узилище, монахи где казнимы. И полуверстной вереницей мимо, Как пчелы, коим стал несносен улей, Тыщ двадцать братьев вылетело пулей Из дьявольского зада и в облет Омчали роем ада темный свод» [444] .* * *
Так, за четверть века, которые последовали за Черной Смертью, нарастало общее чувство, что церковь не являлась людьми Христа. Епископы оказались гордыми и роскошными господами, архидьяконы и прокторы – шантажистами, монахи – обжорами, нищенствующие братья – хапугами и лжецами. Всемогущие прелаты в особенности подверглись нападкам. «Они оставляют свою паству и проводят дни при дворах власть имущих, чтобы питаться плотью откормленных животных», – громогласно заявлял крупный доминиканский проповедник, доктор Бромиард. Другая проповедь того времени описывала их живущими «в укрепленных замках и манорах, таких же величественных, как и у самого короля», окруженных рыцарями, оруженосцами, йоменами и конюхами, когда они садились за стол «с драгоценными сосудами и королевской посудой из золота и серебра, а их люди падали ниц как перед господом каждый раз, когда они пригубляли вино». Когда один из них выезжал, «да, хотя это и должен был бы быть визит к бедной пастве, он должен был выехать с кавалькадой на 80-100 лошадях, гордо облаченный во все самое лучшее; его собственная верховая лошадь стоимостью в 20-30 фунтов вся, как правило, увешана сверкающим золотом, как будто это священная лошадь, он сам на ней, одетый в великолепное пурпурное одеяние из такой же тончайшей ткани, из какой сшиты платья королевы; его священники и клерки сопровождают его, все на лошадях с позолоченной сбруей, на боках посеребренные мечи, как будто это центурион и его легионеры едут к месту смерти Христа».
При этом сам Христос, как напоминает проповедник, не имел крыши над головой и никакого окружения кроме «двенадцати глупых бедняков, которым он прислуживал чаще, чем они прислуживали ему». Именно этот контраст и заставил Фицральфа Армахского объявить своих коллег прелатов «грабителями, ворами и разбойниками, которые захватывают то, что принадлежит церкви, и пренебрегают своими обязанностями; которые всегда учат кричать „Стриги! Стриги!“ и никогда не исполнят команды: „Накорми! Накорми!“[445]
Все это, хотя и представляло широко распространенное мнение, было несправедливым, ибо многие епископы Эдуарда III были крупными благодетелями общества, так же, как и способными и трудолюбивыми администраторами[446]. Уильям Эдингтон, епископ Уинчестера, который сделал карьеру из низших слоев общества, став последовательно казначеем и канцлером, перестроил алтарную часть своего кафедрального собора в соответствии с новой перпендикулярной готикой частично на свои деньги, и на его пожертвования была построена новая великолепная коллегиатская церковь в его родной деревне в Уилтшире. Его преемник, Уильям Викенгемский, сын мелкого гемпширского фригольдера, использовал пожертвования со своего диоцеза и многих других бенефиций, которые он имел, чтобы продолжать перестройку собора и чтобы основать сначала Нью Колледж в Оксфорде и затем свою великую школу в Уинчестере с целью возместить потери в рядах духовенства, вызванные Черной Смертью. Презрительно описанный Уиклифом как «клирик мудрый в строительстве замков и мирских делах» и крупнейший владелец бенефиций в те дни, он был, несмотря ни на что, добрым человеком, который встретил свалившиеся на него несчастья философски и который использовал свою власть умеренно и сдержанно. Ричард Бери, епископ Даремский, еще один канцлер Эдуарда III, являлся библиофилом, который переписывался с Петраркой, основал знаменитую библиотеку и написал путеводитель по ней под названием «Филобиблон», восхваляя удовольствия, получаемые от чтения. Самым знаменитым ученым из всех них был святой Томас Брадуордин – doctor profundus – математик, астроном, философ и теолог – непритязательный член Мертонского колледжа, бывший исповедником короля при Креси и, призванный быть примасом после двух раз занятия поста архиепископа Кентерберийского, умер при первом нашествии Черной Смерти, торопясь в Англию только для того, чтобы погибнуть от чумы в первую же неделю, принимая церковные пожертвования в своем диоцезе. Его преемник, Симон Ислип, хотя он был сравнительно бедным человеком, основал в Оксфорде колледж для монахов, в то время как его преемник, Симон Садбери, начал работу по перестройке нефа Кентербери и заложил основы современного великолепного здания. Грандисон, епископ Экзетера, выдающийся патрон искусств, закончил строительство нефа собора Вест Кантри и достроил к нему галерею для музыкантов[447].
При этом все их знания, необыкновенная щедрость и тяжкий труд на службе короне не приносил прелатам никакой выгоды. Их неимоверное богатство и вынесло им приговор. Даже святой, подобно Брайтону Рочестерскому – нориджскому бенедектинцу и члену колледжа Баллиол, который был, возможно, «ангелом небесным», который «любил говорить на латыни», упомянутый в «Петре Пахаре» – не мог надеяться преодолеть эту пропасть, отделявшую высокопоставленных прелатов от простых смертных. Что же касается папства, которому еще столетие назад Англия и ее правители были столь преданны, то его еще более сильно порицали простые англичане из-за его богатства и жадности, которое вытекало непосредственно из него. Чтобы обеспечить существование своего роскошного двора в Авиньоне и распухший бюрократический аппарат, папство освоило профессии юриста, сборщика налогов и ростовщика. Поскольку ему не удалось в предыдущем столетии навязать свою гордую доктрину о «полноте власти» над светскими правителями Европы, а также из-за его постоянных унижений, поскольку оно являлось игрушкой в руках французского короля, папство попыталось навязать высокоцентрализованный контроль над всеми остальными, что было успешно, но имело еще более катастрофические результаты внутри самой Церкви, поскольку папство расширяло свои сети на доходы со всех бенефиций и на пожертвования в каждой стране христианского мира. В глазах тех, кто привык думать о себе, скорее, как об англичанах, нежели как о баронах, рыцарях или бюргерах, папство больше не казалось защитником, но оно представлялось как эксплуататор Ecclesia Anglicana.
Вместо апостольских и интеллектуальных брожений XII-XIII веков папские проблемы XIV века были сосредоточены на церковном налогообложении, первых плодах или аннатах, обеспечении бенефициями и продаже прошений и индульгенций. Аннаты – часть дохода от бенефиции в первый год – теперь востребовались со всех священников, готовые наличные деньги, чтобы заплатить аннаты, они могли получить у папских банкиров под ростовщические проценты, которые последовательно навязывались, – и это несмотря на христианское запрещение ростовщичества – под угрозой отлучения. И из-за войны с Францией и пребывания папы в Авиньоне каноническое право папы жаловать бенефиции все более сильно оспаривалось в Англии, которая стала самостоятельной и независимой. В 1376 году рыцари и горожане «доброго» парламента представили королю и совету петицию с жалобами, что «Римский двор, который должен быть фонтаном, первопричиной и источником святости и разрушителем алчности, симонии и других грехов», привлек к себе так много «епископств, санов, пребенд и других бенефиций святой церкви Англии», что из страны утекают средства, в пять раз превосходящие все королевские доходы от налогообложения. Это было, конечно, сильное преувеличение, но оно показывает, насколько папская практика возбуждала отрицательные чувства. Другими пунктами в жалобе Общин были следующие: что епископы находились в таких сильных долгах перед курией за свои доходы и аннаты со своих бенефиций, что они были вынуждены вырубать свои леса, занимать у своих друзей и требовать разрушительных поборов и субсидий со своих держателей и духовенства; что в результате купли и продажи церковных должностей «торговцами бенефициям, которые живут в греховном городе Авиньоне», «жалкий человек, который ничего не знает и ничего не стоит» может получить бенефицию в тысячу марок, в то время как английский доктор или магистр богословия вынужден довольствоваться пятнадцатой частью этой суммы, «так что клирики теряют надежду на то, что они будут избраны благодаря своему служению или своим талантам к знаниям... и люди все меньше посылают своих детей в школы, а духовенство, которое суть основа Святой Церкви и нашей святой веры, находится в упадке и уничтожается». Здесь также утверждалось, что папские сборщики налогов являлись французскими шпионами, которые вывозят из страны «секреты к большому ущербу королевства» и что когда бы папа ни пожелал выкупить одного из своих французских друзей, взятых в плен, он всегда требует субсидий с английского духовенства. «Пусть это будет принято, – заключили жалобщики, – что Господь поручил свою паству нашему святому отцу папе, чтобы тот заботился о ней, а не грабил»[448].
Папство стало настолько непопулярным в Англии, что когда незадолго перед вступлением на престол юного короля лондонское Сити устроило пышное празднество в его честь «с большим шумом от песен, труб, корнетов и шом и многими восковыми факелами», кульминацией процессии было чучело папы в окружении 24 кардиналов и «восьми или десяти скрытых под черными масками подобно чертям, недружелюбного вида, выглядевших как легаты»[449]. Когда вслед за попыткой восстановления папского престола в Риме французские кардиналы в 1378 году бросили вызов выборам фантастически вспыльчивого и властолюбивого итальянского папы Урбана VI, на основании того, что его выборы были произведены под давлением и угрозами римской толпы, и возвели на престол в Авиньоне с помощью его врагов другого папу под именем Клемента VII, английский парламент, собравшийся в Глостере, решил поддержать Урбана и, поступив таким образом, помог сохранить на следующие пятьдесят лет скандал, даже более серьезный, чем семидесятилетнее Вавилонское пленение, – одновременное существование двух, а в одно время и трех пап. Каждый папа требовал выплаты церковных налогов и сборов и каждый отлучил другого от Церкви как антихриста, в то время как оба провозгласили крестовый поход и наняли на службу те ужасные бродячие банды, которые сохранились со времен англо-французских войн с целью разорить земли и уничтожить сторонников друг друга, «единое одеяние Христа», как высказался проповедник, было роздано в аренду по частям, и, к ужасу и недоумению простых христиан, сторонников Урбана и Клемента, боровшихся за Его одеяние.
* * *
Великая Схизма, как это было названо, была кульминационной точкой событий, которые сотрясали веру людей в церковь на протяжении XIV века. Она проходила на фоне народного недовольства симонией, папскими провизиями, обслуживанием нескольких приходов одним священником, отсутствия в приходе приходских священников и продажи индульгенций, против которых и выступил с протестом ученый, протеже Джона Гонтского, из ланкастерского округа Ричмонд, теолог и философ Джон Уиклиф. Подобно большинству университетских докторов этот отсутствующий ректор, получавший доходы, позволявшие ему жить и заниматься своими учеными делами, последовательно от приходов в Филлингеме, Линкольншире, Людгершеле в Бекингемшире и в Лютеруорте в Лестершире и от маленькой пребенды в коллегиальной церкви Уэстбери-на-Триме, этот радикально настроенный йоркширец – одно время магистр небольшого оксфордского колледжа Баллиол и «по мнению многих величайший клирик из тогда живших» – начал с протеста против папских притязаний на местные бенефиции в пользу парламента, продолжил тем, что отверг церковное богатство и закончил нападками на большинство церковных должностей и обязанностей, включая неоспоримую власть священника исполнять таинство мессы. Он основывал свою точку зрения на жизни и учении Христа, как они были представлены в Библии, которую он считал единственным источником, необходимым для спасения, а также которые могли толковать даже самые низшие. «Никто не является таким уж невежественным школяром, но он может получить знание из слов Евангелия в соответствии со своими притязаниями». Все, что было необходимо, так это то, чтобы Библия стала доступной на их родном языке. «Пренебрегать Библией, – написал он, – это значит пренебрегать Христом». Вместе с группой оксфордских учеников он начал дело по переводу Библии с вульгарной латыни на английский язык.
Вместо того чтобы полагаться на жреческую пышность и ритуал и отождествлять себя с богатыми и могущественными, основатель христианства, настаивал Уиклиф, отправился проповедовать в «малые дальние города» подобно Кане в Галилее. «Христос отправился в эти места, где он желал творить добро и путешествовал он не ради получения денег, ибо он не был заражен гордыней или алчностью». Он приказал, чтобы «его пастухи жили со своей паствой, обучая их слову Господа как работой, так и проповедью». «Христос и его апостолы не требовали десятин, но довольствовались едой и одеждой, которая была им необходима... Пусть священник побуждает своих прихожан терпением, скромностью и благотворительностью, так что они дадут ему те вещи, которые необходимы для подержания его жизни».
Все, что заключалось в слове власть, – владычество, авторитет, собственность, – зависело, с точки зрения Уиклифа, от милости: от соблюдения христовых заповедей теми, кто обладает этой властью, и только от этого. Каждый человек, если позаимствовать феодальную аналогию, являлся прямым держателем Господа; у него не было нужды в посредничестве Церкви или в другом, еще одном промежуточном господине. «Все руководство человеком, естественное или гражданское, возложено на него самого Господом как создателем, принимая во внимание то, что он постоянно возвращает Господу то, что положено Ему». «Священник, впавший в грех, уже не есть священник... перед Господом Богом он не священник»; прелат-грешник вообще не может быть епископом и должен быть смещен и лишен своих владений светским правителем.
«Наделение Церкви властью над миром» являлось ересью, ибо «Христос вышел из бедного народа». Камнями на своей шее были ее богатство и власть; а слишком усердные монахи служили «религии жирных боровов». Даже папа сам по себе был только «нагим слугой Господа». Уиклиф говорил с презрением о тех, кого он называл «собственниками»: о монахах с «красными и жирными щеками и огромными брюхом» и рясами из тончайшей ткани, достаточно просторными, чтобы обеспечить одеждой четверых или пятерых нуждающихся; о богохульной продаже папских индульгенций, об идолопоклонстве мощам и статуям, об отлучении по политическим и финансовым мотивам. В противоположность этому он выражал простым языком то, что, как он верил, является сущностью христианства:
«Начало и конец Божьего закона есть любовь... Тот, кто любит свою жизнь, говорил Христос, потеряет ее, а тот, кто ненавидит свою жизнь в этом мире, обретет ее вечно»[450].
Обвинения Уиклифа шли вразрез со всей позицией Церкви, так как именно «невесте Христовой» были доверены исключительные полномочия по спасению человечества, полученные в результате страданий на Кресте. Выступив против ее притязания на то, что воля Господня может быть известна только через церковные таинства и руководство, этот суровый, бескомпромиссный пуританин из Северной страны заявил не только о праве каждого человека толковать писание лично, но и о прямой ответственности совести каждого индивида перед Богом. Духовенство было необходимо для преуспеяния Церкви, но не для ее существования; ее делом и основным духовным занятием было обучение Евангелию. Все, что появлялось между индивидом и Христом, несло вред обоим, и оно включало в себя почти всю церковную организацию того времени, в том числе и епископат. Далеко впереди своего времени Уиклеф предсказал эпоху, когда служение в рамках семьи и конгрегации займет место ритуала и мистерии в свете свечей перед алтарем и то, что он с негодованием назвал как «соблазнение людей диковинкой цветных окон... рисунков и гротесков».
Вместе с флотами Франции, Кастилии и Арагона, угрожавшим Англии вторжением, а также папой, который виделся большинству англичан «домашним котом французского короля», Уиклеф осенью 1377 года был самым популярным человеком в стране. Он озвучил те чувства народа, которые им долго сдерживались. Против папских обвинений в ереси его поддержал почти весь Оксфорд, магистры и студенты – в то время являвшийся после Парижского наиболее важным университетом Северной Европы – герцог Ланкастер и принцесса Уэльская, антиклерикально настроенный парламент и лондонская толпа. Нарождающийся средний класс был удовлетворен тем, что он защищал национальные права и находился в оппозиции к иностранному церковному налогообложению, в то время как аристократия приветствовала его предложение по конфискации избыточного богатства Церкви и распределения оного среди достойных представителей знати и рыцарства, «кто будет справедливо управлять людьми и охранять землю от врагов». Но когда, после того как в 1378 году разразилась Великая Схизма, он привел свои теологические аргументы и нападки от организационной стороны религии к логическому выводу, отказавшись от ее основных таинств, не только отвергая превращение элементов евхаристии полностью в плоть и кровь Христа и утверждая, что тело Христово остается в хлебе и вине[451], но при этом провозглашая, что является богохульством думать, что плоть и кровь Христа могут быть сделаны с помощью колдовства невежественного и, вероятно, грешного священника, он потерял поддержку как своих могущественных патронов, так и оксфордских братьев, которые были самой сильной группой в университете. Простой англичанин был готов поддержать нападки на огромное богатство Церкви, папское вмешательство и епископов-автократов, но пугался, когда речь шла о таинствах, которые являлись специальным делом и заботой Церкви. Он мог и не видеть смысла в последующем риске быть отлученным от Церкви и вечно проклятым из-за споров по поводу абстрактной теории, которая не имела совершенно никакого влияния на его личную жизнь или карман.
Именно по этой причине нападки Уиклифа на злоупотребления духовенства потерпели неудачу в плане попытки влияния на церковную организацию того времени. Они были слишком неясными и научными. Папство, епископат, пожертвования, монастыри, монахи, статуи и даже десятины и причащение – все это должно было быть отвергнутым. Если дать ему волю, то ничего бы не осталось кроме авторитета Библии в толковании каждого верующего, приходское духовенство рекрутировалось через добровольные предложения, и появилась бы пресвитерианская система церковного управления под окончательным контролем короны.
Хотя после долгого поединка между епископами и университетскими властями, которые поначалу продолжали его защищать, нападки Уиклифа на церковную доктрину евхаристии закончились тем, что ему было запрещено читать лекции, он вынужден был уйти с должности ректора в Лютеруорте, он все же отказался отступить от своих позиций или сделать хоть малейшую уступку общественному мнению. Поэтому его высокая научная репутация и прошлая популярность, бескомпромиссный догматизм и презрение к временно имевшимся взглядам отторгли даже самых жаждущих реформаторов. Среди тех, кто теперь выступил против него, были даремский бенедектинец, Роберт Райпон, который в одной из своих проповедей описывал высшее духовенство «блестящим подобно проститутке», и также безжалостный враг церковной коррупции, Джон Бромиард, вскоре ставший викарием английских доминиканцев. Даже Уиклеф не нападал так резко на «собственников», как это делал он. «Лучше для их душ, – провозгласил он, – если лошади притащат их к воротам мира. Чем они въедут таким образом верхом во врата ада»[452]. Но ересь – болезнь, тогда почти не известная в Англии, – была чем-то, что угрожало Святой Церкви и постоянству христианского мира. То, что человек такой выдающийся как Уиклиф, знаменитый доктор теологии, мог использовать свое положение для нападок не только на ее независимость и пожертвования, но и на наиболее священное таинство, да еще и в таких решительных и шокирующих выражениях, поместило его вне лона Церкви. Даже Брайтон Рочестерский проклял его.
Однако, будучи изгнан из Оксфорда и не имея возможности проповедовать, Уиклеф не был наказан. Традиционная подозрительность парламента к иностранной юрисдикции и заступничество принцессы Уэльской оставили епископов без каких-либо средств, чтобы привести в действие папский приказ о привлечении его к церковному суду. Вплоть до своей смерти, в конце 1384 года, великий отступник спокойно оставался в Лютеруорте, руководя переводом Евангелия и обучая группу учеников, которые потом должны были бы распространить его еретическое послание. Эти проповедники, одетые в красно-коричневые одежды, путешествовавшие пешком подобно апостолам Христа и осуществлявшие свою евангелическую миссию на улицах и в поле, когда им было запрещено проповедовать в церквах, представляли одно из наследий Уиклефа своей собственной стране. Другим наследием стала переведенная им на родной язык Библия, первая англоязычная Библия с англосаксонских времен. Некоторые фразы Евангелия, которые вошли в речь более позднего поколения, появились впервые в своем пробном виде в его проповедях, подобно притче о блудном сыне, со словами: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою; и уже недостоин называться сыном твоим» и ее великолепным концом: «Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
* * *
При этом человек, который увидел дальнейшие христианские затруднения, не был философом или священником, но был всего лишь бедным каноником, зарабатывавшим себе на пропитание чтением месс за упокой душ богатых людей. Рожденный, как считается, в деревне Колуол рядом с Мальверном[453], являвшийся незаконнорожденным сыном крестьянки и оксфордширского джентльмена по имени де Рокайль, Уильям Ленгленд, возможно, получил образование в хоровой школе приорства Грейт Мальверн и был посвящен в сан в качестве прислужника зимой во время первой вспышки Черной Смерти, затем отправившись в Лондон. Здесь, вскоре после заключения мира в Бретиньи и второй эпидемии чумы в 1361/62 году, во время своего проживания в коттедже в Корнхилле со своей «женой Китти и дочерью Калоттой», он написал аллитеративным размером и на южномидлендском диалекте своих англосаксонских предков поэму «Видение Уильяма о Петре Пахаре». Расширенная пятнадцать лет спустя во время правительственного кризиса между смертью Черного Принца в 1376 году и смертью старого короля в 1377 году, а также пересмотренная по крайней мере единожды перед смертью поэта в конце века, она состоит из серии аллегорических видений, в которых, на фоне современной ему Англии, он искал тайну христианской жизни.
Начинаясь как сатира о нравах, распространенная тогда и в проповедях, и в стихах, она начинается вдалеке от суеты Чипсайда на земле, где поэт провел свое отрочество:
«Однажды летней солнечной порою ...И майским утром на холмах Мальвернских» [454]Прилегши отдохнуть на берегу ручья, он видит в долине Северна прямо напротив далекого Коствольдского хребта очертания башни Правды, а перед ней тюрьму, окруженную рвами: «И страшны были рвы темницы мрачной». Между ним и этим образом Рая и Ада находится «огромная толпа»:
«Был всякий люд там: знатный и простой. Кто странствовать пускался, кто трудился, Как издавна на свете повелось».Там перед ним проходят король и его рыцари и «сильные мира сего», бароны и горожане, мэры и жезлоносцы, «которые действуют как посредники между королем и парламентом в сохранении закона», прекрасные леди, чьи пальцы «привыкли шить по шелку и сендалу и ризы капелланам мастерить», судейские стряпчие, подобно ястребам в шелковых капюшонах и которые «закон отстаивать готовы за фунт иль пенсы, а не ради правды», «купцы – гордые люди, терпеливые на язык»
«энергичные в своих подношениях городам и лордам, а бедным людям от них достается лишь брань».Пекари, пивовары и мясники, ткачи, портные, медники и сборщики налогов, «Питер, продавец папских индульгенций, Берти Бедль из Букингемшира, Реджинальд староста Ратленда и Мампс мельник», – все они были там.
«Был всякий люд там: знатный и простой. Кто странствовать пускался, кто трудился, Как издавна на свете повелось. Одни тянули плуг, копали землю, В труде тяжелом взращивая хлеб; Другие ж их богатства истребляли. И были, кто объятые гордыней, В наряды дорогие облеклись, Иные ж предавались покаянью, Молитвой жили и постом в надежде Сподобиться небесного блаженства... Кругом все попрошайками кишело; У них набиты брюхо и мешки; По сердцу им, как нищим, побираться, И пьянствовать, и драться в кабаках... [455] Сис-башмачница сидела на скамье, Уотт, сторож заповедника, и с ним его жена, Тимм – медник и двое его учеников, Хикк, содержатель извозчичьей биржи, Хью, продавец иголок, Кларисса из Кок Лейн, церковный клерк, Доу-землекоп и дюжина других; Сэр Питер Прайди, Перонелла из Фландрии, Странствующий музыкант, крысолов, мусорщик с Чипсайда, Канатный мастер, конный господский слуга, Роза, продавщица металлической посуды, Годфри из Гарликхайса, Гриффин из Уэльса... Джек-буффон и Джонета из притона, Даниэль, игрок в кости, и Денот-сводник...» [456]Смешавшись с ними, поэт увидел своего собрата священника. Это был Бездельник (Sloth), священник, который не мог ни петь, ни читать, но мог найти зайца в поле или прокладывать колею лучше, чем блаженный муж, «носящий тонзуру», и «тот, кому Христос препоручил радеть о душах грешных прихожан», кто «в Лондоне отлично живет» и «состоит на службе короля, казну его считает в Казначействе». Были также и монахи, которые потеряли сострадание к беднякам, «ведь их товар и деньги – неразрывны», университетские доктора, «использующие предположения, чтобы доказать истину» и «терзающие Господа своим обжорством», пока они поедают на кафедрах изысканные блюда,
«А стон жаждущих взывает у их ворот, Голодные и истощенные, что дрожат от холода, Которым некуда идти и не с кем поделиться своими страданиями. Там были странствующие монахи Всех орденов... Народу там Писанье толковали: И вкривь и вкось евангельскую правду Они вертели...»;торговцы индульгенциями, размахивающие папскими буллами с епископскими печатями, чтобы выманить у простого народа как можно больше золота; отшельники с кривыми посохами, идущие по дороге в Уолсингем, «а с ними – девки их», «работать лень болванам долговязым», а также вздорные монахини из монастырей, возмущающиеся, когда повар
«приготовлял им супы из болтовни о том, что дама Джен-незаконнорожденная, А дама Кларисса – дочь рыцаря, а ее муж – рогоносец, А дама Перонелла – дочь священника и настоятельницей никогда не будет, Потому что она имела ребенка во время сбора вишен; Весь наш капитул это знал...»Епископы и бакалавры, канцлеры и магистры, деканы, архидьяконы и архивариусы, «сгибающиеся под тяжестью серебра, полученные за отмывание наших грехов», все английское духовенство проходит перед глазами поэта.
Ленгленд видит, что то, что хорошо для мирян, хорошо и для священников:
«Большая часть этих людей, проходящих по бренной земле, Пользуется почитанием в этом мире и не желает лучшего».И те и другие были испорчены повсеместным стремлением к мирским богатствам; и те и другие забыли основную цель христианства. Именно от истинной церкви, когда он неожиданно сталкивается с ней в своем сне, который он и передает, он выясняет, в чем заключалась эта цель:
«Ибо Правда говорит, что Любовь есть небесное средство: ...И это дело Бога Отца, который создал пас всех, Смотрел на нас с любовью и допустил своего сына умереть Кротко за наши прегрешения, чтобы искупить нас всех; И Сын, однако, не хотел зла тем, которые причинили ему такую муку, Но кротко устами своими просил он прощения И жалости к этому пароду, который замучил его до смерти... Поэтому я советую вам, богатые, имейте жалость к бедным. Хотя вы имеете большую силу в судах, будьте кротки: в ваших делах, Ибо той же мерой, какой вы неправильно мерите других, Вас самих будут взвешивать, когда вы уйдете отсюда... Но если вы не любите искренно бедных и ничего им не даете, Не делитесь с ними щедро тем добром, какое вам Бог послал, То вы имеете не больше заслуг своими мессами и часами, Чем Молкип своей девственностью, которая не интересует ни одного мужчину».Повернувшись спиной к миру, автор видения и толпа кающихся отправляется в паломничество, чтобы найти Св. Правду – святого, о котором профессиональный пилигрим, чьи шляпа и плащ были увешаны символами тех святынь, которые он посетил, по его уверениям никогда не слыхал. Именно здесь пилигримы случайно встретили на обочине дороги бедного пахаря, чья простая вера в Бога и бескорыстная служба своим братьям людям очень резко подчеркнула весь обман и тщеславие Церкви и государства. Потому что без единой жалобы он нес бремя других, потому что он был правдивым, справедливым и преданным своему слову и провел свои дни, обрабатывая землю тяжким трудом для общего блага, «как вопрошает настоящая жизнь», он и смог указать путь к Св. Правде:
«Стремись совершать то, – сказал он пилигримам, – о чем гласит твое слово, То, что увидит Господь, то и предстанет перед судом».Он представлял старомодную мораль. Он ожидал от рыцарей и лордов, что они будут защищать Святую Церковь и охранять простолюдинов от расточителей и грабителей, охотиться на ту дичь, которая наносит урон изгородям и посевам, быть милостивыми к бедным держателям и защищать их от несправедливых налогов. Он осудил всех бездельников, попрошаек и сквернословов и всех тех, кто вел безнравственный образ жизни. «Роберт бездельник, – провозгласил он, – ничего от меня не получит».
Ибо Ленгленд питал к нищим мерзавцам и бездельникам не больше симпатии, чем к богатым. Его отец являлся вассалом древнего пограничного с Уэльсом дома Деспенсеров и вместе со своей бедностью он, казалось, унаследовал уважение за феодальную преданность. У него не возникало желания уничтожить тот государственный порядок, при котором он жил, только сделать его более справедливым. Когда в его поэме рыцарь, чья совесть была тронута жертвенностью и честностью Петра, спросил его, в чем же заключаются его обязанности:
«Клянусь Святым Павлом, – сказал Петруша, – вы даете такое прекрасное обещание, Что я буду трудиться, потеть и сеять для нас обоих И другие работы выполнять из любви к тебе всю мою жизнь, С условием, что ты будешь охранять Святую Церковь и меня От расточителей и злых людей, которые разоряют этот мир».В мировоззрении этого консервативного моралиста нет ненависти, только жажда справедливости. «Христос на кресте, – написал он, – сделал всех нас братьями по крови».
При этом Ленгленда глубоко потряс контраст между плохо используемым богатством и незаслуженной и повсеместной нищетой. Для него, как и для более поздних английских идеалистов, отрицанием христианства казалось то, что честный бедняк угнетен и обманут. Возникало глубокое возмущение основателем его религии:
«Иисус Христос на небесах В одежде бедняка всегда преследует нас... Ибо на Крови Христа процветает весь христианский мир, И братьями по крови мы стали там... и благородным стал каждый из нас».Его сердце было взволнованно, его возмущение вызывали «узники в долговых ямах и бедняки в коттеджах, обремененные детьми и рентой лорда»:
«Старые люди и седые, бессильные и беспомощные, И женщины с детьми, которые не могут работать, Слепые и больные и со сломанными членами, Которые переносят это несчастье с кротостью, как и прокаженные и другие... Из любви к их кротким сердцам наш Господь пожаловал им Их покаяние, и их чистилище здесь, на этой земле».Пока все они находились в пренебрежении, он не мог почитать «лордов и леди и других в мехах и серебре». Подсознательно в его видении всегда присутствовало напоминание о Кресте и о том, что Христос выстрадал в бедности и пренебрежении, чтобы люди могли жить, и жить более богато:
«И я снова уснул и внезапно привиделся мне, Тот Петр Пахарь, весь вымазанный в крови, Шел с крестом перед простыми людьми, И походил всеми своими чертами на нашего Господа Иисуса Христа. Затем воззвал я к Совести, чтобы сказала мне правду. Христос ли это, – спросил я, – которого евреи приговорили к смерти? Или это Петр Пахарь? Кто вымазал его в крови? Сказала Совесть, преклонив колена: „Это герб Петра, Его цвета и щит, и он, который идет весь в крови, Есть Христос со своим крестом, покоритель христианского мира”».Это сильно отличалось от тех гербов, которые носили рыцари Ордена Подвязки на пирах в виндзорской Круглой Башне.
Еще сильнее жажды справедливости было у Ленгленда чувство сострадания. Когда бездельники и расточители увильнули от своей работы на поле Петра и в результате были наказаны Голодом, пахарь пожалел и накормил их, хотя он знал, что, как только голод уйдет, они опять впадут в праздность и безделье:
«Они мои кровные братья, ведь Бог искупил нас всех. Правда, некогда учил меня любить каждого из них И помогать им во всем, когда они в нужде... Люби их и не брани, пусть уж сам Бог с них взыщет».Это произведение, написанное не тем, кто был хорошо образован и защищен наследственным богатством от жестокой борьбы за выживание и убогой средневековой бедности, но тем, кто все время находился на грани, «Петр Пахарь» смело бросало в лицо вызов всему христианству. Оно являло собой нечто большее, чем протест против социальной несправедливости, хотя и по этому поводу не было еще написано ничего более убедительного. Это глубоко религиозная поэма – замечательная по своему содержанию, если не по своей литературной форме, как, например, «Божественная комедия». Ибо весь его аскетизм, те добродетели, которые превозносит автор, заключались в прощении и милосердии. Когда священник зачитывает прощение, которое Петр получил от Правды для тех, кто честно трудился на земле или страдал от непомерных тягот или бедности, и оно заключалось в следующих суровых словах:
«Делай добро и поступай хорошо – и Бог возьмет твою душу, А если будешь делать зло и поступать худо, то не найдется ни на что другое, Кроме того, что после дня твоей смерти дьявол возьмет твою душу».Пахарь, сталкиваясь с этим безжалостным видом ветхозаветного правосудия, с негодованием рвет его.
Ибо когда после пробуждения «голодным и нищим» на Мальвернских холмах автор снова возрождает в памяти свой призрачный поиск тайны христианства, блуждая в одиночестве «летним днем», это для того, чтобы обнаружить что-то, превосходящее стандарты «Делай добро», примера суровой добродетели спасения, на которой настаивал священник. Наслаждающийся «счастьем птиц», поющих в «диком лесу», он опять впадает в сон, в котором высокий мужчина, подобно ему, зовет его по имени и называет себя Думой. От него он и узнает ответ на то, что ищет:
«Делай добро, делай больше добра и делай только добро, – провозглашает он, Вот они эти три прекрасных добродетели, и их нетрудно отыскать, Тот, кто правдив в своих речах и хорош в своих руках, И зарабатывает свой хлеб своим трудом или возделыванием земли, И кому можно доверять, и кто берет только то, что положено ему, И не является пьяницей и не презирает других, делай добро будет с ним. Делай больше добра – вот где правда, и он сделает гораздо больше, Он скромен, как агнец и приятен в речи И помогает всем тем, кто нуждается в нем... Делай только добро стоит выше тех двух и несет епископский крест, Он находится на краю, чтобы вытащить невинных из Ада: Но у него и есть пика – что бросать туда грешников».На протяжении оставшейся части поэмы, а большинство английской речи здесь находится в логическом беспорядке, ее причудливой бессвязности и подчеркнутой силе чувств, поэт ведом аллегорическими героями, чтобы познать каждую из трех ступеней на лестнице христианского совершенства. На каждой Петр, подобно Христу в его земной жизни, представляет себя первообразом, сначала в своей первичной форме представляя
«всех трудяг, кто живет только своим трудом, и получают справедливый заработок, который они честно заработали, И существуют в любви и законе» –образ, который включает для Ленгленда всех, кто в любом жизненном проявлении исполняет свой долг перед своими собратьями-людьми. С «делай больше добра» поэма переходит от Ветхого Завета к Новому. Суть его в любви:
«Он связал нас братскими узами и молится за наших врагов, И любит тех, кто обманывает нас, и помогает им, когда они нуждаются в помощи, И отвечает добром на зло, ибо Господь сам руководит им».Добродетели, требуемые теперь, это милосердие, прощение, терпение в горе и бедности, радостное принятие всего того, что пошлет Господь. Люди не должны думать о завтрашнем дне, а любить своих собратьев, узнавать от природы как Провидение обеспечивает всех в своем «естестве», как «пост никогда не был жизнью, но средства к жизни были дарованы» – тема, которая дает поэту возможность обнажить свою страстную любовь к природе:
«Я видел солнце и море и затем пески И где птицы и звери искали себе пару, Диких червей в лесах и сказочных птиц С пятнистыми перьями многих цветов».Петр теперь объят жизнью созерцательной – той, которая сильно подходит к бедному, без средств к существованию ученому, подобно Ленгленду:
«Ибо если бы небо спустилось на землю и стало бы доступным любой душе, То это произошло бы в монастыре или в учении... Ибо в обитель человек приходит не браниться или браться, Но учится учтивости и читать, и изучать книги» –за этим отрывком следует резкое осуждение того, чем стала монастырская жизнь в современной ему Англии. В соответствии с принципом «делай больше добра», за образом жизни его героя следует путь к полному христианскому милосердию, куда бы он ни вел. «Тот, кто ничего не дает, тот не любит», – вот его принцип, и не существует границ в его проявлении.
«Иисус Христос, царь небесный, В робе бедняка преследует нас всегда, И смотрит на нас его глазами и с любящим одобрением, И познает нас через наше доброе сердце».На последней стадии своего сна поэт случайно встречается с высшей формой христианской добродетели:
«Делай только добро, мой друг, и пусть это будет тебе законом, Любить своего друга и своего врага, вот что значит делать больше добра, Давать и помогать молодым и старым, Исцелять и поддерживать – вот что значит только добро».И вдруг мы понимаем, что Петр стал первообразом самого Христа. Мы видим его как «делай только добро», въезжающего в Иерусалим, чтобы сразиться за человеческую душу:
«Этот Иисус знатного происхождения будет сражаться руками Петра В его шлеме и его кольчуге как humana natura».Затем следует самая замечательная сцена в поэме, Мучения Ада, когда после агонии на кресте воскресший Христос бросает Люциферу вызов в его темном государстве и, предвещаемый Светом, востребует души проклятых:
«„Кто является господином твоего искусства, – говорит Люцифер, – Quis est iste?” „Rex glonae”, – отвечает Свет Господин суши и моря, и всех видов добродетелей, Герцоги этого темного места, распахните ворота, Ибо Христос может войти к сыну царя небесного».Затем Петр, теперь предстающий как воплощение Господа, говорит сам:
«Я и есть господин жизни, любовь – мой напиток, И за этот напиток умер я на земле... Теперь я вернусь как царь, венчанный ангелами, И вырву из Ада души всех людей... Ибо я был недобрым царем, пока не помогло мне мое милосердие».В своей вере в полное спасение всех людей, даже проклятых, Ленгленд выходит далеко за пределы христианской теологии своего времени. Не существовало никаких научных аргументов, которые привели его к этому выводу, но его признание врожденной греховности и безнадежности человеческой природы нуждалось в прощении и возрождении, а его непоколебимая вера – в полном Божественном милосердии.
Поэтому, когда раздался пасхальный колокольный звон с Лондонских церквей, поэт пробудился -
«И позвал кит мою жену и Калотту мою дочь – Чтить и взывать к воскрешению Господню, И припасть к кресту у его колен и целовать его как сокровище, Ибо благословенное тело Господа несет нам паше спасение».Взгляд Ленгленда на христианство, как и взгляды Уиклефа, был достаточно личным. Он видел, что вера зависела не просто от следования церковной доктрине и ритуалу, – во что ни один другой человек не верил больше, чем он, – но от индивидуального стремления к истине и проведении в жизнь акта христианской любви. Она основывалась не просто на осознании жертвы Христа, но на готовности каждого последовать Его примеру. «Клирики сказали мне, – написал он, – что Христос везде, хотя я никогда не видел его наверняка, за исключением в самом себе, как в зеркале».
«Петр Пахарь» – это подтверждение возрождения таинства, заключавшегося в том, что небесного царства может достигнуть каждый, но через любовь и жертвенность.
В последних строках своей работы, переписанных незадолго до своей смерти, – никто точно не знает, когда он умер и где похоронен, – пугающей схизмой христианского мира и рассматривавших Петра как апостола, которому Христос доверил свою церковь, Ленгленд страстно воззвал к единению всех христиан:
«Давайте взовем к людям, чтобы они объединились, И там вместе вынесем и примем битву с сынами дьявола».Несмотря на понимание отношения своих соотечественников к церкви, которое он прекрасно видел со своей низкой позиции в священной армии обездоленных и отверженных, он понял то, чего не понял Уиклеф, нужду человечества в Божьем руководстве, «ибо духовенство есть хранитель под началом господа небесного». Его заключительным словом был отказ от отчаяния и вера, которая каким-либо образом, несмотря на злоупотребления и раскол, поиски истины и христианских добродетелей, закончится победой:
«Христос, – говорит Совесть, – сделал меня пилигримом, И должна я бродить до конца мира, Чтобы найти Петра Пахаря и уберечь его от Гордости».Глава XII ХРИСТОС ПРОСТОЛЮДИНОВ
«Англичане на самом деле страдали все это время, по в конце они так жестоко отплатили за это, что это, возможно, было большим предупреждением. Ибо никто не смел смеяться над ними; господин, который возвысил их и поверг их в бездну, находится в состоянии тяжкой угрозы своей жизни... Нет под солнцем народа, настолько опасного, когда речь идет о простолюдинах, как народ Англии».
ФруассарВсего лишь на некоторое время после вступления на престол нового короля, в надежде, возбужденной новым царствованием, раздоры, разделявшие правителей королевства, были прекращены. Уильяму Викенгемскому вернули все его церковные владения и доходы, Питера де ла Мара выпустили из замка Гонта в Ноттингеме, а Гонт лично, ненавидимый всеми герцог Ланкастера, помирился с лондонцами, продемонстрировав свою преданность и добрую волю, упав на колени перед мальчиком королем и прося его простить жителей за их мятежное поведение против него. Проехав из Тауэра по ликующим улицам со своим товарищем по нарушению городских вольностей, лордом Перси, маршалом со своей стороны, он нес меч Curtana на коронационной церемонии юного короля, «прекрасного, как новый Авессалом»[457]. «Это был день радости и счастья, – писал хронист, – давно ожидаемый день возобновления мира и законов страны, долгое время находившихся в загоне из-за слабости старого короля и алчности его придворных и слуг». Спустя три месяца на церемонии открытия нового парламента в октябре 1377 года, герцог встретил обвинения своих врагов речью, в которой он объявил, что никто из его предков не был предателем, но все они были достойными и преданными людьми, и что было бы странным, если бы таковые и нашлись, ибо ему есть что терять и гораздо больше, чем кому-либо другому из подданных королевства.
Хотя при этом из-за подозрений, которые имели отношение к Ланкастеру, он отошел от основного руководства делами, совет регентов, который управлял страной вместо него, вскоре оказался в большом затруднении. Война все более вела к катастрофе. Потеря власти на море и вражеский контроль Ла-Манша все портил. Остров Уайт был захвачен и оккупирован французской армией; Фоуэй, Плимут, Мельком Регис, Пул, Гастингс, Рай и Грейвсенд были разграблены и сожжены. Рыболовецкий флот Ярмута был разбит, устье Темзы, которое должно было охраняться бонами и приором Льиса, который руководил ополчением восточного Эссекса против французских захватчиков, находилось под угрозой захвата врагами. Когда спалили Грейвсенд, был такой переполох, что лондонские ворота были усилены опускающимися решетками и навесными башнями (барбаканами), а также через реку была протянута цепь, соединившая две наскоро построенные башни для защиты Пула и двух десятков небольших бухточек и причалов, расположенных вдоль северного берега Темзы, через которые и осуществлялась вся торговая деятельность столицы. Даже внутренние города, подобно Оксфорду, были приведены в состояние боевой готовности к защите.
При этом никакого нашествия так и не случилось, если не считать обычные набеги шотландских разбойников на Нортумберлендские долины. Мастерство английского населения южного и восточного морских побережий и эстуариев, кормившегося за счет моря, и довольно долгое время используемых в целях континентальных захватов, мало-помалу самовозродилось. Когда французский транспорт появился в Саутгемптонских водах, губернатор, сэр Джон Арундель, вышел в море на лодках вместе с лучниками и изгнал его. А раздраженный захватом шотландцами, французскими и испанскими пиратами купеческого конвоя рядом со Скарборо, богатый лондонский зеленщик и член парламента по имени Джон Филпот[458] снарядил на свои собственные средства эскадрон и выиграл дело в проливе, вернув большинство из потерянного добра и захватив пятнадцать испанских кораблей и их шотландского командующего.
Ибо хотя Англия больше и не обладала верховенством, заставлявшим ее бояться, на уровне местной власти здесь не было недостатка в отважных сердцах. Сэр Хьюго Колвли, тот «кто не спал на своем посту», и чей послужной список начинался с битвы при Креси, вышел морем из Кале, сжег Булонь и разграбил ярмарку в Этапле. Когда в 1378 году бретонцы восстали против своего правителя из династии Валуа, а десант, посланный им на помощь, был остановлен намного превосходящими французскими силами, старый флибустьер, действовавший в качестве адмирала, заставил хозяина своего корабля повернуть назад, чтобы спасти своих людей, «отказавшись со своей обыкновенной храбростью уходить, пока он не увидит, что все другие люди находятся в безопасности». Его изображение в полном вооружении все еще покоится на великолепной коллегиатской церкви, которую он основал в Банбери на те деньги, которые добыл в войнах. Его друг и товарищ, чеширец сэр Роберт Ноллис, служивший лейтенантом у младшего сына Эдуарда III Томаса Вудстокского, также покрыл себя славой, совершив летом 1380 года марш из Кале в Бретань по старому и хорошо знакомому маршруту через Артуа, Шампань и Луару, и тем самым сохранив армию от катастрофы при осаде Нанта.
При этом новая Бретонская война не принесла Англии никаких выгод, кроме разочарований и расходов. Попытка Джона Гонтского захватить Сен-Мало не удалась, в то время как атлантический шторм зимой 1379 года отправил ко дну экспедицию под командованием сэра Джона Арунделя[459]. В следующем году умер французский король, чья политика вознесла его страну из бездны поражений, в которой она находилась, а также умер и великий солдат дю Геклен, который своей фабианской тактикой побил противника его же оружием. При этом хотя и ни одна из стран – а обе они теперь управлялись несовершеннолетними королями – больше ничего не могла с этого получить, война продолжалась, в основном потому, что не было никого, кто бы мог положить ей конец. Папство, которое могло бы сыграть свою традиционную роль посредника, было разделено схизмой, французский папа Клемент поддерживал Францию, а итальянский папа Урбан – Англию. Каждый поносил сторонников своего противника и преследовал собственные цели в этой войне, рассматривал ее как крестовый поход против Антихриста.
Только небольшая группа англичан была втянута в эту борьбу. При этом их чувство национальной гордости, рожденное победами Эдуарда III и Черного Принца, было глубоко оскорблено. Тогда, как жаловался возмущенный проповедник, Англия была большим кораблем, способным выстоять любой шторм: король был его рулем, общины – мачтой, а добрый герцог Ланкастера – адмиральским катером -
«Величественным он был и высотой с башню И наводил ужас на весь христианский мир» [460] .Человеком, которого ругали за все невзгоды, был Джон Гонтский, чья неудача в захвате Сен-Мало так печально контрастировала с победами его отца и тестя, и даже с победами купца Филпота. Открыто живя с воспитательницей своих детей – которая была большой любовью всей его жизни и прародительницей будущей британской королевской семьи – он, казалось, призывал гнев Неба на свое королевство. В своем уединенном жилице в Тосканских холмах кембриджский ученый и августинский монах, ученик Св. Катерины Сиенской, Уильям Флит, записал свои страхи, за которые его собратья англичане могут быть прямо наказаны из-за своих грехов. «Молюсь, молюсь за Англию, – написал он, – у меня на уме только Англия и ее король»[461].
Джону Гонтскому настолько не доверяли, что ходили слухи, будто он отравил сестру своей первой жены ради получения ее наследства и замышлял то же самое против своего племянника, короля Ричарда. Хотя казалось, для таких подозрений не было никаких оснований, огромное богатство герцога, гордыня и самодержавные замашки говорили не в его пользу. Осенью после его неудачи при Сен-Мало пятьдесят его сторонников ворвались в Вестминстерское Аббатство во время мессы и выволокли из святого убежища двух сквайров по имени Хаули и Шейкел, бежавших из Тауэра, куда он посадил их за отказ выдать ему молодого испанского заложника, которого он хотел использовать в поддержку своих требований на кастильский трон. За этот акт насилия, в результате которого был убит один из беглецов, лейтенанты Ланкастера были отлучены от церкви епископом Лондонским и избежали смерти только благодаря его вмешательству. Но недовольство им опасно возросло; говорили, что он угрожал въехать в столицу во главе армии и захватить епископа, несмотря на сторонников последнего.
Оскорбленный патриотизм и недовольство дядей короля подогревались возмущением налогоплательщиков. Распространилось твердое убеждение, что суммы, вотированные парламентом на войну, были присвоены или, в лучшем случае, растрачены. Правительство сделало все, чтобы отвести эти подозрения, согласившись по требованию как Лордов, так и Общин назначить двух лондонских горожан для контроля за военными расходами. При этом даже такой захват эксклюзивного права короля на контроль военных расходов не удовлетворил Общины. В начале 1380 года, после кораблекрушения экспедиции сэра Джона Арунделя, спикер потребовал назначения парламентской комиссии для проверки расходов королевского двора. Они даже потребовали – и это требование было удовлетворено – замену канцлера сэра Джона Скрупа архиепископом Кентерберийским Симоном Садбери и смещения совета регентов на том основании, что тринадцатилетний король находится «теперь в достаточно зрелом возрасте и прекрасной форме».
Всегда было нелегко заставить англичан платить налоги. Может, более чем другие средневековые люди, они рассматривали их как грабеж и несправедливость. Эволюция их управления за последние два века заставила их правителей признать, что согласие облагаемых налогом на новые подати может быть получено только путем включения их в решение вопросов налогообложения. Когда Великая Хартия Вольностей ограничила феодальное обложение земли, подати, взимание с личного имущества и торговли, применялось то же правило. Отказывая феодалу в его праве налагать подати по собственной воле, к принципу, по которому подданный должен принимать участие в фискальном бремени, возложенном на него, апеллировали на всех уровнях структуры налогообложения. Всякий раз, когда парламент соглашался на то, что пятая, десятая или пятнадцатая часть от всего имущества должна быть взимаема в качестве налога, в каждое графство посылались судьи для определения местной части, которую должны были выплатить рыцари, представители от каждой сотни, которые, в свою очередь, встречались с представителями от каждой деревни, где жюри, состоящее из специальных дознавателей, решало о количестве, качестве и стоимости облагаемых товаров в приходе.
К царствованию Эдуарда III, с растущей потребностью в субсидиях, эта консультативная система обложения[462] тала настолько причинять всеобщее беспокойство, что в результате соглашения 1334 года между чиновниками Казначейства и представителями местностей для каждого графства, сотни или прихода была определена фиксированная оценка, пропорциональная доли субсидии, – и это распределение с тех пор оставалось Неизменным. Этим методом во время его царствования было получено более 400 тыс. фунтов субсидий со светских лиц. Но война, которая в победные сороковые и пятидесятые финансировала сама себя, продолжаясь до семидесятых годов, вынуждала правительство и парламент искать новые пути получения денег для содержания за границей королевских войск гарнизонов. Каждый год корона все больше и больше впадала в долги, ревизование и расплата по счетам запаздывали, и страна все более и более теряла звонкую монету. Состояние финансовой напряженности усугублялось общим недостатком драгоценных металлов по всей Европе.
В 1371 году, через два года после возобновления войны, парламент принял новый вид налога на каждый приход в Англии по обычной ставке в 22 шиллинга 3 пенса, упоминание же о разнице в благосостоянии было встречено следующим замечанием: «каждый приход, более богатый, должен помочь другому, более бедному». Надеялись, что такими мерами можно будет получить 50 тыс. фунтов, при этом неопытные королевские министры предполагали, что в стране существует около 50 тыс. приходов. Однако вся сумма составила только 9 тыс. – факт, о котором хорошо знали смещенные министры-церковники. В результате личный вклад каждого прихода должен был вырасти до 116 шиллингов вместо 22 шиллингов и 3 пенсов.
Спустя шесть лет последним парламентом Эдуарда III было предпринято еще более революционное нововведение. Это был подушный налог в 4 пенса с каждого представителя светского взрослого населения за исключением попрошаек. Этот «сбор гротов[463]», как его называли, облагавший самых бедных по той же ставке, что и самых богатых, был исключительно непопулярен, и его было очень трудно взимать. Но он взывал к парламенту землевладельцев и предпринимателей, ибо впервые парламент ввел прямое налогообложение на крестьян и неимущих рабочих.
Два года спустя налог был введен снова, хотя в этот раз по ступенчатой шкале, чтобы смягчить наиболее явные несправедливости. Графы, вдовствующие графини и мэр Лондона, который по своему положению был эквивалентен графу, были обложены по 4 фунта каждый, а герцог Ланкастера, самый богатый человек в королевстве, на 10 марок, ровно в половину предыдущей суммы. Бароны, знаменосцы, рыцари, лондонские олдермены и мэры крупных провинциальных городов должны были платить 2 фунта, другие преуспевающие эсквайры и купцы – 1 фунт, более мелкие купцы и ремесленники в соответствии со своим статусом от 6 шиллингов 6 пенсов до 3 шиллингов 4 пенсов, фермеры держатели и торговцы скотом – шиллинг, и все остальные, как и ранее, четыре пенса. Результат однако был исключительно небольшой, и вместо того, чтобы принести ожидаемых 50 тыс. фунтов, налог принес только 22 тыс.
Осенью 1380 года, столкнувшись с отчаянной нуждой правительства в деньгах, новый парламент, встретившийся в Нортгемптоне, ввел налог в третий раз. При условии, что 33 тыс. было внесено церковью, которая предпочитала отдельное налогообложение[464], Общины согласились на сумму в 66 тыс., которая должна была быть изъята со светского населения. Это утраивало подушный налог в расчете, что поскольку в прошлые разы грот с души приносил 22 тыс., шиллинг с души принесет в три раза больше. Эта ступенчатая шкала, однако, опущена в пользу изначальной уравненной ставки, крайняя сумма должна была выплачиваться по принципу справедливости, заключавшегося в том, что более обеспеченные должны «в соответствии со своими возможностями помочь бедным». Никто не должен был платить более чем фунт за себя и свою жену и не меньше, чем грот. Небольшая уступка была сделана в пользу беднейших налогоплательщиков тем, что был повышен возраст, обязывающий к уплате налога с 14 лет до 15.
Для крестьянина была большая разница между гротом и шиллингом. Последний являлся почти пятой частью годового дохода наемного рабочего без содержания. Даже человек и его жена без других иждивенцев должны были платить 2 шиллинга налога – эквивалент более чем 5 фунтам сегодня – тогда как домохозяин, имевший большую семью, должен был бы выплатить налог за нескольких пожилых членов семьи или женщин. Подушный налог отразил мнение землевладельцев и предпринимателей в том, что со времен чумы «благосостояние королевства находилось в руках ремесленников и рабочих». Оно не только демонстрировало поразительное незнание обстоятельств тех «простых людей, чьи занятия находятся в пренебрежении на земле»; этот налог проигнорировал и принцип, на основании которого парламент долгое время выдвигал свои претензии на участие в управлении государством: что не должно быть налогообложения без представительства и согласия. Крестьянство и городские ремесленники, на которых тяжким бременем лег этот налог, абсолютно не были представлены в парламенте магнатов, прелатов, землевладельцев, купцов и юристов. И они уже трудились, ощущая чувство горькой несправедливости.
В это время, возможно, около половины англичан не было легально свободным, но связанным узами наследования с той землей, которую они обрабатывали[465]. Они не могли востребовать права свободного человека по общему праву, позволявшие осуществлять представительство в парламенте. Так, феодализм, частью которого это и было, крепостная манориальная система открытых полей центральной и южной Англии находились в упадке и уступали место экономике, базирующейся на наемном труде и арендных хозяйствах. Но они все еще являлись основой жизни почти миллиона мужчин и женщин, которые, хотя технически и не были крепостными, рождением были связаны с землей и вынуждены были осуществлять безвозмездные повинности в пользу своего лорда. От такого крепостного состояния они могли освободиться только в связи с официальным пожалованием вольной или бегством из своих домов и со своих полей в вольные города, где крепостное состояние было давно отменено и где проживание сроком один год и день давало человеку право на свободу.
Хотя человек и был защищен королевским судом от всех за исключением своего лорда, крепостной крестьянин не мог подавать иск в суд по поводу своей земли, скота или собственности, всего того, что в глазах закона принадлежало его лорду, а также защиты его собственных прав, которые зависели от обычаев и решений манориального суда лорда. В соответствии с феодальной практикой лорд мог налагать на него поборы «по своему желанию», в отличие от фригольдера, которого парламент защищал от таких произвольных требований. Если он желал продать скотину, он должен был платить штраф, ибо лорд имел долю в его имуществе. Если он желал женить сына или выдать замуж дочь, он должен был платить то, что называется меркетом[466], ибо поскольку крепостное состояние являлось наследственным, лорд также имел свою долю и здесь; если его незамужняя дочь забеременела, то он должен был платить leywrite[467], чтобы компенсировать снижение ее ценности. Если же виллан хотел поселиться вне пределов манора, то он должен был получить разрешение лорда и, даже если он не владел землей в маноре, он платил chevage[468], чтобы компенсировать потерю его услуг. В случае его смерти его вдова или наследник вызывались для уплаты гериота, который выражался традиционно в лучшей голове скота или части движимого имущества. И хотя земля, которую он обрабатывал, и место, на котором он жил, переходило по обычному праву к его наследнику, последнему было разрешено получить его только когда тот уплатит побор на вступление во владение, обычно равный годовой стоимости ренты или услуг[469].
Размеры повинностей виллана, которые он должен был приносить лорду, варьировались в зависимости от размера его владений и обычаев манора. Но где бы ни существовала система открытых полей, а она была распространена на большей части территории Англии за исключением пастушеского севера и запада и Кента, крестьянин все время сталкивался с неопределенными требованиями использования его времени и возмутительными ограничениями свободы свои действий. Среди них была и обязанность молоть свое зерно, выпекать хлеб и варить эль на мельнице, в пекарне и пивоварне лорда – «прошение мельницы» и «прошение пекарни», как они назывались, – что не только обогащало лорда, но и создавало возможности для всех видов сутяжничества и угнетения со стороны тех, кому лорд давал на откуп свои права[470]. Такой же возмутительной была и монополия лорда на голубятни и зону «свободной охоты», с которых орды голубей и кроликов нападают на крестьянские посевы, в то время как если крестьянин мстит посредством установки силков против этой заразы, то он сталкивается с тяжелым штрафом в ближайшем суде манора.
И все это вызывало большое негодование среди крестьянства. Крепостное состояние рассматривалось крестьянами как экономическое обложение и унизительное отличие. Оно больше не воспринималось как данность и использовалась любая возможность избежать или уклониться от его тягот. Кто больше всех возмущался им, так это самые богатые жители деревни, которые населяли традиционные загонные земли – владения размером 30 или более акров на пахотных полях с соответствующими правами при использовании манориальных лугов, пустошей и лесов. Владелец таких земель должен был за свои владения выполнять, лично или по доверенности, не только барщину на земле лорда по полдня три или четыре дня в неделю на протяжении всего года, но также осуществлять и дополнительные повинности под названием «дары любви» – даруемые в теории из любви к своему феодалу защитнику – в любое время года, сенокоса или урожая, во время бед и несчастий, когда ему необходимо выполнять как можно больше работы, чтобы он мог вырвать хотя бы средства на проживание из своей собственной земли.
Те, кто мог это позволить, таким образом, пользовались любой возможностью, чтобы коммутировать как можно больше таких повинностей в денежный эквивалент и платить его. В развивающейся экономике сельского хозяйства XIII и начала XIV веков многие крестьяне были способны освободить себя от более обременительной ноши, ибо прогрессивные землевладельцы часто предпочитали получать повинности в деньгах, чтобы нанять рабочих, чем зависеть от подневольного труда рассерженных крепостных. Без получения официальной вольной от лорда, они не могли, однако, получить полной свободы, ибо, независимо от обязанностей, прилагаемых к ней, – а это решал суд манора – крепостное состояние было наследственным, и закон мог и не поощрять продажу крепостного состояния, стоимость которого покупатель платил из собственности, на которую продавец имел частичное право[471].
При этом, хотя пятно позора, связанное с наличием рабской крови оставалось, огромное количество наиболее предприимчивых вилланов достигло экономического, если не социального, статуса, сравнимого с положением фригольдера. Часто такие люди брали в аренду землю фригольдера, прибавляя ее к вилланским владениям, которые они держали по обычаю манора. Даже приобретение земли и возвращение собственности к прежнему владельцу, которые появились в беспокойное царствование Эдуарда II, хотя они и замедляли, но не остановили процесс коммутации и, вместе с ним, постепенную замену крепостной системы хозяйствования на экономическую систему, частично использовавшую наемный труд.
Это постепенное освобождение было заторможено сокращением рабочей силы в Англии почти в два раза в результате Черной Смерти. Труд внезапно сделался самым дорогим предметом потребления в королевстве. Землевладелец, который не пошел на уступки своим крестьянам, обнаружил, что может обработать свои обезлюдевшие земли гораздо дешевле, чем тот, кто коммутировал крестьянскую ренту в живые деньги. Связанные соглашениями, позволявшими крепостным владеть их наделами за ренту, которая теперь не была никаким образом связана с тем, что они должны были платить за наемную рабочую силу, и отчаявшиеся от недостатка рабочих рук, многие лорды попытались силой осуществить свои права, чтобы охватить ими тех, кто остался.
Если Черная Смерть заставила лордов более осознать ценность обязательных повинностей, она также заставила и каждого крепостного все более стремиться их избежать. Сбросив свои древние оковы, крестьяне бежали из своих домов и нанимались за деньги далеко от своих родных мест, где не задавали вопросов. Это были часто беднейшие члены деревенской общины, которые не имели земли, именно они хватались за такую возможность – молодежь и те, кто не имел ничего, кроме орудий труда и своих умений, как пахаря или ремесленника. Попытки Общин и местных судей держать заработную плату на низком уровне посредством клеймения, заключения в тюрьму или забиванием в колодки, привело их к тому, что они сблизились по своим интересам со своими более богатыми соседями, которые столкнулись с требованием своих лордов исполнять повинности, которые они рассматривали несправедливыми и тираническими. На оба класса сельских жителей, владевших землей или безземельных, йоменов и поденщиков, обрушилось требование налога, в утверждении которого они не принимали участия, и чья несправедливость бросалась в глаза.
* * *
Крестьянское недовольство было направлено против чиновников и агентов лорда. В более крупных имениях лорда редко видели; там же, где существовал личный контакт, это недовольство могло быть смягчено соседскими и христианскими отношениями. Даже Джон Гонтский простил своих крепостных, плативших повинности, в тяжелые времена и раздавал около двух фунтов милостыни каждую неделю. Но от сборщиков и бейлифов, которые выбивали из крестьянина исполнения тех повинностей и выплаты тех рент, на которые жил землевладелец, от стюарда (управляющего), председательствовавшего в манориальном суде, и юристов, заявлявших крайние претензии с его стороны, крестьяне видели мало милосердия. Времена были тяжелые, деньги было заработать очень трудно, расточительный правящий класс, нуждавшийся во все большем доходе, больше не мог получать его от побед за границей. Дело их агентов заключалось в том, чтобы выяснить все возможные повинности и платежи, которые можно было получить с крестьянства. В процессе этого они часто изымали – а чаще их в этом просто подозревали – более, чем крестьяне были должны или чем лорд получал в конечном итоге.
Самыми тяжелыми хозяевами были монастыри, по которым сильно ударил экономический спад и чума, и которые никогда не имели возможности, подобно светским лордам, компенсировать свои потери за счет военного грабежа и выкупа. Исключительно консервативные и, подобно всем корпорациям, безличные в деловых отношениях, они оправдывались тем, что их поборы были необходимы на благо Господу. Легче, чем все остальные, они могли доказать свои права на давно недействительные повинности посредством хартий, которые хранились в каждом религиозном учреждении, подкрепленных дружбой с сильными мира сего, и, иногда, если верить выдвигавшимся против них обвинениям, усовершенствованных небольшой набожной, но умелой подделкой[472]. Понимая священность своих требований, они не всегда были очень тактичны с теми, чьим трудом жили; аббат Бертон говорил своим держателям, что у них ничего нет, кроме своих внутренностей. Из всех тех, кто насаждал права лорда, наиболее ненавидимыми были юристы. Точно так же, как XIII век внес в английскую жизнь новую фигуру в виде нищенствующего монаха, XIV век привел другого и гораздо менее популярного персонажа – юриста. С тех пор как Эдуард I установил образование для юристов под руководством своих судей и изъял его из компетенции Церкви, их богатство и влияние быстро выросли. В восприимчивом и развивающемся обществе, где сутяжничество заняло место частных войн, братство в шапках – белых шелковых шапках, которые носили королевские барристеры и судьи, выбиравшиеся из них, – составляли новую аристократию. «Закон, – написал Ленгленд, – это выросший лорд!» Их богатство было феноменальным; в списках подушного налога за 1379 год судьи Королевской скамьи и Суда Общих Тяжб облагались по ставке большей, чем графы, и в два раза большей, чем бароны, с которыми адвокаты и более крупные «законных дел мастера» или барристеры, как их стали называть позднее, были определены в одну группу. Даже «более мелкие подмастерья, которые обучались закону» должны были платить столько же, сколько и олдермены.
Судьи в своих пурпурных одеяниях, украшенных белой овчиной или каракулем, и барристеры в своих длинных зелено-коричнево-голубых цветных мантиях, представляли собой такую же значительную фигуру, как магнаты или прелаты. Однако их великолепие не делало их профессию популярной. Никогда юристам не доверяли меньше, чем в конце XIV века. Простому христианину казалось неприличным то, как они зарабатывали на жизнь, не говоря о богатстве, создавая его из правосудия судебными хитростями. «Кто бы ни говорил об истине за деньги, – провозглашал проповедник, – или отправлял правосудие за награду, продает Господа, который являет собой и истину и правосудие»[473]. Юристы рассматривались как специальные защитники, которые выиграют любое дело за деньги и проведут невиновного техническими трюками и софизмами и тарабарщиной, которую никакой нормальный человек не в состоянии разобрать. В своем эпосе о христианской справедливости Ленгленд изобразил барристеров в своих шелковых шапках подобно соколам на жердочке.
«Они закон отстаивать готовы За фунт иль пенсы, а не ради правды. Измеришь ты мальвернские туманы Скорей, чем их заставишь рот раскрыть, Не посулив вперед хорошей платы» [474] .Они казались ему недостойными спасения.
Настолько распространено было убеждение, что юристы являются наемными бандитами, что в 1372 году Общины подали петицию с просьбой о принятии акта, который дисквалифицировал бы их как членов Палаты на основании, что они «умудрились вносить в парламент от имени Общин много петиций, которые Общин вообще не касаются, но сделаны в интересах конкретных лиц, с которыми они каким-то образом связаны». Направленные в особенности против атторнеев, которые виделись мошенниками и авантюристами, шатающимися по судам, чтобы завлечь доверчивых в тяжбу, в результате которой их точно надуют, было постановлено, что «ни один адвокат, занимающийся делами в королевских судах» не должен быть избран вновь как рыцарь от графства за исключением королевских барристеров, а если это уже произошло, то им не следует платить жалование, так как они уже получили деньги от своих клиентов. К счастью, для дальнейшего будущего парламента эта мера никогда не была строго исполнена, ибо графства и города продолжали считать юристов необходимыми в рамках государственного устройства, где все должно было делаться с демонстрацией закона[475].
Для юриста, поглощенного захватывающим интеллектуальным делом, и члена профессионального братства, которое уже создало чувство традиции и корпоративный дух, все это виделось в совершенно ином свете. Насколько ином – показано заявлением главного судьи Тернинга, что в царствование Эдуарда III «закон находился в самом своем совершенном состоянии, как когда-либо». При этом, хотя большинство судей и барристеров были людьми честными, гордыми своим званием и тем законом, который они осуществляли[476], мирянам закон казался непостижимо сложным и формалистическим. Истцы получали свои приказы аннулированными, а сами они оказывались лишенными права иска из-за мельчайшей ошибки в латинском тексте или даже правописании, или судьи аннулировали иск потому, что они считали, что он недостаточно похож на то, что уже существует, однако непохожесть эта была крайне необходима для нужд развивающегося общества. В начале века крупный судья подобно Уильяму де Бересфорду мог еще выходить за рамки буквы закона и настаивать, что если происходило грубое нарушение естественной справедливости, то суд должен предложить возмещение истцу, пострадавшему от данного формализма. «Это собственно не долг, но штраф, – сказал он истцу, который требовал последнюю штрафную унцию со своего крепостного, – какая же это справедливость присуждать тебе долг, когда документ предоставлен, а ты не можешь показать, что ты понес большие убытки от этой задержки?» При этом к сороковым годам судьи установили, что справедливость – это одно, а общее право – совсем другое, и что они обязаны поступать в соответствии со словами статутов и решениями своих предшественников. Если уже в 1345 году главный судья Стонор, который начал свою практику еще при Эдуарде I, мог еще заявлять, что «закон в том, что правильно», дух скамьи во второй половине века был четко выражен Хиллари Дж., когда он сказал: «Мы не можем и не будем изменять старинные обычаи»[477].
С точки зрения длительной перспективы, здесь были как преимущества, так и недостатки, ибо, ступая по хорошо проторенной дорожке, судьи и адвокаты создавали основную часть прецедента, настолько сильного, что, как только они следовали ему, даже король и его министры могли иметь трудности, чтобы заставить юристов отойти от него. Он должен был доказать защищенность людей от тирании. Но в тот момент основная угроза для обычного человека исходила не от короля, но от более могущественного соседа, который, с помощью силы и мошенничества, мог использовать формализм судебного процесса и букву закона, чтобы выманить у него его права или собственность. От этой косности общего права единственным спасением был король и его Совет – первоначальный источник, от которого судьи получали свою власть. Но как средство защиты от системы закона, созданного для сельского феодального общества, становившийся все более неадекватным, Совет передавал петиции на исправление и удовлетворение канцлеру, который, как глава исполнительной власти короны, имел у себя в канцелярии специальных клерков, занимавшихся созданием и выпуском приказов. Обычно, сам являясь церковником, воспитанным в канонических принципах справедливости, и в теории – «хранитель королевской совести», он казался естественной инстанцией, которой и могла быть доверена дискреционная прерогатива правосудия. Начав развиваться таким образом бок о бок с обычными судами, канцлерский суд справедливости преступал и попирал их правила, когда они очевидно не соответствовали естественной справедливости. Те, кто искали королевской милости, могли подать петицию Короне с просьбой принять меры, по которой, если канцлер после рассмотрения считал петицию или «билль» оправданным, он мог выпустить приказ, чтобы заставить сторону, о чьем несправедливом поведении была жалоба, вернуть данный под клятвой ответ под угрозой наказания или sub poena – тяжелого штрафа. Затем, изучив петицию и ответ на нее и позволив петиционеру и ответчику допросить друг друга под присягой, он затем разрешал дело без помощи жюри, как того требовала естественная справедливость. Во время вступления на престол Ричарда II процедура того, что должно было стать канцлерским судом, находилась, однако, в экспериментальной стадии.
В таком суде отчаянно нуждались. Ибо хотя «лица, имеющие власть и внушающие ужас» давно перестали применять силу, бросая открытый вызов короне и закону, они научились использовать свое богатство, чтобы подчинить суды и вертеть ими по своему желанию. Среди злоупотреблений правосудия, о которых жаловались в петициях в парламент, было назначение богатыми тяжебщиками в комиссии oyer et terminer тех судей, которые были известны своим благоволением к ним; дача взяток шерифам, чтобы подобрать правильный состав жюри и назначать дни суда без предупреждения защитников и в местах, где оные боялись бы показаться; финансирование исков с целью получить долю в случае успешного завершения дела – преступление под названием «чемперти»[478]; влияние на жюри посредством взяток, обещания или угроз – «давление на суд»; и продажность судей. То, что это последнее не было чем-то исключительным, показывает огромное количество судей, которые обвинялись «возмущенными людьми» в «продаже закона». Среди них в царствование Эдуарда III были двое главных судей Королевской скамьи и главный барон Казначейства.
Что же касается присяжных, эта профессия появилась в провинциальных судах из лиц под названием «дознаватели» (tracers), которые, если верить поэту Гауэру, стали специализироваться на поставке присяжных, чтобы они сами могли давать ложные показания, и к кому советовали обратиться тем, кто желал вынесения решения в свою пользу. Доминиканец Джон Бромиард говорил о присяжных, которые «поклявшись выяснить» являются ли данные люди ворами или честными людьми, ложно и сознательно оправдывают их», и он упоминает дело, где судья спросил присяжных, согласны ли они со своим вердиктом, один из них ответил: «Нет, потому что каждый из моих собратьев получил 40 фунтов, а я только 20!» На это Бромиард замечает: «Не тот, кто поступает справедливо, а тот, кто дает и берет больше – занимают должности и являются присяжными. Тот, кто может выставить со своей стороны больше воров и убийц, является хозяином!» Другой проповедник назвал суд присяжных «двенадцатью апостолами Дьявола»[479].
Самым тяжким из всех злоупотреблений в сфере закона была «поддержка», практика, когда истцы обеспечивали вооруженную поддержку могущественного соседа. Страна была полна капелланов и рыцарей, которые привыкли обогащаться через грабеж и выкуп, а также распущенных солдат того же сорта, что и наемники, которые разграбили Францию. Предлагая им свою поддержку и защиту, любой сельский магнат, особенно на беспокойном западе и севере, мог поднять частную армию, с помощью которой заставить и надуть своих более слабых соседей, прикрываясь формулой закона. С такой бандой ливрейных разбойников – набираемой по той же системе контрактов, что и королевская армия – в неконтролируемой сельской местности было легко захватить землю соседа или его скот по сфабрикованному обвинению и затем запугать свидетелей, обеспечить ложные улики, протоколы и подкупленных судейских чиновников, чтобы гарантировать вердикт, подтверждавший свершившийся факт. Проповеди того времени полны жалоб на «служащих могущественных людей, которые носят их ливреи, которые, под видом и при помощи закона грабят и обирают бедняков, избивая их, убивая их, выгоняя их из своего дома и лишая их своей земли». Время от времени, после особенно дерзких нарушений правосудия, разозленный парламент мог заставить официальные власти предпринять какие-либо меры. Один статут, принятый в начале царствования Ричарда II, говорил о практике, по которой лорд мог дать своим соседям «шапки и ливреи... с такой договоренностью, что каждый из них будет поддерживать его во всех ссорах, правых или нет»; другой статут жаловался на тех, что «желая получить поддержку своих действий, собирались вместе в большом количестве людей и лучников, как на войне... и, отвергая закон, отправлялись такой большой толпой... и захватывали владения и вторгались в различные маноры и другие земли... и насиловали женщин и девиц... и избивали и калечили, убивали людей, чтобы получить их жен и имущество»[480]. В 1378 году Общины создали специальную комиссию, которая должна была объехать все страну с целью восстановления порядка. При этом из этого мало что вышло. Ибо еще не существовало национальной армии или полицейской силы, и никто не смел навлечь на себя гнев соседа, который мог использовать наемников для привлечения закона на свою сторону. Единственно благоразумным поступком было искать защиты последнего.
Метод Эдуарда по замене разваливавшейся феодальной военной системы другой, при которой можно было платить богатым и воинственным с целью найма солдат на основе расчета наличными деньгами, создал проблемы, которые находились вне пределов контроля короны. Другое нововведение Эдуарда – магистраты, состоящие из местного джентри, – также не было реализовано. В начале царствования Эдуарда III, следуя прецеденту, созданному его дедом, было постановлено, что «в каждом графстве добрые и законопослушные люди, которые не поддерживают грязных взяточников, должны быть назначены для поддержания мира». Спустя поколение, этим хранителям мира, как их называли, была дана власть расследовать уголовные преступления и проступки, а в 1359 году их функции были объединены с функциями тех судей, которые осуществляли введение Статута о рабочих. Установленные как суд Четвертных Сессий, чтобы они встречались подобно комиссионерам по рассмотрению рабочих дел каждые три месяца, им была передана большая часть уголовной юрисдикции, осуществлявшейся судами графства. Прямо ответственные перед короной и, после обращения к Общинам, получавшие жалования как рыцари от графства во время своих заседаний по ставке четыре шиллинга в день на каждого рыцаря, два – сквайра и шиллинг – для клерка[481], назначалось «три или четыре достойных человека от каждого графства», чтобы заседали в качестве судей, вместе с местным лордом и другими «обученными закону». Они должны были «расследовать все то, что касается мародеров и грабителей, бывших за пределами страны, и теперь вернувшихся, и тех, кто отправился бродяжничать и не работает, как они привыкли, и помещать их в тюрьму с той целью, чтобы эти люди не нарушали ни мир в графстве, не мешали ни купцам и другим людям проезжать по королевским дорогам».
Но в этом судьи мало преуспели. Нося ливрею местных магнатов, распущенные солдаты оказались самой большой угрозой чем когда-либо. Не имея никакой полицейской силы, кроме приходских констеблей, судьи не могли ничего сделать против данных закоренелых сторонников беззакония, которые иногда включали и самого лорда, с которым судьи заседали, и неизменно соседей, у которых они искали руководства в мире и войне и чьей доброй воле они были обязаны своим назначением. Главным занятием для новых судей стало введение постановлений против вилланов и ремесленников, которые воспользовались преимуществом недостатка рабочей силы по всей стране, чтобы улучшить свое положение. При этом, поскольку они сами являлись работодателями, в чьих интересах издавались данные постановления, вместо того чтобы навести порядок в неспокойной округе, они со всем негодованием обрушились на простолюдинов.
* * *
Крестьянину главным намерением закона казалось его угнетение и поддержание его рабского положения, которое лишало его свободы и возможностей. Через тридцать лет после принятия первого статута о рабочих судами было рассмотрено почти девять тысяч случаев о применении статута и почти во всех из них дело было решено в пользу работодателя[482]. Когда бедняк появлялся на ассизах или в Вестминстер-холле, он сталкивался с «огромной бандой» клерков, которые что-то писали и выкрикивали имена, его теребили навязчивые солициторы, привратники, приставы и судебные посыльные в поисках денег и чаевых, и, как истец в стихотворении Джона Лидгейта «London Lackpenny», после обращения к судье в его шелковой шапке, он понимал, что без возможности заплатить за профессиональный совет он ничего не достигнет:
«Я рассказал как мог ему о деле, О том, как вор лишил меня всего добра; А он ведь даже не раскрыл и рта, А денег было мало, хватало еле-еле».При этом дух общего права был совсем не в пользу крепостных. Несмотря на сильный классовый уклон и интерес его исполнителей, он все же инстинктивно развивался по направлению к свободе. Именно этим он отличался от гражданского права континентальных королевств, которое произошло от римского имперского права и было порождением цивилизации, чьей основой являлось рабство. Английским идеалом считался «свободный и законный человек» – Liber et legalis homo – облеченный правом равного правосудия, ответственный за действия других, только если он приказывает или одобряет их, и считается законом разумным и ответственным и, как таковой, предполагается к исполнению своей роли в управлении правосудием через представление местной общины перед королевскими судьями и оказании им помощи в определении фактов. Хотя многие когда-то свободные крестьяне стали зависимыми во времена феодальной анархии темных лет[483] и затем они были лишены своих вольностей при жадных завоевателях норманнах, но дух общего права уже предоставлял крепостному крестьянину права, которые им рассматривались как всеобщее наследие. Оно обращалось с крестьянином как со свободным при его сношениях со всеми, кроме своего лорда, защищая его даже от преступлений последнего и оправдывая его в вопросах, касающихся феодального статуса, держания, например, если речь шла о незаконнорожденном ребенке, из родителей которого один был свободен, то ребенок этот тоже должен был быть свободным, что противоречило повсеместной практике. И хотя оно навязывало крепостничество там, где оно могло быть доказано, оно все же толковало любой признак свободы как доказательства оной. Оно позволяло лорду, чьи крепостные бежали из его «вилланского насеста», получить приказ de nativo habendo, обязывающий шерифа поймать и передать беглеца обратно лорду, но оно позволяло и крестьянину получить приказ de liberate probanda, который оставлял его на свободе до тех пор, пока лорд не докажет в королевском суде право на его возвращение. «Изначально, – говорит судья Херл на процессе в царствование Эдуарда II, – все люди в мире были свободными, и закон настолько благоволит к свободе, что тот, кто однажды становится свободным или обнаруживается, что он принадлежит к свободному состоянию, в судебных записях должен оставаться свободным всегда, только если какое-либо его собственное действие не приведет его к состоянию виллана»[484].
Крестьянин не был настроен враждебно к закону, он лишь ненавидел юристов. Он был потомком англосаксонских и датских фрименов, которые больше всего гордились тем, что они были «достойны народного собрания». Он все еще заседал в маноральном суде, подобно своим лесным предкам, в качестве судьи, выполнял свои обязанности в суде присяжных и, в рамках своих корпоративных возможностей, помогал рассматривать вопросы закона и реальности. Ибо хотя со своими доходами и штрафами суд принадлежал лорду и руководил этим судом его управляющий, решения выносились всем составом его членов. Когда виллан нарушал его правила и обычаи, его судили равные ему, прямо как лорды в большом совете или парламенте королевства в Вестминстере подвергались суду равных. И безопасность его держания свидетельствовалась и заверялась признанием и решением суда. В пределах его вилланского статуса, этот суд представлял собой и суд, и архив, и внесение в его свитки – а также копия, которую он покупал у клерка суда, когда он платил побор при вступлении во владение своего отца, – были документами, подтверждающими его право собственности, хотя такая собственность в глазах королевского закона и не являлась свободной, то есть фригольдом.
Именно поэтому он не был рабом и осознавал, что он является потомком людей, которые были свободными, и он начинал спрашивать себя, как он дошел до такого состояния, состояния, когда виллан приобрел настолько презираемый рабский статус. За последний век его положение постепенно улучшалось, являлся ли он преуспевающим ярдлендером, владельцем двух или трех сотен акров или простым безземельным коттером, зарабатывающим себе на хлеб поденным трудом. По сравнению с несчастным континентальным крестьянством, его положение было не настолько тяжелым, исключая неурожайные годы; лучники, сражавшиеся при Креси, набирались не из угнетенной черни. Обычным является сопоставление в большинстве своем крепких и решительных английских землепашцев с французскими сервами, обернутыми в мешковину и живущими на еде из яблок и кислого ржаного хлеба, которые увековечили себя ужасающими жесток остями Жакерии. При этом все это заставляло английского крестьянина не быть довольным своим положением, но наоборот. Его ненависть к тем, кто наложил ограничения на его свободу, подогревалась наблюдением за расширяющимися вольностями городов, которые появились в любой части Англии и в которые бежало большинство молодежи из его деревни, бежало, чтобы улучшить свое положение. Некоторые из них, выжившие в суровых условиях и конкуренции средневекового города, стали богатыми и знаменитыми.
Из-за этого и по другим причинам повсеместно распространился дух строгости, горечи и разочарования. Тяготы и стоимость войны, в придачу со всеми недавними бедствиями, унижениями и последовательными возвращениями чумы, все это вело к тому, что вера человека в общество была поколеблена. Чума, которая толкала слабые создания к неясной жажде удовольствий, ставя потворство своим желаниям выше долга и нравственности, вполовину сократила рабочее население для обеспечения всей экономической жизни государства и роскоши богатых. На протяжении поколения тяготы военных долгов и поборов легли на плечи выживших с ощущением неоправданной жестокости по отношению к ним. В результате появилось широко распространенное чувство разочарования, потери привычных ценностей, недовольства между работодателем и рабочим, землевладельцем и землепашцем, правительством и налогоплательщиком. Все поносили кого-то за свои страдания.
После Черной Смерти Англия была тяжело духовно больна. Именно духовная болезнь народа, который чувствовал, что справедливость попрана. Старый неизменный феодализм, в котором каждый человек знал и принимал свое место под солнцем, разрушался; более изменчивое общество, приходящее ему на смену, находилось в стадии создания и было отдано на откуп неумеренной и нарочитой роскоши. В царствование Эдуарда III был зафиксирован постоянный рост уровня комфорта, не только аристократии, но и новых слоев общества – финансистов, купцов, шерстяных дел мастеров, франклинов, мастеров-ремесленников, мельников и даже фермеров. В домах богатых людей появились очаги с трубами вместо коптящих открытых очагов; фламандское стекло заняло свое место в узорчатых окнах; в парках и садах были построены голубятни, вырыты пруды для рыбы и проложены ореховые аллеи; вместо старых темных крепостей, где люди и животные спали вместе в грязи, наскоро покрытых тростником полов в продуваемых залах, полных дыма и вони, были возведены великолепные резиденции лордов и купцов, с отдельными спальнями и штукатуренными стенами. При этом данные знаки прогресса виделись моралистам подобно Уильяму Ленгленду симптомами пораженного тяжелой болезнью общества, знаком эгоистичного отхода от добродетели более строгих времен:
«Страдая от болезней каждый день в неделю, в таком зале, Где ни один лорд или дама не захотят сесть. Каждый богатый человек имеет теперь правило есть В частной гостиной. За счет бедняков, Или в комнате с камином, а не в главной зале, Которая была специально сделана для приема пищи и для Того, чтобы люди в ней ели».И все это было результатом развития цивилизации, искусства и науки. Товарообмен открыл возможности талантливым людям сделать карьеру. В каждом городе возникал сорт людей, который имел своей целью делать деньги ради денег, который покупал и продавал не для того, чтобы обеспечить потребителя товарами, но чтобы увеличить свои денежные фонды и использовать их для того, чтобы сделать их еще больше. Ростовщичество, скупка товаров, создание искусственного дефицита, а также искусственное снижение рыночных цен при покупке и подъем их при продаже – все эти действия, как учила церковь, нехристианские и нетоварищеские – были избраны в качестве профессии людьми, которые сделали на этом состояние и выводили простой народ из себя тем, что роскошно и богато жили. Купцы, чьи деды или даже отцы были простыми ремесленниками или крепостными, к которым их соседи горожане обращались как достопочтенный или сэр, носили алые одеяния и дорогие меха как главы или члены гильдии купеческих компаний монополистов, основанных изначально, чтобы, защитить и стимулировать честное ремесло. Вместо того чтобы социально оставаться на уровне своих рабочих, откуда они вышли, они прилипли к лордам или даже принцам; сэр Генри Пикард, глава гильдии виноторговцев, говорят, однажды в 1364 году угощал четырех королей обедом в здании гильдии[485]. Самой большой ненавистью «доброго» парламента пользовался другой виноторговец Ричард Лайонс, чей медный памятник, как указывает Стоу, представляет его с «редкой раздвоенной бородой, в плаще, отделанном до самых его ног искусным узором наподобие цветов дамасской работы, с большим кошелем, свисающим справа на ремне с левого плеча, простым капюшоном вокруг шеи». Вместе со своим патроном, казначеем лордом Латимером, он был обвинен в «скупке всех товаров, которые приходили в Англию, и установке цен по своему собственному желанию, посредством чего они создали такую нехватку товаров в продаже, что простой народ мог едва выжить».
Не все, однако, крупные купцы были мошенниками; даже Лайонс был, возможно, оклеветан. По своим собственным понятиям, большинство из них были достойными, если не чванливыми, людьми, чьему слову доверяли его товарищи; в другом случае они вряд ли могли бы добиться успеха. При этом существовало широко распространенное убеждение, что виноторговцы разбавляют вино, что торговцы шерстью надувают производителей, что зеленщики и торговцы зерном используют фальшивую меру, что те, кто одалживают деньги короне, надувают налогоплательщиков, и что если человек получил свое богатство посредством торговли, он обязательно является жуликом. А некоторые из тех, кто сделал деньги на французских войнах, представляют собой заурядных выскочек с большими претензиями и известными своей корыстью и взяточничеством. «Торговцы мылом и их сыновья за деньги, – писал возмущенный Ленгленд, – становятся рыцарями». «Стяжательство захватило власть над всеми», – жаловался его собрат поэт Гауэр, – нет города или местечка, где Обман не ограбил кого-либо, чтобы обогатить себя. Обман в Бордо, Обман в Севилье, Обман в Париже покупает и продает; Обман имеет свои корабли и слуг, и из самых выдающихся богачей Обман имеет в десять раз больше, чем любой другой народ».
Все общество, включая Церковь, пронизывало это чувство разобщенности, соперничества и стяжательства. «Жадность, – говорит проповедник, – заставляет людей драться друг с другом, как собаки за кость». Как старый правящий класс, так и новый соперничает в роскошности своих одеяний, пиров и развлечений; «таким образом они растрачивают свое богатство, так злоупотребляя им и с таким смешным распутством, что глас простого народа вопиет». Это время было отмечено совершенно нелепой модой на одежду: заостренные и загнутые туфли с такими длинными носками, что их владельцы вынуждены были иногда подниматься вверх по лестнице спиной или отдавать свои туфли пажам[486]; фантастические, возвышающиеся в виде башен дамские прически; жеманная походка, длинные волосы и волочащиеся рукава молодых придворных, которые часто тратили на свое изнеженное тело столько, сколько одежды и еды было бы необходимо, чтобы прокормить целую деревню. В противоположность «ярким одеждам, мягким тканям, коротким блузам» богачей крестьянин был одет в грубое серое одеяние, ел холодную капусту, бекон и пил дешевый эль; его сплетенная из бревен хижина была вся в дырах; бедный Норфолкский охотник на оленей, чьи ноги настолько сгнили в подвальной темнице Норфолкского замка, что он не мог идти в суд на слушанье своего дела, а восемь его сокамерников умерли в темнице от голода, жажды и нужды.
«У меня нет и пенни, – говорит Ленглендовский Петр Пахарь, – ни дичи, чтобы продать, ни гуся, ни другой еды, но только две зеленые головки сыра, Немного прокисшего молока и сливок и овсяная лепешка, И два куска из бобов и отрубей, чтобы испечь для моих детей».Ему казалось отрицанием христианства, что бедные, но честные должны быть обманутыми. Его сердце было взволнованно, а его возмущение выливалось наружу за «томящихся в ямах» и бедняков-коттеров, «брошенных в тюрьму вместе с детьми за неуплату ренты главному лорду», и крестьянок, «поднимающихся с печалью зимними ночами, чтобы убаюкать дитя».
«Чтобы чесать и причесывать, латать и стирать... Много детей и ничего, только мужнины руки, Чтобы одеть и накормить их и принести несколько пенсов».Из этого духа Англии XIV века, со всеми ее кричащими несправедливостями, возникло убеждение – настолько странно противостоявшее положениям военного и духовного сословий – что «крестьянин сохраняет состояние мира», а получает меньше, чем справедливость. В своей высшей форме оно было выражено Ленглендом, основной темой чьей поэмы о Божественной милости и прощении была та жертва Христа, которая требовала от всех людей взамен честную жизнь и честный труд – честную работу и любящую доброту:
«Ибо все мы Божьи твари и богаты его щедротами И братья одной крови, как нищие, так и графы... Поэтому любите друг друга как истинные братья и все смеются друг над другом, И каждый человек может оказать помощь, когда она нужна, И каждый человек помогает друг другу, ибо все мы уйдем с грешной земли».Он сам проверил свою совесть по этому поводу, сравнивая свою праздную жизнь в качестве капеллана с жизнью крестьянства, среди которого он вырос:
«Можешь ли ты, – спросил его Разум, – наворотить копну сена и погрузить в повозку? Или можешь ли ты управиться с косой или сделать сноп сена? Или охранять мое зерно на моем участке от воришек и воров? Или можешь ли ты сделать обувь, сшить одежду или заботиться о скоте? Или поставить изгородь, или боронить, или выращивать свиней или гусей? Или любой другой вид ремесла, в котором нуждается община?»Его поэма выразила ту самую английскую реакцию на разницу между неправильным использованием богатства и незаслуженными лишениями, с ее характерным намерением, нет, не разрушить общество, но восстановить равновесие. Хотя, кажется, его поэму никогда не оценивали как выдающееся сочинение – своеобразная светская цензура того исключительно аристократического времени – ибо это была работа, написанная давно, напечатанная человеком незнатным и без состояния, она получила ошеломляющий успех; сохранилось шестьдесят копий и, поскольку она ходила среди бедных и низших классов, многие другие исчезли. Незамеченные богатыми подобно «Путешествию пилигрима»[487] в более позднее время, его читателями и переписчиками, возможно, были приходские священники – ибо вряд ли этим могли заниматься монахи – и, возможно, именно через них и их проповеди имя этого простого крестьянского героя и его отождествление с распятым Христом стало так широко и хорошо известным. В конце XIV – начале XV веков на нефах приходских церквей южной Англии появилось большое количество рисунков, грубых и, очевидно, выполненных местными умельцами, на которых был изображен Христос – обнаженный, распятый и истекающий кровью, с орудиями плотника – колотушкой, молотком, ножом, топором, клещами, рожком и колесом – расположенными вокруг его головы вместо нимба. Такое изображение «Christ of the Trades» (Христос простолюдинов) можно найти в церквах, находящихся в отдаленных уголках страны, в Пемброкшире и Саффолке. Многие из них, возможно, исчезли во времена Реформации; среди лучше всех сохранившихся можно назвать рисунок в Эмпни Сент Мери в Костволдсе – недалеко от холмистой местности, где Ленгленд увидел силуэт башни Правды – в Хессете в Саффолке и в Стедеме в Суссексе. На первой из них трудящийся Христос находится напротив героя рыцарства Св. Георга, убивающего дракона; на второй – напротив Девы Марии, укрывающей людей под своим плащом[488].
* * *
Существовала глубокая пропасть между терпеливым, подобным Христу ремесленником и крестьянином с настенных картин и из Ленглендовых снов, и злым рабочим, отказывающимся служить своему лорду, проклинающим лендлордов, монахов и юристов и теребящим тетиву своего лука. Было совсем не трудно воспламенить невежественных людей понятием несправедливости, и относилось это совсем не к бескорыстной части человеческой натуры. Сам поэт прекрасно знал об этом:
«Тогда Расточитель не захотел уже работать, но стал бродить повсюду... Рабочие, которые не имеют земли, чтобы жить ею, но только руки, Не соглашались есть днем за обедом овощи, простоявшие ночь; Не правился им ни эль в пенни, ни кусок ветчины, А хотелось только свежеизготовленного мяса или рыбы, изжаренных или испеченных».Он описал работоспособного виллана, требующего даже более высокой платы, который, когда ему отказали,
«Оплакивал то время, когда он сделался рабочим, А затем проклинал короля, также весь его совет За то, что они принуждают исполнять законы, которые угнетают рабочих».Парламенту не подчинялись, а «Статут о рабочих и слугах» стал мертвой бумагой благодаря угрюмым вилланам, бездельничавшим в поле или отправлявшимся обозленными бандами в ближайший город, чтобы продать свой труд тем, кто больше за него заплатит. Фразы подобно «держитесь вместе!» или «закончите с пользой то, что уже началось!» переходили из графства в графство, а странствующие агитаторы подстрекали население своими проповедями. «В Англии до тех пор не настанет благоденствие, – провозгласил лишенный духовного сана захудалый священник Джон Болл, – пока все имущество не попадет в общее пользование и пока существуют вилланы и джентльмены. По какому праву те, кого мы называем лордами, стоят выше нас?» «Мы созданы по образу и подобию Божьему, – провозгласил он, – а они обращаются с нами, как со скотами».
Это было время войны и насилия; война всегда порождает насилие. Недовольство рабочих слоев своими угнетателями не ограничивалось пределами Англии. В середине века римская толпа восстала против демагога Риенцо; через десять лет в северной Франции случилась ужасная Жакерия. Где бы люди ни сгонялись вместе в большом количестве, чтобы служить своим господам, которые обеспечивали роскошь богатых, здесь всегда присутствовал дух восстания. В 1378 году угнетенные чесальщики шерсти из Флоренции восстали против купеческих олигархов города, захватили дворец Синьории и посадили там одного из своих членов в качестве гонфалоньера справедливости. Год спустя ткачи Гента и Брюгге и других фламандских текстильных городов восстали и, под руководством ван Артевельде второго, сына старого союзника Эдуарда III, все еще сопротивлялись своему графу и французскому королю.
В Англии беспорядки в основном приняли форму массовых отказов от исполнения своей услуг, особенно в местах, где лордом являлась обезличенная церковная корпорация. В 1378 году, после того как присяжные Хармсуорта в графстве Мидлсекс – собственности Норманского аббатства – проигнорировали управляющего лорда и вынесли ложный вердикт в пользу своих собратьев вилланов, которые лично отсутствовали с прошлого сенокоса, жители деревни сознательно открыли речные шлюзы, чтобы затопить все сено. Образовывались банды освободителей из бежавших крепостных, которые были пойманы и приведены обратно в свои «вилланские насесты», проводились и вооруженные собрания по ночам с целью поджечь лес лорда или поубивать его дичь. Рабочие законы также помогают объяснить страсть и горячность некоторых из этих внезапных взрывов жестокого гнева, часто по исключительно банальному поводу. Англичане не были готовы к тому, чтобы страдать от бесчестия выжиганием клейма на лбу – большой буквы «Л», что означает «Лжец», только потому, что они получали дневной заработок или требовали денег больше, чем это было указано в не отвечающем требованиям времени статуте парламента. Если вернуться к событиям, произошедшим за год до битвы при Пуатье, когда настроения против этой формы классового законодательства были особенно сильными, то тогда крестьяне из деревень вокруг Оксфорда объединились с горожанами в убийственной атаке на университет – затем это стало известным под названием День Св. Схоластика – отличившись жестокостью и злобными криками: «Рушьте, крушите, рвите быстрее, дайте им хорошего пинка!»
В начале царствования Ричарда количество таких бунтов сильно увеличилось. Их возбуждали проповеди равенства, исходящие от странствующих монахов и священников подобно Джону Боллу, которые последние двадцать лет бродяжничали по стране, проповедуя, сопротивляясь церковным властям, против богатых «собственников» церкви и государства. По словам хрониста Уолсингема, он проповедовал «то, что, как он знал, хотят услышать простые люди, ругая духовных и светских лордов, и возбуждая добрую волю простолюдинов больше, чем добродетель перед лицом Господа. Ибо он учил, что десятину не надо платить пока тот, кто отдает ее, не станет богаче, чем священник, который ее получает. Он также учил, что десятина и пожертвования не должны подноситься, если известно, что прихожанин является более достойным человеком, чем священник». Поскольку ему было запрещено проповедовать в церкви, он делал это на улицах, в деревнях и даже в поле, пока его не отлучили от церкви. Ничто, однако, не могло его остановить и, хотя он несколько раз попадал в тюрьму, как только он выбирался на свободу, он начинал снова. Он также пристрастился к написанию постоянно ходящих по стране подстрекательских писем, полных темных загадок и стихов, призывавших добродетельных бедняков готовиться к тому дню, когда они низвергнут своих угнетателей. «Джон Болл, пастор церкви Св. Марии, – начиналось одно из них, – приветствует всех людей и просит их именем святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, мужественно держаться правды, и помогать правде и правда поможет вам».
«Теперь в мире господствует гордость, Жадность считается мудростью, Разврат не знает стыда, Чревоугодие не вызывает никакого осуждения, Зависть царствует, как будто так и надо, Леность в полном почете. Боже, накажи нас: теперь время».Последней каплей в этой постепенно накалявшейся ситуации стал подушный налог, затребованный зимой 1380-1381 года. В результате все деревни юга Англии сфабриковали налоговые списки до такой степени, что, когда они достигли комиссионеров по сбору налога, получалось, что население страны сократилось на треть со времен последнего подушного налога. Собранная сумма находилась гораздо ниже ожидаемого уровня, и правительство впало в ярость. 16 марта 1381 года Совет обнаружил, что местные сборщики виновны в вопиющей халатности по отношению к своим обязанностям и сговоре с крестьянами, и назначил новую комиссию для тщательного изучения списков и выбивания платежей от уклонившихся.
Это решение вызвало всеобщее порицание и проклятие. Говорили о том, что это было сделано специально к личной выгоде главы ревизионной комиссии Джона Легге, барристера, и казначея сэра Роберта Хелса, которого называли «разбойник Хоб». Когда новости о дальнейшем нашествии сборщиков налогов достигли деревень, темные крестьяне предположили, что это новый налог и он будет собираться сверх того, который они уже платили. Повсюду в густонаселенных графствах юго-востока ненависть крестьян против сборщиков налогов, исчиторов, присяжных, юристов и королевских чиновников в целом, но против архиепископа и казначея в особенности, достигла своей высшей точки, и, что было достаточно непоследовательным, в эту категорию попал и Джон Гонтский, который больше не играл никакой активной роли в управлении государством и в тот момент находился в Шотландии.
Власти серьезно даже не воспринимали недовольство крестьян. Но когда в конце мая новый комиссар по сбору налога в графстве Эссекс Томас Бамптон с двумя парламентскими приставами появился в Брентфорде, чтобы начать расследование по спискам в сотне Барстепл, его встретили представители приходов, которые не платили налог, с угрюмым отказом заплатить и на этот раз. Они заявили, что у них есть расписка о получении сборщиками налога и они не заплатят больше ни пенни. Но именно рыбаки и охотники из устья Темзы – морские волки – высекли ту искру, которая зажгла костер революции рабочего класса Англии. Взывая к их помощи, их соседи из Коррингема и Стенфорда-ле-Хоупа, жители Фоббинга-у-Тилбери встретили угрозу ареста со стороны Бамптона открытым сопротивлением, и палками и камнями прогнали его и его людей из города.
Этого, однако, правительство не могло проигнорировать. В воскресенье, 2 июня главный судья Суда Общих Тяжб сэр Роберт Белкнап прибыл в Брентфорд с комиссией плети[489] и отрядом копейщиков. Его делом было наказать бунтовщиков и повесить главарей. По прибытии он обнаружил, что вся округа была охвачена кипением. Ибо к настоящему времени восставшие рыбаки подняли всю округу против властей. Вооруженная кольями, вилами и луками толпа окружила судью, взяла его в плен и сожгла все его бумаги, а также заставила поклясться, стоя на коленях, что он больше никогда не вернется с другой комиссией. Затем они убили трех его клерков и трех местных сборщиков налогов или присяжных, чьи имена они у него выпытали. Насадив их головы на колья, они с триумфом пронесли их по всем деревням южно-восточного Эссекса, пока испуганный Белкнап бежал обратно в Лондон.
В тот же день волнения начались и по другую сторону Темзы. В Эрите, расположенном в графстве Кент, отряд восставших ворвался в Леснский монастырь и заставил аббата поклясться оказывать им всяческую поддержку. Затем вожаки перебрались на другой берег Темзы, чтобы держать совет с людьми из Эссекса. В течение следующих нескольких дней восстание распространилось на север через все графство, так как восставшие передавали свои воззвания от прихода к приходу. Повсюду начались нападения на чиновников правительства, их дома разорялись, а их протоколы и бумаги вытаскивались на дворы или улицы и публично сжигались. Адмирал Эссекского побережья Эдмунд де ла Map Пелдонский и шериф Джон Сьюэл Когшелский подверглись нападениям и грабежу, их дома были сожжены, а бумаги пронесены впереди ликующей толпы на вилах. В каждом маноре заполыхали костры из материальных грамот и свитков.
Складывалось впечатление, как будто простой народ в одночасье отверг всю законодательную и правительственную систему, создававшуюся веками. При этом хотя и нанесение ущерба собственности было широко распространено, людские потери были сравнительно малы, так как большинство лордов смогли бежать. Был убит главный исчитор графства, большое количество фламандских купцов подверглось растерзанию в Колчестере, где толпа восстала при приближении крестьянских отрядов. Если бы казначей находился у себя дома в Темпл Крессинг, а не в Лондоне, его бы тоже разорвали на куски; но «его очень красивый и очаровательный дом» был сожжен дотла после того, как чернь наелась великолепной дичи из его угодий и выпила «три огромных бочки хорошего вина» из его погребов, которые он приготовил для предстоящей встречи с главой капитула Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, магистром которого он являлся.
В то же время в Кенте становилось все более неспокойно. Через день после нападения на главного судью в Брентвуде двое парламентских приставов, действующие от имени сэра Саймона Берли, наставника короля, арестовали уважаемого гражданина Грейвсенда на том основании, что тот являлся беглым крепостным. Когда же горожане отказались заплатить 300 фунтов за его освобождение – в современных деньгах около 15 тыс. фунтов – несчастный человек был брошен в подвалы Рочестерского замка. Спустя два дня, 5 июня, ободренные прибытием сотни восставших их Эссекса, население всех городов и деревень южного берега реки от Эрита до Грейвсенда восстали. Они были, однако, достаточно осторожны в своих выражениях при выпуске прокламации, где перечислили преступления министров своего молодого короля, написав, что хотя «в королевстве развелось больше королей, чем один», но они не желают никого кроме Ричарда. В самых патриотичных выражениях они добавили, что «те, кто проживают в районе двенадцати миль от моря, не должны идти с ними, но должны охранять побережье от врагов».
На следующий день 6 июня судьба Кента была решена. С одной стороны, жители графств Грейвсенда и Дартфорда маршировали к Рочестеру. С другой стороны, комиссия плети, направленная против уклоняющихся от уплаты налога и сопровождаемая ненавистным Джоном Легге, не смогла войти в Кентербери. Рочестерский замок, хотя и достаточно хорошо укрепленный, чтобы выдержать долгую осаду, был сдан своим констеблем пополудни после нескольких неудачных попыток взять его штурмом. Возможно, гарнизон был слишком мал, но по всеобщему убеждению, защитники замка были потрясены яростью и буйством толпы. Сельским жителям Англии казалось, что вести себя таким образом было неестественным, вне законов природы: как будто взбунтовались животные.
Было совершенно очевидно, что правительство не могло контролировать ситуацию. Подобно местным властям, оно оставалось инертным на протяжении практически всей первой критической недели июня, беспомощно наблюдая за развитием событий. Канцлер, глава правительства, являлся добрым человеком, и к тому же примасом. Его звали Симон Тебо Седберийский, он был сыном саффолкского торговца, чья семья разбогатела, обеспечивая местных джентри предметами роскоши и развивая новую сельскую текстильную промышленность. У него полностью отсутствовала жажда наживы и опыт в этом вопросе. Дядья короля были далеко; Джон Гонтский – в Эдинбурге занимался переговорами о заключении перемирия с шотландцами; Томас Вудстокский – на границе с Уэльсом, а Эдмунд Кембриджский только что отплыл в Португалию. По получении известий о мятеже в Плимут послали гонца, чтобы задержать экспедицию, но он прибыл слишком поздно. Из-за необходимости держать английские гарнизоны во Франции в стране практически не было армии за исключением пограничных отрядов на далеких шотландских и уэльских границах. В столице и в ключевом южно-восточном районе находилось только несколько сотен тяжеловооруженных воинов и лучников, охранявших короля, и небольшой отряд старого кондотьера сэра Роберта Ноллиса, который он стал собирать в своем лондонском доме, чтобы вернуть Бретань. Не было сделано ничего для созыва сельских джентри, а их слуги, которые находились в восставших графствах к востоку и северу от Лондона, были парализованы страхом.
Но если у правительства не было действующего руководителя, то у восставших он имелся. В пятницу 7 мая люди из Кента прибыли в Медуэйскую долину, из Рочестера в Мейдстон, где их приветствовала толпа восставших, которые уже разграбили дома более богатых жителей и убили одного из них. Здесь они избрали своим капитаном некоего Уота Тайлера. О его прошлом известно довольно мало, но, если верить Фруассару, он служил во время французских войн и, как обнаружилось впоследствии, подобно многим солдатам с тех пор зарабатывал себе на жизнь придорожным разбоем. Совершенно очевидно, что он был прирожденным лидером и гениальным оратором, ибо он немедленно установил дисциплину посреди пестрой толпы возбужденных крестьян и ремесленников. И он очень быстро показал себя как человек дела и как исключительно талантливый полководец.
В тот день, когда Тайлер принял на себя командование, он выпустил прокламацию, в которой были выражены намерения восставших. Он принесут клятву верности, заявил он, никому кроме как «королю Ричарду и истинным общинам» – другими словами, им самим – и не примут короля по имени Джон, намекая на герцога Ланкастера. Никакие налоги не должны взиматься, «за исключением пятнадцатой части от имущества, который их отцы и деды признавали и принимали», и все должны быть готовы выступить по первому зову, чтобы изгнать предателей, собравшихся вокруг короля и выискать и уничтожить юристов и чиновников, которые обобрали королевство.
У восставших появился не только военный лидер. Был и духовный наставник. Среди пленников, освобожденных из Мейдстонского замка, был Джон Болл. Только несколько недель назад многострадальный архиепископ посадил его снова, описывая, как он «просочился обратно в наш диоцез подобно лисе, которая бежала от охотника, и не устрашился опять проповедовать и ругаться, как в церквах, так и перед ними, на рынках и в других мирских местах, привлекая слушателей мирян своей матерщиной и распространяя такие сплетни, касающиеся нашей персоны и других из наших прелатов и духовенства, и – что самое худшее – используя в своих разговорах о святом отце язык, который позорит любого доброго христианина». Неугомонный проповедник теперь обнаружил себя на свободе и с готовой конгрегации из двадцати тысяч оборванных энтузиастов, в чьих сердцах он нашел живой отклик. Как пишет Фруассар, который, хотя и не являлся достаточно надежным свидетелем, но посетил Англию вскоре после восстания и был исключительно восхищен всем этим делом, он обратился к ним следующим образом:
«Мои добрые друзья, дела не поправятся в Англии до тех пор, пока все добро не станет общим достоянием; когда не будет больше ни вассалов, ни лордов; когда лорды больше не будут нашими господами. Как дурно они обращаются с нами! По какой причине они держат нас в таком состоянии? Неужели мы не все произошли от одних и тех же родителей, Адама и Евы? И что они могут предъявить, какую причину они могут привести, почему они должны быть нашими хозяевами? Они одеты в бархат и богатые одеяния, украшены горностаем и другими мехами, пока мы вынуждены носить бедную робу. Они пьют вино, едят пряности и отличный хлеб, а мы жуем только рожь и отказываем себе в соломе; а когда мы пьем, то это всегда вода. У них красивые замки и дома, мы же должны бороться с ветром и дождем, трудясь в поле; а именно нашим трудом они имеют все это. Что поддерживает их роскошь? Нас называют рабами, а если мы не исполняем нашу работу, то нас бьют, и у нас нет господина, которому мы можем пожаловаться или который захочет выслушать нас. Так пойдемте же к королю и убедим его. Он молод, и от него мы можем получить благоприятный ответ, а если нет, то мы должны сами найти способ исправить свое положение».
В то же время проповедник рассылал по деревням Кента и Эссекса еще больше своих подметных писем:
«Джон Болл приветствует всех вас. И уведомляет, что он уже позвонил в свой колокол, И теперь Бог торопит каждого действовать, Применяя право и силу, волю и ум!»Другое послание, написанное под псевдонимом и адресованное населению Эссекса, было затем найдено в кармане одного из восставших, приговоренного к повешенью:
«Джон Пастух, некогда священник церкви Св. Марии в Йорке, а ныне в Колчестере, приветствует Джона Безымянного и Джона Мельника, и Джона Возчика и просит их, чтобы они помнили о коварстве, господствующем в городе, и стойко держались во имя Божие, и просит Петра Пахаря приняться за дело и наказать разбойника Хоба и взять с собой Джона Правдивого и всех его товарищей и больше никого – и зорко смотреть только вперед и больше никуда.
Джон Мельник просит помочь ему как следует поставить мельницу. Он смолол зерно мелко-мелко, Сын царя небесного за все заплатит. Остерегайтесь попасть в беду, Отличайте ваших друзей от ваших врагов, Скажите: „Довольно” и кричите: „Эй, сюда!” И делайте хорошо и еще лучше, и бегите греха, И ищите мира и держитесь в нем. Об этом просит вас Джон Правдивый и все его товарищи» [490] .Тайлер и Болл – бриганд и священник-расстрига[491] – были именно теми лидерами, в которых нуждались «истинные общины». Пока Болл обращался к своим сторонникам, Тайлер действовал. Послав эмиссаров с заданием поднять близлежащие деревни и соединиться с ним в Мейдстоне, он отправился во главе нескольких тысяч восставших в Кентербери. К середине дня 10 числа он достиг города, жители которого приветствовали его с энтузиазмом, в основном, конечно же, те, кому было нечего терять. Выяснив, есть ли в городе предатели, его направили к домам местной знати, троих из которых он казнил прямо на месте. Затем, запалив костер из юридических и финансовых документов графства, он избил шерифа, разграбил его замок, выпустил пленников из темниц, он со своими сторонниками ворвался во главе бушующей толпы в кафедральный собор во время мессы. Здесь они в один голос приказали монахам избрать нового архиепископа Кентерберийского вместо Садбери, которого они провозгласили изменником и «приговоренным к отрубанию головы за свои беззакония». Они также заставили мэра и корпорацию принести клятву королю и истинным общинам и – поскольку был самый разгар летнего паломничества – рекрутировали в свои ряды большое количество пилигримов. Одновременно они послали агитаторов в города и деревни восточного Кента.
Рано утром во вторник 11 июня, проведя в Кентербери меньше суток и запалив все восточные леса и побережье от Сандвича до Аплдора, Тайлер отправился далее. Его армия пополнялась в пути. Вечером он вернулся в Мейдстон, пройдя восемьдесят миль за два дня. Затем, передохнув одну ночь, он выступил 12-го на рассвете со всем своим войском к столице, отправив посланцев в Суссекс и западные графства с призывом к общинам объединяться и «обложить Лондон со всех сторон». Одновременно на другом берегу Темзы эссекские восставшие, которые к настоящему моменту полностью контролировали графство, начали параллельное наступление под руководством Томаса Фаррингтона, обиженного лондонца.
Пока оба войска двигались к столице, по обе стороны их продвижения царствовал террор, толпы крестьян выкуривали королевских и манориальных чиновников, юристов и непопулярных лендлордов из их домов, вламывались туда, грабили их и сжигали любой документ, который могли найти. Они хотели, чтобы, как они провозгласили, «в Англии не было крепостных». Многие джентри бежали в леса, среди них и поэт Джон Гауэр, который затем вспоминал в своей длинной латинской эпической поэме Vox Clamantis острые приступы боли от голода, которые он переносил, когда жил, питаясь желудями и постоянно дрожа от страха за свою жизнь в сырых рощах. Другие, менее боязливые или более популярные, внесли свой своевременный вклад в дело и принесли присягу на верность «королю и истинным общинам». Немногие, очень немногие, были убиты, в то время как другие, достаточно знатные люди, не совершившие ничего, в чем их можно было бы упрекнуть, были взяты в плен, чтобы умилостивить окружение Уота Тайлера, среди них были и сэр Томас Кобем и сэр Томас Тривет, герои французских войн.
В то время власти наконец-то решились действовать. Или во вторник, или в среду люди Тайлера, подступившие к столице, были встречены в Виндзоре посланцами короля, который спрашивал их, почему они подняли восстание и чего они ищут. Ответом было, что они пришли спасти короля от изменников и предателей. Они также представили петицию, прося выдать им головы герцога Ланкастера и 14 других представителей знати, включая канцлера, казначея и всех членов правительства. Получив это, король и его советники в спешке отправились в Лондон и Тауэр, чтобы сформировать очаг сопротивления, вокруг которого могли бы собраться силы порядка. Мать короля и ее дамы, которые находились в летнем паломничестве у кентских мощей, также отправились в это убежище. По дороге они столкнулись с авангардом восставших. При этом, хотя они и были сильно напуганы, они подверглись только оскорбительным шуткам, но им было разрешено продолжить свое путешествие в столицу. Здесь мэр Уильям Уолворт, проводив суверена в Тауэр, занялся приведением города в состояние обороны.
В тот вечер кентское войско разбило лагерь на Блэкхитских высотах, рассматривая в долине Темзы далекий город. На другом берегу на Майл-Эндских полях расположилось эссекское войско прямо рядом с предместьем Уайтчепл и около мили к востоку от городских стен и Олдгейта. Некоторые менее выдохшиеся кентские повстанцы продолжили свой путь и дошли до Саусверка, где, радостно приветствуемые местной толпой, сожгли публичный дом, который арендовали несколько фламандских женщин у мэра Уолтона, и выпустили пленников из тюрьмы Маршалси и Суда Королевской Скамьи. Обнаружив, что лондонский мост поднят, они отправились в Ламбет, где разграбили дворец архиепископа и дом Джона Имуорта, смотрителя тюрьмы Маршалси.
Не только пролетариат Саусверка симпатизировал восставшим. Внутри лондонских стен были сотни подмастерьев, ремесленников и рабочих, которые также поддерживали их. По приказу мэра ворота были заперты и доверены олдерменам и пристальному надзору соседних тюрем. Но среди городской верхушки существовали серьезные разногласия. По вопросу снабжения продовольствием старые купцы находились на ножах с торговцами мануфактурными товарами и тканями, которые, нанимая рабочих в больших количествах, поддерживали политику свободной торговли и дешевой еды, чтобы снизить цены и накормить своих подмастерьев и ремесленников как можно дешевле – для них это являлось жизненно важным делом со времен Черной Смерти, когда образовался недостаток рабочей силы. Оба они являлись монополистами, но, чтобы одолеть соперников, поставщики продовольствия заключили союз с недовольным городским пролетариатом – наемными работниками и мелкими ремесленниками – которые смотрели на своих работодателей и капиталистов, контролировавших рынок их рабочей силы, точно так же, как вилланы на своих лордов. Среди троих олдерменов, которых мэр направил к восставшим с заданием уговорить тех соблюдать мир, совершенно точно находился Джон Хорн, торговец рыбой, который, отделившись от свои компаньонов, искал частной беседы с Тайлером и обещал ему поддержку. Когда он вернулся в Лондон, он не только убедил мэра в том, что пришедшие сюда являются честными патриотами, которые не нанесут городу никакого урона, но, под покровом темноты, он еще и переправил тайно трех агитаторов через реку, чтобы взбудоражить лондонскую толпу.
В тот же вечер из Гринвича в Лондон по воде отправился эмиссар из лагеря восставших с целью встретиться с королем и его советом. Это был констебль Рочестерского замка, сэр Джон Ньютон, который всю последнюю неделю находился у восставших в плену. Допущенный к королю и получивший разрешение говорить, он объяснил, что, хотя восставшие и не принесут вреда королю, они намерены встретиться с ним лицом к лицу, чтобы обсудить определенные вопросы, о которых он не уполномочен говорить. Поскольку его дети находятся у них в заложниках и они их убьют, если он не вернется, он молит короля об ответе, который умилостивит их и докажет, что он выполнил свою миссию.
После некоторого колебания Совет согласился на эту встречу. Следующим утром сначала король, а затем его лорды отправились на пяти баржах в Гринвич. Здесь, на берегу ниже Блэкхита, кентские восставшие, после голодной и бессонной ночи, были выстроены в боевой порядок под двумя великими знаменами Св. Георга. Пока они ожидали, состоялась месса, поскольку это был день тела Господня, и затем Джон Болл начал свою проповедь, взяв за основу ее старую народную поговорку:
«Когда Адам пахал, а Ева пряла, Кто же тогда был джентльменом?»По словам Сент-Олбанского хрониста: «Он старался доказать, что при сотворении мира все люди были созданы равными и что рабство было введено неправым угнетением злых людей против воли Господа, ибо если Ему было бы угодно создать рабов, безусловно, при сотворении мира Он определил бы, кто является рабом, а кто господином... По сей причине им следует быть благоразумными. И с любовью, какой пахарь обрабатывает свою землю и выкорчевывает и уничтожает плевелы, которые разрушают посевы, они должны торопиться совершить следующее. Во-первых, они должны убить всех крупных лордов королевства; во-вторых, они должны перерезать юристов, судей и присяжных; и, наконец, они должны уничтожить всех тех, кто, как им кажется, будет наносить вред государству в будущем. Так они получат мир и спокойствие, ибо, когда уничтожат богатых, наступит равенство, а благородство, достоинство и власть будут принадлежать всем». «Когда он проповедовал эти и еще многие другие безумные вещи, – написал с отвращением хронист, – общины настолько благоволили к нему, что они провозгласили его будущим архиепископом и канцлером королевства»[492].
Эта ли проповедь или присутствие архиепископа в королевской барже или то, что восставшие не завтракали, явилось причиной того, что они приветствовали короля такими буйными и оглушительными криками, что он не мог ничего услышать. «Сэры, – продолжал он взывать со своей баржи, когда гребцы налегали на весла, чтобы вывести его из яростной толпы, – чего вы хотите? Скажите мне это сейчас, я пришел говорить с вами». Но когда толпа постепенно сделалась все более угрожающей, боясь, что некоторые лучники могут начать стрелять, граф Солсбери – самый опытный солдат из присутствующих – приказал баржам выйти на середину реки и вернуться в Тауэр.
На это и кентское войско, и восставшие, прибывшие из Эссекса, которые наблюдали с другого берега, подняли крик «Измена!» и, под своими знаменами и вымпелами, двинулись на Лондон. К настоящему моменту очень существенным стал доступ к городским рынкам и лавкам, если они не хотели проиграть из-за голода – на что власти сильно рассчитывали. Внутри же городских стен духовенство устроило крестный ход, молясь за мир, в то время как толпы тех, кто симпатизировал восставшим, собирались в самых бедных улочках и проулках. Ибо, хотя городские ворота и были еще закрыты, агитаторы, которых Хорн провел в город, не дремали. Когда люди Уота Тайлера заняли южные подходы к мосту, их вновь встретил либерально настроенный торговец рыбой, размахивая королевским штандартом, который он обманом добыл у городского клерка. И когда, руководимые этой эмблемой лояльности и почтенности, они хлынули на мост, подъемный мост был опущен олдерменом Биллинсгейтской тюрьмы. Практически в то же время другой оппозиционно настроенный олдермен впустил эссекцев через Олдгейт в город.
Внезапно завладев южным и восточным входами, толпа хлынула в город, пока подмастерья и ремесленники, а также и рабочая беднота трущоб стекалась со всех концов поприветствовать их. Некоторое время вновь прибывшие были слишком поглощены едой, питьем и разглядыванием города, выискивая, где бы поживиться. Но некоторое время спустя, освежившись несколькими огромными баррелями эля, которые неизвестные энергичные человеколюбы выкатили на улицы и подстрекаемые ремесленниками, которые имели старые счеты к Джону Гонтскому, они двинулись с криками «В Савой! В Савой!» к герцогскому дворцу. Герцог, вероятнее всего, находился в Эдинбурге, но великолепный дворец, который он отделал на доходы от грабежа Франции, – и, как многие предполагали, и Англии, – находился в миле от западных стен города, где поля и сады окаймляли берега Темзы там, где Стренд соединяет Лондон с Вестминстером. В ту сторону и направились кентцы с тысячами возбужденных ремесленников – огромной толпой при свете факелов – по пути в яростном буйстве они ворвались во Флитскую тюрьму и освободили всех преступников, пока слуги герцога бежали, услышав приближающийся шум толпы.
Но время не было потрачено даром. В едином желании справедливости и мести грабеж был строго запрещен. Все из этого великолепного дома было выкинуто из окон – гобелены, простыни, покрывала, кровати – и разорвано или разрублено в куски. Затем здание подожгли и сравняли с землей. В сердце костра случился взрыв, вызванный тремя баррелями пороха, которые бросили в костер, считая, что в них находится золото. Некоторая часть восставших затем продолжила свой путь к Вестминстеру, там они разрушили дом помощника шерифа Мидлсекского и выпустили людей из тюрьмы. Другая часть, на обратном пути в город, вломилась в обитель юристов в Темпль, сорвала всю черепицу с крыш и запалила огромный костер из всех книг, свитков и памяток, извлеченных из шкафов студентов. Они также подожгли несколько лавок и домов, которые недавно были построены на Флит-стрит, провозгласив, что более ни один дом не должен портить красоту этого любимого места прогулок лондонского люда. Те, кто направился в Вестминстер, вернулись обратно через Холборн, предав по пути огню дома нескольких «предателей», указанных им их лондонскими товарищами и сломав ворота Ньюгетской тюрьмы, чтобы еще более пополнить свои ряды. В то время эссекцы добрались до аббатства Св. Иоанна, штаб-квартиру рыцарей госпитальеров, находившуюся рядом с северной стеной. Здесь они сожгли приорство и госпиталь – «самый большой и тяжелый ущерб, который когда-либо случался» – и убили семерых фламандцев, которые укрылись в церкви.
Той ночью, пока восставшие разбивали лагерь вокруг королевской крепости на открытых пространствах Тауэрского холма и пристани Св. Екатерины и пока их лидеры составляли список лиц, подлежащих ликвидации, король и его совет долго и озабоченно обсуждали, что делать. С утра их позиция сильно изменилась к худшему; вместо ожидания под укрытием лондонских стен пока восставшие будут голодать, они сами оказались запертыми в Тауэре, а город, как они предполагали, – во владении фанатичной неконтролируемой толпы. С чердака одной из башен, куда молодой король взобрался, он мог видеть двадцать или тридцать костров, полыхавших в различных частях города. Кроме того, все внутренние графства находились в состоянии восстания, пока, а это было еще неизвестно осажденному совету, революционное брожение распространилось на Хартфордшир и Саффолк, где горожане и крепостные поднялись вместе против монахов двух самых знаменитых аббатств Англии Сент-Олбанс и Бери.
Ключевой, однако, была ситуация в столице. Если толпу, которая захватила ее, можно было бы победить, то революционное пламя тоже бы погасло. Нос потерянным Лондоном и с находящимся в заточении двором силы правопорядка ничего не могли сделать. Мэр Уолворт, склонный к блефу, но энергичный человек, умолял о предприятии неожиданной вылазки против восставших, пока они спят, отдыхая от своих вечерних подвигов. В Тауэре находились шестьсот тяжеловооруженных воинов и лучников и еще сотня или около того в доме и саду сэра Роберта Ноллиса; смело сплотившись в единый фронт, к ним, возможно, присоединятся все законопослушные силы Лондона. Только небольшое меньшинство восставших имело оружие; если преданные войска ударят внезапно, тысячи могут быть уничтожены еще во время сна. Но граф Солсбери, который сражался при Креси и Пуатье, был другого мнения. Если битва начнется в узких улочках и проулках, то может сказаться численное превосходство восставших, а за этим последует полная катастрофа. «Если нам следует начать дело, – сказал он, – успеха в котором не можем достигнуть, мы никогда не оправимся, и мы, и наши потомки будут лишены наследства, а Англия превратится в пустыню». Вместо этого он предложил совет, достойный Улисса, заключавшийся в том, что следует ослабить восставших красивыми словами и обещаниями, от которых затем можно будет легко отказаться на том основании, что они были даны под давлением.
Первая попытка, предпринятая в тот вечер, убедить их разойтись, когда король вышел и обратился к ним с крепостного вала, предлагая прощение всем, кто вернется домой, потонула в общем гуле насмешек. Необходимы были другие знаки королевского доверия для умиротворения толпы. Однако было предложено, что король должен встретиться с бунтовщиками в Майл-Эндских полях и отправиться туда утром, проехав через самую их кущу с теми из своих лордов, которые не планировались восставшими к казни. Пока под прикрытием его бравого марша толпа отхлынет от Тауэра, архиепископ и казначей, и сын Джона Гонта и наследник – юный Генрих Болингброк, граф Дерби, могли бы тайно бежать по воде из Тауэра в безопасное место.
План зависел от готовности короля пойти на риск. Но, хотя юноша проявил некоторую задумчивость, он был готов и даже жаждал этого. Ему было теперь четырнадцать, и он должен был по крайней мере понять, что все могущественные лорды и советники сейчас искали его лидерства. Как только этот вопрос был прояснен, была выпущена прокламация и вскоре, окруженный огромной толпой взбудораженного крестьянства королевский кортеж отправился по Брентвудской дороге в сторону Майл-Энда. Но многие лондонцы не тронулись с места, оставшись наблюдать за Тауэром, ибо лидеров восставших было не так легко провести. Когда появилась лодка, на которой пытались бежать намеченные для расправы жертвы, она вынуждена была вернуться, как только появилась из затвора.
Королевская поездка также не была легкой или приятной. В какой-то момент эссекский лидер Томас Фаррингтон, исключительно легко возбудимый человек, схватил поводья королевской лошади, требуя возмездия за то, что подлый казначей приор Хелз незаконно лишил его собственности. Толпа была настолько пугающей, что сводные братья короля, граф Кента и сэр Джон Холланд, обнаружив себя смешавшимися с толпой, воспользовались такой возможностью бежать, пустили галопом лошадей и поскакали на север. Когда, однако, король прибыл на Майл-Эндские поля, простые крестьяне, которые ждали его там, пали на колени, крича: «Добро пожаловать, наш король Ричард, и если вам угодно, у нас никогда не будет другого короля, кроме вас». Это было подобно сцене из баллад, когда суверен, которого Робин Гуд и его люди взяли в плен, скидывает с себя личину и обещает вернуть каждому честному человеку то, что ему принадлежит.
Многим присутствующим, должно быть, казалось, что наконец-то настало золотое время, когда их молодой король – сын английского героя Черного Принца – объявил, что он даст им все, чего они пожелают. Он обещал отмену крепостничества, виланских повинностей и сеньориальных рыночных монополий, и что все держатели земли, в крепостной зависимости, должны с этих пор стать свободными арендаторами по самой умеренной ренте в 4 пенса за акр в год. Он не только обещал им всем прощение и амнистию, если они спокойно вернутся в свои деревни, но и предложил выдать королевское знамя людям из каждого графства, чтобы поместить их под свою специальную защиту и патронаж. Его слова, как пишет Фруассар, «быстро успокоили простолюдинов, поскольку все они были простыми и добрыми людьми». Они, скорее, выбили почву из-под ног своих лидеров. Последние, однако, быстро вернулись к делу. «Общины, – сказал Тайлер королю, – желают, чтобы ты дозволил им взять и разобраться со всеми предателями, которые согрешили против тебя и закона». На что король ответил, что все будут наказаны соответствующим образом, если в процессе применения закона выяснится, что они являются предателями и изменниками.
Это, однако, было совсем не то, чего хотели Тайлер и другие лидеры. Пока король, окруженный наиболее покладистыми из своих подданных, помогал им в отправке в свои родные деревни, капитаны общин Кента и Эссекса торопились назад с отрядом избранных сторонников к Тауэру, где все еще ждала огромная толпа, требуя крови архиепископа и казначея. Продравшись через них, им удалось ворваться в крепость, либо из-за предательства кого-нибудь из охраны, но, скорее всего, поскольку короля и его лордов ожидали обратно в любой момент, решетка была поднята и никто не знал, что делать. Братаясь с солдатами, пожимая им руки и поглаживая их бороды, толпа ворвалась за ними в королевские апартаменты, требуя крови предателей. В процессе их поисков кровать короля была разрублена на куски, а принцесса Уэльская подверглась такому грубому обращению, что ее пажи унесли ее в состоянии смертельного обморока и погрузили в лодку на реке. Были обнаружены Джон Легге, барристер, который составил комиссию по подушному налогу, и три его клерка, врач герцога Ланкастера, францисканский монах по имени Апплетон и некоторые другие. Сын герцога, Генри Болингброк – который спустя несколько лет станет королем – был более удачлив, его спас один из слуг его отца. Архиепископ и казначей были уведены в часовню, где, ожидая смерти, первый просто получил отпущение грехов и исполнил последние обряды. Толпа проволокла их через весь двор по булыжникам к Тауэрскому холму, где в конце концов и были обезглавлены на простом бревне вместо эшафота. Третий раз в истории страны архиепископ Кентерберийский был схвачен у алтаря и жестоко убит.
После этого все притязания на порядок и умеренность исчезли. Пока голова примаса, насаженная на пику и увенчанная его же митрой, проносилась по городу перед тем как быть выставленной у ворот у Лондонского моста, – обычное место для голов изменников – а король, остерегаясь возвращаться в свою оскверненную резиденцию в Тауэре, направился со своей свитой в Королевскую Гардеробную в Байнардском замке рядом с собором Св. Павла, где его мать нашла убежище, столичная чернь и крестьянская армия продолжили бунт на улицах столицы, заставляя прохожих кричать: «С королем Ричардом и истинными общинами» и убивая каждого, кто отказывался это делать. К наступлению ночи «вряд ли еще оставалась в городе улица, где не лежали бы тела убитых»[493]. Главными жертвами были фламандские купцы, на которых охотились повсюду и убивали сразу же по нахождении; говорят, что было убито более 150 человек, включая 35 купцов, которые нашли убежище в церкви Св. Мартина на Винном подворье и которые были выволочены из алтаря и обезглавлены здесь же, на одном бревне. Любой нарушитель общественного порядка, у которого были старые невыплаченные долги или заложенная собственность, воспользовался такой возможностью; олдермен Хорн в сопровождении толпы маршировал по улицам города, приказывая каждому, кто желал осуществления правосудия против своего соседа, обращаться к нему. Тайлер сам поймал и отрезал голову крупному монополисту Ричарду Лайонсу, чьим слугой он был, как говорят, когда-то, пока его заместитель Джек Строу привел банду, чтобы сжечь дом убитого сэра Роберта Хелза, казначея, в Хайбери. Далеко от Лондона, в Саффолке, практические в то же время, голова сэра Джона Кевендиша, главного судьи Королевской скамьи, демонстрировалась ликующей толпе Бери Сент-Эдмундс[494], в то время как его друг и сосед, приор великого аббатства, за которым охотились весь день на Мильденхолских пустошах, весь жался от страха перед взявшими его в плен крестьянами, ожидая суда, который приговорил его к смерти на следующее утро. Позднее, в субботу, когда его голова также была насажена на кол в Бери, толпа проволокла головы обоих друзей вместе, имитируя их общение и взаимные поцелуи.
Рассвет субботы 15 июня застал упадок когда-то гордого королевства, чьи принцы еще четверть века назад вели пленного французского короля по улицам Лондона. От Линкольншира, Лестера и Нортгемптона до побережья Кента и Суссекса, самые богатые и населенные графства находились в огне, в то время как, когда распространились новости о взятии Лондона и унижении короля и совета, другие графства, такие удаленные, как Корнуолл и Йоркшир, подогревались слухами о готовящемся восстании. Самые высшие государственные чиновники – примас и канцлер, казначей и главный судья – были жестоко убиты, и везде магнаты и джентри бежали в леса или, изолированные и беспомощные в своих домах, ожидали криков толпы и света факелов. В Лондоне бунт, грабежи, поджоги и убийства продолжались всю ночь и, хотя тысячи законопослушных крестьян вернулись по домам, получив королевское обещание, другие тысячи, включая их лидеров и наиболее жестокий и преступный элемент, контролировали как столицу, так и то, что осталось от правительства.
Король провел ночь в Гардеробе в Байнардском замке, успокаивая свою мать. Его капитуляция в Майл-Энде ничего не дала, и, хотя тридцать королевских клерков были заняты весь предыдущий день написанием прощений и хартий, ядро восставших оставалось неудовлетворенным и ненасыщенным. При этом, поскольку не было другого пути ослабить их хватку, Ричард решил, несмотря на риск, попробовать еще раз. Соответственно утром в субботу 15 числа он предложил еще одну встречу с общинами и их лидерами. В этот раз встреча должна была состояться на скотном рынке в Смитфилде, прямо перед северо-западными стенами города рядом с церковью Св. Варфоломея Великого и дымящимися руинами приорства Св. Иоанна Клеркенуэльского.
Перед тем как явиться туда, король отправился в Вестминстерское аббатство, чтобы помолиться перед мощами своего предка Св. Эдуарда Исповедника. Там на его глазах было совершено убийство и святотатство, толпа, вломившись в святой храм, вырвала из объятий раки с мощами, в которую он в ужасе вцепился, начальника тюрьмы Маршалси – человека, которого народ ненавидел как «безжалостного палача». Монахи Вестминстера и каноники церкви Св. Стефана встретили короля у ворот, молясь под золотым изображением Девы Марии, которое входила в сокровищницу семьи со времен Генриха III и которая, как считалось, обладала специальными защитными силами[495]. Возможно, что именно этот момент был самым решающим в жизни короля, а не его коронация четырьмя годами ранее, которая запечатлена в Уилтонском диптихе – молодой Плантагенет, облаченный в царственные одежды и корону, преклоняет колени перед фигурами Св. Эдуарда, короля Эдуарда Мученика и Св. Иоанна Крестителя, чьи руки лежат на плече мальчика и все трое, от которых, кажется, четко и неумолимо исходит какая-то угрожающая сила, пока крылатая плеяда ангелов-хранителей надевает на Ричарда пояс совершеннолетия, собрались вокруг Девы Марии и ее ребенка под знаменем Св. Георга[496].
Король со своими слугами, около 200 сильных и вооруженных людей, отправился в Смитфилд. Там он соединился у церкви Св. Варфоломея с мэром Уолвортом и небольшим отрядом, в то время как на другой стороне рынка в полном боевом порядке их ожидали войска восставших. Должно быть, было около 5 часов пополудни, и погода стояла жаркая.
Тайлер теперь чувствовал себя хозяином в королевстве. Он находился во главе войска, которое во много раз превосходило небольшой королевский отряд, а весь день со всех концов страны приходили новости о все новых восстаниях. Накануне вечером он хвастался перед делегатами из Сент-Олбанса, что он сбреет бороды – он имел в виду отрежет головы – всех тех, кто выступает против него, включая и их аббата, и что через несколько дней в Англии не будет законов кроме его личных приказов. «Он подъехал к королю, – пишет хронист, автор „Анонимной хроники”, – с большой учтивостью, сидя на небольшой лошади, чтобы его могли видеть общины. И он сошел с лошади, держа в руке кинжал, который он взял у другого человека. И когда он сошел, он взял короля за руку, наполовину согнул колено и крепко и сильно потряс кисть руки, говоря ему: „Будь спокоен и весел, брат! Через какие-нибудь две недели ты будешь иметь еще сорок тысяч общин, чем ты имеешь сейчас, и мы будем добрыми товарищами”».
«А король сказал названному Уоту: „Почему вы не хотите отправляться по домам?” Тот отвечал с большой клятвой, что ни он, ни его товарищи не уйдут до тех пор, пока не получат грамоту такую, какую они хотят получить, и пока не будут выслушаны и включены в грамоту такие пункты, каких они хотят потребовать, угрожая, что лорды королевства будут раскаиваться, если они (общины) не получат пунктов, каких они хотят. Тогда король спросил его, какие это пункты, каких они хотят, и он охотно и без прекословии прикажет написать их и приложить к ним печать. И тогда названный У от прочел вслух все пункты, которых они требовали, и потребовал, чтобы не было никакого другого закона, кроме Уинчестерского, и что впредь ни в каком судебном процессе не будет объявления вне закона, и что ни один сеньор не будет иметь сеньории, и только один сеньор король будет их иметь, и что имущество святой церкви не должно находиться в руках монахов, приходских священников и викариев, ни других из Святой Церкви, но те, кто владеет им, будут получать достаточное для жизни содержание, а все остальные имущества должны быть разделены между прихожанами; епископов не будет в Англии кроме одного, и все земли и держания, находящиеся у этих владетелей, будут взяты у них и разделены между общинами, оставляя им умеренное содержание; и что в Англии не будет ни одного крепостного, ни крепостничества, ни холопства, но все должны быть свободны и одного состояния. На это король спокойно ответил и сказал, что все, что он может, он честно им пожалует, оставляя за собой регалию своей короны, и велел ему отправляться в свой дом без дальнейшего промедления. Все это время, когда король говорил, ни один лорд, ни один из его советников не осмеливался и не хотел давать ответ общинам ни в одном пункте, кроме самого короля.
В это время Уот Тайлер приказал в присутствии короля принести себе склянку воды, чтобы освежить себе рот из-за большой жары, которую он испытывал, и как только вода была принесена, он стал полоскать свой рот грубым и отвратительным образом перед лицом короля. А затем он велел принести себе фляжку пива и выпил большой глоток и в присутствии короля опять влез на свою лошадь. В это самое время один слуга из Кента, находившийся среди людей свиты короля, попросился посмотреть названного Уота, предводителя общин, и когда его увидел, он сказал во всеуслышанье, что это величайший вор и разбойник во всем Кенте. Услышав эти слова, названный Уот потребовал, чтобы он вышел к нему, тряся головой в его сторону в знак раздражения; но названный слуга отказался идти к нему из страха перед толпой. Но наконец лорды велели ему выйти, чтобы посмотреть, что он будет делать перед королем. И когда названный Уот увидел его, он приказал одному из своих, что следовали за ним, который сидел на лошади, держа развернутое знамя, сойти с коня и отрубить голову названному слуге. Но слуга ответил, что он не заслужил смерти, но то, что он сказал, была правда, и он не станет отрицать этого, но в присутствии своего государя он не может вести спора по закону без его разрешения, разве только в свою собственную защиту... И за эти слова названный Уот хотел нанести ему удар своим кинжалом и убить его в присутствии короля. Поэтому мэр Лондона по имени Уильям Уолуорт, стал укорять названного Уота за это насилие и неуважительное поведение в присутствии короля и арестовал его. За этот арест названный Уот в большом раздражении ударил мэра кинжалом в живот. Но, как было Богу угодно, названный мэр носил кольчугу и не потерпел никакого вреда, но как человек смелый и мужественный, извлек свой меч и ответил названному Уоту сильным ударом в шею и еще раз сильным ударом в голову. Во время столкновения один слуга королевского двора извлек свою шпагу и ударил его два или три раза в живот и ранил его насмерть. И названный Уот пришпорил лошадь, крича общинам, чтобы они отомстили за него; и лошадь понесла его каких-нибудь восемьдесят шагов, и тут он свалился на землю полумертвый. И когда общины увидели, что он свалился, и не знали наверное, что с ним случилось, они стали натягивать свои луки и стрелять»[497].
Пошло тридцать пять лет со времен битвы при Креси и Невиллз Кроссе и еще четверть века со времен битвы при Пуатье, и даже самые молодые из тех, кто принимал участие и демонстрировал свое искусство стрельбы из лука в этих великих сражениях, были теперь стариками. Даже битва при Наддере случилась четырнадцать лет назад, и очень немногие лучники, которые принесли Англии эту пиррову победу, вернулись на родину. При этом среди восставших должно было быть по крайней мере несколько сотен тех, кто воевал во Франции и Бретани, и многие тысячи тех, кто выучился пользоваться длинным луком на состязаниях после церковной службы по воскресеньям и был вооружен этим страшным оружием – наиболее грозным в мире – которое Плантагенеты дали английскому йоменству. Когда сотни луков взметнулись в рядах восставших, казалось, что это будет стоить королю жизни и трона.
В этот момент Ричард вонзил шпоры в свою лошадь и помчался через поле по направлению к многочисленной толпе восставших. «Сэры, – закричал он, остановившись посреди них, – неужели вы будете стрелять в своего короля? Я – ваш командир. И я буду вашим вождем. Пусть тот, кто любит меня, следует за мной!» Эффект был ошеломляющим; ожидаемый град стрел так никогда и не покинул луков. Вместо этого, когда молодой король медленно направил свою лошадь к северу в открытое поле, крестьяне в полном порядке последовали за ним, как дети за волынкой Гамельна[498].
Увидев это, мэр направился галопом в город, чтобы поднять всех верных королю людей и призвать их спасать суверена. Его главный противник – олдермен Сибли, который два дня назад опустил подъемный мост, – прибыл прямо перед ним, распространяя слух, что вся королевская свита перебита. Но появление Уолворта обнаружило его ложь и, возмущенные грабежами, убийствами и поджогами, совершенными за последние 48 часов, лавочники и состоятельные горожане похватали свое оружие и высыпали на улицы в единой надежде защитить свои дома и имущество. Собранные олдерменами и чиновниками на своих подворьях и предводительствуемые сэром Робертом Ноллисом, его лучниками и воинами, они тысячами поспешили через Олдерсгейт в погоню за находящимся в опасности королем и его многочисленными последователями. Они обнаружили их в Клеркенуэльских полях, мальчик был в полном порядке, сидел на своей лошади в самой гуще мятежников и спорил с ними, оказавшимися теперь без лидера и вышибленными из колеи отсутствием Тайлера, которого умирающего отнесли в госпиталь Св. Варфоломея. Пока они были заняты таким образом, Ноллис развернул своих людей, окружая толпу с флангов, когда отряд тяжеловооруженных рыцарей продирался сквозь нее к королю.
Итак, угроза короне и столице была ликвидирована. Восставшие не сопротивлялись; это был конец долгого и жаркого дня, и они, должно быть, были все взмокшие и вымотанные. Окруженные вооруженными людьми и умиротворенные королевскими обещаниями, даже самые крайние из них не имели никаких сил для продолжения драки и были готовы вернуться домой. Он отказался даже слушать предложения некоторых из его спасителей о том, что, поскольку теперь все бунтовщики находятся в его власти, он должен приказать перебить их. «Три четверти из них, – ответил король, – пришли сюда не по своей воле и поддаваясь угрозам; я не позволю невиновным страдать за грехи виноватых». Ноллис, который сам по рождению был йоменом, твердо посоветовал простить их и помог организовать уход кентцев через Лондон к себе домой.
Вся эта огромная толпа растворилась. Когда Ричард вернулся в Гардероб, напутствуемый криками радости лондонцев, мэра которых он только что посвятил в рыцари на Клеркенуэльских полях, он сказал своей изволновавшейся матери: «Радуйся и благодари Господа, ибо сегодня я вновь обрел свое утерянное наследство, так же, как и королевство Англию».
Если бы королю не удалась его миссия в Майл-Энде или Смитфилде, то сейчас не было бы никакой власти, кроме мятежного крестьянства, отправившегося из Йоркшира в Кент и из Саффолка в Девоншир. Когда он и Уолворт так неожиданно в одиннадцатом часу побили Тайлера его же оружием, революция находилась в своей кульминационной стадии успеха. Ибо после полудня, когда Ричард, готовясь к смерти, принимал благословение и отпущение грехов в оскверненном аббатстве, очаги восстания, подогреваемые новостями предыдущего дня о резне в Тауэре и о триумфе восставших в Лондоне, распространились в Сень-Олбанс, Кембриджшир и Ипсвич, также в Бедфордшир, Феншир и Норфолк. В Сент-Олбансе, под руководством местного торговца по имени Уильям Грайндкобб – очень смелого человека с нетленной любовью к свободе – горожане ворвались в аббатство, захватили все грамоты и сожгли их на рыночной площади, растоптав конфискованные жернова – символ монопольных привилегий аббатства – которыми аббат выложил свою келью, пока крестьяне осушали рыбные пруды и уничтожали изгороди, огораживавшие монастырские леса и пастбища. В Кембридже, в ту же субботу в болотистой местности графства поднималась деревня за деревней, колокол церкви Св. Марии Великой призвал толпу в мятежный крестовый поход против университета и находящегося рядом приорства Барнуэл. Колледж Корпус Кристи, главный домовладелец в городе, был полностью разорен, а университетские грамоты, архивы и библиотека были сожжены на следующий день на рыночной площади, во время этого действа, старуха, бросая в костер пергамент за пергаментом, кричала: «Убирайтесь вон вместе с ученостью церковников! Вон!» В течение субботы и воскресенья были подняты восстания в Хантингдоне, Или, Рамси, Торни, Питерборо, Норт Уолшеме, Уаймондеме и Бишопе Линне, так же, как и в сотнях деревнях Восточной Англии, Кембриджшира и Линкольншира и восточного Мидленда. Повсюду мировые судьи, комиссионеры по сбору налогов, юристы, ненавистные лендлорды, в особенности монастыри, подвергались нападению, их дома были сожжены, а хартии и свитки уничтожены.
Самым опасным было восстание в Норфолке, наиболее богатой и населенной, а также независимой местности в Англии. В Западном Норфолке, где оно разразилось параллельно с триумфом короля в столице и длилось почти десять дней, оно было без вождя и, несомненно, довольно бесцельным, общим его знаменателем был грабеж под угрозой насилия. Многие жертвы были лицами низкого происхождения, фермеры, священники и деревенские торговцы; только в 2 из 153 деревень, где были совершены преступления, они приняли форму нападения на лендлорда. Но в восточной части графства, где появился лидер такого же масштаба, как и Тайлер, восстание стало носить политическую окраску, хотя и отличную от политических требований лондонских графств. Его целью, весьма естественной для такой отдаленной территории, была не реформа или даже контроль управления, но создание независимого государства Восточная Англия.
Лидером восстания был фелмингемский красильщик Джеффри Листер. Его заместителем – местный лендлорд сэр Роджер Бэкон из Бэконторпа, обладатель того самого неуправляемого духа, который был присущ семье кармелитского философа и все еще знаменитого Роджера Бэкона. При этом хотя Листер был всего лишь мелким торговцем, он осуществлял почти самодержавную власть, не только по отношению к Бэкону, но и к остальным известным норфолкским землевладельцам, которых он заставил повиноваться ему и из которых он составил свой двор – сэра Уильяма Морли, сэра Стефана Хелза, сэра Джона Бруиса и сэра Роджера Скелза. В начале восстания, которое случилось 17 июня, предводительствуя сборищем из тысяч недовольных норфолкских крестьян на Маусхолд Хит – традиционное место смотра войск графства – Листер едва не поймал графа Саффолка, которого он хотел сделать своим констеблем. Рыцарь, который отказался служить ему, был тут же убит – это был сын местного мельника по имени сэр Роберт Солл, который был посвящен в рыцари во время войн Эдуарда III.
К вечеру восставшие захватили Норидж, четвертый крупный город королевства. Они вошли в него «с развевающимися знаменами и в боевом порядке», Листер и Бэкон скакали во главе в полном вооружении. Городская корпорация заплатила огромный штраф в обмен на обещание, что город не будет разграблен, однако многие дома все равно подверглись грабежу и были сожжены, а ненавидимые мировые судьи убиты. Листер устроил свою штаб-квартиру в замке, где он стал именовать себя королем общин, держался, как король, и его рыцари-заложники прислуживали ему, преклонив колена. Он сразу же начал с того, что объявил весь восточный Норфолк своим королевством, наказывая «изменников», то есть лендлордов-угнетателей, богатых купцов, юристов, и иноземных купцов, которых здесь было предостаточно, ибо Норидж являлся центром торговли сукнами. 18 июня его заместитель Бэкон вошел в Ярмут, сжег все городские хартии, выпустил пленников из темниц и обезглавил большое количество фламандцев. Также он – ибо он, без сомнения, был мало заинтересован – заставил нескольких своих собратьев землевладельцев отписать свои имения в его пользу.
К этому времени, однако, Норфолка достигли новости о восстановления королевской власти в Лондоне. 21 июня – спустя неделю после встречи в Майл-Энде – Листер послал трех своих преданных сторонников по имени Транч, Скит и Кибитт, с большой суммой денег, а также двух рыцарей заложников, чтобы придать миссии респектабельность, к королю с целью получить от него хартию и амнистию, подобную той, которую тот пожаловал бунтовщикам лондонских графств. Но у Темпл Бриджа на границе с Саффолком на следующий день им не повезло, и они угодили прямо в руки епископа Нориджского – Генри Деспенсера – который торопился в свой диоцез с армией тяжеловооруженных воинов и лучников. Этот воинственный прелат, племянник того самого Деспенсера, который смог переправить английские войска через Сомму перед битвой при Креси и который в свои молодые годы сражался в папских войнах в Италии, находился в Берли-у-Стемфорда, когда его достигли новости о беспорядках в восточной Англии. Выступив домой 17 июня – в день, когда восставшие заняли Норидж, – он с восьмью рыцарями, составлявшими его свиту, вошли в Питерборо именно в тот момент, когда горожане и держатели аббатства собрались атаковать монастырь. Без колебаний епископ со своим небольшим отрядом напали на них и обратили в бегство; «некоторые, – написал монастырский хронист, – пали от копья или меча, не дойдя до монастырской церкви, некоторые уже внутри, а некоторые даже рядом с алтарем; те, кто пришел разрушить церковь и убить ее министров, пали от руки священника, ибо епископский меч даровал им очищение»[499].
Освободив Питерборо, Деспенсер собрал армию из местных джентри и их вассалов, сколько смог, и поторопился к Рамси. Здесь 18 числа он обратил в бегство сборище кембриджширских и саффолкских бунтарей, которые терроризировали монастырь. На следующий день он достиг Кембриджа, где усмирил восстание, которое продолжалось с выходных, обезглавил нескольких вождей и зачинщиков на рыночной площади и сместил мэра как «исключительно непригодного». Затем, восстановив власть университета, – чьи привилегии и полномочия был соответственно расширены за счет города, – он отправился в Норидж, встретив эмиссаров Листера утром 22 числа. Обнаружив, как обстоят дела со слов двоих заложников, он сразу отрубил головы Транча, Скита и Кибитта и послал их, чтобы они были выставлены у позорного столба в Ньюмаркете.
Одновременно в Лондоне король и его вновь собранное правительство действовало также энергично. Пожаловав мэру и Роберту Ноллису суммарные полномочия по подавлению и наказанию теперь уже успокоившихся бунтовщиков в столице, Ричард со своим новым канцлером лордом Аронделем выпустил 18 числа прокламацию, приказывая королевским чиновникам по всей стране уничтожить и арестовать всех преступников. Спустя два дня Ноллис с констеблем Дуврского замка и шерифом Кента покинули Лондон с целью наведения порядка в графстве, тогда как граф Саффолк, который едва избежал лап Листера и присоединился к королю в Лондоне, отправился с пятьюстами копейщиками в Саффолк. 22 числа король лично прибыл в Эссекс, объявив, что те, кто говорил, что действует от его имени, не имеют никакой власти. Из Уолтемского аббатства, где он расположился на следующий день, он послал вперед против все еще вооруженных мятежников своего дядю, Томаса Вудстокского, только что прибывшего с подкреплениями из Уэльса, и сэра Томаса Перси, ветерана многих сражений во Франции и в Ла-Манше. 28 числа они напали на укрепленный лагерь восставших в Биллеркее, выбив их с тяжелыми потерями из своих укреплений. Днем или двумя ранее епископ Нориджский, который вошел в свой город 24 числа, штурмовал лагерь, защищенный повозками, у Северного Уолтема, к которому отступили общины Норфолка. Листер был взят в плен и тут же приговорен к повешенью, отрубанию головы и четвертованию, епископ лично руководил его казнью, но сначала принял его исповедь и отпустил ему все грехи. Эссекские вожаки, покинутые большинством своих сторонников, бежали в Колчестер и оттуда, не сумев получить поддержку горожан, в Седбери, где их в конце концов разбили местные джентри. Во всех остальных местах восстание, которое распространилось за последнюю неделю июня до Скарборо, Йорка и Бриджоутера, прекратилось так же внезапно, как/и началось.
За исключением казни без суда и следствия нескольких вожаков восстания, таких, как заместители Тайлера Джека Строу, и Джона Старлинга – эссекского бунтаря, который отрубил голову архиепископу Садбери и которого поймали вместе с тем самым мечом, которым он совершил это злодеяние, – восставших судили и наказывали в соответствии с обычным процессуальным законодательством. Новый главный судья Королевской Скамьи Роберт Трезильян, ставший преемником убитого Кевендиша, являлся главой специальной комиссии, заседавшей сначала в Челмсфорде, а затем в Сент-Олбансе, осуществлял правосудие с большой суровостью, а молодой король сидел рядом с ним. Но хотя большое количество человек было найдено виновными в измене или тяжких уголовных преступлениях, только около ста пятидесяти[500] было казнено и почти все эти люди были найдены виновными по решению местного суда присяжных. Погибло большинство вождей восстания, включая Джона Болла, которого нашли в его убежище в Ковентри, и Джона Ро, другого священника, который руководил саффолкскими восставшими и который постарался спасти свою жизнь, попытавшись подделать доказательства в свою пользу. Самый доблестный из них – лидер сент-олбанских горожан против тирании аббатства, которое держало их в рабстве, – умер храбро, защищая правоту своего дела. «Если я умираю за свободу, которую мы завоевали, – сказал он, – я счастлив закончить свою жизнь в мучениях за это дело».
К концу лета король приостановил все аресты и казни, а в декабре была провозглашена полная амнистия. Крестьянское восстание и его подавление завершились. Оставались только тлеющие вспышки ненависти и недовольства; а также и страх его возвращения. Но из-за двух обстоятельств король не пострадал от своих подданных. Одним была его смелость, а вторым – глубоко сидящая в крестьянах преданность к трону, которая превосходила чувство несправедливости и желание мести. Жестокие, каковыми были страсти вокруг «беспокойного времени», и свирепые и безжалостные, каковыми были некоторые деяния, совершенные тогда, большинство тех, кто шагал под знаменем с надписью «Король Ричард и истинные общины» искренне верили, что они возвращают королевство в лоно справедливости и честного управления и спасают своего суверена от изменников и грабителей. Они не хотели уничтожить его или его королевство, и даже в самый разгар восстания позаботились о защите государства. И хотя они освобождали преступников из тюрем и позволяли более жестоким из своих товарищей вымещать свою злобу на тех, кого они считали угнетателями, они не предпринимали попыток истребить тех, кто стоял выше их по социальной лестнице, как это было во время французской Жакерии поколение назад. Когда восстали французские крестьяне в полном отчаянии из-за поражения своих королей в войнах, они обратили свою месть против всего правящего класса, убивая, насилуя, пытая и калеча любого – мужчину, женщину или ребенка – которого они встречали на своем пути. В сообщениях современников о восстании английских крестьян мы не найдем примеров такой жестокости по отношению к женщинам, хотя три дня столица и несколько недель самые процветающие части королевства находились на их милости.
При этом они и их лидеры были очень близки к свержению своего правительства, гораздо ближе, чем крестьяне Франции, Фландрии и Италии. И сделали это потому, что их дело основывалось не на простом возмущении или безумной ненависти, но на определенных принципах справедливости, следуя которым, они могли освободить свой разум от классовых предрассудков, на принципах, с которыми были согласны все англичане. И хотя казалось, что они потерпели поражение и снова были ввергнуты в рабство, они на самом-то деле, как показало время, достигли своей цели. Когда, через неделю после встречи в Смитфилде, делегация крестьян дожидалась короля в Уолтеме, чтобы попросить о ратификации хартий, он ответил, что те обещания, которые были извергнуты из него силой, ничего не стоят. «Вы все еще вилланы, – сказал он им, – и будете ими всегда!» И он ошибался. Ибо в настоящий момент лорды и могли силой насаждать свои права; но они не могли этого делать постоянно. Старый миф об их непобедимости канул в прошлое. Дав крестьянам оружие Винчестерских Статутов и научив их им пользоваться на бранных полях Франции, они не ожидали, что крестьяне опробуют их на своих учителях и узнают их силу. Они больше не потерпят рабства.
Как экономическое средство получения прибыли с сельского хозяйства, крепостничество было обречено. С такой сердитой и мятежной рабочей силой и при отсутствии полиции, которая заставляла бы ее работать, оказалось, что невозможно, чтобы оно приносило доход. Сталкиваясь с растущей конкуренцией городов, лорд вынужден был идти на уступки, чтобы сохранить своих вилланов на земле. А когда население стало снова расти после первых волн Черной Смерти, процесс коммутирования ренты в денежные платежи возобновился, и наемный труд занял место рабства. В других местах лорды обнаружили, что нужно очень много работать для того, чтобы сохранить доход со своих владений, и они вынуждены были сдавать их в аренду более богатым и более работящим крестьянам. За полстолетия, прошедших после восстания, даже в тех деревнях центральных графств, где господствовала система открытых полей, арендное сельское хозяйство с наемным трудом стало нормой, а наследственное крепостное состояние утратило свое практическое значение. Это был только вопрос времени, перед тем как общее право со своей склонностью к свободе перевело вилланский надел в копигольд. Безземельные крепостные стали копигольдерами, владевшими, по праву копии из манориальных свитков, той же защитой в королевском суде и тем же правом владеть или распоряжаться своим наследственным владением как фригольдер.
* * *
Так же, как неприятие англичан подчинения силой – так часто продемонстрированное за прошедшее столетие – обратило персонифицированного монарха в короля в парламенте, лорд медленно переставал быть лордом манора. Он мог оставаться угнетателем, но оставаться безответственным за это он больше не мог. Со своим глубоко заложенным стремлением к принципу согласия и защиты и определению прав законом, это было не в природе англичан терпеть власть, не ограниченную законом. Именно этот урок юный суверен, чья храбрость спасла королевство, должен был заучить, если он хотел сохранить то, что спас. До известной степени настоящий успех Ричарда в обуздании революции своих наибеднейших подданных способствовал его собственному уничтожению. Впечатлительный мальчик, который изгнал анархию мистическим духом королевской власти, никогда не оправился от этого раннего отравляющего опыта и веры, порожденной в результате него, что как помазанник Божий он может навязать свою волю любому, кто сопротивляется ей. С редким терпением и политической прозорливостью лично борясь с могущественными лордами, окружавшими его трон, в течение десяти лет он полностью побил их их же оружием и сделался истинным господином своей страны, как никакой король до него. Ее законы и собственность подданных были – или так по крайней мере казалось – в его единоличном распоряжении. При этом спустя восемнадцать месяцев после его триумфа все это оказалось поверженным в прах.
Ни один английский король не имел такого великолепного наследия, какое имел Ричард. Сын и внук двух величайших героев своей эпохи, «высокий и прекрасный как еще один Авессалом», счастливо женатый и окруженным блестящим двором, он использовал частную армию и исключительное политическое искусство, чтобы уничтожить своих врагов. В его царствование процветало отечественное искусство и культура, которые предвосхитили искусство и культуру Бургундии XV века, и соперничали и даже могли превзойти современную им Италию. Йевель[501] был его архитектором, а Чосер – поэтом. При этом, несмотря на свои добродетели и способности, когда он заявлял, что законы существуют в его собственной голове, он делал ту же ошибку, что и аббат, который сказал своим сервам, что у них по закону ничего нет, кроме собственных потрохов. Именно потому что он не смог понять простой истины: кто бы ни претендовал в Англии на абсолютную власть, в конце концов будет отвергнут своим народом, он потерял все и был лишен трона парламентом своих собственных подданных. Подобно своему глупому прадеду– и тем, кто следовал за ним, – он обнаружил, что англичанами могут управлять только те, кто признает неприкосновенность их законов и вольностей и их право защищать их.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ СЭРА АРТУРА БРАЙАНТА
History of the Harrow Mission (Privately printed, 1921).
Rupert Buxton. A Memoir (Cambridge UP, 1925).
The spirit of conservatism (Methuen, 1929).
The Story of Ashridge (Privately printed, 1929).
King Charles II. (Longmans, 1931).
Macaulay (Peter Davies, 1932).
Samuel Pepys: the man in the making (Cambridge UP, 1933).
The national character (Longmans, 1934).
The England of Charles II (Longmans, 1934).
The man and the hour; studies of six great men of our time (London, 1934).
The letters, speeches and declarations of King Charles II (Cassell, 1935).
Samuel Pepys: the years of peril (Cambridge UP, 1935).
Postman's horn: an anthology of the letters of latter seventeenth century England (Longmans, 1936).
The American ideal (Longmans, 1936).
George V (Peters Davies, 1936).
Imaginary biographies (London, 1936).
Stanley Baldwin, a tribute (Hamish Hamilton, 1937).
Humanity in politics (National Book Association, 1937).
Samuel Pepys: the saviour of the Navy (Cambridge UP, 1938).
Peace in our time – Speeches of Neville Chamberlain (Longmans, 1939).
Unfinished victory (Macmillan, 1940).
Britain awake (Collins, 1940).
English saga (1840-1940) (Collins, 1940).
The years of endurance: 1793-1802 (Collins, 1942).
Years of victory: 1802-1812 (Collins, 1944).
The summer of Dunkirk (Kemsley Press, 1944).
The Battle of Britain (Kemsley Press, 1944).
Trafalgar and Alamein (Kemsley Press, 1944).
The art of writing history (English Association Presidential Address, 1946).
Historian's holiday (Dropmore Press, 1946).
A historian's view of the war (Royal United Services Institution), 1947).
The age of elegance, 1812-1822 (Collins, 1950).
Literature and the historian (National Book League, 1952).
The story of England: Makers of the realm (Collins, 1953).
The turn of the tide, 1939-1943: a study based on the diaries and autobiographical notes of Field Marshal the Viscount Alanbrooke (Collins, 1957).
Triumph in the west, 1943-1946 (Collins, 1959).
Liquid history, to comme morate fifty years of the Port of London Authority, 1909-1959 (London,1960). Jimmy, the dog in my life (Lutterworth Press, 1960).
A choice for destiny; Commonwealth and Common Market (Collins, 1962).
The age of chivalry: the story of England (Collins, 1963).
Only yesterday; aspects of English history 1840-1940 (Collins, 1965).
The fire and the rose (Collins, 1965).
The medieval foundation (Collins, 1967).
Protestant island (Collins, 1968).
A history of the British United Provident Association (Privately Printed,1968).
The lion amp; the unicorn: a historian's testament (Collins, 1969).
Nelson (Collins, 1970).
The Great Duke; or, The invincible general (Collins, 1971).
Jackets of green: a study of the history, philosophy and character of the Rifle Brigade (Collins, 1972).
A thousand years of British monarchy (Collins, 1973).
The Cross on high: Sir Arthur Bryant writes about Salisbury Cathedral (Collins, 1978).
Pepys and the Revolution (Collins, 1979).
The Elizabethan deliverance (Collins, 1980).
Spirit of England (Collins, 1982).
Set in a silver sea: the island peoples from earliest times to the fifteenth century (Collins, 1984).
Freedom's own island: the British oceanic expansion (Collins, 1986).
The search for justice (Collins, 1992).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ
Barrow. Barrow, G. W. S. Feudal Britain; the completion of the medieval kingdom, 1066-1314 (London, E. Arnold [1956]).
Bennett. Bennett, Henry Stanley, Life on the English manor; a study of peasant conditions, 1150-1400 (Cambridge University Press, 1960).
Borenius and Tristram. Borenius, Tancred, English medieval painting (Firenze, Pantheon, [c 1927]).
Brieger. Brieger Peter H. English art, 1216-1307 (Oxford, Clarendon Press, 1957).
Burne. Burne, Alfred Higgins, The Crecy war; a military history of the Hundred Years War from 1337 to the peace of Bretigny, 1360 (London, Eyre amp; Spottiswoode, 1955).
Cam. Cam, Helen Maud, The hundred and the Hundred rolls; an outline of local government in medieval England (New York, B. Franklin [I960]).
C. M. H. The shorter Cambridge medieval history (ed. C. W. Previte-Orton) (Cambridge University Press, 1952) 2 vols.
C. E. H. E. The Cambridge economic history of Europe (ed. M. Postan and E. E. Rich) (Cambridge University Press, 1959-1963), vols. 1-3.
Chronicon. Baker, Geoffrey le, Chronicon Galfridi le Baker de Swynebroke (edited with notes by Edward Maunde Thompson) (Oxford, Clarendon press, 1889).
Cohen. Cohen, Herman, A history of the English bar and attornatus to 1450 (London, Sweet amp; Maxwell, limited; Toronto, The Carswell Company, limited, 1929).
Coulton. Black Death. Coulton, G. G. The black death (New York, J. Cape amp; H. Smith [1930]).
D. N. B. Dictionary of National Biography.
Dickinson. Dickinson, William Croft, Scotland from the earliest times to 1603 (Oxford, Clarendon Press, 1977).
Douie. Douie, Decima Langworthy, Archibishop Pecham (Oxford, Clarendon Press, 1952).
English Government. The English government at work, 1327-1336 (ed. by J. R. Willard and W. A. Morris) (Cambridge, Mass., Mediaeval Academy of America, 1940-1950), 3 vols.
E. H. R. English Historical Review.
Evans. Evans J. English art, 1307-1461 (Oxford, Clarendon Press, 1949).
Ferguson. Fergusson, James, William Wallace, guardian of Scotland (London, A. Maclehose amp; Co., 1938).
Froissart. Froissart, Jean, The chronicle of Froissart (Translated out of French by Sir John Bourchier, lord Berners, annis 1523-1525; with an introduction by William Paton Ker) (London, D. Nutt, 1901-1903), 6 vols.
Gasquet. Gasquet, Francis Aldan, Cardinal, The black death of 1348 and 1349 (London, G. Bell, 1908).
Green. Green, Vivian Hubert Howard, The later Plantagenets, a survey of English history between 1307 and 1485 (London, E. Arnold [1955]).
Hamilton Thompson. Thompson, A. Hamilton, The English clergy and their organization in the later Middle Ages (Oxford, Clarendon Press, 1947).
Harvey. Harvey, John Hooper, Gothic England, a survey of national culture, 1300-1550 (London, New York, Batsford [1948]).
Johnstone. Johnstone, Hilda, Edward of Carnarvon, 1284-1307 ([Manchester] Manchester, Univ. Press, 1946).
Jusserand. Jusserand, J. J. English wayfaring life in the middle ages (XIV century) (Translated from the French by Lucy Toulmin Smith) (New York, G. P. Putnam's sons [1931]).
Keen. Keen, Maurice Hugh, The outlaws of medieval legend (London, Routledge and Paul [1961]).
Knowles. Knowles, David, The religious orders in England (Cambridge, University Press, 1948-1959), 3 vols.
Kosminsky. Kosminsku, E. A. Studies in the agrarian history of England in the XIII century (Edited by R. H. Hilton, Translated from the Russian by Ruth Kisch) (Oxford, Blackwell, 1956).
Lapsey. Lapsley, Gaillard Thomas, Crown, community, and Parliament m the later Middle Ages studies in English constitutional history (Edited by Helen M. Cam amp; Geoffrey Barraclough) (Oxford, Blackwell, 1951).
Makers of the Realm. Bryant, Arthur, The Story of England, vol. I, Makers of the Realm (London, Longmans, 1953).
Maynard Smith. Smith, Herbert Maynard, Pre-Reformation England (London, Macmillan, 1938).
Mitchell and Leys. Mitchell, Rosamond Joscelyne and M. D. Leys, A history of the English people (London, New York, Longmans, Green, [1950]).
McKisack. McKisack, May, The fourteenth century, 1307-1399 (Oxford, Clarendon Press, 1959).
Medieval England, Medieval England (ed. by Poole, Austin Lane) (Oxford, Clarendon Press, 1958), 2 vols.
Medieval Panorama, Coulton, G. G. Medieval panorama, the English scene from conquest to reformation (New York, The Macmillan Company, Cambridge, Eng., The University Press, 1938).
Morris. Morris J. E. The Welsh wars of Edward I (Oxford, 1901).
Myers. Myers, Alec Reginald, England in the Middle Ages (Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books [1952]).
Oman. Oman, Charles William Chadwick, The great revolt of 1381 (Oxford, Clarendon press, 1906), Owst, Owst, Gerald Robert, Preaching in medieval England, an introduction to sermon manuscripts of the period et 1350-1450 (Cambridge [Eng] The University press, 1926).
Owst. Literature and Pulpit. Owst, Gerald Robert, Literature and pulpit in medieval England, a neglected chapter in the history of English letters amp; of the English people (New York, Barnes amp; Noble, 1961).
Pantin. Pantin, W. A. The English church in the fourteenth century ([Notre Dame, Ind.] University of Notre Dame Press, 1962).
Perroy. Perroy, Edouard, The Hundred Years War (New York, Oxford, University Press, 1951).
Piers Plowman W. Langland, The Vision of Piers the Plowman (ed. W. Skeat) (London, 1867-1884), 4 vols.
Plucknett. Plucknett, Theodore Frank Thomas, Legislation of Edward I (Oxford, Clarendon Press, 1949).
Power. Power, Eileen Edna, The wool trade in English medieval history, being the Ford lectures, ([London, New York, etc.] [n. d.]).
Powicke. Powicke, F. M. The thirteenth century, 1216-1307 (Oxford, Clarendon Press, 1962).
Ramsay. Ramsay, James H. Genesis of Lancaster or The three reigns of Edward II Edward III, and Richard II, 1307-1399 (Oxford. The Clarendon press, 1913).
Rickert. Rickert, Edith, Chaucer's world (New York, Columbia Univ. Press, 1948).
Rock. Rock, Daniel, The church of our fathers, as seen in St. Osmund's rite for the Cathedral of Salisbury (London, С. Dolman, 1849-1853), 3 vols.
R. H. S. T. Transactions of the Royal Historical Society.
Salzman. Salzman, L. F. English life in the middle ages (London, Oxford University Press, H. Milford [1929]).
Scalacronica. Gray, Thomas, Sir, Scalacronica, the reigns of Edward I, Edward II and Edward III, as recorded by Sir Thomas Cray, and now translated by the Right Hon Sir Herbert Maxwell, baronet (Glasgow, J. Maclehose amp; sons, 1907).
Scottish History. A source book of Scottish history (edited by William Croft Dickinson, Gordon Donaldson and Isabel A. Milne) (London, New York, Nelson [1952-1954]), 3 vols.
Social England Social England, a record of the progress of the people in religion, laws, learning, arts, industry, commerce, science, literature and manners from the earliest times to the present day (edited by H. D. Traill) (New York, Putnam, 1898-1899), vol 1-4.
Steel. Steel, Anthony Bedford, Richard II (Cambridge [Eng.] The University press, 1941).
Stephenson and Marcham. Sources of English constitutional history, a selection of documents from A. D. 600 to the present (edited and translated by Cail Stephenson and Frederick George Marcham) (New York, London, Harper amp; brothers, 1937).
Stubbs. Stubbs, William, bp. of Oxford, The constitutional history of England (Oxford, Clarendon press, 1874-1878), 3 vols.
Thrupp. Thrupp, Sylvia L. The merchant class of medieval London, 1300-1500 ([Chicago] Univ. of Chicago Press [1948]).
Tout Chapters. Tout, Thomas Frederick, Chapters in the administrative history of mediaeval England (Manchester, The University press 1920-1933), 6 vols.
Tout, Edward II. Tout, Thomas Frederick, The place of the reign of Edward II in English history (Manchester, The University press, 1936).
V. С. H. Victoria County Histories.
Wilkinson. Wilkinson, Bertie, The constitutional history of England, 1216-1399, with select documents (London, New York, Longmans, Green [1948-1958]), 3 vols.
Williams. Williams, Elijah, Early Holborn and the legal quarter of London: a topographical survey of the beginnings of the district known as Holborn and of the Inns of Court and of Chancery (London: Sweet amp; Maxwell, 1927), 2 vols.
Wright, Political Songs. The political songs of England, from the reign of John to that of Edward II (Ed. and tr. by Thomas Wright...and revised by Edmund Goldsmid) (Edinburgh, Priv. print., 1884), 4 vols.
Y. B. Year Books (Selden Society).
Я глубокой благодарен доктору А. Р. Миерсу за любезное разрешение воспользоваться переводами документов, которые он подготовил для публикации в работе English Historical Documents, 1327-1485, которая будет опубликована как том IV серии под этим названием под генеральной редакцией доктора Д. Ч. Дугласа.
КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Адам Истонский (?-1397), ученый монах-бенедектинец, кардинал с 1381 г., автор многочисленных теологических трудов (сохранилось упоминание о 17 трактатах), но о существовании ни одного из них сегодня не известно.
Айала Педро Лопец (1332-1407), автор исторических хроник, переводчик Ливия, Бокаччо и других на испанский язык, написал дидактическую поэму «Rimado de Palacio».
Александр Гэльский (Hales, иногда Хейлзский или Хелзский) (конец XII века – 1245), монах-францисканец, теолог и философ, один из крупнейших схоластов своего времени. Его основной работой является трактат «Summa Universae Theologiae», в котором он высказывает взгляды, близкие к Бонавентуре и Фоме Аквинскому.
Альбемарля, графиня, Изабелла де Редверс (07.1237-10.11.1293), дочь графа Девоншира, в 1248 году вышла замуж за Вильгельма III де Форца, графа Альбемарля, с 1260 года вдова, все дети, кроме графини Холдернесс, вышедшей замуж за герцога Ланкастера, не пережили отца.
Д'Альбре, Арман Аманье (ок. 1323-1401), лорд д'Альбре, виконт де Танта, один из самых могущественных магнатов Гиени, до середины 60-х гг. находился на стороне Эдуарда III, но Карл V Французский переманил его на свою сторону женитьбой на сестре своей жены Маргарите де Бурбон, дочери герцога Бурбонского и Маргариты Валуа (1368 год). В 1382 году сделан великим чемберленом Франции.
Аккурский, Франциск см. Франциск Аккурский.
Актонский, Ральф см. Ральф Актонский.
Алан Уолсингемский (?-1364?), знаменитый средневековый архитектор, перестроил собор и все культовые постройки в Или, епископ Илийский с 1344 г.
Алансонский, граф, Карл II (ок. 1295-26.08.1346), наследовал отцу Карлу III Валуа в 1325 г.
Александр II, король Шотландии (24.08.1198-6.07.1249), в первом браке женат на принцессе Иоанне, дочери Иоанна I (ум. 1238 г.), от этого брака не было потомства, во втором браке (1239 г.) на Марии де Курси, дочери барона де Курси.
Александр III, король Шотландии (4.09.1241-19.03.1286), женат (1251 г.) на Маргарите Английской, дочери Генриха III. Оба сына не пережили отца.
Алиенора Аквитанская (ок. 1122-1204), королева Франции в 1137-1151 гг. и Англии с 1154 года. Жена Генриха II.
Альфонсо (24.11.1273-19.08.1284), третий сын Эдуарда I и Элеаноры Кастильской, сделан графом Честера в 1284 году.
Альфонсо (Альфонсу) VIII (11.11.1155-6.10.1214), король Кастилии, женат (1170) на Элеаноре Плантагенет, дочери Генриха II и внучке Элеаноры Аквитанской.
Альфонсо (Альфонсу) X Мудрый (23.11.1221-1284), король Кастилии, женат (1248) на Беатрисе Елизавете фон Гогенштауфен.
Альфред Великий (849-901), король Англии с 871 г. (провозглашен королем в Вессексе).
Ангуса, графы см. Умфравиль.
Д'Аржантин, Жиль (?-1283[4]), сын Ричарда де Аржантина, юстициария Нормандии, наследовал отцу в 1247 году. В 1258 году был одним из 12 баронов, выступивших против короля. Констебль Виндзора в 1263 году, но встал на сторону Симона де Монфора.
Аркур, Жоффруа де (?-1356), принимал участие в битве при Монт-Касселе в 1328 году и Бувине в 1340 г. После ссоры с Робертом Бертраном, маршалом Франции, был объявлен изменником, а земли его конфискованы, что привело его к Эдуарду III. Сражался при Пуатье на стороне англичан.
Арманьяк, Жан II (?-ок. 1377), граф д'Арманьяк и Падиак, наследовал отцу в 1320 году. Один из крупнейших магнатов Гиени, главнокомандующий французскими войсками в Гиени, воевал с Эдуардом до 1358 года, затем перешел на его сторону.
Арраксы, банкирская семья.
Артевельде, Яков, ван (?-1345), фландрский патриот, изгнал графа Людовика I Фландрского и вступил в союз с англичанами, был убит в народном восстании.
Артевельде, Филипп, ван (?-1382), сын Якова ван Артевельде, продолжил дело отца, в 1381 году стал регентом Фландрии, 27 ноября 1382 года разбит и убит в битве графом Людовиком II Фландрским и французами.
Артур (?-542), легендарный король бриттов, центральная фигура «Легенд о Короле Артуре и Рыцарях Круглого Стола».
Артуа, граф, Роберт II (1250-11.07.1302), сын Роберта I Артуа и Матильды Брабантской, главный противник французских королей по вопросу вассалитета графства Артуа и наследования французского престола. Был трижды женат, его единственный ребенок, дочь от первого брака стала графиней Фландрской.
Арунделя, графы, см. Фитцалан.
Арундель, сэр Джон Ланхернский (?-1379), адмирал при Ричарде II, принимал участие во французских походах Эдуарда III, сподвижник Черного Принца, руководил в 1379 г. экспедицией в помощь герцогу Бретани, однако экспедиция окончилась полным провалом, сам же он утонул.
Атолла, граф, Джон Стретбоги, один из крупнейших ирландских магнатов второй половины XIII века, женат на дочери 9-го графа Мара.
Афинский, герцог, см. Де Бриенн, Готье.
Б
Баденох, см. Комин.
Бадлесмер Бартоломью (ок. 1287-14.04.1322), лорд Бадлесмер, женат (1308) на Маргарите де Клэр.
Бакреллы, купеческая семья.
Баллиоль, леди Деворгила де Галлоуэи (?-28.01.1290), дочь лорда Галлоуэя и Маргариты Хантингдонской, в 1233 году вышла замуж за Джона де Баллиоля (ум. 1269), мать Джона Баллиоля, короля Шотландии.
Баллиоль, Джон де (?-1269), основатель колледжа Баллиоль в Оксфорде. Отец короля Шотландии Джона Баллиоля.
Баллиоль, Джон (1240-1313), король Шотландии с 13.11.1292 года, женат (1280) на Изабелле де Уорен, дочери граф Уорена и Суррея.
Баллиоль, Эдуард (?-1363), король Шотландии с 24.09.1332 г., царствовал в 1332-1333 гг. и 1333-1346, женат на Маргарите Тарентской, внучке Карла II, короля Неаполитанского, умер, не оставив потомства.
Бамптон, Томас, комиссар по сбору налогов в графстве Эссекс в 1381 году.
Бар, граф де, Генрих III (?-1302), зять Эдуарда I, женат (1290) на старшей дочери Эдуарда от первого брака Элеоноре, вдове Альфонсо III, короля Арагона.
Барбур, Джон (ок. 1316-1395) – шотландский поэт, чья поэма «Брюс» является самым ранним памятником шотландской поэзии.
Барди, банкирская семья.
Баскервиль, сэр Ричард, сенешаль Ажене с 1363 года.
Бассет, сэр Ральф, сенешаль Гаскони в 1323-1324 гг.
Батлер, Эдуард, юстициарий Ирландии в царствование Эдуарда I.
Бек, Энтони (?-1310), третий сын Уолтера Бека, барона Ирсби, епископ Даремский в 1283-1310, активный политический деятель в царствование Эдуарда I.
Бек, Томас (?-1293), старший брат Энтони Бека, второй сын Уолтера Бека, барона Ирсби, канцлер Оксфордского университета, 1263-1274, хранитель Гардероба Эдуарда I, 1274-1278, главный казначей короля, 1279-1280, епископ диоцеза Св. Давида, 1280-1293.
Бекет, см. Томас Бекет.
Бекингем (Бэкингем, Бакингем, Buckingham), Джон, теолог.
Белкнап, сэр Роберт (?-1400?), сержант короля с 1366 года, главный судья 1374-1387 гг., возведен в рыцарское достоинство в 1385 году. В 1387 году арестован и выслан из Англии, вернулся в 1397 г.
«Белл, Адам» из Клуя, персонаж легенд о Робине Гуде.
Бентли, сэр Уильям, наместник Бретани в 1351 году.
Берерш (иногда Бургхерш, Burghersh), Генрих (1292-1340), сын лорда Берерша и племянник лорда Бадлесмера, епископ Линкольнский в 1320-1340 гг.
Берерш (иногда Бургхерш – Burghersh), Бартоломью (ок. 1319-1369), сын лорда Берерша и дочери и наследницы лорда Вернона, племянник Генриха Берерша, епископа Линкольнского. Наследовал отцу в 1355 году. Участник всех французских походов Эдуарда III, один из первых рыцарей Ордена Подвязки.
Бери, Ричард де (1281-1345), монах-бенедектинец, тютор Эдуарда Виндзорского, будущего кроля Эдуарда III, казначей Гардероба и хранитель малой печати Эдуарда III с 1330 года, епископ Даремский 1333-1345, канцлер 1334-1335, казначей 1336.
Берийский Жан (ок. 1351-1416), герцог Берийский, старший сын Иоанна II Доброго от Жанны Бургундской. Женат на Жанне Булонской.
Беркли, Джеймс (?-1327), епископ Эксетерский в 1326-1327 гг.
Беркли, Томас (1292-21.10.1361), 3-й лорд Беркли, участник заговора баронов против Эдуарда II, в первом браке женат (1320) на Маргарите де Мортимер.
Берли, сэр Саймон (1336-1388), принимал участие во французских походах Эдуарда III, посол к Педро Кастильскому во время Найерской компании, был взят в плен французами и обменян на герцогиню Бурбонскую (1370), наставник короля Ричарда II. Кавалер Ордена Подвязки (1381). Констебль Дуврского замка и наместник Пяти портов 1383-1387. Остался на стороне Ричарда II в связи со смутой 1387-1388 г. Приговорен к четвертованию парламентским актом.
Берли, Уолтер (1275-1345?), логик и комментатор Аристотеля, ученик Дунса Скотта, личный духовник принцессы Филиппы, графини Эно в 1325-1327 гг. Только 130 трактатов написал об Аристотеле, перевел на английский язык и прокомментировал его основные работы («Этика», «Политика» и др.). Среди других трактатов наиболее интересными являются: «Expositio super Averroem de substantia orbis», «De fluxu et refluxu maris Anglicani», a также «De Vita et Moribus Philosophorum».
Бернелл, Роберт (?-1292), епископ Батский и Уэллский, канцлер 1274-1292, реформатор судебной системы Англии.
Биго (иногда Байгод, Bigod), Роджер (?-1306), 5-й граф Норфолка с 1270 года (наследовал отцу), был дважды женат, но умер, не оставив потомства.
Бирфорд (Bereford), сэр Уильям (?-1326), начал карьеру в парламенте с 1291 года, судья Суда Общих Тяжб 1297-1307, главный судья 1308-1326.
Битон, Томас де (?-1308), епископ Эксетерский в 1292-1308 гг.
Бланкет, Томас, фламандский купец, основал в Лондоне первую мануфактуру, благодаря ему в Англии появились одеяла, которые стали называться его именем (blanket).
Блейкни, Джон, лондонский торговец рыбой в начале XIV века.
Блуа, граф, см. Карл Блуасский.
Бо, сэр Лгу, губернатор Ла Реоля в 1345 году.
Боккаччо, Джованни (1313-1375), итальянский поэт, автор сборника рассказов под общим названием «Декамерон».
Бокойнты, иностранная купеческая семья, осевшая в Англии.
Болингброк см. Генрих IV.
Болл, Джон (?-1381), священник и проповедник, начал свою проповедническую деятельность примерно с 1361 года, несколько раз был арестован и сидел в тюрьме за проповеди на улицах Йорка и Ковентри, принимал активное участие в восстании Уота Тайлера, был казнен.
Болшем, Хьюго (?-1286), епископ Илийский в 1257-1286 гг., основатель колледжа Св. Петра (Петерхаус) в Оксфордском университете (1280), принимал активное участие в политической жизни страны.
Больдонский Утред см. Утред Больдонский.
Бонавентура (Джованни Фиданца), (1221-1274), средневековый теолог и философ, глава францисканского ордена.
Бонифаций VIII (ок. 1235-11.10.1303), папа римский в 1294-1303 гг.
Бошам (Beauchamp), сэр Джон, губернатор Кале в 1350 году.
Бошам, Гай (1271-12.08.1315), 10-й граф Уорика в 1298-1315 (наследовал отцу), в первом браке женат (1297) на Елизавете де Клэр, с которой был разведен в 1308 году по причине отсутствия потомства.
Бошам, Томас (14.02.1313-13.11.1369), 11-й граф Уорика в 1315-1369 гг., наследовал отцу в несовершеннолетнем возрасте, женат (1324) на Екатерине де Мортимер.
Бошам, Уильям де (ок. 1249-5.06.1298), 9-й граф Уорика.
Боэн (Bohun), Джон де (23.11.1305-20.01.1335), 9-й граф Херефорда и Эссекса (1321-1335), наследовал отцу в 1321 году несовершеннолетним. Женат (1325) на Алисе Фицалан (дочери 9-го графа Арунделя), во втором браке на Елизавете Бассет (дочери лорда Бассет Драйтонского). Умер, не оставив потомства.
Боэн, Хамфри де (1248-31.12.1298), 7-й граф Херефорда и Эссекса (1275 1298), наследовал деду, сын Хамфри де Боэна и Элеаноры де Браоз (дочери лорда Абергавенни), женат (1275) на Мод де Фьен (внучке Жака де Конде).
Боэн, Хамфри де (1276-16.03.1321), 8-й граф Херефорда и Эссекса (1298-1321), наследовал отцу, женат (1302) на принцессе Елизавете, дочери Эдуарда I. Констебль Англии, убит в битве при Бургбридже.
Боэн, Хамфри де (6.12.1309-15.10.1361), 10-й граф Херефорда и Эссекса (1335-1361), наследовал брату. Констебль Англии. Умер холостяком.
Боэн, Хамфри де (24.03.1341-16.01.1373), 11-й граф Херефорда и Эссекса (1361-1373), наследовал дяде, 2-й граф Нортгемптона (с 1360 г.), наследовал отцу. Женат (1359) на Джоанне Фицалан (дочери 10-го графа Арунделя и Элеаноры Плантагенет, дочери 3-го графа Ланкастера).
Боэн, Уильям (1311-16.09.1360), граф Нортгемптона с 1337 года, сын графа Херефорда и Эссекса и принцессы Елизаветы, дочери Эдуарда I, женат (ок. 1339) на Елизавете де Бадлесмер, вдове лорда Мортимера Вигморского.
Брабазон, Роджер (?-1317), судья выездного суда Ланкашира с 1287 г., судья королевской скамьи с 1289 г., главный судья в 1295-1316 гг.
Брабантский, герцог, Иоанн I Победитель (ок. 1255-1294), наследовал брату в 1267 году, с 1288 г. герцог Лимбургский.
Брабантский, герцог, Иоанн II (28.09.1275-27.10.1312), наследовал отцу в 1294 году, женат (1290) на Маргарите Английской, дочери Эдуарда I.
Брабантский, герцог, Иоанн III (1300-1355), наследовал отцу в 1312 году. Женат на Марии Французской, дочери Людовика, графа Эвре.
Брадуордин, Томас (ок. 1290-26.08.1349), капеллан Эдуарда III с 1335 года, сопровождал короля в военных походах, архиепископ Кентерберийский в 1349 году, умер от чумы. Является автором многочисленных теологических и математических трактатов, среди них: «Summa Doctoris Profundi», «De proportionibus», «De quadratura circuli», «Arithmetica speculativa», «Geometria speculativa».
Брактон, Генрих де, (?-1268), английский юрист, автор одного из первых юридических трактатов «О законах Англии».
Брандербургский, маркграф, Иоанн I (1213-4.04.1266), титул с 1220 года.
Брайтон, Томас (?-1389), епископ Рочестерский в 1373-1389 гг.
Браоз (Braose), Уильям де (до 1228-конец 13 века), уэльский маркграф, лорд Абергавенни, женат (ок. 1257) на Еве Маршалл, дочери 4-го графа Пемброка.
Бредон, Саймон, английский астроном, середина XIV века.
Брей, Генрих де (ок. 1248-ок. 1313), в 1273 году поступил на службу в королевскую администрацию, исчитор земель южнее Трента в 1283-1290, в 1290 г. арестован по подозрению в коррупции, земли его конфискованы, а сам он посажен в Тауэр, где провел 9 лет до 1299 г. Выпущен по достижении соглашения с королем.
Бретвиль, Ричард де, атторней Эдуарда I.
Бретон, Джон, де (?-1275), королевский судья в 1266-1268 гг., епископ Херефордский 1268-1275. Написал книгу, известную юристам под названием «Britton», которая являлась переработкой «Законов» Брактона.
Бриан, сэр Гай, де, рыцарь Ордена Подвязки, при Креси нес королевское знамя.
Бриенн, Готье де (?-19.08.1356), герцог Афинский, граф Бриенн, коннетабль Франции. Погиб в битве при Пуатье. Женат (1342) на Жанне, сестре Ральфа де Бриенна, графа д'О и де Гина.
Бромиард, Джон (?-ок. 1390), монах-доминиканец, проповедник, один из главных оппонентов Уиклифа, автор трактатов: «Summa Praedicantium», «Opus Trivium».
Бромский, Адам (?-1332), основатель и провост Ориель колледжа, канцлер Дарема (1316-1319), архидьякон Стоу (1319), викарий церкви Св. Марии в Оксфорде (1319-1332), клерк канцелярии и духовник Эдуарда II.
Бронском (Bronescombe), Уолтер (ок. 1220-1280), папский капеллан в 1250 г., судья папского суда в 1250-1254 гг., епископ Экзетерский 1257-1280. Принимал активное участие в заключении мира между королем Генрихом III и мятежными баронами.
Бротертон, Томас – см. Томас Бротертонский, герцог Норфолка.
Брюс, Эдуард (ок. 1275-14.10.1318), король Ирландии с 1316 года, брат Роберта I Брюса, короля Шотландии. Также лорд Галлоуэля, граф Каррика. Женат на Изабелле Стренбоги, дочери графа Атолла.
Брюс, Роберт, де (1210-1295), 5-й лорд Аннандейла с. 1245 года, в 1290 претендент на шотландскую корону. Женат (1240) на Изабелле де Клэр, дочери графа Глостера и Изабеллы Маршалл.
Брюс, Роберт (ок. 1241-1304), сын 5-го лорда Аннандейла. Через брак с Марджори Карикской, графиней Каррика (1271) получил титул графа Каррика.
Брюс, Роберт (1274-1329), граф Каррика с 1304 года, наследовал отцу. Король Шотландии под именем Роберта I с 1306 года.
Бурбонский, герцог, Людовик I (1279-22.01.1341), сын графа Клермонта и Беатрисы де Бургонь, титул с 1310 года.
Бурбонский, герцог, Людовик II (4.08.1337-19.08.1410), сын Петра I, герцога Бурбонского и Изабеллы Валуа. Наследовал отцу в 1356 году.
Бург, Елизавета де (6.07.1332-10.12.1363), дочь 3-го графа Ольстера и Мод Плантагенет. Замужем (1363) за Лайонелом, герцогом Кларенса, сыном Эдуарда III.
Бург, Ричард де (1259?-1326), 2-й граф Ольстера и 4-й граф Коннота, старший сын Уолтера де Бурга, 1-го графа Ольстера. Наследовал отцу в 1271 году, в 1279 году стал полноправным наследником. Являлся одним из самых могущественных английских магнатов в Ирландии.
Бург, Уильям де (1312-1332), 3-й граф Ольстера и 6-й лорд Коннота. В 1326 году наследовал своему деду. Убит. Женат (1327) на дочери Генриха Плантагенета, 3-го графа Ланкастера.
Бургундский, герцог, Эд IV (1295-3.04.1350), наследовал отцу в 1315 году. Женат (1317) на Жанне II Артуа, графине Артуа. Умер, не оставив сыновей.
Бурсье (Bourchier или Boussier), сэр Роберт (?-1349), член палаты Общин от Эссекса в 1330, 1332, 1338 и 1339 гг., главный судья королевской скамьи в Ирландии в 1334 г., первый канцлер-мирянин в 1340-1341. Умер во время чумы.
Буш, де, капталь, гасконец, один из основателей Ордена Подвязки.
Бьюкена (иногда Бахана, Buchan), графы см. Комин.
Бэйкер, Джеффри ле (?-после 1356), оксфордский хронист. Написал две хроники, первая с древнейших времен до 1326 года (закончена в 1347 году) и вторая, более важная, с 1303 по 1356, в которой подробно описывается убийство Эдуарда II.
Бэкон, Роджер (1214-1294), францисканский монах, философ и ученый.
В
Валенс, Эмер де, граф Пемброка (1270-23.06.1324), третий сын Уильяма Валенского, сводного брата Генриха III, наследовал отцу в 1296 году, наследовал матери как граф Пемброка в 1307 году. Принимал активное участие в шотландских войнах, в царствование Эдуарда II открыто поддерживая короля, тайно вошел в переговоры с Мортимером и другими недовольными лордами, тем не менее добился осуждения графа Ланкастера, большую часть земель которого и получил. Трижды был женат, его последняя жена (1321) Мария Шатильонская, дочь Ги IV, графа Сен-Поля, была основательницей колледжа Пемброк Холл в Кембридже. Умер, не оставив потомства.
Валенс, Уильям де, граф Пемброка (1225-17.05.1296), сын Изабеллы Ангулемской, вдовы короля Иоанна Безземельного и ее второго мужа Гуго X Лузиньяна, графа де ла Марша. Женат на Джоанне де Мунчензи, графине Пемброка (внучке Вильгельма Маршала, графа Пемброка), почему и именовался граф Пемброка. Был непопулярен по причине своей жестокости, несправедливости и плохого отношения к монастырям и соседям.
Вольдемар IV (ок. 1320-24.10.1375), король Дании с 1340 года, наследовал брату. Присутствовал на пиру у купца Лайонса в 1364 году.
Везенгем, Джон де.
Вер, Роберт де (ок. 1240-7.08.1296), 5-й граф Оксфорда, наследовал отцу, 4-му графу в 1263 году. Женат на Алисе де Сэнфорд, наследнице Гилберта де Сэндорда, чемберлена королевы, этот наследственный пост перешел к семье де Веров благодаря данному браку. Выступал на стороне Симона де Монфора.
Вер, Роберт де (24.06.1257-17.04.1331), 6-й граф Оксфорда, наследовал отцу 5-му графу в 1296 году. Женат на Маргарите Мортимер, дочери Роджера Мортимера, лорда Уигмора. Единственный сын от этого брака умер при жизни отца без потомства.
Вер, Джон де (12.03.1311-23.01.1359), 7-й граф Оксфорда, наследовал дяде 6-му графу в 1331 году (сын сэра Альфонсо де Вера, младшего брата 6-го графа). Женат на (1336) на Мод де Бадлесмер, дочери Бартоломью, лорда Бадлесмера. Принимал активное участие в шотландских войнах и французских походах Эдуарда III. Погиб при осаде Реймса.
Вески (Vesci или Vescy), Джон де (ок. 1245-1289), наследовал своему отцу лорду де Вески в 1253 г. Женат (1279) первый раз на Марии де Лузиньян, сестре Гуго, графа де ла Марша, второй раз (1280) на Изабелле де Бомон, сестре епископа Даремского, и родственнице королевы Элеаноры. В период баронских войн выступал на стороне Симона де Монфора, но затем перешел на сторону Эдуарда I, участвовал вместе с ним в крестовом походе, в шотландских войнах, королевский секретарь и советник в Уэльсе в 1277 и 1282 гг. Умер, не оставив потомства.
Веттины, семья.
Вильгельм I (1028-9.09.1087), сын Роберта II, герцога Нормандского, герцог Нормандский в 1035-1087 гг., захватил Англию в 1066 году, король Англии с 1066 года. Женат (1053) на Матильде Фландрской.
Вильгельм Лев (1143-4.12.1214), король Шотландии, внук Давида Святого, короля Шотландии, сын графа Хантингдона. Наследовал старшему брату, Малькольму IV, вступил на престол в 1265 году. Женат (1186) на Эрменгарде де Бомон, внучке Генриха I Боклерка, короля Англии.
Висконти, Бернабо (?-1385), внук Маттео I Великого, герцога Миланского, герцог Миланский с 1354 года.
Виттельсбахи, семья.
Во, сэр Джон де, являлся главой суда, приговорившего Давида ап Груффита к смертной казни в 1282 году.
Г
Гавестон, Пирс (1284-19.06.1312), сын гасконского рыцаря, который выделился благодаря преданной службе Эдуарду I, в награду за что Эдуард сделал его сына товарищем по играм наследника престола. Стал фаворитом Эдуарда II. В 1307 году возведен в графское достоинство с титулом граф Корнуолла. Женат (1307) на Маргарите де Клэр, дочери 3-го графа Глостера и принцессы Джоанны Английской. Казнен по обвинению в государственной измене.
Габсбурги, императорский дом.
Гальфрид Монмутский (1100?-1154), также Гальфрид Артурус или Гальфрид Монемутензис. Епископ Сент-Азафа и хронист. Основным его произведением является «Historia Britonum» («История бриттов»), а также «Vita Merlini» («Жизнь Мерлина»).
Гастингс, Джон (6.05.1262-1313), 2-й барон Гастингс (8-й по праву держания), наследовал отцу в 1268 г., лорд Абергавенни (часто Бергавенни), наследовал дяде (Дэжорджу де Кантелупу) в 1273 году. Женат первый раз (1275) на Изабелле де Валенс, дочери Уильяма де Валенса, сводного брата Генриха III, второй раз (1307) на Изабелле, дочери Гуго ле Деспенсера. Принимал активное участие в уэльских и шотландских войнах, с 1309 г. сенешаль Аквитании.
Гастингс, Джон (29.08.1347-16.04.1375), сын 11-го графа Пемброка и Агнессы де Мортимер (дочери Роджера де Мортимера, графа Марча). Наследовал отцу как 12-й граф Пемброка и барон Гастингса в 1348 году. В первом браке женат (1359) на Маргарите, дочери Эдуарда III, во втором (1368) на Анне, дочери сэра Уолтера Мэнни. Рыцарь Ордена Подвязки, 1369 г. Принимал участие во французских походах Эдуарда III, командующий английских войск в Аквитании в 1372 г.
Гастингс, Джон (11.11.1372-30.12.1389), 13-й граф Пемброка, наследовал отцу в 1375 году. Также барон Гастинг и Муни. Женат в первый раз (1380, брак аннулирован 1383) на Елизавете Плантагенет, дочери Джона Гонтского, герцога Ланкастера, второй раз (ок. 1385) на Филиппе де Мортимер, дочери Эдмунда де Мортимера, графа Марча. Умер (убит на турнире) несовершеннолетним, не оставив потомства.
Гауэр, Джон (1325?-1408), английский поэт, писавший по-английски, французски и латыни. Основные поэмы: «Speculum Meditantis», «Vox Clamantis», «Confessio Amantis».
Гвиневера, легендарная королева, жена короля Артура.
Геннегау (Эно), граф, Вильгельм III (1280-7.06.1337), сын Иоанна II, графа Геннегау и Филиппины Люксембургской, наследовал отцу в 1304 году. Женат (1305) на Жанне де Валуа, дочери Карла III, графа Валуа. Тесть Эдуарда III.
Геннегау Жанна де Валуа (1294-7.03.1342), дочь Карла III, графа Валуа и Маргариты Анжуйской. Замужем (1305) за Вильгельмом III, графом Геннегау. Ее дочь, Филиппа, вышла замуж за Эдуарда III.
Генрих II (25.03.1133-6.07.1189), король Англии в 1154-1189 гг., сын Годфрида V Красивого, графа Анжуйского и Майнского и Матильды, королевы Англии, дочери Генриха I Боклерка. Наследовал королю Стефену по Уоллигфордскому трактату. Женат в первом браке (1152) на Элеаноре Аквитанской, во втором – на Розамунде Джоанне Клиффорд, дочери барона Клиффорда.
Генрих III (1.10.1207-16.11.1272), король Англии в 1216-1272 гг., наследовал своему отцу Иоанну Безземельному. Начал личное правление с 1234 г. Женат (1236) на Элеаноре Прованской, дочери Раймунда V, 4-го графа Прованского.
Генрих IV Болингброк (30.06.1366-20.03.1413), сын Джона Гонтского, герцога Ланкастера и Бланки Ланкастерской, графини Дерби. Наследовал отцу как герцог Ланкастера в 1399 г., матери как граф Дерби в 1368. Сверг с престола Ричарда II в 1399 г. Женат в первом браке (1380) на Мэри де Боэн, дочери графа Херефорда, во втором браке (1403) на Жанне Наваррской. Умер от болезни, похожей на проказу.
Генрих V (9.08.1387-21.08.1422), король Англии в 1413-1422 гг. Наследовал отцу. Женат (1420) на Екатерине Валуа, дочери Карла VI, короля Франции.
Генрих (Энрике) II Трастамарский Бастард (1333-30.05.1379), король Кастилии с 1369 года. Женат в первом браке (1350) на Хулиане Мануэле де Каслилла, дочери герцога де Виллена, во втором браке на Эльвире Инигуэц де ла Вега.
Генрих Гросмонтский (1306-24.03.1361), сын Генриха Плантагенета, 3-го графа Ланкастера, наследовал отцу в 1351 году. Также граф Дерби и Линкольна. Главнокомандующий английских войск во Фландрии и Франции. Женат (1335) на Изабелле де Бомон, дочери графа Бьюкена. Умер от чумы.
Генрих «Кривая Шея» (1281-22.09.1345), сын Эдмунда Горбатого (сына Генриха III) и Бланки Артуа. Наследовал отцу как граф Лестера в 1324 г. Наследовал брату как граф Ланкастера в 1327 г. Женат в первом браке (1297) на Мод де Чеуорт, во втором браке (1322) на Алисе де Жуанвиль. Принимал активное участие в свержении Эдуарда II, был назначен опекуном молодого Эдуарда III, главнокомандующий всех королевских войск на шотландской границе.
Геральд Камбрейский (ок. 1146-1220), валлийский историк, епископ диоцеза Св. Давида с 1198 года. Написал историю завоевания Ирландии Генрихом II.
Гереберт, Уильям, из Торни, жил во времена Генриха III, упомянут в судебных делах Эдуарда I.
Гилберт из Честертона, крупный лондонский купец в царствование Эдуарда I, 90-е гг. XIII века.
Гин (Guisnes), граф де, первый период Столетней войны.
Гиффард, Гуго (ок. 1215-ок. 1270), судья Генриха III, наставник Эдуарда I по правовым вопросам. Его старший сын являлся архиепископом Йоркским в царствование Эдуарда I, а младший – епископом Вустерским и канцлером.
Гиффард, Джон (1232-30.05.1299), барон Гиффард Бромсфельдский, наследовал отцу в 1248 году. В гражданских войнах принимал участие на стороне Симона де Монфора, но затем перешел на сторону принца Эдуарда и затем короля Эдуарда I. Был главнокомандующим войск в Уэльсе (1282 г.), затем воевал во Фландрии и Шотландии. В 1297 г. был назначен членом регентского совета во время отсутствия короля. Основал в 1283 г. Глостер Холл (сейчас Вустер колледж) в Оксфордском университете. В 1271 году насильно взял в жены Матильду, вдову Уильяма Лонжеспе и наследницу Уолтера де Гиффарда (за что заплатил штраф в 300 марок).
Глостера, графы см. Клэры.
Гогештауфены, императорский дом.
Годберд, Роджер, объявленный вне закона разбойник, скрывавшийся в Шервудском лесу в последние годы царствования Генриха III, один из реальных прототипов Робина Гуда.
Годстоу, приоресса обители Анкеруайк в сер. XIV века.
Голландии, граф, Флоренц V (1254-27.06.1296), сын Вильгельма II Голландского, императора Священной Римской Империи. Женат (1252) на Беатрисе де Дампьер.
Грайндкобб, Уильям, сент-олбанский купец, лидер горожан во время восстания Уота Тайлера.
Грандинсон, Иоанн (1292?-15.07.1369), изучал теологию в Париже у будущего папы Бенедикта XII, в 1310 г. стал архидьяконом Ноттингемским, в 1322 – Линкольнским и Уэллским, личный капеллан папы Иоанна XXII, епископ Экзетерский с 1327 года. Благодаря своим связям с авиньонскими папами часто выступал посредником в переговорах между Францией и Англией.
Грансон, Отто де (?-1303), бургундский рыцарь, сподвижник Эдуарда I, сопровождал Эдуарда в крестовом походе и являлся его посланником.
Грахам (иногда Грэхэм, Грэхем, Graham), сэр Джон (до 1258-22.07.129,8), шотландский рыцарь, ближайший сподвижник Уоллеса, убит в битве при Фолкерке.
Грей, Джон де (1305-1392), 3-й барон Грей Коднорский, наследовал отцу в 1335 году. Принимал участие в шотландских войнах, во фландрских и французских походах Эдуарда III и Генриха, граф Дерби и Ланкастера. В 1353 году был военным комиссаром в графствах Ноттингем и Дерби, в 1360 г. назначен губернатором Рочестерского замка. Женат на Алисе де Инсула.
Грей, Реджинальд де (ок. 1248-1308), первый лорд Грей Уилтонский и Ратинский (с 1282 г.). Судья графства Честер. Принимал активное участие в завоевании Уэльса, за что и был награжден землями в марках Северного Уэльса и титулом. Женат (ок. 1267) на Мод, дочери и наследнице Генриха де Лонгчемпа Уилтонского.
Грей, сэр Томас Хетонский (?-ок. 1344), лейтенант лорда Клиффорда, участник в битве при Стерлингском мосту в 1309 году, был взят в плен в битве при Бэннокберне, в 1319 году назначен констеблем Норемского замка. Женат на Агнес де Бейль.
Грей, сэр Томас Хетонский (ок. 1300-1369?), сын сэра Томас Грея (умер ок. 1344). Сражался при Невиллз Кроссе, в 1355 году был взят в плен шотландцами, выкуплен в 1357 году королем. Участник французского похода 1359 года, назначен хранителем восточных марок. Женат на Маргарите, дочери Уильяма де Пресфена. Его внук получил титул граф Тенкервилля. Во время плена начал работу на хрониками, которые затем свел в единое произведение под названием Scalacronica, описавшей походы Эдуарда III на первом этапе Столетней войны.
Грейвсенд, Стефен (ок. 1280-8.04.1338), ректор Степни в 1303 году, настоятель собора Св. Павла в 1313 г., епископ Лондонский с 1319 года. Сторонник Эдуарда II, отказался принести присягу Эдуарду III, но на коронации присутствовал. После участия в заговоре графа Кента (1330), посажен в тюрьму, но затем отпущен и восстановлен во всех должностях.
Григорий X (1210-10.01.1276), папа римский с 1271 года.
Григорий Рокслийский (?-13.07.1291), самый богатый ювелир своего времени и крупный торговец шерстью. Олдермен Лондона, в 1264 и 1270 гг. – шериф Лондона. В 1274 г. назначен мэром Лондона и находился на этом посту восемь раз в период с 1274 по 1281 и в 1285 годах. За сопротивление воле короля в 1285 году посажен в Тауэр, но выпущен через несколько дней.
Гризант, Уильям (ок. 1279-после 1350), преподавал философию в Оксфорде в 1299 г., затем уехал изучать медицину в Монпелье. Поселился в Марселе, где приобрел большую известность как врач. Выжил во время марсельской чумы в 1347 году и написал предупредительный трактат о болезни. Он считается отцом папы Урбана V (1309-1370). Оставил следующие трактаты: «Speculum Astrologiae»; «De Qualitatibus Astrorum»; «De Magnitudine Solis»; «De Quadrature Circuli»; «De Motu Capitis»; «De Significatione Astrorum»; «De Causa Ignorantiae»; «De Judicio Patientis»; «De Urina non Visa».
Гросстест, Уильям (ок. 1175-1253), канцлер Оксфордского университета в 20-х гг., первый ректор францисканцев в Оксфорде в 1224 г., епископ Линкольнский в 1235-1253 гг., участник Мертонского Совета при Генрихе III. После его смерти были предприняты попытки его канонизировать, но без особого успеха.
Гуго Авраншский (ок. 1141-1181), сын Ранульфа II, графа Честера и Матильды, дочери графа Глостера, незаконнорожденного сына Генриха I. Наследовал отцу в 1153 году. Принимал участие в баронском восстании против Генриха II, был взят в плен, но подписал соглашение с королем и прощен после Нортгемптонского совета 1177 года. Женился (до 1171 г.) на дочери Симона III, по прозвищу Храбрый, графа Эвре и Монфора (приходился шурином Симону де Монфору). Его единственный законный сын Ранульф III, умер в 1232 г. без потомства, и графство перешло к дочерям.
Гуд, Робин, знаменитый персонаж английских народных легенд.
Гурдонский, Адам, сэр (?-1305), знаменитый разбойничий атаман, дислоцировавшийся в Элтонском ущелье. Во время баронских войн находился на стороне де Монфора, но в 1266 году оказался среди тех, кого лишили земель. Тогда с другими своими сторонниками сформировал банду и стал грабить Беркшир, Бекингемшир и Гемпшир. Эдуард I вызвал его на поединок и победил в схватке, но был пленен его дерзостью, восстановил во всех правах, вернул земли и назначил его судьей по лесным делам (в 1282 году), а затем военным комиссаром. Принимал участие в уэльских и шотландских войнах. Был трижды женат.
Гуэнуинуин (иногда Гуэнвинвин, Gwenwynwyn), Груффит an (до 1218-1286?), лорд Пула, сын Гуэнуинуина, князя Поуиса, земли которого были захвачены Ллевелином, что и привело его в Англию после смерти отца (в 1218 году). Принес оммаж Генриху III в 1241 году, за что Ллевелин лишил его практически всех оставшихся земель. Женат на Гавизе, дочери Л'Эстранжа Нокского.
Д
Давид I (1084-1153), король Шотландии с 1124 года, сын Малькольма III Канмора и Маргариты Святой. Жена (1113) на Матильде, дочери Симона де Сен Лиза, норманнского графа Нортгемптона.
Давид II (5.03.1324-22.02.1371), король Шотландии с 1329 года, сын Роберта I Брюса от второй жены Елизаветы де Бург. Женат в первом браке (1328 г.) на принцессе Джоанне, дочери Эдуарда II, во втором браке (1363 г.) на Маргарите, вдове сэра Джона Лоджи (разведены в 1369 году шотландскими епископами).
Давид III an Груффит (ок. 1235-3.10.1283), сын Груффита ап Ллевелина, брат Ллевелина, последнего короля Уэльса. В 1255 году восстал против своего брата Ллевелина, но был побежден и бежал, тем не менее к английскому королю не присоединился. Являлся постоянным инициатором междоусобных войн в Уэльсе, в 1263 году поднял второе восстание против Ллевелина, но опять потерпел поражение и пошел с Ллевелином на мировую. Однако в 1274 году составил заговор по свержению Ллевелина с престола, был предан, и присоединился в 1277 г. к Эдуарду I против Ллевелина. После поражения Ллевелина был награжден уэльскими землями. Однако недовольный королевским правосудием, опять помирился с Ллевелином, в 1282 году напал на Хаварденский замок, перебил гарнизон и захватил в плен королевского юстициария Уэльса. Был взят в плен в июне 1283 года, судим специальным судом, приговорен к смертной казни и казнен. Женат (1277) на Елизавете, дочери графа Дерби и вдове Джона Маршалла.
Дагуорт (иногда Дэгуорт, Дагворт, Дэгворт, Dagworth), сэр Томас, во время Столетней войны наместник констебля и затем констебль войск во Франции.
Дампьер, Гай де (?-1305), граф Фландрский с 1278 г., вместе с Эдуардом I был в крестовом походе.
Данбара, Агнесса (1312?-1369), графиня Данбара и Марча, известная как Черная Агнес, дочь Рэндольфа, графа Морея. Успешно защищала Данбарский замок от англичан в 1337-1338 гг., замужем за графом Данбара и Марча.
Данбар, Патрик (1285-1369), 10-й граф Данбара и 3-й граф Марча. Сторонник Роберта и Давида Брюсов, хотя после битвы при Бэннокберне был на стороне англичан. В 1363 году поднял восстание против Давида. Тем не менее его дочь, Агнесса Данбар, была любовницей Давида II, из-за чего он развелся со своей второй женой. Женат на Агнессе, дочери графа Морея.
Данкастер, Джон, лучник, захватил замок Гин в 1352 году с небольшой горсткой других военнопленных.
Данте, Алигьери (1265-1321), итальянский поэт, автор «Божественной комедии».
Даттон, сэр Томас, храбро сражался при Пуатье, получил за это пенсию от Черного принца.
Делвз (Delves), сэр Джон, участник Пуатье, от Черного принца получил пенсию за мужество.
Дерби, граф см. Генрих Ланкастерский; Генрих IV.
Деспенсер, Генрих ле (1341/2-23.08.1406), четвертый сын лорда Эдуарда ле Деспенсера (сына лорда Хью Деспенсера). Вместе с братом Эдуардом ле Деспенсером принимал участие в войнах папы Урбана V, будучи каноником Солсбери. В 1370 г. был сделан епископом Нориджским. Его называли «воинствующим епископом», так как он принимал участие во всех военных походах. Когда Ричард II был свергнут с престола, он остался преданным королю, за что арестован и заточен в Тауэр.
Деспенсер, Хью, лорд (ок. 1286-27.11.1326), сын Хью Деспенсера, графа Уинчестера. Возведен в рыцарское достоинство вместе с принцем Уэльским в 1306 году. После падения Гавестона стал лордом чемберленом короля. Участвовал в шотландских походах Эдуарда II. Вошел в королевский фавор около 1318 года. Приговорен к смертной казни восставшими баронами и казнен. Женат (около 1309 г.) на Элеаноре, дочери Гилберта де Клэра, графа Глостера.
Деспенсер, Хью (1262-27.10.1326), сын Гуго ле Деспенсера, юстициария баронов. Участвовал в уэльских, фландрских и шотландских походах Эдуарда I. После падения Гавестона стал главным советником Эдуарда II, за что и получил титул графа Уинчестера. Казнен по приговору парламента после захвата власти женой Эдуарда Изабеллой. Женат (ок. 1285) на Изабелле Бошам, дочери графа Уорика (оштрафован за этот брак, потому что он состоялся без королевского разрешения).
Деспенсер, Хью, лорд, в царствование Эдуарда III.
Деспенсер, Эдуард ле (ок. 1338-1375), сын Эдуарда ле Деспенсера (сына лорда Хью Деспенсера), участвовал во французских походах Эдуарда III, принимал участие в битве при Пуатье, за что был сделан кавалером Ордена Подвязки. Особо проявил себя на службе у папы Урбана V. Женат на Елизавете, дочери Бартоломью, лорда Берерша.
Джилегемский (иногда Джильгемский, Cisleham), Вильгельм, один из первых сержантов Эдуарда I.
Джинуэл, Джон, епископ Линкольнский в 1347-1363 гг.
Джоанна Акрская (1272-1307), графиня Глостера и Хертфорда, третья дочь Эдуарда I и Элеаноры Кастильской. В 1277 году Эдуард начал переговоры о выдаче ее замуж за старшего сына Рудольфа Габсбурга, короля римлян, однако брак был отложен, а жених утонул в 1282 году. Тогда Эдуард выдает ее замуж (1290) за Гилберта де Клэра, графа Глостера. После смерти графа (1295 г.), она вступила в любовную связь с одним из своих сквайров Роджером де Мортермером, и затем тайно вышла за него замуж в 1297 году, хотя король планировал выдать ее замуж за Амадеуса Савойского. Когда ее тайный брак открылся, Эдуард посадил в тюрьму Мортермера, но простил его и дочь, восстановил его в правах и пожаловал ему титул графа Глостера и Хертфорда.
Джоанна Тауэрская (07.1321-14.08.1362), королева Шотландии, младшая дочь Эдуарда II. Эдуард сначала (1325 г.) намеревался выдать ее замуж за наследника короля Кастилии, затем за наследника короля Арагона и, наконец, графа Валуа. Когда ее мать Изабелла получила власть в свои руки, в 1327 году было сделано предложение Роберту Брюсу заключить брак с его сыном Давидом (которому тогда было 4 года). Предложение было принято. Однако Эдуард Баллиоль также претендовал на ее руку и в 1332 году сделал предложение Эдуарду III о возможном браке между ним и Джоанной, если та пожелает. Та, однако, отказалась. Как королева Шотландии занималась выкупом своего мужа из английского плена, руководила страной, но Давид ее усилий не оценил, ей изменял и в 1357 году отправил ее к отцу в Англию. Джоанна была очень популярна в Шотландии, так как действительно защищала интересы этой страны перед своим братом, королем Англии, в отличие от своего мужа.
Джоанна Кентская (1328-7.08.1385), графиня Солсбери и Холланда, принцесса Уэльская, «прекрасная Дева Кентская», младшая дочь Эдмунда Вудстокского, графа Кента (6-го сына Эдуарда I). Замужем сначала за Уильямом Монтакьютом, графом Солсбери, но этот брак был оспорен сэром Томасом Холландом, управляющим графа Солсбери. При разбирательстве в Ватикане были признаны права Холланда (1349 г.). Хроники, однако, указывают, что состоялся развод с Солсбери по причине неверности Джоанны. После смерти ее брата, графа Кента (1353 г.), она стала графиней Кента, в 1360 г. ее мужу было дано право называться этим титулом. В 1361 году (менее, чем через год после смерти Томаса Холланда) вышла замуж за Эдуарда, принца Уэльского, «Черного принца».
Джон Гонтский (или изначально Гентский, по месту рождения) (03.1340-3.02.1399), четвертый сын Эдуарда III, граф Ричмонда (1342 г.), граф Ланкастера (1361 г., наследовал тестю) и герцог Ланкастера (1362 г.). Рыцарь Ордена Подвязки (1361). Играл активное участие в политической жизни страны. Принимал участие во французских походах. Женившись во втором браке на дочери кастильского короля, стал претендовать на кастильский трон. В 1390 г. Ричард сделал Ланкастера герцогом Аквитании. В 1396 г. выдвинул требование признать его сына наследником трона. Женат в первый раз (1359) на Бланке Ланкастерской, дочери Генриха, графа Ланкастера, во второй раз (1371) на Констанции Кастильской, дочери Педро Злого, в третий раз (1397) на Екатерине Суинфорд, вдове сэра Гуго Суинфорда.
Джотто ди Бондоне (1267-1337), итальянский художник и архитектор.
Дин, Уильям (до 1323-после 1358), рочестерский монах, нотариус епископа Рочестерского, автор хроники «Annales Roffenses», охватывающей события с 1314 по 1358 гг., однако из-за того, что манускрипт поврежден, доступны листы только до 1350 г.
Доминик, Святой (1170-1221), основатель доминиканского ордена.
Дроксфордский, Джон, хранитель королевского Гардероба в царствование Эдуарда I.
Дуне Скот, Иоанн (ок. 1266-1308), францисканский монах, теолог и философ, представитель схоластики.
Дунстан, Святой (ок. 924-988), архиепископ Кентерберийский с 960 г., аббат Гластонбери. Праздник 19 мая.
Дуглас, сэр Арчибальд, (1296?-19.07.1333), сын 7-го лорда Дугласа и правнучки Роберта II. Нанес поражение Баллиолю в 1332 г., после чего был назначен регентом Шотландии в 1333 году, погиб в битве при Халидон-Хилле. Женат на Беатрисе, дочери сэра Александра Линдси Крофордского.
Дуглас, сэр Джеймс «Добрый» («Черный Дуглас»), (1286?-25.08.1330), сын 7-го лорда Дугласа и брат сэра Арчибальда Дугласа, погиб в Испании в битве против сарацин. Сражался против англичан при Бэннокберне и в других битвах.
Дуглас, сэр Уильям Галлоуэйский, начало XIV века.
Дуглас, сэр Уильям Лиддесдейлский (1300?-08.1353), старший сын сэра Джеймса Дугласа Лотианского. Активно сражался против англичан и Эдуарда Баллиоля. Убит на поединке своим родственником лордом Дугласом.
Дуглас, Уильям (1327?-05.1384), сын сэра Арчибальда Дугласа, 1-й граф Дугласа (1358). Сражался в битве при Пуатье, в 1357 году находился в Англии в качестве заложника за короля Давида II, в 1373 году был назначен королем Робертом наместником марок. Убил в поединке сэра Уильяма Лиддесдейлского, мотивируя своей вызов сотрудничеством последнего с английским королем. Женат (ок. 1357) на Маргарите, графине Мара, дочери графа Мара.
Дю Геклен, Бертран (?-после 1367), служил у Жанны Бретонской, затем на стороне Карла Блуасского сражался за герцогство Бретонское, с 1352 года главнокомандующий французскими силами в Столетнюю войну, победоносно сражавшихся против англичан.
Е
Елизавета «Валлийка» (1282-1316), дочь Эдуарда I, графиня Голландская и Херефорда, замужем в первый раз (1292) за Иоанном, графом Голландским и второй раз (1302) за 4-м графом Херефорда.
Ж
Жан Красивый (le Bel), гегенаусский хронист второй половины XIV века, приехал вместе с королевой Филиппой в Англию.
Жанна, принцесса, младшая дочь Эдуарда III.
Жанна II Наваррская (?-1349), королева Наваррская с 1328 года, дочь Людовика X Французского. Замужем за Филиппом д'Эвре, королем Наваррским. Умерла от чумы.
Женевиль или Жуанвиль, Жоффрей де (ок. 1235-1314), сын Симона де Жуанвиля, его старший брат – Жан де Жуанвиль – был биографом Людовика IX, короля Франции. В Англию прибыл в 1251 году, так как его сводная сестра была замужем за графом Ричмонда. Был взят ко двору наследника, будущего короля Эдуарда I, откуда началась их дружба. Участвовал в крестовых походах, с 1273 по 1276 гг. – юстициарий Ирландии. Участник уэльских войн. Эдуард часто использовал его как своего представителя и посланника. Женат (1252) на Матильде де Браоз, дочери и наследнице 6-го барона Ласи, вдове Петра Женевского.
З
Зуш, Уильям (?-19.07.1352), архиепископ Йоркский, младший сын Уильяма ла Зуша, 1-го барона Зуша. Назначен клерком и поставщиком Гардероба в 1330 г., в 1331 г. – хранителем Гардероба, в 1334 г. – хранителем малой печати, в 1337 г. – казначеем, в 1340 г. – сделан архиепископом Йоркским. Во время чумы 1349 года проявил большую активность и большое мужество.
И
Ибн Юбаур из Гранады, путешественник начала XIV века, оставил записки о своем путешествии по Европе.
Изабелла Французская (1292-23.08.1358), королева Англии, жена Эдуарда II, дочь Филиппа Красивого. Переговоры о браке велись с 1299 года, брак официально состоялся в 1308 году. Принимала активное участие в политической жизни страны. Эдуард, однако, пренебрегал ею в пользу своих фаворитов, сначала Гавестона, а затем Деспенсера. В 1326 году при содействии Роджера Мортимера и других недовольных представителей английской знати она захватила престол в стране, в результате чего Эдуард II был убит. Но в 1328 году Эдуард III казнил Мортимера и начал самостоятельное правление. Сама Изабелла была помещена в замок Райзинг.
Имуорт, Джон (?-1381), начальник тюрьмы Маршалси, был растерзан восставшей толпой во время восстания Уота Талера.
Иннокентий III (1160-16.06.1216), папа римский с 1198 года.
Иоанн Безземельный (24.12.1167?-1216), король Англии. Женат в первый раз (1176) на Авизе (Изабелла), дочери Уильяма, графа Глостера, второй раз (1200) на Изабелле, дочери Адемара, графа Ангулемского.
Иоанн Слепой (10.08.1296-26.08.1346), король Богемии с 1310 года, сын Генриха VII, графа Люксембурга и императора Священной Римской империи. В 1310 году женился на Елизавете Богемской, дочери Венцлава II, короля Богемского и польского. Вместе с сыном, Карлом Моравийским, принимал участие в битве при Креси.
Иоанн II де Дре Бретонский (1239-1305), граф Ричмонда, наследовал отцу, герцогу Бретонскому в 1286 году. Шурин Эдуарда I, женат (1260) на Беатрисе, дочери Генриха III.
Иоанн де Дре Бретонский (1266-1334), граф Ричмонда, наследовал отцу в 1305 году, брат герцога Бретонского.
Иоанн II Добрый (26.04.1319-8.04.1364), король Франции с 1350 года, сын Филиппа IV. Был взят в плен Эдуардом III в битве при Пуатье, умер в английском плену. Женат первый раз (1332) на Бонне Люксембургской, второй раз (1350) на Жанне Булонской.
Ислипский Симон (ок. 1287-1366), архиепископ Кентерберийский с 1349 года. Получил образование в Оксфорде, стал доктором гражданского права и затем принял сан. В 1337 г. назначен главным викарием епископа Линкольнского, в 1348 – архидьяконом Кентербери и в 1349 г. архиепископом Кентерберийским.
Истонский, Адам см. Адам Истонский.
К
Калло (иногда Калхаус, Calhaus), гасконская банкирская семья, под протекцией Гавестона, царствование Эдуарда II.
Карл I Великий (742-814), король франков с 768 года, император Священной Римской империи с 800 года.
Карл IV Честный (1294-1328), король Франции с 1322 года, последний представитель династии Капетингов по прямой линии.
Карл V Мудрый (1337-1380), король Франции с 1364 года, сын Иоанна II Доброго.
Карл Анжуйский (03.1226-1.01.1285), король Сицилии и Неаполя в 1268-1285 гг., брат Людовика Святого. Женат на Беатрисе Беренгер, графине Прованской.
Карл Блуасский (?-1364), герцог Бретонский с 1341 года. Участвовал в войне за бретонское наследство с герцогами Ричмонда. Женат на Жанне Бретонской, дочери Артура II, герцога Бретонского.
Карл Моравийский (14.05.1316-29.11.1378), сын Иоанна II, короля Богемии, король Богемии с 1346 года. Женат (1360) на Елизавете, герцогине Померанской. Вместе с отцом принимал участие в битве при Креси.
Карл II Злой (1332-1387), король Наваррский, сын Филиппа д'Эвре, короля Наваррского, и Жанны II Капет. Наследовал отцу в 1349 году. Женат на Жанне, дочери Иоанна II Доброго, короля Франции.
Карлайла, графы, см. Харклай.
Карлтон (иногда Чарльтон, Charlton), Льюис (?-23.05.1369), епископ Херефорда с 1361 года. Получил образование в Оксфордском университете и преподавал там до 1361 года. Был учителем Уильяма Викенгемского.
Катерина Сиенская, святая (25.03.1347-29.04.1380), родилась в Сиене в семье красильщика тканей. С детства у нее появились видения. Оставила после себя работы: «Treatise on Divine Providence» и серию проповедей.
Квадратериус, Петр, архитектор, вместе с Джоном Рамзейским участвовал в перестройке Илийского собора в 20-х гг. XIV века.
Квинел (или Квивил – Quinell alias Quivil), Петр (?-1.10.1291), епископ Экзетерский с 1280 по 1291 гг.
Кеберн из Лимберга, Уильям де, пахарь во времена Эдуарда III, отказывался от исполнения статута о рабочих.
Кевендиш, сэр Джон (?-15.06.1381), главный судья, сын Роджера де Гернума, выездного судьи, принял фамилию жены. В 1348 году выступает в качестве адвоката, в 1356 г. выступает сборщиком налогов в графствах Экзетер и Саффолк. Королевский сержант в 1366-1372 гг. Судья ассизов 1371-1372, с 1372 г. – главный судья. Канцлер Кембриджского университета в 1380 г. Убит восставшими под руководством Джека Строу во время восстания Уота Тайлера в Бери Сент-Эдмундс.
Кейт, сэр Роберт (ок. 1270-1346), великий маршал Шотландии. Маршал с 1294 года, был взят в плен английскими войсками, но отпущен по условиям мира. Шотландский комиссар в английских парламентах. Сподвижник Уоллеса и Брюса. В 1326 г. заключил мир между Брюсом и Карлом IV, королем Франции. Погиб в битве при Невиллз Кроссе. Женат на Барбаре Дуглас.
Кемп, Джон, фламандский ткач, которому Эдуард III даровал специальный патент о протекции в связи со своим браком на дочери графа Геннегау.
Кемп, Марджери (ок. 1373-ок. 1440), религиозная поэтесса, оставившая несколько стихотворных проповедей.
Кеннет I Мак-Альпин (?-859), в 839 году стал королем Галлоуэя, первый король Шотландии с 843 года (его называют король Пиктов и Альбов).
Керкби, Джон (до 1251-26.03.1290), казначей Эдуарда I и епископ Илийский. Вице-канцлер с 1272 по 1282 гг., член королевского совета с 1276 г. В 1284 году назначен казначеем, в 1286 г. – епископом Илийским.
Килсби, Уильям (сер. XIV века), хранитель малой печати короля в начале 30-х гг. XIV века, в 1340 г. хранитель большой печати и канцлер. Руководил судом над Иоанном (Джоном) де Стратфордом, архиепископом Кентерберийским, чье место он занял.
Килуордби, Роберт (до 1240-11.09.1279), архиепископ Кентерберийский, получил образование в Париже, там же и преподавал логику и грамматику, стал известным теологом. В 1261 году вступил в доминиканский орден и стал приором доминиканцев в Англии. В 1272-1278 гг. архиепископ Кентерберийский. В 1278 году назначен кардиналом Порто и Санта-Руфина. Написал следующие трактаты: «In Priscianum de Constructione Commentarius», комментарии на «De Passione Christi» и «De Sacramento Altaris».
Клаунский, Уильям, в царствование Эдуарда III, приор августинского аббатства Св. Марии в Мидоус.
Клер (часто Клэр, Clare), Бого «Добрый» (21.07.1248-1294), сын 7-го графа Глостера, каноник Йорка.
Клер, Гилберт де «Рыжий» (2.09.1243-7.12.1295), 8-й граф Глостера, наследовал отцу в 1262 году. Женат (1253) на Алисе де Лузиньян, дочери Гуго де Лузиньяна, графа де ла Мара; брак расторгнут в 1271 году.
Клер, Гилберт де (10.05.1291-24.06.1314), 9-й граф Глостера, наследовал отцу в 1295 году, сын 8-го графа Глостера и принцессы Джоанны Акрской. Погиб в битве при Баннокберне. Женат (1308) на Матильде де Бург, дочери Ричарда де Бурга «Рыжего», графа Ольстера.
Клер, Маргарет де (1249-02.1313), графиня Корнуолла, дочь 7-го графа Глостера. Замужем (1272) за Эдмундом Корнуольским, графом Корнуола, внуком Иоанна Безземельного. Этот брак был расторгнут в 1293 году.
Клер, Роджер де (?-1173), 5-й граф Клера, 5-й граф Хертфорда, наследовал брату в 1152 году. Воевал в 60-х гг. XII века с валлийским князем Рисом. Женат на Матильде, дочери Джеймса де Сен-Хилари.
Клер, Томас де (1245-1287), сын 7-го графа Глостера, лорд Томонда. Женат (1275) на Юлиане Фитцжеральд, дочери Мориса ФитцМориса, юстициария Ирландии.
Климент V (1264-20.04.1314), папа римский с 1305 года.
Климент VI (1291-6.12.1352), папа римский с 1342 года.
Климент VII (1342-15.09.1394), авиньонский папа римский в 1378-1394 гг.
Клиффорд, Роберт (1273-24.06.1314), 6-й лорд Клиффорд по праву держания, 1-й барон по призывной грамоте, наследовал деду в 1285 году. Судья по лесным делам к северу от Трента с 1297 по 1304 г. Назначен лейтенантом королевских войск в шотландских марках и военным комиссаром в 1311 году. Погиб в битве при Бэннокберне. Женат (1295) на Матильде, дочери и наследнице Гилберта де Клера, графа Глостера.
«Клодисдейл, Уильям», один из персонажей легенд о Робине Гуде.
Кобем (иногда Кобэм, Кобхам, Кобхем – Cobham), Джон де (ок. 1314-24.02.1334/5), 2-й барон Кобем, наследовал своему отцу, 1-му барону в 1339 году. Констебль Рочестерского замка, адмирал в 1335 году, один из рыцарей основателей Ордена Подвязки. Женат (ок. 1334/5) на Джоанне, дочери сэра Джона Бошема Стокского.
Комин, Джон Баденохский (до 1251-1300?), претендент на шотландский трон, второй сын Джона Комина, юстициария Галлоуэя. В 1286 году стал одним из шести регентов Шотландии. В 1292 году выдвинул свои претензии на шотландский трон. Был арестован Эдуардом и отправлен в ссылку, но в 1297 г. ему было позволено вернуться в Шотландию. Женат на Марджери, сестре Джона Баллиоля.
Комин, Джон (ок. 1265-1313?), 3-й граф Бьюкена (часто Бахана – Buchan), сын Александра Комина, 2-го графа, наследовал отцу в 1289 году. Сторонник Эдуарда I и англичан в шотландских делах, главный враг Брюса. Женат на Изабелле, дочери Дункана, графа Файфа, которая была патриоткой и наследовала право коронования шотландских королей. Против воли мужа она короновала Брюса, но затем была арестована англичанами и посажена в клетку, откуда ее выпустили в 1310 году.
Комин, Джон Рыжий (до 1271-1306), претендент на шотландский трон (1292), сын Джона Комина Баденохского. В 1295 году заключен в Тауэр за нападение на королевского исчитора. Отпущен вместе с отцом в Шотландию в 1297 году. С 1299 года – регент Шотландии. Был убит по ложному обвинению в предательстве. Женат на Джоанне, дочери Уильяма де Валенса, графа Пемброка и кузине Эдуарда I.
Колвли (Calveley), сэр Хью (?-1393), сын Давида де Колвли и брат сэра Роберта Ноллиса. Участвовал во французских походах в качестве наемника, затем был главой банды бригандов. Наместник Кале в 1377 году.
Корнуолла, графы см. Ричард; Гавестон.
Крессингем, Хью де (?-10.09.1297), казначей Шотландии. В 1282 году начал службу при дворе королевы Элеаноры в качестве ее управляющего. В 1292-1295 гг. глава выездных судей в северных графствах. Получил ректорство в Доддингтоне. В 1296 г. был назначен казначеем Шотландии. Погиб в битве при Камбускеннете.
Куртене, Уильям (1342?-31.07.1396), епископ Лондонский и архиепископ Кентерберийский, четвертый сын Гуго Куртене, графа Девона. Стал доктором права Оксфордского университета, канцлером которого избран в 1367 г. Епископ Херефордский с 1370 г., епископ лондонский с 1375 г., архиепископ Кентерберийский с 1381 года (после убийства Садбери).
Кутберт, Святой (?-20.03.687), епископ Линдисфарнский. В 676 году стал пустынником, удалился от мира и поселился в хижине, где провел 9 лет. Был канонизирован через 11 лет после смерти.
Л
Лайонел Антверпенский (29.11.1338-7.10.1368), герцог Кларенса, третий сын Эдуарда III. Участвовал во французских походах. В 1361 году назначен наместником Ирландии. Женат (ок. 1352) на Елизавете де Бург, дочери и наследнице 3-го графа Ольстера. Умер накануне своего второго брака с Виолантой Висконти, дочерью герцога Миланского.
Лайонс, Ричард (?-06.1381), лондонский купец, финансовый агент лорда Латимера, был исключительно непопулярен в Англии из-за спекуляций в пользу иностранных купцов, что обогащало Латимера и любовницу Эдуарда III Алису Перрерс. Убит Уотом Тайлером.
Ламбертон, Уильям (?-15.07.1328), епископ Сент-Эндрюсский. В 1292 году – канцлер собора в Глазго. С 1298 г. – епископ Сент-Эндрюса. Хотя и принес присягу Эдуарду I, но поддержал Уолеса. В 1306 г. принимал участие в коронации Брюса.
Ланкастера, графы и герцоги см. Эдмунд, Генрих и Томас.
Ланкастера, герцогиня Бланка (25.03.1341-12.09.1368), дочь Генриха Гросмонта, герцога Ланкастера. Замужем (1359) за Джоном Гонтским, герцогом Ланкастера. Мать Генриха IV, короля Англии.
Ласи, Генрих де (1249?-5.02.1311), 3-й граф Линкольна, наследовал отцу в 1257 году. Принимал участие в уэльских и шотландских войнах. Ближайший советник Эдуарда I и принца Уэльского. Женат (1257) на Маргарите Лонжеспе, внучке и наследнице 2-го графа Солсбери.
Латимер Уильям (1329?-28.05.1381), 4-й барон Латимер, наследовал отцу в 1335 году. Назначен губернатором крепости Бешерель в Бретани в 1359 году. В 1361 году сделан рыцарем Ордена Подвязки. В 1368 г. назначен хранителем лесов к северу от Трента, в 1369 г. – управляющим королевским двором, в 1374 – констеблем Дуврского замка и наместником Пяти портов. В 1375 году был подвергнут импичменту по многим статьям, но отпущен. Принимал участие в битве при Слейсе, в 1377 году назначен губернатором Кале.
Лаутский, Уильям (?-1298), епископ Илийский. Управляющий Гасконью, личный казначей короля и хранитель Гардероба. Избран епископом Илийским в 1290 г.
Легге, Джон (?-1381), королевский сержант, главный комиссар по сбору ненавистного подушного налога в 1381 году. Схвачен восставшими в Лондоне и убит.
Лейберн, Уильям (ок. 1250-1309), адмирал, сын Роджера де Лейберна, управляющего двором Эдуарда I. Принимал участие в уэльских войнах. В 1297 году был назначен адмиралом, принимал участие в шотландских войнах. Жена на Юлиане, дочери и наследнице Генриха де Сендвича.
Ленгем, Саймон (ок. 1315-28.06.1375), архиепископ Кентерберийский и канцлер. В 1349 году назначен приором Вестминстерского аббатства. В 1360 г. – казначей Англии. В 1362 году – назначен епископом Илийским, в 1363 – канцлером, в 1366 – архиепископом Кентерберийским.
Ленгленд, Уильям (1330?-1400?), поэт, клирик одного из лондонских приходов. Его поэма «Видение Уильяма о Петре Пахаре» является уникальным источником по истории Англии второй половины XIV века.
Ленгтон, Джон (?-1337), канцлер. В 1286 году стал хранителем королевских свитков, в 1292 году внезапно получил пост канцлера, который оставил по неизвестной причине в 1302 году. В 1305 г. был назначен епископом Чичестера. В 1307-1308 гг. снова занимал пост канцлера.
Ленгтон, Стефен (?-9.07.1228), архиепископ Кентерберийский с 1208 года. До получения поста архиепископа проживал в Париже и преподавал в Парижском университете теологию. Выступал посредником между королем Иоанном и баронами в 1215-1216 гг. и принимал активное участие в политических делах в начале царствования Генриха III.
Ленгтон, Уолтер (?-9.11.1321), епископ Личфильдский и казначей. В 1290 г. – клерк королевского Гардероба, в 1292 г. – хранитель Гардероба, в 1295 г. – казначей. В 1297 году назначен епископом Личфильдским. В 1307 году был снят с поста казначея. В 1309 году арестован и помещен в тюрьму по обвинению во взяточничестве и измене. В 1313 году отправлен в Ватикан на папский суд, который его оправдал.
Леннокс, Малькольм (1255?-19.07.1333), 5-й граф Леннокса, наследовал отцу в 1292 году. Принят сторону Брюса в борьбе за шотландский трон, но в 1296 году принес присягу Эдуарду I. Однако присутствовал на коронации Роберта Брюса и затем сражался против англичан. Погиб в битве при Халидон Хилле.
Лидгейт, Джон (1370?-1451?), поэт. В 1415 году был представлен как аббат монастыря в Бери. Находился в фаворе при дворе, особенно по вступлении на престол Генриха VI, когда он стал официальным придворным поэтом. Оставил после себя огромное наследие. Самыми значительными из них можно считать: «Falls of Princes», «Troy Book», «The Story of Thebes», «The Life of our Lady», «Court of Sapience» и «Verses on the Kings of England after the Conquest till Henry VI».
Лиддесдейлский рыцарь, см. Дуглас.
Листер, Джеффри (?-24.06.1381), фелмингемский красильщик, лидер восстания в Восточной Англии с центром в Норфолке в 1381 году.
Ллевелин (иногда Ллуэлин) an Груффит (ок. 1224-11.12.1284), князь Уэльса, второй сын Груффита ап Ллевелина, внук Ллевелина ап Иуорта Великого. Наследовал отцу в 1244 году. Отчаянно сражался с английскими королями за независимость Уэльса, в 1257 г. объединился с шотландцами против Генриха III. Войны велись с переменным успехом, но Эдуарду I удалось подчинить Уэльс. Погиб в схватке. Женат (1278) на Элеоноре де Монфор, сестре Симона де Монфора.
Ллевелин ап Иуорт «Великий» Сноудонский (?-11.04.1240), князь Уэльса, сын Иуорта. Сначала был правителем Северного Уэльса, то есть Гвинеда. В 1201 году заключил мир с Иоанном Безземельным против Гуэнуинуина, но в 1208 году союз распался и Ллевелин объединился с Гуэнуинуином против Иоанна, затем с переменным успехом сражался против англичан. Женат (1206) на Джоанне, незаконнорожденной дочери Иоанна Безземельного.
Лоренс из Ладлоу (?-1295), крупнейший шропширский торговец шерстью, известный купец, обеспечил Эдуарду с помощью экспорта шерсти сбор maltote. Утонул при перевозке шерсти в Нидерланды.
Лотарингский, герцог, Рудольф (1318-26.08.1346), сын Ферри IV, герцога Лотарингского. Погиб в битве.
Людовик Баварский (1.04.1282-11.10.1347), император Священной Римской Империи. Сын Людовика II Виттельсбаха Северского, герцога Верхней Баварии. Избран императором в 1314 году. Женат в первый раз (1309) на Беатрисе фон Шлейзен-Глогау, второй раз (1324) на Маргарите Голландской, графине Геннегау и Голландии.
Людовик IX Святой (4.10.1289-5.06.1316), король Франции с 1314 года, сын Филиппа IV Красивого. Женат первый раз (1305) на Маргарите Бургундской, дочери Роберта II, герцога Бургундского; второй раз (1315) на Клементине Венгерской, дочери Карла I, короля Венгрии.
Людовик Неверский (?-1346), граф Фландрский с 1322 года, внук Роберта III Бетюнского, графа Фландрского (ум. 1305 г.). Женат на Маргарите Жанне Артуа, графине Артуа.
Людовик де Мале (?-1384), граф Фландрский с 1346 года, наследовал отцу Людовику Неверскому. Женат на Маргарите Брабантской.
М
Мадог an Ллевелин (вторая половина XIII века), незаконнорожденный сын Ллевелина. Поднял восстание в Северном Уэльсе в 1294 году против незаконных налогов. В 1295 году был взят в плен, но казнен не был, после этого о нем ничего не известно.
Маелгвин (конец XIII века), молодой вождь, как характеризуют его источники, лидер народных восстаний в графствах Пемброк и Кармартен в 1294 1295 гг. Восстания были вызваны тяжелым налогообложением, но проходили под лозунгом независимости Уэльса.
Мак-Альпин, Кеннет см. Кеннет I, король Шотландии.
Макдональд Островной, Магнус Ог (?-1329), представитель одного из влиятельных шотландских кланов. Принимал участие в битве при Бэннокберне. Женат на Маргарите, дочери Гая О'Катана.
Макдуфф (иногда Макдафф), Дункан (1285-1353), 10-й граф Файфа, наследовал отцу в 1288 году. Женат (1307) на Марии де Мортермер, дочери графа Херфорда и Джоанны Акрской.
Мальтраверс Джон (1290?-16.02.1365), барон Мальтраверс, сын сэра Джона Мальтраверса. Возведен в рыцарское достоинство в 1306 году, в 1318 году избран рыцарем от графства в парламент. В 1322 году присоединился к баронам и Мортимеру против Эдуарда И, в убийстве которого, видимо, принимал участие. В 1329 году назначен хранителем лесов к югу от Трента, однако обвинен в злоупотреблениях. Бежал во Фландрию, вернулся в 1345 году после битвы при Слейсе. В 1360 г. назначен губернатором островов Ла-Манша. Женат первый раз на Еве, дочери Мориса, лорда Беркли, во второй раз на Агнессе, дочери сэра Уильяма Бирфорда.
Манфред Гогенштауфен (?-1266), король Сицилии с 1258 года, сын Фридриха II, императора Священной Римской империи. Женат в первый раз на Констанции, королеве Венгрии, второй раз на Беатрисе Савойской.
Map, Питер де ла (ок. 1340-после 1383), сенешаль графа Марча, был избран рыцарем от графства в парламент 1376 года, стал первым спикером Палаты Общин.
Map, Томас де ла (1309-15.09.1396), аббат Сент-Олбанский, сын сэра Джона де ла Мара. Вступил в Сент-Олбанское аббатство в возрасте 17 лет. В 1349 году стал аббатом.
Map Дональд (ок. 1293-1332), 10-й граф Мара, сын 9-го графа и Кристины Брюс, дочери Роберта Брюса, графа Каррика, наследовал отцу в 1305 году. Женат на Изабелле Стюарт.
Маргарита (1282?-14.02.1318), королева Англии, жена Эдуарда I, младшая дочь короля Филиппа III Французского. Эдуард женился на ней в 1299 году в закреплении мирного договора между Англией и Францией. Это был его второй брак. После смерти короля Маргарита занималась благотворительностью и строительством церквей.
Маргарита (5.10.1240-27.02.1275), королева Шотландии, жена Александра III, короля Шотландии, дочь Генриха III, короля Англии. Вышла замуж в 1251 году.
Маргарита Шотландская, см. Норвежская Дева.
Маргарита Шотландская (28.02.1261-19.05.1286), дочь Александра III, короля Шотландии, королева Норвегии. Вышла замуж за Эрика II в 1281 году. Ее дочь, Норвежская Дева, была признана наследницей шотландского престола и королевой.
Маргарита (11.09.1275-1318), дочь Эдуарда I, графиня Брабанта. Вышла замуж (1290) за Иоанна II Миролюбивого, герцога Брабанта.
Маргарита Фландрская (?-1280), дочь Болдуина IX, графа Фландрского, наследовала отцу в 1244 году. Замужем первый раз за Вильгельмом Дампьерским, второй раз за Бурхардом Авенским.
Маргарита де Мале (?-16.03.1405), дочь Людовика де Мале, графа Фландрского, графиня Фландрская с 1384 года, наследовала отцу. Замужем первый раз (1356) за графом Артуа, второй раз за Филиппом, герцогом Бургундским.
Марджери (ок. 1297-2.03.1316), принцесса Шотландии, дочь Роберта I Брюса. Замужем (1315) за Уолтером Стюартом, Великим Сенешалем Шотландии.
Марко Поло (1254-1324), венецианский путешественник и писатель. Он совершил путешествие в Китай в 1271-1275 гг. и служил хану Хубилаю, вернулся в Европу морем в 1292-1295 гг., был взят в плен генуэзцами, в тюрьме и написал свое знаменитое «Путешествие».
Марча и Данбара, граф, Патрик см. Данбара, граф.
Марча, граф, см. Мортимер.
Марш (Мариско), Адам де (?-1257?), францисканский монах и ученый астроном. Его трактат «Lectiones Ordinariae» посвящен вопросам астрономии.
Маршал, Уильям (ок. 1146-14.05.1219), граф Пемброка с 1188 г., регент Англии. В 1170 году был назначен присматривать за наследником престола. Принимал участие в восстании баронов в 1173 году. В 1194 году стал маршалом Англии. В 1199-1207 годах – шериф графства Глостер. В 1208-1213 гг. находился в землях своей жены в Ирландии и сражался с уэльскими князьями. В 1213 году вернулся в Англию и стал главным советником короля Иоанна. При восстании баронов оставался верен королю. Его подпись стоит на Великой Хартии Вольностей в качестве гаранта ее соблюдения. В 1216 году выбран регентом Англии во время малолетства Генриха III. Женат (1189) на Изабелле, дочери Ричарда де Клера, графа Пемброка и Стригуила.
Мельтон, Уильям (?-4/5.04.1340), архиепископ Йоркский. В 1300 являлся клерком королевского Гардероба. В 1307 – хранитель личной печати короля. В 1316 году – избран архиепископом Йоркским и казначеем королевского Гардероба.
Мерлин, легендарный волшебник и маг, воспитатель короля Артура.
Мертон, Уолтер (?-27.10,1277), епископ Рочестерский. В 1237 году упоминается как клерк королевской канцелярии. В 1259 году стал пребендарием Экзетера. В 1261-1263 гг. – канцлер. В 1274 году избран епископом Рочестерским. Основал Мертон Колледж в Оксфордском университете (1274 год).
Моль, сэр Томас, комендант Брехинского замка в начале XIV века (на 1303 год).
Монжерон, Гуго де, приор монастыря Брайле в приходе Дома в 1358 году.
Монтэгю (Монтакьют), Уильям (1341-1344), 1-й граф Солсбери, наследовал отцу как 3-й барон Монтакьют в 1319 году. Принимал участие в аресте Мортимера. Принимал участие в шотландских походах Эдуарда III, за что сделан графом Солсбери в 1337 году. Женат на Екатерине, дочери Уильяма де Грандисона, 1-го барона Грандинсона.
Монтэгю, Уильям (25.06.1328-20.04.1397), граф Солсбери, наследовал отцу в 1344 году. Участвовал во французских походах Эдуарда III. Наместник Кале в 1379 г. Во время восстания Уота Тайлера находился с юным королем в Лондоне. В 1385 г. – наместник острова Уайт. Женат в первый раз на Джоанне «прекрасной Деве Кентской», дочери Томаса Вудстокского, однако этот брак был аннулирован из-за претензий сэра Томаса Холланда на леди Джоанну в 1349 году. Женат во второй раз на Елизавете, дочери Джона де Моэна, 9-го лорда Моэна.
Монфор, Элеанора де (10.1252-19.06.1282), единственная дочь Симона де Монфора, графа Лестера. В 1275 году вышла замуж за Ллевелина ап Груффита.
Монфор, Жанна де (1370-9.07.1437), герцогиня Бретонская, дочь Карла II Злого, короля Наваррского. Вышла замуж за Иоанна IV, герцога Бретонского в 1403 г.
Монфор, Иоанн III де (?-1345), герцог Бретонский, наследовал отцу в 1341 году.
Монфор, Иоанн IV де (1339-1.11.1399), герцог Бретонский, наследовал отцу в 1345 году. Женат первый раз (1361) на Марии, дочери Эдуарда III, второй раз (1386) на Жанне Наваррской.
Монфор, Симон де (1208?-4.08.1265), граф Лестера, сын Симона IV де Монфора л'Омари (Нормандия) и Алисы Монморанси. В 1206 году признан наследником своего деда по матери, графа Лестера. Лидер баронского восстания против короля Генриха III. Погиб в битве при Ившеме. Женат (1239) на Элеаноре, дочери Иоанна Безземельного.
Морей, сэр Эндрю (?-11.09.1297), сподвижник Уоллеса, пал в битве при Стерлингском мосту.
Морей, Эндрю де (?-1338), сын сэра Эндрю де Морея. Сподвижник Уоллеса. В 1335 году был избран регентом Шотландии во время малолетства Давида II. Женат (1326) на Кристине, сестре Роберта I Брюса.
Мортемер, сэр Ральф де (ок. 1276-1325?), граф Глостера и Хертфорда. Был сквайром Гилберта де Клера, графа Глостера. После его смерти, вдова графа Глостера и дочь короля Джоанна Акрская полюбила его и тайно обвенчалась с ним, за что он был арестован и посажен в тюрьму, но затем прощен и отпущен. С 1298 г. ему было позволено именоваться титулом графа Глостера и Хертфорда, которым именовался до 1308 г., смерти Джоанны. Принимал участие в шотландских походах Эдуардов I и II. Женился второй раз на Изабелле, вдове Джона Гастингса и сестре Эмера де Валенса, графа Пемброка.
Мортимер, Эдмунд II (1351-27.12.1381), 3-й граф Марча, наследовал отцу в 1360 г. В 1369-1377 годах являлся маршалом Англии. Принимал участие во французских походах. В 1379 году назначен наместником Ирландии. Женат (1368) на Филиппе, единственной дочери Лайонела, герцога Кларенса.
Мортимер, Роджер Уигморский (1231?-26.10.1282), 6-й лорд Уигмора, наследовал отцу в 1246 году. Принимал участие в уэльских войнах против Ллевелина за свои уэльские владения. В баронских войнах сначала принял сторону баронов, но затем переметнулся на сторону принца Уэльского Эдуарда и оставался верен ему до конца. Женат на Матильде де Браоз.
Мортимер, Роджер (1287?-29.11.1330), 1-й граф Марча с 1328 года, наследовал своему отцу как 8-й лорд Уигмор в 1304 г. Принимал участие в шотландских походах Эдуарда II. Но затем встал в оппозицию к королю, за что и был посажен в Тауэр, бежал и присоединился к королеве Изабелле, чьим фаворитом и стал. В 1328 году при захвате власти Изабеллой приобрел неограниченное влияние. В 1330 г. осужден парламентом и казнен. Женат (1306) на Жанне де Женевиль, дочери Петра де Женевиля и внучке Гуго XII Лузиньяна.
Мортимер, Роджер (1327?-26.02.1360), 2-й граф Марча, наследовал деду в 1330 году. Принимал участие во французских походах Эдуарда III. Женат на Филиппе де Монтакьют, дочери 2-го графа Солсбери.
Моубрей, Джон (2.11.1286-23.03.1322), 8-й барон Моубрей, сын 7-го барона, наследовал отцу в 1298 году. Принимал участие в шотландских войнах Эдуарда I. Был противником Деспенсеров, принял участие в заговоре северных лордов против Деспенсеров, за что был арестован, посажен в Тауэр и казнен. Женат (1298) на Алисе, дочери Уильяма де Браоза, лорда Брембера и Гувера.
Моубрей, Джон (1310-4.10.1361), 9-й барон Моубрей, сын 8-го барона, наследовал отцу в 1322 г., в этот момент находился в Тауэре. Выпущен из Тауэра в 1327 году в связи со свержением Эдуарда II. Член королевского совета в 1330-1361 гг. Принимал участие в шотландских войнах и французских походах Эдуарда III. В 1359 году назначен мировым судьей и военным комиссаром. Женат (ок. 1327) на Джоанне, дочери Генриха, 3-го графа Ланкастера.
Моубрей, сэр Томас, в начале XIV века губернатор Стерлингского замка, принимал участие в шотландских войнах Эдуарда I и Эдуарда II.
Муримат, Адам де (1275?-1347), историк. В 1312 году получил в Оксфорде звание доктора гражданского права. В 1325 году стал главным викарием архиепископа Кентерберийского. Постоянно защищал интересы английского духовенства в папском суде. Муримат является автором хроники «Continuatio Chronicarum», которая охватывает период с 1303 по 1347 годы.
Мэнни (или Мони), сэр Уолтер (?-15.01.1372), барон Мэнни. Полководец и основатель Чартерхауса (первый военный госпиталь) в Лондоне, уроженец Геннегау. Возведен в рыцарское достоинство в 1331 году. Принимал участие во французских походах Эдуарда III, где и стяжал себе славу героя и полководца. Женат на Маргарите, дочери и наследнице Томаса Бротертонского, сына Эдуарда I от второго брака.
Н
Наваррский, король, см. Карл.
Наваррская, королева, см. Жанна Наваррская.
Найтон (или Книттон), Генрих (до 1337-после 1366), каноник собора Св. Марии в Лестере, автор хроники «Compilatio de eventibus Angliae», начинающейся со времен Эдгара и заканчивающейся 1366 годом. К хронике прилагается и пятая книга, охватывающая период с 1377 по 1395, но написана она явно другим автором, судя по палеографическому анализу текста.
Невиль, Ральф де (1291?-1367), 4-й барон Невиль Ребийский, наследовал отцу в 1331 году. Принимал участие в шотландских и французских войнах Эдуарда III, являлся сенешалем королевского двора. Жена на Алисе, дочери сэра Гуго Одли.
Нель (Nesle), маршал де (?-14.08.1352), маршал Франции, воевал против англичан, захватил Бретань в 1352 году, но погиб в битве.
Нивет (Knyvet), сэр Джон (?-1381), канцлер Англии. В 1347-1357 годах – барристер в судах, в 1357 году стал королевским сержантом и в 1361 году был назначен судьей Суда Общих Тяжб. В 1377-1381 гг. – канцлер.
Ноллис (иногда Кнолль, Knollys), сэр Роберт (?-15.08.1407), прославленный герой французских войн, глава банды бригандов. Участвовал во французских походах Эдуарда III, затем поддерживал Джона де Монфора в его борьбе за Бретань. В Англию вернулся в 1377 году, купив королевское прощение за все совершенные на территории Франции и Аквитании преступления. Во время восстания Уота Тайлера находился в Лондоне и помогал королю. В 1383 году совершил вместе с епископом Нориджским поход во Фландрию.
Норвежская Дева, Маргарита Шотландская (1283-1290), дочь Эрика II Норвежского и Маргариты, дочери Александра III. Наследовала своему деду в 1286 году. Утонула во время путешествия из Норвегии в Шотландию.
Норвежская королева, см. Маргарита Шотландская, дочь Александра III.
Нориджская Юлиана, см. Юлиана Нориджская.
Нортбург, Михаил (?-9.09.1361), епископ Лондонский. В 1340 году назначен архидиаконом Честерским, в 1345 – каноник Личфильда и Херефорда. В 1352 г. назначен хранителем малой печати, в 1354 г. избран епископом Лондонским.
Нортбург, Роджер (?-29.11.1359?), епископ Ковентри и Личфильдский. Получил образование в Кембридже. В 1310 году начал свою карьеру в качестве королевского клерка, в 1315 году – смотритель Гардероба, в 1317 г. стал архидьяконом Ричмонда. В 1322 году избран епископом Ковентри и Личфильда. Принял сторону королевы Изабеллы.
Нортгемптона, граф, см. Боэн.
Норфолка, граф, см. Биго, Томас Бротертонский.
Ньютон, сэр Джон, в конце 70-х – начале 80-х гг. XIV в. констебль Рочестерского замка.
О
О (Еи), Ральф II де Бриен (?-19.11.1350), граф д'О и де Гин, наследовал отцу в 1344 году. Коннетабль короля Иоанна Доброго. В 1333 году велись переговоры о браке между сестрой графа Жанной и сыном короля, графом Корнуолла. В 1346 году был захвачен в плен сэром Томасом Холландом при осаде Кана. Женат (1340) на Екатерине Савойской.
Одли (Audley), сэр Джеймс (1316?-1386), сын сэра Джеймса Одли. Принимал участие во французских походах Эдуарда III, в битве при Пуатье был тяжело ранен, что описывает Фруассар. В 1367 г. назначен наместником Аквитании, в 1369 – губернатором Пуату.
Оккам, Уильям (ок. 1300-1349), францисканский монах, философ, номиналист. Был посажен с тюрьму в Авиньоне (1328) по обвинению в ереси, но бежал.
Олифант, сэр Уильям (?-1329), сподвижник Уоллеса, был взят в плен англичанами в 1296 г., но выпущен в 1297 г. В 1304 г. попал в плен второй раз и был выкуплен в 1313 году.
Ольстера, граф, см. Бург, де.
Омсби, Уильям де (?-1317), судья. В 1292 году назначен выездным судьей в графствах Ланкастер, Уэстморленд и Камберленд. В 1296 г. назначен судьей по делам Шотландии. В 1305 г. являлся главным судьей по розыску разбойников, затем судьей Королевской Скамьи.
О'Нейл, Дональд, глава одного из крупнейших ирландских кланов в начале XIV века, именовался королем Тирона. Пригласил Эдуарда Брюса стать ирландским королем после Бэннокберна.
Орлетон, Адам (?-18.07.1345), епископ Херефордский, Вустерский и Винчестерский. В 1317 году избран епископом Херефордским. Во время восстания баронов против Эдуарда II, принял сторону баронов и королевы Изабеллы. В 1327 году был назначен казначеем и избран епископом Вустерским. В 1333 стал епископом Винчестерским.
Оуэны Пулские, уэльский клан.
Оффорд, Джон (?-21.05.1349), архиепископ Кентерберийский. В 1333 г. был деканом архиепископского суда, в 1342 г. – назначен хранителем малой печати, в 1345 г. – канцлером. Избран архиепископом Кентерберийским в 1348 г., но умер от чумы сразу же после этого.
П
Палтни, Джон (?-1349), мэр Лондона. Являлся членом гильдии торговцев и уважаемым лондонским купцом. Избирался мэром в 1331, 1332, 1334 и 1337 гг., также являлся королевским исчитором Лондона.
Парвинг, сэр Роберт, рыцарь от графства в парламентах 1330-х гг., судья, в 1340 г. после смещения своих министров Эдуарда III назначил его одним из первых светских казначеев королевства, являлся казначеем до 1341 года.
Пемброка, графы, см. Валенс, Гастингс.
Перрерс, Алиса (?-3.02.1400), фаворитка короля Эдуарда III, происхождение которой не ясно, но, скорее всего, она является дочерью Джона Перрерса из Холта. Около 1366 года принята ко двору королевы Филиппы в качестве камер-фрау. С этого же времени и является фавориткой короля. В 1376 году парламент принял постановление об изгнании Алисы Перрерс из королевства, но после его роспуска она вернулась ко двору. После смерти Эдуарда III осуждена Общинами, но сохранила часть фавора при дворе, окончательно ретировалась в 1380 году, занималась тяжбами по возвращению своего имущества и другими делами. Замужем первый раз за сэром Томасом де Нарфордом, второй раз (около 1376) за Уильямом де Виндзором (ум. 1380).
Перси, Генрих (1272?-1315), 1-й лорд Перси Олнвикский, третий сын Генриха Перси, седьмого барона по праву владения, наследовал отцу в 1272 году. Принимал участие в шотландских войнах Эдуарда I и Эдуарда II. В 1296 г. назначен наместником Галлоуэя. В 1311-1312 гг. назначен Ордайнерами судьей по лесным делам к северу от Трента. Женат на Элеаноре, дочери Джона Фитцалана III.
Перси, Генрих (1299?-26.02.1352), 2-й барон Перси Олнвикский, наследовал отцу в 1315 году. В 1321 году наместник замка Скарборо, присоединился к королеве Изабелле и в 1328 году был назначен наместником шотландских марок. Участвовал во французских походах Эдуарда. Женат (ок. 1320) на Идонее, дочери Роберта Клиффорда.
Перси, Генрих (1322-17.06.1368), 3-й барон Перси Олнвикский, наследовал отцу в 1352 году. Наместник шотландских марок после смерти отца. Принимал участие во французских походах Эдуарда, участвовал в битве при Креси. Женат первый раз на Марии, дочери графа Ланкастера; второй раз на Джоанне, дочери Джона де Орби.
Перси, Томас (1333-8.08.1369), епископ Нориджский, пятый сын 2-го лорда Перси. Получил епископство в 1355 году благодаря просьбе тестя своего брата, графа Ланкастера.
Перси, сэр Томас (1344-23.07.1403), второй сын 3-го лорда Перси от первого брака. Принимал участие во французских походах Эдуарда III, в 1369 г. – сенешаль Ла Рошели, в 1370 г. – сенешаль Пуату. В 1376 г. сделан рыцарем Ордена Подвязки и губернатором Роксбургского замка. Участвовал в Бретонской экспедиции, в 1378 г. – вице-чемберлен короля, в 1390 г. – главный судья Южного Уэльса. В 1397 году сделан графом Вустера. В 1399 г. – адмирал ирландского флота. Казнен Генрихом IV, так как отказался подчиняться воле нового короля.
Петр I (?-1369), король Кипра в 1359-1369 гг.
Педро I «Злой» (30.08.1334-22.03.1369), король Кастилии с 1350 г. Сын Альфонсо XI, короля Кастилии. Убит. Женат первый раз (1353) на Бланке Бурбонской (была отравлена в 1361 г.), второй раз (1353, тайно) на Марии де Падилла.
Петр (Педро) III (?-1285), король Арагона в 1276-1285 гг., король Сицилии в 1282-1285 гг. Женат на Констанции Сицилийской, дочери Манфреда Гогенштауфена, короля Сицилии.
Пекгем (иногда Пекхем, или Печем Peckham alias Pecham), Джон (ок. 1234-8.12.1292), архиепископ Кентерберийский. Был учеником Адама Марша ок. 1250 года, в 1275 г. – приор доминиканцев в Англии, в 1279 году избран архиепископом Кентерберийским.
Поль, сэр Уильям де ла (?-1366), барон казначейства и купец, сын сэра Уильяма де ла Поля, купца из Рейвенсрода и Гулля. Гулльский купец, королевский поставщик и управляющий с 1330-х гг. Представлял Гулль в парламенте. В 1339 году стал бароном казначейства. Женат на Екатерине, дочери Уолтера де Нориджа.
Пор, Ричард ле (?-15.04.1237), епископ Солсберийский, Чичестерский и Даремский, незаконнорожденный сын епископа Винчестерского. В 1213 году стал епископом Чичестерским, в 1217 году – Солсберийским. Перестроил в эти годы собор в Солсбери, в 1228 г. – избран епископом Даремским.
Р
Ральф Актонский (п. п. XIV в.), английский теолог и философ, автор трактатов «Homiliae in quatuor Evangelia», «Commentarii in Epistolas Paulinas», «Illustrationes in Petrum Langobardum».
Ральф Шрусберийский (?-14.08.1363), епископ Батский и Уэлский и хранитель королевского Гардероба. В 1329 г. избран епископом Барским и Уэлским.
Рамси, сэр Александр Далхаузи (?-6.07.1342), сын сэра Уильяма Далхаузи, наследовал отцу в 1320 г., шотландский патриот, сторонник Брюсов, одним из основных командующих шотландскими войсками в 30-х гг. против англичан. Погиб от рук Дугласа после долгих пыток.
Рамзейский, Джон, строитель, член знаменитой семьи нориджских строителей, участвовал при постройке собора в Или в 20-х гг. XIV века.
Рамзейский, Уильям, главный строитель короля, видимо, брат или сын Джона Рамсейского, проектировал собор в Или, руководил перестройкой Лондонских стен в 40-50-х гг. XIV века.
Рейнольдс, Уолтер (?-16.11.1327), епископ Вустерский, архиепископ Кентерберийский. Начал службу клерком королевского двора, стал королевским капелланом в начале 90-х гг. XIII века. Был назначен тютором принца Уэльского и в 1305 г. хранителем его Гардероба. В 1307 году стал казначеем Эдуарда II и епископом Вустерским. В 1314 году стал архиепископом Кентерберийским. До последнего находился в оппозиции королеве Изабелле, после бегства Эдуарда II из Лондона оставался в столице. Нов конце концов короновал нового короля.
Рейнский, пфальцграф.
Риенци, Кола ди (ок. 1313-1354), итальянский реформатор, в 1347 году поднял мятеж и пытался восстановить систему управления римской республики, но был убит.
Рикарди, банкирская семья.
Рипон (Райпон – Rypon), Роберт, монах-бенедектинец, доктор теологии, главный оппонент и предмет критики Уиклифа.
Рис an Груфит (1132?-28.04.1197), князь Южного Уэльса. Подчинил себе северный Уэльс, но с началом войн Генриха II в Уэльсе, принес ему оммаж в 1163 году. После этого сражался с другими уэльскими князьями за власть. Женат на Гвенллиан, дочери Мадога ап Мардуда, князя Поуиса.
Рис an Марду (?-1294?), союзник Эдуарда I в его борьбе с Ллевелином, но после смерти последнего дважды поднял восстание против Эдуарда и был, видимо, убит в 1294 году.
Рич, см. Св. Эдмунд.
Ричард I (8.09.1157-6.04.1199), король Англии с 1189 г. Сын Генриха II и Элеаноры Аквитанской. Женат (1191) на Беренгарде Наваррской.
Ричард II (6.01.1367-6.01.1400), король Англии в 1377-1399 гг., сын Эдуарда Черного принца. Свергнут с трона и убит. Женат первый раз (1382) на Анне Богемской, второй раз (1396) на Изабелле Французской.
Ричард (5.01.1209-2.04.1272), граф Корнуолла, король Римлян, 2-й сын короля Иоанна Безземельного и Изабеллы Ангулемской. В 1225 году ему пожаловано графство Корнуолла. В баронских войнах принял сторону своего брага, короля Генриха. В 1240 году отправился в крестовый поход, в связи со смертью своей жены. В 1257 году избран королем римлян. Женат первый раз (1231) на Изабелле, дочери Уильяма маршала, 1-го графа Пемброка; второй раз (1243) на Санче, дочери графа Прованского и сестре королевы Франции.
Ричард из Фарли, архитектор XIV века.
Ричмонда, графы см. Иоанн Бретонский.
Ро (Wraw), Джон, один из подвижников Уота Тайлера.
Роберт I, король Шотландии, см. Брюс.
Роберт II Сенешаль (2.03.131649.04.,1390), король Шотландии, сын Уолтера Стюарта, Великого Сенешаля Шотландии и Марджери Брюс, дочери Роберта I Брюса. Наследовал в 1371 году. Женат (1347) на Елизавете Мур, дочери сэра Адама Мура Роуаланского.
Роберт Эйвсберийский (до 1339 после 1356), историк и хронист. Сам он описывает себя как хранитель свитков суда канцелярии, кроме этого о нем больше ничего не известно. Его хроника посвящена описанию войн Эдуарда III во Франции, помимо этого он мало внимания уделяет другим событиям.
Ролл, Ричард Хемрольский (Гемпольский Hampole) (1290?-29.09.1349), отшельник и писатель. Удалился от мира и заперся в келье около 1310 года. Келья его стала местом паломничества, а 20 января было объявлено праздником в его честь. Автор этических трактатов «De Incendio Amoris», «De Emendatione Vitae» и поэмы «Pricke of Conscience».
Рос (1338-8.06.1383), 5-й лорд Рос, наследовал отцу, 4-му лорду, в 1352 году, принимал участие во французских походах Эдуарда III, был назначен губернатором Лимузена в 1363 году. Женат (1361) на Маргарите, дочери Ральфа, графа Стаффорда.
Росс, Джон де (?-1332), епископ Карлайлский, сын Роберта, 1-го лорда Роса. В 1317 году папский капеллан и аудитор. В 1325 году избран епископом Карлайлским.
Росс, Уильям, (?028.01.1332), 3-й граф. В 1291 году принес оммаж Эдуарду I, но затем присоединился к Брюсу и был взят англичанами в плен у Данбара. В 1305 году назначен наместником земель севернее Спея и в 1306 г. выдал англичанам жену и дочь Брюса. Однако затем снова помирился с Брюсом. В 1310 г. принес присягу Эдуарду II и оставался верным англичанам после Бэннокберна.
Рудольф Габсбургский (?-1290), герцог Австрийский, король римлян и император Священной Римской империи. Избран в 1282 году. Женат (1284) на Изабелле Бургундской.
Рэндолф, Томас (?-20.07.1332), граф Морея, сын Томаса Рэндолфа, лорда Стратнифа и Изабеллы Брюс, сестры Роберта Брюса. Ближайший сподвижник Роберт Брюса и главнокомандующий шотландских войск. В 1329-1331 гг. – регент Шотландии. Жена на Изабелле, дочери сэра Джона Стюарта.
С
Садбери, Симон (?-14.06.1381), архиепископ Кентерберийский. Получил образование в Париже, стал доктором церковного права и поступил на службу к папе римскому в качестве капеллана и аудитора папского дворца. В 1356 г. послал папой в качестве нунция к Эдуарду III и назначен канцлером собора в Солсбери. В 1362 году избран епископом Лондона. В 1375 году избран архиепископом Кентерберийским. В 1380 г. назначен канцлером. Убит восставшими во время восстания Уота Тайлера.
Сатерленд, Уильям (ок. 1248-1325), 2-й граф Сатерленда, наследовал отцу в 1248 году младенцем. Сторонник Брюса, и хотя в 1296 г. принес оммаж Эдуарду I, однако вскоре присоединился опять к Брюсу, принимал участие в войне с англичанами, в битве при Бэннокберне.
Саттон, Оливер (?-13.11.1299), епископ Линкольнский. Декан Линкольна в 1275 году, в 1280 г. избран епископом Линкольнским.
Саффолка, граф, см. Уффорд.
Свонленд (Суонленд Swanland), Томас де, лондонский купец, один из крупнейших финансистов в 40-х гг. XIV века.
Св. Гуго Линкольнский (1135?-16.11.1200), епископ Линкольнский. Родился в Бургундии, прибыл в Англию по приглашению Генриха II в 1175 году. В 1186 году избран епископом Линкольнским. Вел затворническую жизнь, но при этом активно участвовал в политической жизни страны.
Св. Иероним (340/2-420), один из отцов христианства.
Св. Яков Компостельский, апостол Иаков во время своего пребывания в Испании основал приход Компостела, епископы которого традиционно и ведут свое начало от него.
Сегрейв, Николас де (ок. 1256-1322), лорд Стоу, второй сын 1-го лорда Сегрейва. Принимал участие в шотландских войнах, часто в качестве заместителя главнокомандующего. Отличился в битвах при Фолкерке и Карлавероке. Поддерживал Пирса Гавестона. Женат (ок. 1291) на Алисе, дочери Джеффри Арментерского.
Сент-Джоны, семья.
Сетон, сэр Александр (ок. 1295-1340), хранитель Берика. Сторонник Роберта Брюса. Участвовал в битве при Бэннокберне, был приором конфискованных земель в Лотиане, в 1327 г. назначен хранителем Берика. Женат на Кристине, дочери Чейна Стралохского.
Симон Тебо, см. Садбери.
Скруп (Scrope), Генрих ле (1315-31.07.1391), 1-й лорд Скруп. Принимал участие в шотландских и французских походах Эдуарда III, сражался при Халидон Хилле, Креси, осаде Кале. В 1350 г. сделан бароном Скрупом. В 1361-1370 гг. наместник Кале, в 1370 г. назначен наместником западных марок и управляющим королевского двора.
Скруп, сэр Джеффри ле (?-1340), главный судья королевской скамьи, брат 1-го лорда Скрупа. В 1316 году стал королевским сержантом, в 1323 г. – судьей, в 1324 г. – главным судьей. В 1328 г. был смещен с должности со вступлением на престол Эдуарда III, так как Скруп поддерживал его отца. Однако в 1334 г. сделан судьей суда общих тяжб, а в 1338 г. главным судьей королевской скамьи.
Слепой Гарри или Генрих Менестрель (?-1492), шотландский бард, автор поэмы об Уильяме Уоллесе, написанной около 1488 года.
Соломон Рочестерский (?-29.08.1294), судья. В 1274 году назначен выездным судьей в графстве Мидлсекс, в следующем году – в Вустере, оставался выездным судьей до самой смерти. Держал пребенду Чемберлен Вуд в приходе собора Св. Павла. Был отравлен.
Солсбери, графы, см. Монтэгю.
Солсбери, графиня, см. Джоанна Кентская.
Соул (Soules), Джон де (?-1321?), чиновник королевского двора по делам Шотландии, в 1296 году принес присягу Эдуарду I, но в 1299 году назначен Баллиолем хранителем Шотландии вместе с Коминым младшим. По условиям мира выслан из Шотландии. Умер во Франции.
Стаффорд, сэр Ричард (?-1381), лорд Стаффорд Клифтонский, племянник 1-го графа Стаффорда, наследовал отцу до 1371 года. Женат на Изабелле, дочери сэра Ричарда де Вернона.
Стаффорд, Ральф де (1299-31.08.1312), 1-й граф Стаффорда, старший сын лорда де Стаффорда, наследовал отцу в 1308 году. Участвовал в шотландских и французских походах Эдуарда III, в 1345 г. назначен сенешалем Аквитании. В 1351 году получил титул графа Стаффорда. Женат первый раз на Екатерине (происхождение неизвестно), второй раз (1366) на Маргарите, дочери и наследнице Гуго О дли, графа Глостера.
Степлдон, Уолтер (1.02.1261-15.10.1326), епископ Экзетерский. В конце XIII века был капелланом Климента V, в 1307 г. избран епископом Экзетерским. В 1319-1320 гг. – назначен казначеем. Растерзан толпой в Лондоне.
Степлтон, сэр Майлз де (?-1364), рыцарь Ордена Подвязки, герой французских войн. Был прославленным победителем на турнирах Эдуарда III. Сражался под знаменем Девы Марии.
Стонор, сэр Джон (?-1354), главный судья. Являлся адвокатом до 1313 года, пока не был назначен королевским сержантом, в 1320 г. – назначен судьей суда общих тяжб, в 1324 г. – судья королевской скамьи. В 1329 г. назначен главным бароном казначейства и главным судьей суда общих тяжб, в 1331 г. смещен. В 1335 году назначен снова, смещен королем в 1340 году и посажен в Тауэр, но затем оправдан и выпущен, в 1342 году восстановлен.
Стефен Пенстерский (?-1299), наместник Пяти портов. В 1268-1271 гг. – шериф Кента, в 1271 г. – констебль Дувра и наместник Пяти портов. В 1279 г. являлся главой суда в лондонском Гильдхолле, в результате которого 3 христианина и 293 еврея были осуждены к казни за подделку королевской монеты. Женат в первый раз (1259) на Рошезе Базевиль, дочери и наследнице Гавиза де Базевиля, второй раз (1283) на Маргарите, дочери Джона де Бурга.
Страттон, Адам де (ок. 1240-после 1290), управляющий казначейством. Был в услужении у графини Альбемарля, в 1261 г. поступил на службу к королю. В 1276-1279 гг. управляющий казначейством, тогда считался самым богатым человеком в Англии. В 1279 году против него выдвинуты обвинения во взяточничестве, которые повторились еще раз в 1290 г., после чего он был лишен всех постов, имений и отправлен в изгнание.
Стратфорд, Иоанн (Джон) (ок. 1291-23.08.1348), канцлер Эдуарда III и архиепископ Кентерберийский. Закончил Мертон Колледж (Оксфорд). Клерк канцелярии с 1317 года. В 1321-1323 гг. член папского суда в Шотландии. Епископ Винчестерский с 1323 года. Помощник казначея в 1325 году. Оставался сторонником Эдуарда II и в 1330 был назначен его сыном канцлером вместо Мортимера. С 1334 года архиепископ Кентерберийский. В 1340 году лишен должности канцлера, но продолжал активную политическую деятельность.
Стратфорд, Ральф де (?-7.04.1354), епископ Лондонский. Родственник (возможно, племянник) Иоанна де Стратфорда, архиепископа Кентерберийского. В 1336 г. был назначен казначеем Солсбери, в 1340 г. избран епископом Лондонским.
Стратфорд, Роберт де (?-9.04.1362), епископ Чичестерский и канцлер. Младший брат Иоанна де Стратфорда, архиепископа Кентерберийского. Королевский клерк в 1328 г., в 1331 г. хранитель большой печати и канцлер казначейства. В 1332 году назначен папским капелланом. В 1335 г. назначен канцлером Оксфордского университета, в 1337 г. – избран епископом Чичестерским и назначен канцлером (до 1338 г.), в 1340 г., после смещения брата, назначен канцлером вторично.
Строу, Джек, один из лидеров в восстании Уота Тайлера.
Суррея, граф, см. де Уоррен.
Стэнли, семья.
Стюарт (Сенешаль), Яков (ок. 1261-16.07.1309), наследовал своему отцу, Великому Сенешалю в 1283 году. В 1286 году после смерти Александра избран одним из шести хранителей королевства. Принял сторону Брюса, но в 1297 г. пришел к соглашению с Эдуардом I. Несмотря на это, полностью признал Брюса королем. Женат (ок. 1290) на Сесилии, дочери Патрика Данбара, графа Данбара и Марча.
Стюарт (Сенешаль) Уолтер (1293-9.04.1326), сын Якова Стюарда, Великого Сенешаля Шотландии, наследовал отцу в 1309 году. Принял сторону Брюса и сражался под его началом при Бэннокберне и в других битвах. Женат на дочери Брюса, принцессе Марджери.
Стюарт (Сенешаль) Роберт, см. Роберт II.
Т
Тайлер, Уот (?-15.06.1381), лидер восстания 1381 года, бывший бриганд, участвовал во французских войнах, затем являлся членом банды бригандов. Убит.
Тани, Люк де (?-1282), констебль Тикхилла и Кнарсборо в конце баронских войн в царствования Генриха III, участвовал в крестовом походе 1270 года с Эдуардом I. Принимал участие в уэльских войнах, но весьма неудачно организовал поход в Англзи, утонул во время неудачной переправы.
Твенг (или Твендж Thweng alias Twenge), сэр Мармадьюк де (?-1322), первый барон Твенг. Прославился во время шотландских войн и особенно битвы при Стерлинге. Был пленником в Шотландии, но обменян на Джона де Моубрея. В царствование Эдуарда II принял сторону Томаса Ланкастерского.
Тевдвр, семья уэльская.
Тибтофт (иногда Тайбтот или Типтофт – Tiptoft alias Tybetot), сэр Роберт (?-22.05.1298), губернатор Порчестерского замка в 1265 г. Сопровождал Эдуарда в крестовом походе. В 1280 г. назначен губернатором Ноттингемского замка и судьей Южного Уэльса. Принимал участие во фландрской экспедиции и в шотландских войнах.
Томас Бротертонский (1.06.1300-08.1338), старший сын Эдуарда I от второго брака, герцог Норфолка с 1312 года. Первый граф, маршал Англии. Женат на Алисе Хейлзской (Гейлзской).
Томас Плантагенет (1277?-23.03.1322), граф Ланкастера, сын Эдмунда, графа Ланкастера, брата Эдуарда I, наследовал отцу в 1296 году. Как кузен короля Эдуарда II являлся главным противником Гавестона, одним из лордов Ордайнером. После удаления Гавестона продолжал находиться в оппозиции к королю, но битву с Деспенсерами проиграл. Поднял восстание против короля, которое было подавлено, а сам Ланкастер казнен. Женат на Алисе, дочери и наследнице Генриха де Ласи, графа Солсбери и Линкольна.
Томас Бекет, Св. (1118?-29.12.1170), архиепископ Кентерберийский. В 1155 году канцлер Англии, в 1161 году назначен архиепископом Кентерберийским. Поссорился с королем по поводу церковных привилегий и был убит.
Томас Вудстокский (7.01.1355-25.08.1397), граф Бэкингема (1377) и герцог Глостера, младший сын Эдуарда III и Филиппы Геннегау. Принимал участие во французских походах. Во время восстания Уота Тайлера занимался подавлением мятежей в Эссексе. В 1387 году перешел в оппозицию к королю, однако помирился с ним в 1390 г. В 1392 году назначен наместником Ирландии. Однако был арестован и убит. Женат в 1374 году на Элеаноре де Боэн, дочери последнего графа Херефорда.
Томас Йоркский (ок. 1220 после 1250), монах-францисканец, в Оксфорде изучал теологию, в 1245 г. стал лектором францисканского ордена в Оксфорде. Автор трактатов «Manus quae contra Omnipotentem» и «Sapientiale», на которые ссылается Роджер Бэкон.
Томас Уэйлендский (ок. 1240 после 1290), главный судья. Исчитор земель к югу от Трента, в 1261 году, выездной судья в 1261-1265 гг., судья суда общих тяжб в 1272-1273 гг., в 1274 г. – судья королевской скамьи, в 1278 – главный судья. В 1289 году по возвращении Эдуарда в Англию арестован, обвинен во взяточничестве и злоупотреблениях, посажен в Тауэр. В 1290 г. выпущен из Тауэра и отправлен в изгнание, судьба его далее не известна.
Торп, сэр Роберт (?-1372), канцлер. В 1340 году являлся адвокатом, в 1345 г. назначен королевским сержантом. В 1356 году – судья суда общих тяжб. В 1371 году – канцлер.
Торрел, Уильям в конце XIII – начале XIV вв. являлся королевским скульптором, автор скульптуры королевы Элеаноры.
Трассел (иногда Труссел – Trussell), сэр Уильям (до 1295 после 1341), сторонник Томаса Ланкастера, был прощен в 1318 году и заседал в парламенте 1319 года как рыцарь от графства. После восстания Томаса Ланкастерского в 1322 году бежал во Францию и вернулся с королевой Изабеллой в 1326. Являлся главой суда над Гуго Деспенсером. Посвятил себя дипломатической карьере, король использовал его как успешного дипломата для заключения брачных альянсов и отношений с папой.
Тревет (иногда Треве – Trevet), Николас (1258?-1328), историк. Вступил в орден доминиканцев. Получил образование в Оксфорде, затем в Париже. Автор хроники «Annales sex Regum Angliae qui a Comitibus Andegavensibus originem traxerunt».
Тревисон, Андрия.
Трезильян, сэр Роберт (?-19.02.1388), главный судья. Представлял Корнуолл в парламенте 1368 года. В начале царствования Ричарда II являлся королевским сержантом и судьей королевской скамьи. 22.06.1381 г. назначен главным судьей королевской скамьи. Однако в 1387 году обвинен в изменен, бежал, но был пойман и повешен.
Тривет (иногда Трайвет, Триве – Tryvet), сэр Томас (?-6.10.1388), герой французских воин. Принимал участие во всех французских походах в 70-х гг. В 1380 г. назначен военным комиссаром в Сомерсете для сбора войск в Бретань, участвовал в бретонском походе, а также в так называемом «крестовом походе» (1383) Гуго Деспенсера, епископа Нориджского. По возвращению в Англию был обвинен в предательстве и взяточничестве, арестован и посажен в Тауэр, но отпущен в 1385 году. В 1388 году принимал участие в заговоре «Вестминстерских лордов», но был прощен и выпущен из Тауэра. Умер в дороге.
Тура, Агнолио ди, сиенский хронист середины XIV века.
У
Уайкс, Томас (ок. 1238 после 1293), хронист, в 1258 году принял сан, с 1285 года стал официальным хронистом аббатства Осни. Хроника его превратилась в поэму под названием «Versus secundum Thomam de Wyka compositi de domino Edwardo Angliae rege», прославляющую Эдуарда I, повествование в которой он довел до 1293 года.
Уиклиф, Джон (ок. 1320-1384), проповедник и доктор богословия. Получил образование в Оксфорде, где и преподавал. Его патроном был Джон Гонтский, герцог Ланкастер, под чьей защитой он и критиковал церковь и подверг сомнению основополагающие постулаты веры. В 1377 году архиепископским судом осужден как еретик, что закреплено парламентским актом от 1382 года. Автор трактатов «Determinatio quedam Magistri Johannis Wyclyff de Dominio contra unum monachum» (1366), «De Incarnatione Verbi», «De Dominio Divino» (до 1377, ок. 1372); «De Dominio Civili» (до 1377); «De Ecclesia» (1377-1378); «De Officio Pastorali» (1379); «De Officio Regis» (1379) и многих других.
Уилогби (Willoughby), сэр Ричард (ок. 1300-1362), главный судья. В 1324 г. представлял в парламенте графство Ноттингем. В 1328 г. судья суда общих тяжб, с 1330 года судья королевской скамьи, в 1338-1340 гг. главный судья. В 1340 году арестован и подвергнут суду, но оправдан и восстановлен в должности судьи суда общих тяжб, в которой и оставался до 1357 года.
Уильям Викегемский (of Wykeham) (1324-1.10.1404), архиепископ Винчестерский и канцлер Англии. Был секретарем констебля Винчестерского замка, затем в 1347 году поступил на королевскую службу. В 1361 г. назначен хранителем лесов к югу от Трента. В 1363 г. стал архидьяконом Линкольна, в 1367 году – епископом Винчестерским. В 1368-1371 гг. – канцлер. В 1376 году парламент выдвинул обвинения в злоупотреблениях против него, нашел его виновным, но в 1377 году после смерти Эдуарда II был прощен новым королем. Основал Винчестерский колледж в 1387 г. В 1389-1390 гг. стал канцлером второй раз. После 1390 г. удалился от дел.
Уильям Риминтонский, в 1370-х гг. являлся приором цистерцианского аббатства Саули и канцлером Оксфордского университета. Был достаточно известным проповедником и критиковал злоупотребления церкви.
Уинчелси, Роберт (?-11.05.1313), архиепископ Кентерберийский. Канцлер Оксфордского университета в 1288 г. Избран архиепископом Кентерберийским в 1293 г. Защищал позиции церкви от Эдуарда I, в 1297 г. поссорился по этому поводу с королем, был объявлен вне закона и имения его были конфискованы, но в том же году помирился. Однако в последующие годы продолжал находиться в оппозиции к Эдуарду, пока, наконец, в 1305 году не был лишен сана и выслан из Англии. В 1308 году вернулся в Англию и был восстановлен в сане. В 1310 г. был одним из лордов Ордайнеров.
Уишарт (Wishart), Роберт (?-26.11.1316), епископ Глазго. Был архидьяконом Сент-Эндрюса, пока в 1272 г. не был избран епископом Глазго. В 1286 году назначен одним из хранителей королевства. До 1298 г. находился в фаворе у Эдуарда I, но после того как Эдуард стал ограничивать шотландские вольности, присоединился к Брюсу. В 1301 году Эдуард схватил его и бросил в тюрьму, но затем отпустил по просьбе папы. Уишарт присоединился к Уоллесу, затем присутствовал на коронации Брюса. В 1306 г. был снова захвачен в плен и восемь лет провел в заточении, пока в 1314 г. не был выменян на графа Херефорда.
Умфравиль, Гилберт де (1244?-1307), граф Ангуса. Наследовал матери, графине Ангуса около 1267 года. Принес присягу Эдуарду I в 1291 году и признал Баллиоля в качестве короля Шотландии, но когда Баллиоль порвал с Эдуардом, остался верен Эдуарду. Участвовал во фландрском и французском походах середины 90-х гг. Женат на Елизавете, дочери Александра де Комина, графа Бьюкена.
Умфравиль, Гилберт де (1310-1381), граф Ангуса, наследовал отцу в 1325 году. Пытался вернуть свои земли в Шотландии и поэтому присоединился к Баллиолю, принимал участие в битвах при Даплин Муре, Халидон Хилле и Невиллз Кроссе. Женат на Матильде де Люси.
Умфравиль, Роберт де (1277-1323), граф Ангуса, наследовал отцу в 1307 году. Принял сторону Эдуарда II и был ему верен, за что Брюс лишил его всех земель и графства. Женат в первый раз (ок. 1308) на Люси, сестре и наследнице Уильяма Кайма, во второй раз на Элеаноре (происхождение неизвестно).
Уолес (Waleys), Генрих де (?-1302?), мэр Лондона. Лондонский олдермен до 1270 г., пока не был избран шерифом Лондона вместе с Роксли. Избран мэром в 1273 году, в 1275 году избран мэром Бордо, в 1281 году избран мэром Лондона второй раз. В 1294 году назначен атторнеем Ирландии. В 1297 году избран мэром Лондона в третий раз.
Уоллес (Wallace), сэр Уильям (1272?-23.08.1305), шотландский генерал и патриот, сын мелкого рыцаря. В 1297 году поднял восстание против англичан и действовал на стороне Джона Баллиоля как короля Шотландии. Одержал несколько блестящих побед над английскими войсками. Взят в плен и казнен.
Уолсингем, Томас (?-1422?), монах аббатства Сент-Олбанс, историк, автор хроники «Historia Anglicana». В 1394-1409 гг. приор Уимундгема. Автор следующих хроник: «Chronica Majora» (утеряна), «Chronicon Angliae» (охватывает 1328-1388 годы), «Gesta Abbatum» (история Сент-Олбанских аббатов), «Chronicle» («The St. Albans MS.», охватывает историю Англии с 1272 по 1393) и «Historia Anglicana» (история Англии с 1272 по 1422).
Уолуорт, сэр Уильям (?-1383), мэр Лондона. В 1368 г. избран лондонским олдерменом, в 1370 г. – шерифом Лондона. В 1374 г. избран мэром. Второй раз избран мэром в 1380 г., был мэром во время восстания Уота Тайлера и собственноручно убил лидера восставших. В 1383 году представлял Лондон в парламенте.
Уорика, граф, см. Бошем.
Уоррен (часто Варенн – Warenne), Джон де (1231?-27.09.1304), граф Суррея, наследовал отцу 1240 году. Близкий друг наследника престола будущего короля Эдуарда I. В начале баронских войн остался на стороне короля. Принес присягу на верность Эдуарду I в 1270 году. Принимал участие в уэльских и шотландских войнах (Джон Баллиоль был его зятем). Командовал в битве при Данбаре и Фолкерке. Женат (1247) на сводной сестре короля Генриха III Алисе де Лузиньян.
Уоррен, Джон де (24.06.1286-30.06.1347), граф Суррея, наследовал деду в 1307 году. В царствование Эдуарда II встал на сторону лордов Ордайнеров. Сражался при Бэннокберне. Оставался верным Эдуарду II в момент ссоры с Изабеллой, но поддержал Изабеллу, когда она высадилась в Англии. Принимал активное участие в шотландских походах Эдуарда III, а также во французских походах. Женат (1306) на Джоанне, дочери Генриха III, графа Бара и старшей дочери Эдуарда I.
Утред Больдонский (ок. 1315-24.01.1396), ученый монах-бенедиктинец, приор аббатства Финчейл (1367, 1379, 1387, 1392), субприор Даремского аббатсва (1368, 1381), активный участник политических отношений короля Англии и папы Римского. Среди его теологических трактатов следующие: «De substantialibus regulae monachalis», «Contra querelas Fratrum» (ок. 1390 г.), и латинский перевод «Церковной истории» Евсевия.
Уффорд, Роберт де (10.08.1298-4.11.1369), граф Саффолка с 1337 года, внук юстициария Ирландии, наследовал отцовские земли в 1316 году. Встал на строну королевы Изабеллы, но против Мортимера, в поимке которого принимал активное участие. В 1330 г. назначен выездным судьей в графствах Уилтшир и Гемпшир. В 1337 году назначен адмиралом королевского флота и ему пожалован титул графа Саффолка. Принимал участие в шотландских и французских походах Эдуарда III. Участвовал по многих посольствах короля. Женат (1324) на Маргарите, дочери сэра Уолтера де Нориджа.
Уффорд, Уильям де (1339?-23.02.1382), граф Саффолка, наследовал отцу в 1369 году. Принимал участие во французских походах 70-х гг. В 1375 г. сделан рыцарем Ордена Подвязки, в 1376 г. назначен адмиралом королевского флота. Принимал активное участие в подавлении восстания 1381 года. Женат первый раз на Джоанне, дочери и наследнице лорда Монтакьюта (Монтэпо), второй раз (1376) на Изабелле, дочери Томаса Бошама, графа Уорика.
Уччелло, Паоло (1397-1475), знаменитый флорентийский художник, автор картины «Св. Георгий и дракон», находящейся в Лондонской Национальной Галерее.
Уэйк, Томас (1297-31.05.1349), лорд Уэйк, наследовал отцу в 1300 году. Выступил против Деспенсеров, присоединившись в 1326 году к Изабелле. В 1326-1338 гг. являлся констеблем Тауэра и чемберленом королевского двора. Принимал участие в свержении Мортимера. В 30-40-е гг. сражался в Шотландии и Франции. Умер во время чумы. Женат (1317) на Бланке, дочери Генриха Ланкастерского (его сестра Маргарита в 1324 году вышла замуж за Эдмунда, графа Кента).
Ф
Файфа, граф, см. Макдуфф.
Фарли, Ричард, см. Ричард из Фарли.
Фаррингтон, Томас, во время восстания Уота Тайлера лидер эссекских восставших.
Фелтон, сэр Томас (ок. 1325-2.04.1381), сенешаль Аквитании. Принимал участие во французских походах Эдуарда III, в битве при Креси. В 1364 году – сенешаль Аквитании, в 1372 г. – сенешаль Бордо. В 1381 году сделан рыцарем Ордена Подвязки.
Фелтон, сэр Уильям (?-1367), сенешаль Пуату, кузен сэра Томаса Фелтона. Принимал участие в шотландских войнах, в битве при Халидон-Хилле. В 1334-1340 гг. – губернатор Роксбургского замка. В 1348 г. – судья королевских земель в Шотландии. Принимал участие в битве при Креси, в 1359 г. назначен сенешалем Пуату.
Фелтон, Уильям де (?-после 1315), ветеран валлийских войн, участник войн с Шотландией в 1298 году, губернатор Бамборо в 1315 году. Изначально известен как Уильям Фиц-Паган.
Филипп II Август (21.08.1165-14.07.1223), король Франции с 1180 года. Женат первый раз (1180) на Изабелле Геннегау, второй раз (1193) на Ингеберг, дочери Вальдемара I, короля Дании, третий раз (1196) на Агнессе де Мерани.
Филипп III «Лысый» (1.05.1245-5.10.1285), король Франции с 1270 года. Женат первый раз (1262) на Изабелле Арагонской, второй раз (1274) на Марии Брабантской.
Филипп IV «Красивый» (1268-29.11.1314), король Франции с 1285 года. Женат (1284) на Жанне I Наваррской, королеве Наваррской.
Филипп VI Валуа (1293-22.08.1350), король Франции с 1328 года, герцог Анжуйский в 1325-50 гг. Женат первый раз (1313) на Жанне Бургундской, второй раз (1349) на Бланке Наваррской.
Филипп д'Эвре (?-1343), король Наваррский с 1328 года, внук Филиппа III. Женат (ок. 1330) на Жанне II Наваррской, дочери Людовика X Французского.
Филипп «Лысый» (?-1404), герцог Бургундский с 1363 года, сын Иоанна Доброго, короля Франции. Женат на Маргарите II де Мале, графине Фландрской.
Филиппа Геннегау (1314?-1369), королева Англии, жена Эдуарда III. В 1328 году состоялось бракосочетание с Эдуардом. Сопровождала Эдуарда в его французских походах, но под конец он пренебрег ею ради Алисы Перрерс, которая являлась ее камер-фрау.
Филиппа (16.08.1355-1.01.1382), принцесса, дочь Лайонела, герцога Кларенса. Замужем (1359) за Эдмундом Мортимером, 3-м графом Марча.
Филпот, сэр Джон (?-1384), мэр Лондона. Был кредитором короля и распорядителем королевских платежей, в 1371 году представлял Лондон в парламенте. В 1378-1379 гг. являлся мэром Лондона.
Фицалан, Ричард I (3.02.1267-1302), граф Арунделя, наследовал отцу в 1272 году как лорд Арунделя, пожалован графом в 1289 году. Принимал участие в уэльских и шотландских войнах. Женат на Алисе, дочери Томаса I, маркиза Салюццо.
Фицалан, Ричард II (1307?-24.01.1376), граф Арунделя, наследовал отцу Эдмунду, графу Арунделя, в 1326 году. В том же году был лишен всех земель и титула в связи с высадкой королевы Изабеллы. В 1334 году сделан судьей Северного Уэльса, шерифом Карнарвона и губернатором Карнарвонского замка. Принимал участие в шотландских войнах и французских походах Эдуарда III. В 1344 году назначен наместником Аквитании. Женат первый раз на Изабелле, дочери Гуго ле Деспенсера младшего (брак расторгнут в 1344 году), второй раз на Изабелле, вдове лорда Бомона, дочери Генриза, графа Ланкастера.
Фицалан, Ричард III (1346-20.09.1397), граф Арунделя, наследовал отцу в 1376 году. Принимал участие во французских походах, в 1386 году присоединился к баронской оппозиции. В 1397 году был арестован и казнен. Женат первый раз (на Елизавете, дочери Уильяма де Боэна, графа Нортгемптона, второй раз (1392) на Филиппе, дочери графа Марча (оштрафован на 400 марок за брак без разрешения).
Фицалан, Эдмунд (1.05.1285-17.11.1326), граф Арунделя, наследовал отцу в 1302 году. Один из лордов Ордайнеров в 1310 году. После отставки Гавестона присоединился к королю, занимался шотландскими делами. В 1325 г. стал наместником уэльских марок и судьей Уэльса. Казнен королевой Изабеллой. Женат (1306) на Алисе, сестре и наследнице графа Уорена и Суррея.
Фицральф, Ричард (?-16.11.1360), архиепископ Армахский. Доктор богословия в 1333 г. (Оксфордский университет), декан Личфильда в 1337. В 1346 году избран архиепископом Армахским с большими трудностями. Отстаивал интересы Ирландии в борьбе с английской короной.
Фицуолтер, Джон (ок. 1315-18.10361), 2-й лорд Фицуолтер, наследовал отцу в 1328 году. Одни из рыцарей-основателей Ордена Подвязки. Женат на Элеаноре де Перси, дочери 2-го барона Перси.
Фитцуорин, Фульк III (?-1256?), землевладелец, поднял в 1203 году восстание против Иоанна Безземельного из-за несправедливого решения короля по поводу родовых земель Фицуоринов, в результате чего был объявлен вне закона. В 1215 году присоединился к недовольным баронам. Генрих III восстановил его в правах и землях. Эта история стала основой для красивой легенды о Фицуоринах под названием «Foulques FitzWarin».
Фландрская, графиня, см. Маргарита Фландрская.
Фландрская, Маргарита, см. Маргарита де Мале.
Фландрский, граф, Гай де Дампьер, см. Дампьер, граф де.
Фландрский, граф, Людовик Неверский, см. Людовик Неверский.
Фландрский, граф, Людовик де Мале, см. Людовик де Мале.
Флит, Уильям, кембриджский ученый и монах-августинец второй половины XIV века, был оппонентом Уиклифа.
Фольвиль, Юстас де, лестерширский джентльмен, вместе со своими братьями образовал банду разбойников и занимался грабежом на больших дорогах в 30-40 гг. XIV века. Считается одним из реальных прототипов Робина Гуда.
Фома Аквинский (1225/6-1274), доминиканец, философ, теолог, схоласт, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма.
Фордан, Иоанн (?-1384?), хронист, монах одного из шотландских монастырей. Его хроники отличаются особым шотландским патриотизмом. В его работы входят: «Chronica Gentis Scotorum» и «Gesta Annalia».
Франктон, Стефан де, лейтенант шропширской пехоты, убил в бою валлийского князя Ллевелина.
Франциск Аккурский, итальянский юрист XIII века.
Франциск Ассизский, святой (1182-1226), основатель ордена францисканцев (1209). Праздник – 4 октября.
Фрейзер, Саймон (?-1306), шотландский патриот, сражался против англичан вместе с Джоном Коминым, в 1306 году после битвы при Метвене взят в плен и казнен.
Фрейзер, Уильям (?-19.09.1297), епископ Сент-Эндрюсский. Ректор Глазго до 1276 г., пока не был назначен канцлером Шотландии. В 1279 г. был избран епископом Сент-Эндрюса. Являлся одним из шести регентов королевства после смерти Александра III. Признал Баллиоля королем Шотландии, но после ссоры Баллиоля с Эдуардом, отправился в ссылку и там умер.
Фрескобальди, итальянские купцы, кредиторы Эдуарда I.
Фрескобальди, Америго де, флорентийский финансист, в 1310 году был назначен хранителем королевской монеты и констеблем Бордов, но смещен в 1312 году после провала политики лордов Ордайнеров.
Фруассар, Жан (ок. 1337-1403?), французский хронист, в 1361 году отправился в Англию с королевой Филиппой для того, чтобы составить стихотворную поэму о битве при Пуатье. С этого момента начинается его хроника. Путешествовал по Англии и Шотландии до 1367 года. С 1369 г. находился при дворе герцога Брабантского, с 1381 по 1384 гг. – при дворе Карла Блуасского. В 1392 г. отправился в Париж, а затем в Англию. Поссорившись с Гаем де Блуа, нашел защиту при дворе герцога Филиппа Бургундского. Его главной работой является «Chroniques de France, d'Angle-terre, d'Ecosse, de Bretagne, de Gascogne, de Flandre et lieux circonvoisins», охватывающая историю Европы с 1328 по 1400 гг.
X
Хантингдонский (иногда Гентингдона, Huntingdon), Давид (ок. 1144-17.06.1219), граф Хантингдона, наследовал отцу в 1185 году, младший брат Вильгельма Льва Шотландского. Женат (1190) на Матильде де Кевелиок, дочери графа Честера.
Харклай, сэр Эндрю (?-3.03.1323), граф Карлайла с 1322 года. В 1303-1304 гг. сражался с Эдуардом I в Шотландии, затем принимал участие в шотландских войнах Эдуарда II. В 1309 г. сделан капитаном западных марок, в 1312-1315 гг. и 1318-1322 гг. – шерифом Камберленда, в 1317 году – губернатором Карлайла. В 1322 г. возведен в графское достоинство. Однако за заговор с Брюсом взят в плен и казнен.
Хатфилд, Томас (?-8.05.1381), епископ Даремский. В 1343 году – хранитель малой печати короля. Избран епископом Даремским в 1345 году. Сопровождал Эдуарда во французских походах, в битве при Креси отпевал умерших, командовал в битве при Невиллз Кроссе.
Хей (иногда Хейя – Hay alias Haya), сэр Гилберт (?-1330), главный констебль Шотландии. Оставался верным Эдуарду I, за что сильно пострадал от своих соотечественников, однако в 1306 году присоединился к Роберту Брюсу. В 1308-1309 гг. был назначен главным констеблем Шотландии.
Хелз (иногда Хелс, Хейлз, Гельз, Гейлз, Hales), сэр Роберт (?-1381), казначей короля Ричарда II с января 1381 года, был убит восставшими в июне 1381 года.
Хеминбургский (Hemingburgh), Вальтер (?-после 1313), хронист, монах-августинец, субприор обители Св. Марии в Гисбурне (Йоркшир) в 1302 году.
Хенгем, Ральф де (?-8.05.1311), главный судья. В 1270 г. назначен судьей королевской скамьи, в 1274 г. сделан главным судьей. В 1275-1279 гг. – канцлер Экзетера, в 1287-1288 гг. – архидьякон Вустера. В 1289-1290 гг. парламент обвинил его в злоупотреблениях и взяточничестве, приговорил к штрафу и тюремному заключению. Однако скоро он был прощен и в 1301 году назначен главным судьей суда общих тяжб.
Хереуорд Бодрый (Hereward the Wake), реальный прототип баллад о Робине Гуде.
Херефорда (иногда Герефорда, Гирфорда, Hereford), графы, см. Боэны.
Херл (иногда Герл – Herle), сэр Уильям (?-1347), главный судья. В 1301-1324 гг. – шериф графства Лестер. В 1320 г. избран судьей суда общих тяжб, в 1327-1339 и 1330-1333 гг. – главный судья. В 1329 г. – выездной судья Ноттингема и Дерби.
Херлейский (иногда Герлейский, Hurley), Уильям, мастер, главный королевский плотник в 10-30-х гг. XIV века.
Хигден, Ранульф (?-12.03.1364), хронист, монах-бенедиктинец. Автор хроники под названием «Polychronicon».
Хилтон, Уолтер (?-1396), религиозный писатель, каноник августинской обители в Тергартоне (графство Ноттингем), автор стихотворных опусов «Scala Perfectionis», «De Imagine Peccati», «Speculum de Utilitate et prerogativis religionis regularis», «The Cloud of Unknowynge», «Epistola aurea de Origine Religionis».
Хит, Гамо (ок. 1275-1352), епископ Рочестерский с 1317 года. Оставался преданным Эдуарду II и отказался принести присягу его сыну, но скоро примирился с ним.
Хоквуд, Джон (?-17.03.1394), участник французских походов Эдуарда III, глава одной из банд бригандов («Белой компании»). Находился на службе у маркиза Монферрато, в 1372 году перешел на службу к папе, в 1377 г. – присоединился к антипапской лиге, в 1386 г. – поступил на службу к маркизу Падуанскому. Умер во Флоренции, где достаточно почитаем и сегодня. Женат на незаконнорожденной дочери Бернабо Висконти.
Холланд, Томас (?-28.12.1360), 1-й граф Кента. Принимал участие во французских походах Эдуарда III, в 1344 г. стал одним из рыцарей-основателей Ордена Подвязки. Принимал участие в битве при Креси и осаде Кале. В 1354 году назначен королевским наместником Бретани. 'В 1360 году получил право называться графом Кента. Женат (ок. 1347) на Джоанне «прекрасной Деве Кентской», дочери Эдмунда Вудстокского, графа Кента.
Холланд, Томас (1350-25.04.1397), 2-й граф Кента, наследовал отцу в 1360 г. В 1366 г. стал капитаном королевских войск в Аквитании. В 1375 году сделан рыцарем Ордена Подвязки. В 1380-1385 – маршал Англии. В 1389 г. назначен констеблем Тауэра и в 1397 г. губернатором Керисбрука. Женат (1366) на Алисе, дочери 5-го графа Арунделя.
Холланд, сэр Джон (1352?-16.01.1400), герцог Экзетера и граф Хантингдона, сын 1-го графа Кента. Во время восстания Уота Тайлера находился в Тауэре с королем, своим сводным братом. В 1381 году сделан рыцарем Ордена Подвязки и судьей Честера. За убийство Ральфа Стаффорда посажен в тюрьму в 1385 году, но был выпущен и отправился в Испанию кровью смыть совершенное убийство. В 1387 г. сделан графом Хантингдона, в 1389 году – чемберленом Англии. В 1397 г. сделан герцогом Экзетера за подавление восстания под руководством Томаса Вудстокского. Вступил в заговор против Генриха IV с целью реставрации на престоле Ричарда II, арестован и казнен. Женат (1386) на Елизавете, 2-й дочери Джона Гонтского, герцога Ланкастера.
Хорн, Эндрю (?-1328), чемберлен Лондона и юрист. Избран чемберленом в 1319 г. Автор юридических трактатов «De gestis Anglorum» и «De veteribus legibus Angliae».
Хубилай (1215-1294), 5-й монгольский великий хан (с 1260 г.), внук Чингиз-хана. В 1279 году завершил завоевание Китая.
Ч
Чендос (часто Шандо, Chandos), сэр Джон (?-1.01.1370), принимал участие в осаде Камбре, в битвах при Креси и Пуатье, глава банды бригандов. В 1360 г. назначен наместником английских войск во Франции и вице-чемберленом короля. В 1369 г. назначен сенешалем Пуату.
Черный принц, см. Эдуард, принц Уэльский.
Честера, графы, последний представитель династии Гуго Авраншский.
Чеуорт (Chaworth), Пейн де, лорд Кидуэлли, хранитель королевского «снаряжения» на юго-западе в царствование Эдуарда I.
Чилленден, Томас, приор Даремского аббатства в середине XIV века.
Чингиз-хан (ок. 1160-1227), монгольский завоеватель, правитель Монголии с 1206 года.
Чосер, Джеффри (ок. 1340-1400), английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов».
Ш
Шелли, Джон (первая половина XIV века), предок знаменитого английского поэта Перси Биши Шелли, представитель парламента от Райя в 1413-1425 гг. Женат на Беатрисе, дочери Джона Хоквуда, знаменитого солдата и бриганда.
Шеритон (иногда Черитон, Cheriton), Уолтер де, лондонский купец в середине XIV века.
Шершул (Shareshull), сэр Уильям (?-ок. 1364), главный судья. В 1327 году назначен выездным судьей, в 1331 году – королевским сержантом, в 1333 г. – судьей королевской скамьи. В 1340 г. был обвинен в злоупотреблениях и посажен в Тауэр, но прощен. В 1342-1344 гг. являлся бароном казначейства. В 1350-1357 гг. – главный судья королевской скамьи.
Э
Эглсфилд (иногда Эглзфилд), Роберт де (?-31.05.1349), капеллан жены Эдуарда I, основатель Квинс Колледжа (1340).
Эдингтон, Уильям де (?-8.10.1366), епископ Винчестерский и канцлер. В 1345 году назначен королевским казначеем и избран епископом Винчестерским. В 1356 г. оставил пост казначея и был назначен канцлером, и сохранял этот пост до 1362 года.
Эдмунд, Святой (ок. 840-870), король Восточной Англии с 855 года. Попал в плен к данам в битве при Хоксне.
Эдмунд, Святой (Рич) (1170?-16.11.1240), архиепископ Кентерберийский. Преподавал в Оксфорде до 1205 года, стал серьезно заниматься теологией между 1205 и 1210 годом, прославился своими публичными проповедями. С 1219-1222 гг. казначей Солсберийского собора. В 1234 году избран архиепископом Кентерберийским. Отстаивал идею национальной церкви, защищал английскую церковь от папы римского. Принимал активное участие в политических делах, в восстании баронов против Генриха III принял сторону баронов, но затем пытался помирить обе стороны.
Эдмунд (1250-1.10.1300), 2-й граф Корнуолла, сын Ричарда, графа Корнуолла и короля римлян. Во время отсутствия Эдуарда в Англии являлся регентом королевства. Женат на Маргарите де Клер, дочери 7-го графа Глостера.
Эдмунд Вудстокский (5.08.1301-19.03.1330), граф Кента, сын Эдуарда I от второго брака. В 1321 году сделан констеблем Дуврского замка и наместником Пяти портов. В 1322-1323 гг. был на стороне короля во время войны с баронами, но затем присоединился к королеве Изабелле. Арестован по обвинению в заговоре против королевы и Мортимера и казнен. Женат (1325) на сестре и наследнице Томаса, лорда Уэйка Лиддельского.
Эдмунд «Горбатый» (1245-6.06.1296), граф Ланкастера, 2-й сын Генриха III. Принимал участие в крестовых походах. Сделан графом Ланкастера в 1267 году. Принимал участие в уэльских войнах. В 1291 году назначен губернатором Понтье. Погиб при осаде Бордо. Женат в первый раз (1270) на Авелине Фортибю, дочери и наследнице графа Альбемарля, второй раз (1275) на Бланке, дочери Роберта I, графа Артуа.
Эдмунд Ленглийский (5.06.1341-1.08.1402), граф Кембриджа (с 1362 года), герцог Йорка (с 1385 года), младший сын Эдуарда III. Принимал участие во французских походах Эдуарда III. В 1374 г. назначен королевским наместником в Бретани, в 1376 г. – констеблем Дувра. Женат в первый раз (1372) на Изабелле Кастильской, во второй раз (1395) на Джоанне, дочери Томаса Холланда, графа Кента.
Эдуард Исповедник, Святой (ок. 1003-1066), король Англии с 1042 года.
Эдуард Мученик (ок. 963-978), король Англии с 975 года. Убит в замке Корф, возможно, своей мачехой.
Эдуард I (17.06.1239-7.07.1307), король Англии с 1272 года, сын Генриха III. Женат (1254) на Элеаноре Кастильской.
Эдуард II (25.04.1284-21.09.1327), король Англии с 1307 года. Сын Эдуарда I. Женат (1308) на Изабелле Французской.
Эдуард III (13.11.1312-21.06.1377), король Англии с 1327 года. Сын Эдуарда II. Женат (1328) на Филиппе Геннегау.
Эдуард, принц, Уэльский, «Черный принц» (15.06.1330-8.06.1376), старший сын Эдуарда III. Умер при жизни отца. Женат (1361) на Джоанне Плантагенет, «прекрасной Деве Кентской», графине Кента.
Элеанора Кастильская, (ок. 1254-1290), королева Англии, жена Эдуарда I с 1254 года. Дочь Фердинанда III, короля Кастилии.
Элеанора Прованская (ок. 1217-29.06.1291), королева Англии, жена Генриха III, дочь Раймона V, графа Прованса. Вышла замуж за Генриха в 1236 году.
Энфилд, Джон, лондонец, основал в 1343 году братство по реставрации крыши и колокольни церкви Всех Святых и лондонскую крепостную стену.
Эрик II (1268-15.07.1299), король Норвегии с 1280 года. Женат первый раз (1281) на Маргарите Шотландской, второй раз (1293) на Изабелле Брюс, дочери Роберта Брюса, графа Каррика.
Ю
Юлиана Нориджская (1343-1443), бенедиктинская монахиня, затворница. Жила в прибежище, в церкви Св. Юлиана в Норидже.
Я
Яков (Джеймс) из Сент-Джорджа, мастер, королевский строитель.
Примечания
1
Harold John Massingham (1888-1952) – историк, автор более 30 монографий, посвященных сельскохозяйственному развитию Англии, английской культуре и традициям. Цитата взята из его автобиографии: Remembrance; an autobiography by H. J. Massingham (London, Malvern Wells, Worcs., В. T. Batsford [1942]).
(обратно)2
Джон Фостер (1898-1975), профессор истории церкви университета Глазго. Автор работ по христианизации Англии. Foster J. Dr. Church history (London, 1972), 2 vols.
(обратно)3
Конечно, это не значит, что таких работ вообще не существует. Попытки написать историю Англии для студентов всегда предпринимались, но не всегда удачно. Особенно много такого рода литературы вышло для факультетов иностранных языков по специальности английский язык. Работы эти вряд ли могут сравниться по уровню с такого же рода работами, например, по русской истории, или, скажем, по истории Франции. См., в частности: Кертман Л. Е. География, история и культура Англии: Учеб. пособие. М., 1979; Очерки истории Англии в средние века и новое время/Под ред. Г. Р. Левина. – М., 1959; Татаринова К. Н. Очерки по истории Англии. 1640-1815. М., 1958; Чиршева Г. Н., Питерцева Т. И. История и культура Великобритании. – Череповец: Изд-во ЧПИ им. А. В. Луначарского, 1998; Шервуд Е. А. От англосаксов к англичанам: (К проблеме формирования английского народа). М., 1988; Штокмар В. В. История Англии в средние века. СПб., 2000 (переизд. 1973 года).
(обратно)4
Мортон А. Л. История Англии. М., 1950; Тревельян Дж. М. Социальная история Англии/ Под ред. В. Ф. Семенова. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959.
(обратно)5
Кабанов Б. Г., Репина Л. Г. Современная британская историография. Библиографический справочник. М., 1980.
(обратно)6
Виноградов К. Б. Очерки английской историографии нового и новейшего времени. Л: ЛГУ, 1959. С. 63.
(обратно)7
Illustrated London News, 19th August, 1939.
(обратно)8
Все последующие воспоминания А. Брайанта цитируются по книге The Lion and The Unicorn (London, 1969), где собраны его биографические заметки из иллюстрированного еженедельника Illustrated London News.
(обратно)9
Lady Mary Calcott, Little Arthur's History of England (London, 1880); Synge M. The Story of the World (London, 1903), 2 vols.; Sir William Napier, English battles and sieges in the Peninsula (London, 1885); Sir Archibald Alison, History of Europe (New York, 1857).
(обратно)10
См. подробнее о нравах и порядках аристократических школ: Леклерк М. Воспитание и общество в Англии. СПб., 1899; Walter W. Druett, Harrow through the ages (Uxbridge [Eng.], 1956); Jonathan Gathorne-Hardy, The public school phenomenon, 597-1977 (London, 1977); J. Lawson, H. Silver, A Social History of Education in England (London, 1973), esp. Chapters IV-V; Ch. Tyerman, A history of Harrow School, 1324-1991 (Oxford; New York: Oxford University Press, 2000).
(обратно)11
Среди основных работ Ходкина: Hodgkin R. Н. A history of the Anglo-Saxons (London, Oxford University Press, 1952); Six centuries of an Oxford college; a history of the Queen's College, 1340-1940 (Oxford, Blackwell, 1949).
(обратно)12
Об этом клубе он написал свою первую книгу History of the Harrow Mission (London, 1921).
(обратно)13
Уолтер Деламэр (или де ла Map, de la Mare) (1873-1956), до 1910 г. был известен как поэт и романист, в 1910 г. стал писать детские стихи, а с 1925 г. – сказки. Одна из самых известных его сказок «Пугало» переведена на русский язык. Джон Мейзфилд (Masefield) (1878-1967), также был поэтом и драматургом, свою известную поэму для детей «Рейнард Лис» он написал в 1919 году.
(обратно)14
Эта школа сегодня называется Кембриджский Технический Колледж и одно из ее подразделений носило имя Артура Брайанта.
(обратно)15
Уильям Моррис был основателем школы, и эта школа изначально называлась Школа Искусств Уильяма Морриса.
(обратно)16
P. Street, Portrait of A Historian (London, 1979), p. 68.
(обратно)17
Большая часть этого архива была опубликована им в книге Postman's Horn (London, 1936).
(обратно)18
Osmund Airy, Charles II (London, 1904).
(обратно)19
Его предыдущая книга была опубликована частным образом.
(обратно)20
Среди его работ: Wallace Notestein, Four worthies: John Chamberlain, Anne Clifford, John Taylor, Oliver Heywood (New Haven, Yale University Press, 1957); A history of witchcraft in England from 1558 to 1718 (New York, T. Y. Crowell Co. [1968]); The House of Commons, 1604-1610 (New Haven, Yale University Press, 1971).
(обратно)21
Macaulay (Peter Davies, 1932).
(обратно)22
Дж. М. Тревельян является автором многочисленных работ и знаменитой «Социальной истории Англии», изданной на русском языке в 1959 году.
(обратно)23
P. Street, Portrait of A Historian, p. 88.
(обратно)24
The National Character (Longmans, 1934); The England of Charles II (Longmans, 1934); The Letters and Speeches of Charles II (Cassell, 1935); George V (Peter Davies, 1937); The American Ideal (Longmans, 1936); Stanley Baldwin (Hamish Hamilton, 1937); Postman's Horn (longmans, 1936), Humanity in Politics (National Book Association, 1937).
(обратно)25
Samuel Pepys: The Man in the Making (Cambridge, 1933).
(обратно)26
Samuel Pepys: The Years of Peril (Cambridge, 1935).
(обратно)27
Samuel Pepys: The Saviour of the Navy (Cambridge, 1938).
(обратно)28
Unfinished Victory (Macmillan, 1940).
(обратно)29
P. Street, Portrait of A Historian, p. 116.
(обратно)30
Пейджет, сэр Бернард Чарльз Толвер (1887-1961) – главнокомандующий внутренних войск в 1941-1943 гг., занимался подготовкой и тренировкой войск, позже принявших участие в операции «Оверлорд» в Нормандии, основал Школу Пехоты (военное сухопутное училище). Ушел в отставку в 1946 году. Кавалер Ордена Подвязки и многих иностранных орденов (Греции, Бельгии, США, Чехословакии и Норвегии). На пенсии занимался общественной деятельностью.
(обратно)31
The Years of Endurance (Collins, 1942); The Years of Victory (Collins, 1944); The Age of Elegance (Collins, 1950) – она получила приз Санди Тайме и Золотую медаль как книга года.
(обратно)32
The Years of Endurance, p. 301.
(обратно)33
P. Street, Portrait of A Historian, p. 194.
(обратно)34
Маунтбаттен, Эвина Синтия Аннет, графиня Маунтбаттен (1901-1960), замужем за лордом Людовиком Маунтбаттеном, младшим принцем принца Баттенбергского. Занималась активной общественно-благотворительной деятельностью. Сохранился ее портрет кисти Сальвадора Дали.
(обратно)35
P. Street, Portrait of A Historian, p. 136.
(обратно)36
The Turn of the tide (Collins, 1957); Triumph in the West (Collins, 1959).
(обратно)37
The Medieval Foundation (Collins, 1967).
(обратно)38
The Lion and the Unicorn (Collins, 1969).
(обратно)39
The Great Duke (Collins, 1971).
(обратно)40
P. Street, Portrait of A Historian, p. 164.
(обратно)41
P. Street, Portrait of A Historian, p. 165.
(обратно)42
Jackets of Green (Collins, 1972).
(обратно)43
Среди его работ: A. G. Dickens (ed.), The Courts of Europe: politics, patronage, and royalty, 1400-1800 (New York, 1984); Late monasticism and the Reformation (London; Rio Grande, Ohio, 1994); The age of humanism and reformation: Europe in the fourteenth, fifteenth, and sixteenth centuries (Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall [1972]); The Counter Reformation (London, 1968); The English Reformation (London, B.T. Batsford [1964]).
(обратно)44
P. Street, Portrait of A Historian, p. 208.
(обратно)45
P. Street, Portrait of A Historian, p. 209.
(обратно)46
A Thousand Years of British Monarchy (Collins, 1973).
(обратно)47
Среди его работ: Geoffrey Barraclough (1908-1987) (ed.), The Charters of the Anglo-Norman earls of Chester, с 1071-1237 ([Chester], 1988); The Christian world: a social and cultural history (New York, 1981); Eastern and Western Europe in the Middle Ages (New York, 1970); The crucible of Europe: the ninth and tenth centuries in European history (London, с 1976).
(обратно)48
Среди его работ: David Douglas (ed.) The Anglo-Saxon chronicle: a revised translation (Westport, 1986); (ed.) English Historical Documents (vols. 1-5); The Norman conquest (London, 1928); The Norman achievement, 1050-1100 (London, 1969); William the Conqueror; the Norman impact upon England (Berkeley, University of California Press, 1964); The Norman fate, 1100-1154 (Berkeley: University of California Press, 1976).
(обратно)49
Среди его работ: Vivian Galbraith, The abbey of St. Albans from 1300 to the dissolution of the monasteries (Oxford, 1911); A draft of Magna Carta (1215) (London, [1967?]); Studies in the public records (London, New York, [1948]); The historian at work; a BBC publication (London, 1962).
(обратно)50
P. Street, Portrait of A Historian, p. 146.
(обратно)51
Хилтон Р., Фагай Г. Восстание английского народа в 1381 году. М., 1952.
(обратно)52
Ленгленд У. Видение Уильяма о Петре Пахаре/Пер. и вступ. статья Петрушевского Д. М. – М.-Л., 1941.
(обратно)53
Среди его работ: Knowles David, Bare ruined choirs: the dissolution of the English monasteries (Cambridge [Eng.]; New York, 1976); The Middle Ages (New York, [1968]); The historian and character, and other essays by David Knowles, collected and presented to him by his friends, pupils and colleagues on the occasion of his retirement (Cambridge, 1963); Lord Macaulay, 1800-1859 (Cambridge, 1960); The censured opinions of Uthred of Boldon (London, [1953]); Charterhouse, the medieval foundation in the light of recent discoveries (London, New York, [1954]).
(обратно)54
Имеется в виду «перпендикулярный стиль готики», то есть стиль линий, пересекающийся под прямым углом с преобладанием вертикальных, появившийся в Англии XII века. – Прим. ред.
(обратно)55
В середине века, после ужасных лишений, два францисканских монаха достигли лагеря великого монгольского хана в Каракумах, а за год до вступления Эдуарда I на престол семнадцатилетний Марко Поло совершил со своими дядей из Венеции и отцом знаменитое путешествие в Китай и ко двору хана Хубилая, в то время правителя почти всей Азии.
(обратно)56
Salzman, 215. Доктор Култон подсчитал, что в те времена убийц на душу населения было в 10 или 12 раз больше, чем теперь. Medieval Panorama, 371, 377-78.
(обратно)57
Перевод М. Виноградовой. – Цит. по: Английская литературная сказка XIX-XX вв. М., 1997. – С. 15, 17. – Прим. ред.
(обратно)58
В Дувре Харольдский колодец достигал 350 футов в глубину и был выложен камнем на 172 фута. Из него и прилегающего к нему резервуара вода поступала во все замковые помещения. Sidney Toy, The Castles of Great Britain.
(обратно)59
В средневековой Англии король рассматривался как защитник мира и порядка в стране. Поэтому поддержание гражданского мира и порядка в стране называлось «королевским миром». – Прим. ред.
(обратно)60
Лондон, Йорк, Линкольн, Солсбери, Экзетер, Личфилд, Херефорд, Уэльс, Чичестер. Монастырские соборы – Кентербери, Дарем, Винчестер, Норидж, Или, Вустер, Рочестер и Карлайл.
(обратно)61
Сайренсестер, Уинчкомб, Глостер и Тьюксбери. Больше ни в одном графстве не было так много епархий. Там весьма кичились великолепным новым монастырем Хейлз и напитком из крови Христовой, привезенным из Германии дядей Эдуарда, королем римлян.
(обратно)62
Когда в 1774 году Общество Любителей Древностей вскрыло могилу Эдуарда и измерило его рост, оказалось, что он составлял 6 футов 2 дюйма – по крайней мере на полфута выше среднего роста мужчины его времени. Akkerman's History of Westminster Abbey. II. 207.
(обратно)63
Знаменитое место разбойников на дороге в Вестминстер. «Да, через Элтонское ущелье/Только бедность могла бы пройти, не боясь быть ограбленной». Piers Plowman.
(обратно)64
Арабское слово «ассасин», говорят, вошло в английский язык благодаря именно этому инциденту.
(обратно)65
Традиционное название пэра в средневековой Англии.
(обратно)66
Маршал – это почетная наследственная должность главы феодального ополчения. Обычно ее занимали представители виднейших аристократических фамилий. Однако к XIII веку должность эта стала в значительной мере формальной, и маршальство редко совпадало с руководством военными действиями. Теперь маршал являлся, скорее, обер-церемониймейстером королевского двора. – Прим. ред.
(обратно)67
Всего было семеро по этой линии – жестокая семейка, из которой, по женской линии, произошли большинство Чеширских древних семей.
(обратно)68
Который, согласно популярному средневековому историку и романисту, Годфриду Монмаутскому, дал свое имя Британии «в дни пророков Илии и Самуила».
(обратно)69
Бирка (eally, tallia) представляла собой деревянную палочку, на которую поперечными нарезками разной величины наносили уплачиваемую сумму денег или количество отпускаемого продукта. Потом бирка раскалывалась продольно так, чтобы линия раскола разделяла нарезки пополам. Одна половина бирки передавалась плательщику (как квитанция), другая оставалась в качестве корешка квитанции. Для проверки обе части складывались. – Прим. ред.
(обратно)70
Ко времени своей кончины в 1292 году Роберт владел 82 манорами в 19 графствах, так же, как и огромным количеством выгодных церковных должностей. Он построил епископский дворец в Уэлсе с зубчатыми стенами, башнями и сторожкой, и развлекал короля и парламент в своем шропширском доме, Актон Бернелл, который он возвел, используя материал из королевских лесов.
(обратно)71
В последующее правление один из них, Адам Бромский, стал основателем и первым провостом Ориель колледжа.
(обратно)72
Королевский адвокат, имеющий право на судебную практику. – Прим. ред.
(обратно)73
Королевский адвокат, имеющий право на судебную практику. – Прим. ред. ** Приказ или writ – первоначально возник как королевское распоряжение, направленное либо к шерифу графства, либо непосредственно к ответчику. Выдавался такой приказ всякий раз, когда подданный приносил королю убедительную жалобу и его выдаче не предшествовало никакое расследование. – Прим. ред.
(обратно)74
Адвокаты, находившиеся ниже королевских и часто являвшиеся их помощниками. – Прим. ред.
(обратно)75
«Защитниками являются сержанты, умудренные в законе государства, которые служат общности людей, выставляя и защищая за плату иски в судах для тех, кто в них нуждается... Когда заслушано заявление истца, советник должен подготовить хороший ответ. И потому что народ в целом не знает всех „оговорок“, которые могут быть использованы для ответа, защитники необходимы, поскольку они знают, как сформулировать причины и защитить их в соответствии с правилами закона и обычаями королевства». The Mirror оf Justices (Selden Society) VII. 47, 90.
(обратно)76
Шериф – это королевский чиновник, стоявший во главе графства. Он председательствовал в собрании графства, собирал в графстве королевские доходы, стоял во главе военных сил графства. Шериф ежегодно отчитывался в своей деятельности в казначействе в Лондоне. – Прим. ред.
(обратно)77
См. Markers of the Realm, 188-95, 312-16.
(обратно)78
О новом захвате (ст. фр.) – особая форма гражданского иска, возбуждаемая в случае захвата земельного владения у держателя, обычно в порядке прямого насилия. – Прим. ред.
(обратно)79
На смерть предшественника (ст. фр.). Этот приказ применялся в том случае, когда кто-либо, обычно лорд феода, препятствовал наследникам умершего держателя вступать во владение его наследственным держанием. – Прим. ред.
(обратно)80
Представление на приход (ст. фр.). Это право означает право какого-либо лица предоставить епископу кандидата на вакантную должность священника в приходе, находящемся под патронатом этого лица. Епископ должен был или произвести назначение, или указать веские причины отказа. – Прим. ред.
(обратно)81
Владелец суда пфальцграфства до тех пор, пока тот не был передан короне.
(обратно)82
Select Cases in the Court of King's Bench under Edward I. Vol. 1. 43. (Selden Society, 1936.)
(обратно)83
Коронер – это должностное лицо в графстве, главной обязанностью которого был контроль за деятельностью шерифа. В XIII веке в каждом графстве было четыре коронера, которые выбирались на собрании графства из числа землевладельцев графства. Коронеры избирались пожизненно и не оплачивались. Они защищали финансовые интересы короля в графстве, вели списки дел, обеспечивали явку в суд обвиняемых и арестовывали подозрительных лиц. – Прим. ред.
(обратно)84
Cam.
(обратно)85
Сотня – административный округ средневековой Англии, составляющий часть графства. Во главе сотни стоял назначенный шерифом чиновник, бейлиф, председательствовавший в сотенном собрании, собиравшемся раз в месяц. На это собрание сходились все свободные жители сотни и от каждой сельской общины староста и четыре крестьянина. – Прим. ред.
(обратно)86
Idem, 181-2.
(обратно)87
Выплаты судьям ассиз за их работу. – Прим. ред.
(обратно)88
Во время вступления Эдуарда I на престол было 270 королевских сотен, а 358 находилось в частных руках. В Суссексе, лесистом графстве, все округа находились в частных руках. У некоторых из них было несколько хозяев. Средний годовой доход округа и его суда составлял около 5 фунтов в год, что равняется 250-300 фунтам в год в переводе на современные деньги.
(обратно)89
Select Cases in the Court of Kings Bench under Edward I. Vol. 1. LXX (Selden Society, 1936).
(обратно)90
Y. В., 20 и 21 Эдуард I. (Rolls Series) 193. cit. Plucknett, 74. «Мастер Вильгельм и Мастер Ричард ле Клиффорд и Годфрид Морсский... во времена короля Генриха, отца ныне здравствующего короля... пока вышеупомянутая тяжба ожидала решения... пришли с враждебными намерениями, вооруженные и на конях в доспехах и в сопровождении большого количества вооруженных людей, как на лошадях, так и пеших, арбалетчиков и стрелков, к дому некоего Уильяма Гереберта в Торни и сломали ворота и двери его жилища, напали на него, чем заставили укрыться в своей комнате, откуда после этого вытащили вышеупомянутого Уильяма Гереберта и выкинули из собственного жилища и выгнали с собственной земли, взяли и увели (и до сих пор удерживают) коней и другое движимое имущество, коим владел Уильям Гереберт». Select Cases in the Court of King's Bench under Edward I. Vol. 1. 10. (Selden Society.)
(обратно)91
Cheminage (ст. фр.) – специальная пошлина, взимаемая шерифом за проезд через королевский лес. – Прим. ред.
(обратно)92
A Chronicle of Cranborne (1841), 154-61. Граф Глостера утверждал в своем ответе, что «его предки использовали все вышеизложенные привилегии с незапамятных времен и ни он, ни его предки не совершили незаконного захвата против нашего господина короля». Idem, 168.
(обратно)93
Approver (англ.) – «свидетель», который давал те показания в суде, за которые было заплачено. Обычно их использовали в судах с целью получения денег с честных людей. – Прим. ред.
(обратно)94
Бедль – судебный пристав в манориальной курии, которому подсудны крепостные крестьяне. – Прим. ред.
(обратно)95
Cam, 160.
(обратно)96
Idem, 36.
(обратно)97
Вапентек – административный округ в северных графствах Англии, аналогичный по размеру и характеру сотням в центральных и южных графствах. – Прим. ред.
(обратно)98
Cam, 43.
(обратно)99
«Если мы ищем истоки парламентских привилегий более позднего времени, таких, как свобода слова и личная неприкосновенность, то мы должны искать их в специфике священных обязанностей, приписанных судам». G. О. Sayles, The Medieval Foundations of England, 453.
(обратно)100
«Единственным законом, признаваемым в Средние века, как показал профессор Керн, было „старое доброе право”, обычай, унаследованный с древнейших времен, который был превыше государства и который никто, включая короля, не мог изменить. Задачей государства было поддерживать и защищать закон, восстанавливать его, когда он выходит из употребления, и даже „решительно утверждать” его; но никто, слава Богу, не мог „создать” закон, который существовал бы с незапамятных времен, точный, всеохватный и за пределами человеческого вмешательства». G. Barraclough, «Law and Legislation in Medieval England». Law Quarterly Review, LVI 76.
(обратно)101
«На большом королевском совете в парламенте, – писал автор сборника законов, Флета, – разрешаются юридические неясности, предписываются новые средства от новых оскорблений, и правосудие воздает по заслугам всем в соответствии с их поступками». Powicke, 356.
(обратно)102
Перевод Д. М. Петрушевского. Цит. по: Памятники по истории Англии XI-XIII вв. – М, 1936. – С. 160.
(обратно)103
Перевод Гутновой Е. В. Цит. По: Вестминстерские статуты. – М., 1948. – С. 7.
(обратно)104
Ничего впредь не должно быть конфисковано, если человек, собака или кошка избежали смерти, хотя это имело непреднамеренный результат, выражавшийся в том, что мародеры часто убивали выживших.
(обратно)105
«Мерзкий грубиян бейлиф или сторож может подвигнуть бедняка на подачу иска, и таким образом он полностью занят этим иском больше, чем незаконным владением земли». Бирфорд, гл. судья. Year Books of Edward II. (Selden Society) IV 161. cit. Plucknett, 52.
(обратно)106
To, что они принялись за это дело с рвением, показывает ремарка судьи Мэлори: «Я исследовал дело, рассматриваемое перед сэром Джоном де Во на выездной сессии в Лестере, где некий Р., из-за того, что его рента была задержана, забрал у крестьянина зерно, увез его и распорядился по своему усмотрению; и он был за это повешен». Y. В. 33-35. Edward I (Rolls Series) 503. cit. Plucknett, 58.
(обратно)107
Ласт – 12 дюжин кож.
(обратно)108
Power, 75-77. Мешок был равен 26 стоунам (1 стоун – 14 фунтов или 6,34 кг.)
(обратно)109
Фирма означает аренду, откуп; это платежи, следуемые вместо барщинных повинностей. – Прим. ред.
(обратно)110
Провозглашена семнадцатью годами ранее в баронских Оксфордских провизиях – «Если они не могут все присутствовать, то пусть будет твердо установлено, что большинство из них будут действовать». Annals of Burton, cit. Wilkinson, I, 171.
(обратно)111
Н. Gough, Itinerary of Edward I. passim.
(обратно)112
Перевод П. Голенищева-Кутузова.
(обратно)113
Brenin (вал.) – мелкий племенной вождь в древнем Уэльсе. – Прим. ред.
(обратно)114
Несколько мелких лордов марок (пограничной области) сами были валлийцами, как, например, Оуэны из Пула, чье имя упоминается в Уэлшпуле.
(обратно)115
J. Е. Lloyd, History of Wales to the Edwardian Conquest, 596.
(обратно)116
Eisteddfod (валл.) – соревнование бардов в искусстве писать стихи, ежегодно устраиваемое в Уэльсе. – Прим. ред.
(обратно)117
Первую выиграл южанин из земли Морган, вторую северянин из Гвинеда. A. L. Poole, Domesday Book to Magna Carta, 294.
(обратно)118
Он умер в 1240 году в аббатстве Аберконуэй. Говорили, что деревня Бедгелерт почтила имя и могилу любимого пса, который спас его малолетнего сына от волка.
(обратно)119
Кантреф – то же, что и сотин в Англии. – Прим. ред.
(обратно)120
F. М. Powicke, Henry III and the Lord Edward, 622.
(обратно)121
В конце XII века норманно-уэльский священнослужитель и топограф, Геральд Камбрейский, напрасно пытался заставить папство признать приход Св. Давида независимой епархией в Уэльсе.
(обратно)122
Giraldus, Vol. VI, 54 (Roll Series) cit. Morris, 16.
(обратно)123
Дестриеры или тренированные боевые кони, которые могли нести огромный вес тяжеловооруженного всадника, стоили около £ 100, или столько же, в переводе на современные деньги, сколько стоит мощный лимузин. Лошади послабее, которые были способны нести менее экипированного рыцаря, могли быть приобретены за сумму в £ 15—£ 30, в то время как ронкины (вьючные лошади. – Прим. перев.) конных войск или тяжеловооруженных всадников стоили где-то около £ 5—£ 10. Morris, 82.
(обратно)124
Это была крупнейшая цистерцианская церковь в Англии, даже больше, чем в аббатстве Фаунтинс. Сейчас от нее и следа не осталось.
(обратно)125
Квалифицированные рабочие получали 3-4 пенса в день, мастера – 5 или 6 пенсов; неквалифицированным рабочим платили 2 пенса, столько же, сколько низшим армейским чинам. Вознаграждения за хорошую работу – обычно в размере 1 пенни в день – также выплачивались, чтобы выпить за здоровье короля. Morris, 139. I.
(обратно)126
Должность, которую занимает сейчас сэр Уинстон Черчилль. Два главных капитана получали по шиллингу в день, сорок восемь мастеров и констеблей – по шесть пенсов, а 608 матросов – по три.
(обратно)127
Select Cases in the Court of King's Bench under Edward I (Selden Society) I, 133-4.
(обратно)128
Cit. Cam, 237.
(обратно)129
Cit. Cam, 237.
(обратно)130
Архиепископ Кентерберийский только в Кенте владел полностью или частично тридцатью пятью округами и тридцатью одним рыцарским феодальным владением, где в его подчинении было более дюжины официальных резиденций. Среди его субарендаторов был граф Глостера, крупнейший лорд королевства.
(обратно)131
Так же, как и Ленгтон, он писал гимны и стихи. Два из его евхаристических гимнов, Гимны телу Христову и Славься, стали достоянием католической церкви. «Молодой фламандский клирик нашел стихотворение на ту же тему и другое, восхваляющее Деву Марию, на свитке, повешенном перед особым алтарем папы в церкви Святого Петра. Они так ему понравились, что он сделал с них копии и пятьдесят лет спустя, будучи уже старым священником во фламандском приходе, он вновь их переписал и раздал своим собратьям по приходу, ...упрашивая их повесить сии произведения в церквах для пользы верующих, которые смогут прочесть и переписать их, а также умоляя их поминать в молитвах автора, брата Иоанна, англичанина». Douie, 45.
(обратно)132
Приказ вышестоящего суда нижестоящему о прекращении производства по делу. – Прим. ред.
(обратно)133
См. песенку того времени, излагающую точку зрения крестьянина, которому, после того как побывал на одном из таких судов, пришлось, по повелению «священника, гордого как павлин», жениться на девушке по имени Мол, которую он «испортил под нижней юбкой». «Только лицо духовного звания, – говорит он, – может жить на земле, так внушают нам священники... Первым сидит старый простолюдин в черном одеянии, вытянувший ноги, и всем он кажется самым главным хозяином. Они дырявят своими перьями пергамент и говорят, что я виноват и должен принести все мое честно нажитое богатство... Пастухи их ненавидят». Wright, Political Songs.
(обратно)134
Реформа завершилась к концу 1279 года. Были сделаны новые круглые клише, вытеснившие «обрезанные» квадратные. Среди новых появилась и серебряная монета в четыре пенса, известная как грот (groat). Powicke, 632-3; J. Ramsay, Dawn оf the Constitution, 326-7; C. Roth, History of the Jews in England, 74-6.
(обратно)135
Суд архиепископа, который шесть столетий спустя предоставил работу отцу Доры из «Дэвида Копперфильда».
(обратно)136
«Недавно пришло мне исполнительное письмо, внушающее страх по виду и не менее ужасное по содержанию». S. G. Carpenter, The Church in England, 104. Так как Печем был монахом, у него не было личной собственности, хотя на пир по поводу его возведения в сан он должен был предоставить одной только рыбы: 300 морских щук, 600 штук трески, 40 свежих лососей и 7 баррелей соленых, 5 баррелей соленой осетрины, 8000 моллюсков, 100 щук, 400 линей, 100 карпов, 800 лещей, 1400 миног, 200 штук крупной плотвы, не считая тюленей, морских свиней и «pophyns»! Он также должен был сделать обычные подарки крупнейшим вассалам епархии, которые действовали как наследственные дворецкий, булочник, управляющий и виночерпий. Граф Глостера, например, «получил чашу архиепископа, семь алых роб, тридцать галлонов вина, тридцать фунтов воска, провизию для восьмидесяти лошадей и трехдневное гостеприимство в одном из поместий архиепископа, пока он оправлялся от кровопускания, которое неизбежно последовало за торжествами». Douie, 66.
(обратно)137
Несколько таких высоких и красиво оформленных деревянных дароносиц до сих пор сохранились в наших приходских церквях. Превосходный образец, искусно вырезанный из дерева в виде соборной башни со шпилем, можно увидеть на южном трансепте мильтонского аббатства в Дорсете.
(обратно)138
Экземпляры трактата Печема Ignorantia Sacredotum, заказанные многими священниками, чтобы увековечить его книгу, встречаются в регистре Викенгема в конце XIV века. «Wykeham's Register», Hampshire Record Society (1896) XI, cit. Douie, 139.
(обратно)139
Foedera I, II, 554, cit. F. M. Powicke, Henry III and the Lord Edward, 672.
(обратно)140
J. G. Edwards, Calendar of Ancient Correspondence concerning Wales, 59-60, cit. Powicke, 382.
(обратно)141
Графство Честер являлось пфальцграфством или палатинатом, то есть принадлежало короне. – Прим. ред.
(обратно)142
Пфальцграф – граф, владеющий пфальцграфством или палатинатом, член королевской семьи, поскольку такое графство принадлежало королю. – Прим. ред.
(обратно)143
«Утверждение бретонцев, что остров был покорен Артуром, лишь легенда, как и другие истории, которые они создали о нем исключительно из стремления ко лжи». William of Newburgh, English Historical Documents, II, 340.
(обратно)144
Cal. Of Ancient Correspondence concerning Wales, 88-9, cit. F. M. Powicke, Henry III and the Lord Edward, 657.
(обратно)145
По законам суда Гвинеда, он занимал первое место в палате и сидел рядом с королем за столом, получая в доказательство занимаемого им поста «золотое кольцо, арфу и шахматную доску». Т. Jones-Pierce, The Age of the Princes. Lecture at the University of Bangor, January, 1945, printed in The Historical Basis of Welsh Nationalism, Cardiff, 1950, 54.
(обратно)146
Idem. 52.
(обратно)147
Epistolae Johannis Peckham, II 454, cit. F. M. Powicke, Henry III and the Lord Edward, 664.
(обратно)148
Stephenson and Marcham, 155.
(обратно)149
Однако он неофициально намекнул архиепископу, что он мог бы обеспечить почет Давиду при условии, что тот отправится в крестовый поход, и гарантировать Ллевелину английское графство в обмен на передачу Гвинеда – условие, которое валлиец с негодованием отверг.
(обратно)150
«Это была кодификация правил английского законодательства, сделанная с целью внедрения этого закона в Уэльсе. Она напоминает нам наши индийские кодексы и другие кодифицирующие акты XIX века. Возможно, на самом деле это более чем совпадение, что только в царствование Эдуарда I и в XIX веке – два самых важных периода в законодательной практике – свет увидели статуты такого содержания». W. Holdsworth, Makers of English Law, 28-9.
(обратно)151
В 1400-ярдовой стене вокруг нового замка и города Конвея было трое больших ворот и двадцать две башни. Brieger, 254.
(обратно)152
Отчет о деятельности Эдуарда в строительстве городов в Уэльсе и в других областях можно найти в американском журнале средневековых исследований Speculum, Vol. 22, 297-301. Также английские города возводились в Бала и Ньюбурге.
(обратно)153
Bartholoai de Cotton Historia Anflicana (ed. Luard) 166, cit. Powicke, 369.
(обратно)154
Право maritagium – это право на землю, выделенную при жизни владельца в пользу его дочери или какой-нибудь близкой родственницы в качестве приданого и освобожденную от всех повинностей, включая даже внешние повинности до третьего поколения. Если у женщины, получившей такую землю, не было потомства, то земля после ее смерти подлежала возврату дарителю или его наследникам. – Прим. ред.
(обратно)155
Держание «of curtsey» или «по закону Англии» обозначалось в том случае, когда муж после смерти жены продолжал владеть ее держанием до конца своей жизни, если у них были дети, способные наследовать.
(обратно)156
Об условных дарениях (лат.). – Прим. ред.
(обратно)157
«Тот, кто создал статут, намеревался включить в него не только получателя пожалования, по также и его потомство до тех пор, пока порядок наследования (entail) не будет полностью завершен в четвертом колене, а то, что он не сделал этого, написав слова, касающиеся только непосредственного потомства, является результатом его невнимательности; и поэтому мы не аннулируем этот иск» Year Book of Edward II (Selden Society) XI, 176-177. По этому поводу профессор Планкет в своей книге «Законодательство Эдуарда I» замечает: «По сравнению с подвигом Бирфорда, обойти акт Парламента – просто пустяк».
(обратно)158
Plunkett 52. «Они приняли династический взгляд на семью, рассматривая ее прежде всего как череду предков и потомков, удлиняющуюся со временем, а не как группу родственников. Принцип первородства является естественным выражением первоначального взгляда, так же, как и принцип раздела закономерно вытекает из последующих представлений». Idem 129.
(обратно)159
В церкви в местечке Лидиард Трего (Lydiard Tregoz) (Уилтшир) есть триптих XVIII века, посвященный генеалогии семьи Сент-Джонов. Он так комментирует сказанное: «Сквозь курс времен, всесильной властью Бога / Эта земля Лидиарда держалась в одном направлении. / Пятьсот сорок девять лет и теперь более / С тех пор как здесь живут Сент-Джоны». В 1943 году во время Второй мировой войны Корпорация Суиндона купила эту землю, и, таким образом, в первый раз со времен Завоевания эта земля перестала быть держанием и перешла в частные руки. М. D. Anderson. Looking for the History in British Churches, 111.
(обратно)160
Заверенные судьей письменные возражения стороны против действий суда по рассматриваемому делу (жалоба стороны в вышестоящий суд на то, что нижестоящий суд не принял во внимание сделанные ею заявления о допущенных ошибках). – Прим. ред.
(обратно)161
Если не первые (лат.). – Прим. ред.
(обратно)162
Writ или приказ использовался как королевское распоряжение шерифу или непосредственно ответчику и выдавался всякий раз, когда подданный приносил королю убедительную жалобу, которую король мог решить без всякого предварительного расследования. – Прим. ред.
(обратно)163
Clobman обозначает человека с палкой, a trailbaston – это палка с хвостом. Так называлась тогда категория разбойников, творивших различные бесчинства. Из текста королевских грамот явствует, что развелось в стране множество злодеев, творящих убийства, грабежи, поджоги и другие преступления, которые бродят по стране, они на ярмарках избивают своими палками мирных людей, ранят их, мстят им за обвиняющие показания в суде. Поэтому поручается судьям разыскивать оных. – Прим. ред.
(обратно)164
Ополчение графства (лат.). – Прим. ред.
(обратно)165
Ассиза о вооружении – специальный закон, принятый в 1181 году Генрихом II, по которому все свободное население обязано было обзавестись оружием сообразно своим средствам. В то же время обязательная военная служба за фьеф 140 дней в году в пределах королевства была заменена денежными платежами, которые именовались «щитовыми деньгами». Был возрожден англосаксонский фирд. – Прим. ред.
(обратно)166
Cm. Makers of the Realm, 260.
(обратно)167
Stubbs, Select Charters, 464. Перевод E. В. Гутновой – цит. по: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. / Под ред. В. М. Корецкого. – М., 1961. С. 225.
(обратно)168
Бург – небольшой город в Средние века, находящийся на территории феодала. – Прим. ред.
(обратно)169
С. Е. Н. Е. II, 303.
(обратно)170
Специальный, создаваемой по специальному случаю (лат.). – Прим. ред.
(обратно)171
Statutes of the Realm, cit. Stephensоn and Marcham, 172-173. Перевод E. В. Гутновой. – Цит. по: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. / Под ред. В. М. Корецкого. – М., 1961. С. 213-14.
(обратно)172
Благодаря тому, что ее трудно разрушить, стены часовни шириной в восемь футов сохранились, когда дворец был снесен в XVIII веке. Williams, I, 369. О более подробных взаимоотношениях Эдуарда и города, см. G. Williams, «London and Edward I», Royal Hist. Soc. Transactions, 5th series, Vol. II, 81-98.
(обратно)173
Select Cases of the Court of King's Bench under Edward I (Selden Society) II, 151.
(обратно)174
J. A. Williamson, The English Channel, 22, 93-4, 102-3; Speculum, Vol. 22, pp. 305-308; см. также F. M. Powicke, Henry III and the Lord Edward, 634; H. C. Darby, An Historical Geography of England, 301-2.
(обратно)175
Карта Гуфа сейчас находится в Бодлейанской библиотеке.
(обратно)176
Очень скоро именно в этой комнате, восседая на кровати в окружении придворных дам, король и королева едва избежали смерти от удара молнии. Medieval England (ed. Н. W. С. Davies), 53.
(обратно)177
Великолепный псалтырь Тенисона, находящийся в Британском музее, был сделан, возможно, в качестве свадебного подарка для него. Evans, 10.
(обратно)178
Это восстание известно под названием «Сицилийская вечерня».
(обратно)179
Происходит подобно слову «бастилия» от французского глагола «batir» – строить, Speculum, Vol. XXII, 301. Большой любитель градостроения, Эдуард писал из Бордо с просьбой прислать из Лондона четырех экспертов, «которые знают, как делить, приводить в порядок и обустраивать новый город по образцу, наиболее выгодному нам и купцам». Medieval England I, 243.
(обратно)180
D. N. В. Как пишет Кок в своих «Институциях», Эдуард использовал сумму, полученную от этого штрафа, на строительство часов в Нью Плейс Ярд прямо напротив входа в Вестминстер холл, где заседали суды. Они сохранились до времен Георга I, а их четырехтонный колокол «Большой Том» был перемещен на новый собор Св. Павла, построенный Реном. Столетие спустя, когда были построены современные здания Парламента, на этом месте были возведены новые часы, получившие название Биг Бен. Елизаветинский судья, которого просили изменить записи, отметил, что он не желал строить башню с часами.
(обратно)181
Еще в 1217 году епископ Солсберийский Пор (Poore) постановил в «Правилах»: «Ни клирики, ни священники не должны появляться в качестве защитников в светских судах, кроме как при разбирательстве своих собственных дел или дел бедняков». Cohen, 159.
(обратно)182
Selden Soc. XXII, Year Book Series IV, 195.
(обратно)183
Williams, I, 15.
(обратно)184
Статут называется по первым словам, которые переводятся «так как покупателя...» – Прим. ред.
(обратно)185
Субинфеодация – передача лена, полученного от первоначального лорда, на правах держания другому лицу. – Прим. ред.
(обратно)186
На каком основании (лат.). – Прим. ред.
(обратно)187
Приказ о выяснении правомерности претензий лица на владение землей (лат.). – Прим. ред.
(обратно)188
Данстеблский хронист рассказывает ужасную историю, как некоторые из наиболее богатых евреев наняли – цитируя перевод Холиншеда – «громадный высокий корабль. Когда он поднял паруса и отправился вниз по Темзе к устью реки мимо Квинсборо, капитан корабля поразмыслил некоторое время и приказал своим людям бросить якорь... пока корабль уходящим течением не был вынесен на сухие пески. Капитан уговорил евреев сойти вместе с ним на берег для отдыха; и когда, наконец, он понял, что начинается прилив, он вернулся на корабль, куда он был поднят на веревке... Евреи были поглощены приливом». Говорят, что капитан и матросы были затем повешены.
(обратно)189
Говорят, что Эдуард выдал их замуж «in parliamento» (в парламенте – лат.). Edward Miller, Origins of Parliament, 14.
(обратно)190
Залив Северного моря в восточной части Шотландии, чьим портом является Эдинбург. – Прим. ред.
(обратно)191
Stevenson, Documents Illustrative of the History of Scotland, I, No. CVIII, cit. Scottish History, I, 124-5.
(обратно)192
Этого ответа – резюмированного в (Rihsanger, Rolls Series 244-5) «Королевские Анналы Шотландии», и обнаруженного в манускрипте XIV в. в библиотеке университета г. Глазго – нет в официальных свитках записей Норгемских слушаний, сделанных папским нотариусом. Powicke, 605; A Source Book of Scottish History, I, 127-30.
(обратно)193
После своего основания он процветал уже тридцать лет, когда в 1293 году глава колледжа и ученые мужи обратились к епископу Линкольна с просьбой о собственной часовне. Епископ Саттон, хотя и был большим приверженцем прав собственного диоцеза, пожаловал им часовню на том основании, что многие из выпускников колледжа «стали известными своей добродетелью и знанием и принесли большую пользу на поприще религии и в других местах». Rosalind Hill, Oliver Sutton, p. 16.
(обратно)194
Учитывая протесты народа, позже он снизился до трех марок.
(обратно)195
Morris, 265.
(обратно)196
Sir Gawayne and the Green Knight (transl. from Middle English by K. Hare), 24.
(обратно)197
Перевод Ковалевой Г. В.
(обратно)198
Palgrave, Parliamentary Writs I, 28-31, cit. Stephenson and Marcham, 159-61. Powicke, 673-4.
(обратно)199
W. С Dickinson, A New History of Scotland, I, 119.
(обратно)200
Некоторые верили, что это камень служил подушкой Иакову и был привезен в Ирландию египетской принцессой, а позже переправлен через айонскую общину Св. Колумба в Шотландию. Он – из старого красного песчаника, не встречающегося в Файфе, так что мог быть привезен издалека.
(обратно)201
Они представляют ценную запись почти всех шотландских княжеских семей того времени.
(обратно)202
21 сентября в Лондоне получили королевский указ нанять четырех экспертов в области градостроительства и прислать их в Бери Сент-Эдмундс и дать Эдуарду совет по поводу планировки нового Берика. Подобные вызовы были посланы в двадцать три других города. Speculum XXII, 307-8; Powicke, 636-7.
(обратно)203
Эдуард позволил своим чиновникам договориться с друзьями епископа, с помощью которых они взяли лишь ту часть его имущества, которая была необходима для уплаты налога. Rosalind Hill, Oliver Sutton, 4.
(обратно)204
«Я с радостью отправлюсь с Вами, мой король, несясь перед Вами в авангарде, ведь это моя обязанность по наследственному праву». Walter of Hemingburgh (ed. H. С. Hamilton II, 121) cit. Barrow, 379.
(обратно)205
«By God, Sir earl, thou shalt either go or hang!» – имя Байгод звучит так же, как выражение «ей-Богу». – Прим. ред.
(обратно)206
Flores Historiarum, III, 294. Cit. Wilkinson, I, 212-13.
(обратно)207
Rosalind Hill, Oliver Sutton, 27-8. Тем не менее молитва о заступничестве, которую он обязал' исполнять в своем диоцезе, имела некоторые оговорки. «О, Господь, за силу их, вся надежда в тебе, и славную победу, за которую боремся, услышь наши молитвы и даруй, чтобы король наш мог благоразумный размышлять и с усердием осуществлять только то, что Твоему величию будет угодно, и чтобы с Твоей помощью и Твоим высшим руководством он достиг процветающего и счастливого конца в тех делах, которые он совершил, через Господа нашего Иисуса Христа».
(обратно)208
Rymer's Foedera cit. Wilkinson I, 219.
(обратно)209
Родовое английское имя для кельтов или валлийцев.
(обратно)210
J. Ferguson, William Wallace, 93-4.
(обратно)211
Wilkinson, I, 61.
(обратно)212
Среди архивов немецкой Ганзы есть письмо, написанное в октябре 1297 года купцам Любека и Гамбурга от имени Уоллеса и Эндрю де Морея, умершего от ран вскоре после сражения при Стерлингском мосту, приглашающее их возобновить торговлю с Шотландией, которая «благодаря Господу была освобождена в войне от власти Англии».
(обратно)213
Annales (ed. Hog) 281-2, cit. Barrow, 308; English Government I, 337-64. (A. E. Prince, «The Army and Navy»); Morris, 282-305 et passim. Medieval England I, 145-8.
(обратно)214
J. Fergusson, William Wallace, 129.
(обратно)215
Предполагается, что название произошло от круглых тройных связок в руке и ступне. См. The Scottish Antiquary, XIV, 185-8, cit. Dickinson, I, 159.
(обратно)216
Так назывались шотландские колонны глубокого построения, состоящие из копейщиков, держащих копья наперевес, посреди которых были помещены стрелки, а заднюю линию составляло небольшое число всадников. – Прим. ред.
(обратно)217
Перевод Ковалевой Г. В.
(обратно)218
Прежде чем присоединиться к своему отцу, принц провел еще одну неделю в Бери Сент-Эдмундс, где, казалось, он наслаждался благочестием и размеренной жизнью аббатства. «Он стал братом нашего Ордена, – писал летописец. – Великолепие места и обычные радости братии доставляют ему удовольствие. Каждый день он просит, чтобы ему подавали те же блюда, что и братьям в трапезной». Cit. Johnstone, 46.
(обратно)219
Powicke, 229.
(обратно)220
Johnstone, 53.
(обратно)221
В первый раз титул принца был дарован англичанину. Johnstone, 55-62.
(обратно)222
Начинается словами: «Ausculta, fili», «Слушай, сын».
(обратно)223
«Где впадали в Тайн сточные воды».
(обратно)224
Говорили, что он принес оммаж сатане и скрепил свое подчинение поцелуем. Tout, Edward II, 14. «Король, – писал Эдуард папе, – испытывает большое беспокойство и горечь, когда видит Уолтера, епископа Личфилдского и Ковентри, благоразумного человека, отличающегося многими добродетелями, подвергающегося преследованию злых языков его врагов... Король лично с ним знаком с детства, и чистота его жизни и честность его речей... должны рекомендовать его папе и Святому престолу». Williams, I, 325-6.
(обратно)225
Select Cases in the Court of King's Bench under Edward I (Selden Society, ed. G. O. Sayles), III, 152-4.
(обратно)226
Точные обстоятельства ссоры и смерти Комина не ясны, но, в соответствии с одним отчетом, его отправили на тот свет слуги Брюса после того, как тот появился из церкви, восклицая: «Подозреваю, что я убил рыжего Комина». На его слова они закричали, обнажив мечи: «Мы удостоверимся в этом». А, по мнению Эдуарда, Брюс намеревался поднять мятеж, и Комин угрожал сообщить об этом королю. Barrow, 405.
(обратно)227
Среди них были и два из семи шотландских графов – Леннокс и Атолл – и молодой сэр Джеймс Дуглас и Томас Рэндольф, которые были самыми крупными из наместников Брюса. М. Mackenzie, Bruce, 165-6.
(обратно)228
National mss. Scotland, II № XIV. Transl. Barrow, 309.
(обратно)229
Церемония до сих пор разыгрывается в здании Гильдии виноторговцев при проведении Лебединого пира, на котором после геральдических знамен и под звуки труб в зал вносится молодой лебедь на широком серебряном блюде и преподносится главе цеха. См. Speculum, vol. XXVIII 128; Powicke, 514-15.
(обратно)230
Двое старших братьев умерли еще в младенчестве.
(обратно)231
Barbour, The Bruce, Modern rendering by W. Notestein, The Scot in History, 39-40.
(обратно)232
L. G. W. Legg, English Coronation Records 85-6, cit. Wilkinson, II, 107-8.
(обратно)233
Tout, Edward II, 93.
(обратно)234
Сэр Джеймс Рамси назвал убийство Гавестона «первой каплей того потока, который в пределах полутора сотен лет унес почти все древнее баронство и большую часть королевского рода Англии». Ramsay, Genesis of Lancaster, I, 46.
(обратно)235
Фабианский – относящийся к роду Фабиев, одному из самых многочисленных и влиятельных патрицианских родов в Древнем Риме. – Прим. ред.
(обратно)236
Цифры взяты из «Бэннокберна» генерала Филиппа Кристисона, опубликованного в 1960 году Национальным трастом Шотландии, который вместе с исследованием Джона Морриса пятидесятилетней давности являет собой лучший военный отчет об этой битве.
(обратно)237
М. Mackenzie, Bruce, 272.
(обратно)238
Его дед, нортумберлендский барон, женился на наследнице древнего кельтского графства Ангус.
(обратно)239
Разорение севера было так велико, что в папской оценке церковного имущества, сделанной в 1318 году, в епархиях Дарема и Карлайла отмечалось снижение их ценности на пять шестых со времени последней оценки в 1291 году. Tout, Edward II, 236.
(обратно)240
Сын пуатевинского сводного брата Генриха III, он вел свой род по женской линии от Уильяма Маршала. Его жена, пережившая мужа на полвека, основала в его память Валенс Мэри или Пемброк Колледж, в Кембридже, в 1347 году.
(обратно)241
Собрание включало в себя группу из двадцати четырех рассудительных людей из «общин княжества Уэльского». Горожане были отправлены домой после первых трех недель. Tout, Edward II, 151.
(обратно)242
Statutes of the Realm I, 189, cit. Wilkinson, II, 155-6.
(обратно)243
J. C. Davies, The Baronial Opposition to Edward II, 533.
(обратно)244
Верили, что мемориальная плита с его изображением, которая была прикреплена к колонне собора Св. Павла, обладала целительными способностями и привлекала такие толпы людей, что король приказал епископу Лондонскому убрать ее. G. Н. Cook, The English Cathedral. 34.
(обратно)245
Верили, что мемориальная плита с его изображением, которая была прикреплена к колонне собора Св. Павла, обладала целительными способностями и привлекала такие толпы людей, что король приказал епископу Лондонскому убрать ее. G. Н. Cook, The English Cathedral. 34.
(обратно)246
Twysden, Historiae Anglicanae Scriptores Decem, col. 2765; Rymer's Foedera, II, 650, transl. by Adams and Stephens, 99, cit., Wilkinson, II, 170-1.
(обратно)247
Maskell, Monumenta Ritualia Ecclesiae Anglicanae, III, 3-48 cit., Wilkinson, III, 97.
(обратно)248
Черное Распятие – самая священная реликвия Шотландии – была возвращена, но в договоре не говорится о возвращении коронационного камня в Скуне. Common Errors in Scottish History (Historical Association) 8.
(обратно)249
«Некие люди, с намерением узнать, какие друзья... недавно убитого короля Англии, были на земле, сделали вид, что он жив и находится в замке Корф... Для чего они многие ночи устраивали пляски на стенах и башнях, зажигая перед ними свечи и факелы, так что мужичье из окрестностей могло бы подумать, что они внутри охраняют короля, для которого и совершаются все эти торжества... Граф Кента тогда послал некоего доминиканского монаха, чтобы выяснить, в чем дело, который, думая, что подкупит охранника замка, сам был обманут». Baker's Chronicle (Ed. Е. М. Thompson).
(обратно)250
Его сообщница, королева Изабелла, была отправлена сыном в почетную отставку. Она жила до 1358 года в своей любимой резиденции, замке Райзинг в Норфолке. В старости она стала носить монашеское одеяние. Mkisack, 102.
(обратно)251
Foedera, II, 799, cit. Wilkinson, II, 173-4.
(обратно)252
Винавер указывает на то, что, когда в Артурианском цикле Мэлори появляется крестьянин, он получает сильный удар по голове за то, что он не уступил рыцарю свою телегу.
(обратно)253
Сноп пшеницы и три зеленых холмика на гербе ланкаширской семьи Шейкерли произошли от снопов пшеницы на гербе графов Честера, от которых она вела род по женской линии, а три маленьких холма – от манора Шейкерли, находившегося на них. Теперь они застроены грязными домами.
(обратно)254
Когда на шестнадцатом году правления Эдуарда I Уолтер Кентский возбудил дело против двух гостей, которые «по своей глупости и из-за недостатка осторожности и из-за свечи, за которой плохо присматривали» подожгли его дом и амбары, по причине чего сгорело множество вещей, стоимостью около двухсот фунтов, в том числе серебряные ложки, золотые кольца, шерстяные и льняные одежды и домашняя утварь. Select Cases in the Court of King's Bench under Edward I, (Selden Society) Vol. I, 181.
(обратно)255
Cam, 182. См. также H. H. Glunz, History of the Vulgate in England, 269, и Holkham Bible Picture Book, Intro (ed. W. O. Hassall).
(обратно)256
Возможно, самым лучшим из образцов opus Anglicanum является риза в Гражданском музее в Болонье, украшенная вышивкой со сценами из жизни Христа.
(обратно)257
Annales Monastici, Thos. Wykes, R. S., XXXVI, IV, 226, cit. Brieger 121.
(обратно)258
Brieger, 191.
(обратно)259
По причине своего плохого состояния крест должен был быть обновлен в год битвы при Бэннокберне, когда реликвии внутри него включали фрагмент истинного Креста, камень из гробницы Христа и еще один из горы Голгофы, а также некоторые из костей одиннадцати тысяч Девственниц. Lambeth Palace Library MS. 590. Transactions of The London and Middlesex Archaeological Society, V (1881), 316-17, cit. Rickert, 47.
(обратно)260
Из двадцати пяти домов каноников в Англии и Уэльсе, а также двух в Шотландии сохранилось менее половины. J. Harvey, English Cathedrals, 34.
(обратно)261
На стенной росписи с изображением Святой Веры на южном нефе Вестминстерского аббатства написано: «Благородство и строгость стиля того искусства, что здесь представлено, предназначено для того, чтобы оставить у зрителя глубокое впечатление и заставить нас осознать, что мир утратил из-за почти полного уничтожения работы мастеров Вестминстерской школы XIII века». Borenius and Tristram, 10-11.
(обратно)262
Во времена Реформации церковь была уничтожена.
(обратно)263
Несколько лет спустя после событий 1321 года в Уэлсе было предотвращено подобное несчастье лишь благодаря постройке обратных сводчатых арок, ставших уникальной чертой этого собора.
(обратно)264
W. G. Hoskins and Н. P. R. Finberg, Devonshire Studies, 215-16.
(обратно)265
В приглашении Кемпу – теперь это привычная английская фамилия – король писал, что «если он приедет в Англию со своими слугами и подмастерьями, товарами и движимым имуществом, красильщиками и валяльщиками и будет осуществлять свои таинства в королевстве, все они получат охранные письма и поддержку в своем обустройстве». An Historical Geography of England (ed. H. C. Darby) 230.
(обратно)266
Вооруженное торговое судно. – Прим. ред.
(обратно)267
C. E. H. E., II, 135. Английский хронист XIII века, Томас Уайкс, описывал это как «бредовое помешательство тевтонцев».
(обратно)268
«На силу и выносливость», – обычная присказка моряков при вызове на общую драку. – Прим. ред.
(обратно)269
F. М. Maitland, Year Books of Edward II, (Selden Society) I, 11-13.
(обратно)270
Selected Cases in the Court of King's Bench under Edward I (Selden Society ed. G. O. Sayles), III, 194-6.
(обратно)271
Keen, 197-8.
(обратно)272
В «Петре Пахаре» Ленгленда («В» Text, Passus, XIX, transl. and. ed., D. and R. Attwater) есть три строки, которые, хотя они и не упомянуты Морисом Кином в его превосходном труде Outlaws of Medieval Legend, кажется, соотносят Фольвиллей с легендой о Робине Гуде. «И некоторых (он учил) ездить верхом и находить, что было несправедливо отобрано; / Он учил их отбирать такое добро назад с помощью ловкости рук; / И забирать добро у негодяев по законам Фольвиля». Другая точка зрения: см. J. С. Holt, Past and Future.
(обратно)273
Королевские чиновники, ведающие лесными угодьями в средневековой Англии. – Прим. ред.
(обратно)274
В апреле 1577 года, а затем вновь в 1578 году Генеральная ассамблея Шотландской церкви попросила короля Якова запретить пьесы «Робин Гуд, король Мея» по воскресеньям. Полвека спустя в своем переводе Латинской истории Шотландии, Джон Белленден написал, что Робин Гуд был предметом «многих сказок и веселых шутливых песен среди простого народа». D. N. В., IX, 1152-5.
(обратно)275
«То, что он и Малютка Джон сделали с шерифом, было тем, что простой человек хотел бы совершить». Keen, 190.
(обратно)276
Блестящее исследование тактики лучников и битвы при Халидон Хилле представлено в последней главе книги Джона Морриса «Баннокберн» и в его статье о лучниках Креси in the English Historical Review, Vol. XII.
(обратно)277
От которого он перешел, после различных превратностей, к семье Стенли, которые продали его назад короне в XVIII веке.
(обратно)278
Интересный обзор Аженского процесса дан в книге Speculum, Vol. XIX, 161-171.
(обратно)279
В 1331 году королевский шатерничий, член братства или гильдии купцов-портных, купил особняк, который, пока не был разрушен в 1940 году, являлся самым старым из сохранившихся зданий компаний Сити в Лондоне. Е. Pooley. The Guilds of the City of London, 10.
(обратно)280
Это дом для престарелых пенсионеров. – Прим. ред.
(обратно)281
Froissart, I, 108.
(обратно)282
В соответствии с Фруассаром, «он всегда ходил по Генту в сопровождении шестидесяти или сорока вооруженных людей... так что если он встречал человека, которого он ненавидел или подозревал в чем-то, невоздержанного, его убивали. В каждом городе он имел солдат и слуг, которым он платил, и которые всегда выполняли его приказания и доносили, если был хоть кто-то, кто мог восстать против его воли».
(обратно)283
Chronicle of Robert of Avesbury (ed. E. M. Thompson), 309.
(обратно)284
Это место с тех пор давно покрылось илом, и теперь представляет собой песочную равнину.
(обратно)285
Rot, Parl, II 122, cit. Tout, Chapters, III, 113.
(обратно)286
«Я верю, что архиепископ желал, чтобы я, из-за недостатка денег, был предан и убит». Idem III, 120.
(обратно)287
Robert of Avesbury, De gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii, Rolls Series 189, p. 324.
(обратно)288
French Chronicle of London (ed. G. J. Augier, Camden Soc. 1844), 90, cit. Wilkinson, II, 193.
(обратно)289
Adam de Murimath, cit. W. H. St. John Hope, Windsor Castle, I, 112.
(обратно)290
W. H. St. John Hope, Windsor Castle, I, 113-118.
(обратно)291
Незаконное взимание налогов (фр.). – Прим. ред.
(обратно)292
Говорят, что он должен был Барди и Перуцци полмиллиона фунтов.
(обратно)293
Более масштабной была «забота» графа Солсбери о казначействе. Он принес ему 2000 фунтов 17 шиллингов и 7,5 пенса за службу с 7 декабря 1337 года по 13 июня 1338 года, наняв себе знаменосца, 23 рыцаря, 106 тяжеловооруженных воинов, 30 конных лучников, 56 валлийских пеших воинов и 60 моряков, из расчета по установленной ставке в 500 марок за 100 тяжеловооруженных воинов за четверть года. Speculum, XIX, 144.
(обратно)294
Сюда входили наплечники, наручи, рукавицы, набедренник и наголенники. – Прим. ред.
(обратно)295
Отсюда и пошло звание младшего капрала. В английском языке это звание lance corporal происходит от командира небольшого подразделения, которому подчинялось от трех до шести человек, то есть прямой перевод будет «командир копья», в русской системе армейских рангов оно приняло такое название. – Прим. ред.
(обратно)296
Литавра представляла собой круглый барабан; цистра – струнно-щипковый инструмент, предвестница гитары; и шом – духовой инструмент, прообраз гобоя.
(обратно)297
Человек, который командовал лучниками и который умер три года спустя во время Черной Смерти, погребен в фамильном склепе Деспенсеров в Тьюксберийском аббатстве, чьими знаменитыми сводами оно обязано щедрости его и его жены. Он лежит там в доспехах из гипса, его руки скрещены в молитве, а у его ног находится лев.
(обратно)298
Его изображение, все еще сохранившее увядший голубой цвет Ордена Подвязки, можно увидеть в Тьюксберийском аббатстве. Он женился на вдове Хьюго Деспенсера, героя Бланшетакской переправы.
(обратно)299
Несколько ядер были найдены потом на поле битвы. Burne, 197-8.
(обратно)300
Эта долина у подножия холма до сих пор известна как Vallce aux Clercs, по имени английских клерков, которые по приказу Эдуарда и производили этот ужасный подсчет.
(обратно)301
Burne, 123, из донесения лорда Дерби на французском языке, которое содержится в хронике Роберта Эйвсбери, Avesbury's Chronicle, Rolls Series.
(обратно)302
Широко распространенное голословное заявление Фруассара, что все население было вырезано, опровергается не только донесениями современника Ланкастера, но и тем, что Фруассар сам изъял это место в более поздней редакции своих хроник. См. Burne, 126.
(обратно)303
Этой дамой королевской крови у Фруассара являлась «Прекрасная Дева Кентская», что и предполагает ее последующий прием в лагере короля в Кале в качестве героини. Margaret Galway, «Joan of Kent and the Order of the Garter», Birmingham University Historical Journal, vol. 1.
(обратно)304
Chronicon Calfride le Baker de Swynbroke (ad. Thompson), p. 367. cit. Rickert, 306.
(обратно)305
Стоимостью 6 шиллингов 8 пенсов – половину марки – она была первой золотой монетой, которую успешно ввели в обращение со времен завоевания. Ее красивый предшественник, золотой флорин, выпущенный в предыдущем году, был изъят из обращения по техническим причинам. Medieval England, 292.
(обратно)306
Имя этого храброго человека даже не упоминается в национальном биографическом словаре (Dictionary of National Biography, 64 vols). – Прим. ред.
(обратно)307
«Мы напали на них, мои товарищи и я, – пишет он в своем донесении к канцлеру, – за четверть часа до наступления темноты, и с помощью Господа дела пошли таким образом, что они проиграли битву и были приведены в полное уныние». Robert of Avesbury, De Gestis Mirabilibus Regiis Edwardi Tertii (Rolls Series, 1889, p. 389)
(обратно)308
Оба собора сгорели, первый в 1666 году, второй – в 1834.
(обратно)309
Доказательство правдивости этой истории, долго опровергаемой, теперь более весомо в статье Margaret Galway, «Joan of Kent and the Order of the Carter», опубликованной в Birmingham University Historical Journal, vol. 1.
(обратно)310
Этот обряд – churching – проводился после обряда крещения и заключался в том, что мать приносила благодарность Господу за успешные роды в присутствии повитухи, которая как бы свидетельствовала и гарантировала законность происходящего. – Прим. ред.
(обратно)311
Здесь Брайант неточен, принц Лайонел был помолвлен с наследницей дома де Бургов, графов Ольстера, Елизаветой де Бург, которая представляла дом Клэров по женской линии. – Прим. ред.
(обратно)312
Перевод Д. М. Петрушевского.
(обратно)313
«Люди часто сильно ошибаются, когда молятся за короля и знать, требуя от Бога, чтобы Он даровал им победу в битве против своих врагов». Lansd. ms. 393. f. 26b. cit. Owst, Preaching, 204.
(обратно)314
Frescobaldi, G. and S. Visit to the Holy Places (Transl. T. Bellonini and E. Hoade), 41.
(обратно)315
Knowels, II, 256.
(обратно)316
Maynard Smith, 38; Creen, 40.
(обратно)317
B 1345 году папа Клемент VI заметил, что «если бы король Англии ходатайствовал за своего осла, дабы назначить его епископом, мы не должны были бы ему ответить отказом». Walsingham, I, 255. Цит. по: Stubbs, III, 324. «Когда папа оказывал противодействие, заключался компромисс... для соблюдения собственного достоинства, папа выпускал провизиционную буллу, которая означала его окончательное согласие и придавала назначению полную валидность». Hamilton Thompson, 16.
(обратно)318
См. Makers of the Realm, 224.
(обратно)319
Это было в дополнение к обычному содержанию в 500 фунтов на расходы, связанные со службой, 80 из них – на платье и 420 – «на стол указанного дворам». Tout, Chpters, III, 156.
(обратно)320
Pantin, 12; R. Highfield, «The English Hierarchy in the Reign of Edward III» (R. H. S. T. 5lh series, VI 133).
(обратно)321
Название Экзетер-Стрит на Стренде все еще напоминает о его лондонском дворце, так же, как и Или Плейс рядом с Холборном говорит о том, что в этом месте находился средневековый замок епископов Или.
(обратно)322
Hamilton Thompson, 48-49.
(обратно)323
Так, большая десятина с Эшби, графство Нортгемптоншир, предназначалась для содержания хора мальчиков нового Ангельского хора в Линкольне, что явилось причиной того, что мы знаем это место как Эшби Пуерорум или Бойз Эшби (от слова boy – мальчик). Rosalind Hill, Oliver Sutton, 5.
(обратно)324
Medieval Panorama, 177-178.
(обратно)325
Owst, Preaching, 336-7.
(обратно)326
Доктор Хьюгс указал, что до изобретения книгопечатания Библия могла стоить примерно столько, сколько составлял доход со среднего крестьянского хозяйства за десять лет. P. Hughes, The Reformation, 9n.
(обратно)327
«Мы проклинаем их спящих или бодрствующих, ходящих или сидящих, стоящих или едущих на лошади, на земле или под землей, говорящих или плачущих и пьющих... чтобы они не принимали участия ни в мессе, ни в заутрене, пи в любом другом добром богослужении, которое осуществляется в святой Церкви... и чтобы ужасы Ада стали их наградой вместе с Иудой, который предал Господа нашего Иисуса Христа, и пусть жизнь их будет исключена из Книги Жизни до тех пор, пока они не придут для исправления и искупления грехов». Instructions for Parish Priests (E. E. T. S.) 24, cit., Medieval Panorama, 163.
(обратно)328
Христа в причастии. – Прим. ред.
(обратно)329
1 августа – Прим. ред.
(обратно)330
Owst, Literature and Pulpit, 19.
(обратно)331
Девственная Роща. – Прим. ред.
(обратно)332
Девственный луг. – Прим. ред.
(обратно)333
Ключ Девы Марии. – Прим. ред.
(обратно)334
Поле Девы Марии. – Прим. ред.
(обратно)335
Marigold – золото Девы Марии. – Прим. ред.
(обратно)336
Ladysmantle – плащ Девы Марии. – Прим. ред.
(обратно)337
The Travels of Ibn Jubayr (transl. R. J. С. Broadhurst), 318-320.
(обратно)338
Насколько трогательным некоторые находили этот обмен функциями, видно из завещания некоей Джоан Саймондса из Ковентри, относящегося к следующему веку «Ребенку епископа завещаю кусок пурпурной ткани, чтобы сделал себе мантию при условии, что епископ с детьми придет к могиле моего мужа и моей и там произнесет De Profundis за упокой души моего мужа и моей в тот же день, когда они делают это на могиле Томаса Уилдегресса в Дрейперской часовне» A W Reed, Early Tudor Drama, 4.
(обратно)339
Bishop Hobhouse, Churchwardens' Accounts (Somerset Record Society, 1890), 3-18.
(обратно)340
Стекольщиков – Прим ред.
(обратно)341
Knowles, II, 258.
(обратно)342
Hamilton Thompson, 173. В 1358 году Пайпуэлское аббатство завладело ассигнованием, выделенным на строительство Гедингтона, в качестве компенсации за опустошения от охоты на оленей и других забав, проходивших в находящихся рядом королевских лесах Рокингема.
(обратно)343
Knowles, II, 304.
(обратно)344
Hamilton Thompson, 168-170.
(обратно)345
Knowles, II, 325.
(обратно)346
Перевод И. Кашкина.
(обратно)347
На основании, достаточно характерном для средневекового правосудия, что своим благочестивым даром или пожертвованием основатель лишил своих наследников того, что они могли бы унаследовать. См. Knowles, II, 283, 286-7, Hamilton Thompson, 174-5, Pantin, 109.
(обратно)348
«Воздержание, аббатиса, научило меня первым буквам алфавита» Piers Plowman.
(обратно)349
Перевод И. Кашкина.
(обратно)350
Hamilton Thompson, 1724. P. Kendall, The Yorkist Age, 269-70.
(обратно)351
В своих «Английских соборах» Джон Гарви подсчитывает, что в конце средних веков в Англии существовало более ста церквей кафедрального типа, четверть которых была полностью разрушена, от других же остались только руины.
(обратно)352
«Когда благочестивый человек / Из монашеского ордена приходит к нашей госпоже, / Нет у него ни стыда, ни совести / Но он выполняет свое желание... / Каждый, кто хотел бы здесь жить, / Имея при этом хорошенькую дочь или жену, / Надеется, что никакой монах не будет их исповедовать». Political Poems and Songs (Ed. Wright), I, 263-8, cit. Rickert, 375-6.
(обратно)353
Owst Preaching, 175-8, 186. Его звали Титтииуллус, и однажды, пойманный за своим делом бдительным монахом, он объяснил, что должен ежедневно представлять своему хозяину, Дьяволу, «тысячу мешков, наполненных слабостями и небрежностями, а также словами, какими обмениваются прихожане во время чтения или пения в вашем ордене, или же буду мучительно наказан». Eileen Power, Medieval People, 70.
(обратно)354
Owst, Literature and Pulpit, 293-4.
(обратно)355
«В любом списке дюжины или около того наиболее влиятельных магистров периода 1200-1350 годов содержится больше имен англичан, нежели представителей любой другой национальности». D. Knowles, The Evolution of Medieval Thought, 279. Об истоках университетов в Англии смотри Makers of the Realm, 328-9.
(обратно)356
Пища в такие общежития – некоторые из них, как, например, Бразеноус и зал Сент-Эдмундс, позже стали колледжами – обеспечивалась из общего фонда, который назывался commons: термин до сих пор в ходу в Оксфорде и Кембридже. Дополнительная пища, которую каждый покупал для себя лично, была известна под названием battels. Social England, II, 64.
(обратно)357
Н. Е. Salter, Medieval Oxford, 97.
(обратно)358
Когда монахи Глостерского колледжа в Оксфорде попросили приора Нориджа о возвращении Адама Истона – их самого многообещающего ученого, которого вызвали, чтобы организовать проповедование в соборе, – приор ответил, что этого не может быть суждено ему, пока без него «нищенствующие монахи, враги нашего ордена и безусловно всех церковнослужителей, обращают свое злословие на каждого... не поднимутся как мыши из своих нор». Pantin, 175-6.
(обратно)359
Завещания почти всегда составлялись церковниками, их следовало подтвердить в суде епископа или в суде прерогатив в Кентербери, если у завещателя была собственность в нескольких епархиях.
(обратно)360
Первая строфа Псалма 50 (Вульгата) – т. е. Псалом 51 (каноническая версия).
(обратно)361
Так назывался первый стих 51 псалма, который давали читать осужденному, чтобы, доказав свою грамотность, он мог спасти себе жизнь. – Прим. ред.
(обратно)362
Rosalind Hill, «A Berkshire Letter-Book». Berkshire Archaeological Journal, vol. 41 (1937), 23.
(обратно)363
P. Kendal, The Yorkist Age, 244-5.
(обратно)364
Cm. Makers of the Realm, 218, 281.
(обратно)365
Medieval Panorama, 174.
(обратно)366
Medieval England, II, 528. Первоначальное пожертвование было впоследствии увеличено его вдовой, леди Деворгила.
(обратно)367
См. Rosalind Hill, Oliver Sutton, 26.
(обратно)368
Owst, Preaching, 109. Так, Ленгленд писал: «...там проповедовал продавец папских индульгенций, как священник, предъявляя документы с епископскими показаниями...» Видения Петра Пахаря.
(обратно)369
Пересекая Синайскую пустыню в 1384 году, Леонардо Фрескобальди встретил караван французских паломников, из которых пятеро были рыцарями с золотыми шпорами, которые рассказали ему, что из двадцати, отправившихся в путь, одиннадцать человек умерли и похоронены в песках. G. и S. Frescobaldi, Visit to the Holy Places (transl. T. Bellorini and E. Hoarde), 41.
(обратно)370
Cook, The English Cathedral, 34-5; S. G. Carpenter, The Church in England, 181.
(обратно)371
Maynard Smith, 168.
(обратно)372
Rock, II, 442-3.
(обратно)373
Hamilton Thompson, 140; Rickert, 235.
(обратно)374
Hamilton Thompson, 75.
(обратно)375
Anglo-Norman Letters and Petitions, ed. M. D. Legge, Oxford, 1941.
(обратно)376
The chronicler of Este, cit. Coulton Black Death, 10-12. См. также Gabriele de Mussi, Ystoria de morbo seu mortalite qui fuit a 1348, cit. Gasquet, 5, 15-16.
(обратно)377
Где среди выживших оказался английский врач, Уильям Гризант, из Мертонского колледжа. Он изучал медицину в медицинской школе в Монпелье и в то время практиковал в Марселе. J. Astruc, Histiore de la Faculte de Medicine de Montpellier, 184, cit. Gasquet, 40.
(обратно)378
Coulton, Black Death, 51.
(обратно)379
Mitchell and Leys, 55; V. С. H. Norfolk II, 241.
(обратно)380
Knowles II, 256. Статистика, разработанная доктором А. Гамильтоном Томпсоном по диоцезам Линкольна и Йорка, то есть территории, покрывающей четверть приходов Англии, показывает, что почти сорок четыре процента вакансий, заполненных во время чумного 1348-1349 года, были вызваны смертью священников. На этом основании доктор Култон, в своей книге «Черная Смерть», посчитал, что смертность духовенства от чумы составляла 40 процентов. Общий взгляд современных ученых заключается в том, что, включая черное духовенство, погибло около половины всего сословия.
(обратно)381
R. О. Durham Cursitor Records. Bk. II ff 2b cit. Gasquet, 185.
(обратно)382
B. M. Faust, B. v. f. 99, cit. Gasquet, 123.
(обратно)383
Ed. J. Arnould, Anglo-Norman Text Society, 1940.
(обратно)384
Перевод Д. M. Петрушевского в книге: Английская деревня XIII-XIV вв. и восстание Уота Тайлера. – М., Л., 1935. – С. 115-116.
(обратно)385
The Place in Legal History оf Sir William Shareshull, 51, 68-72.
(обратно)386
Пять столетий спустя Габриель Оак Томаса Харди стоял со своим пастушьим посохом на рынке в Кастербридже.
(обратно)387
См. В. Putman. The Enforcement of the Statue of Labourers, 196-7, 227; Rickert, 77.
(обратно)388
Rot. Claus., 27 Ed. III m. 10d; L. T. R. Memoranda Roll, 28 Ed. HI (Trinity Term) 27 Ed. Ill (Hilary Term), cit. Casquet, 185, 202, 207.
(обратно)389
Шесть мастеров стекольщиков, которые в 1351 году должны были разрисовывать окна часовни Св. Стефана, оплачивались по тарифу 1 шиллинг в день. Те, кто отказывался от очень либеральных королевских заработков, заключались в тюрьму. J. D. Le Couteur, English Medieval Painted Glass, 23-4.
(обратно)390
Перевод А. Сиповича. См. в книге: Зарубежная литература средних веков. – М., 1975. – С. 276.
(обратно)391
Судебное постановление о превышении власти церковными органами. – Прим ред.
(обратно)392
Важность этих двух актов в последнее время сильно преувеличивалась. См. Cecily Davies, «The Statute of Provisors of 1351», History XXXVIII (1953), 116-133; E. B. Graves, «The Legal Significance of the Statute of Praemunire of 1353» (Haskins Anniversary Lectures). См. также Hamilton Thompson 10-12; Pantin, 47-75.
(обратно)393
«Потому что рынок шерсти Англии, которая является главным товаром и богатством его королевства Англии, держался за пределами королевства, люди иноземных государств обогащались, а доход, который должен был поступать в его королевство простым людям через продажу их шерсти, доставался определенным лицам... к большом ущербу и обеднению простых людей... наш господин король... предписал, что рынок шерсти, руна, кожи и свинца должен держаться в его королевстве в Англии и в его землях в Уэльсе и Ирландии в определенных местах». Rot. Parl. II, 246. Отныне английскими рыночными городами стали: Лондон, Бристоль, Кентербери, Чичестер, Уинчестер, Экзетер, Норидж, Линкольн, Йорк и Ньюкасл.
(обратно)394
V. С. Н. Derby, И, 168, cit. McKisack, 253.
(обратно)395
По пути на восток, проезжая через Кале, он руководил внезапным нападением на Булонь, захватив нижний город и потерпев неудачу в захвате верхнего города только потому, что английские осадные лестницы не подошли по размеру к стенам.
(обратно)396
См. статью Denis Hay в R. Н. S. Т. Fifth Series, Vol. 4, 91-109.
(обратно)397
Chronicon Galfridi Le Baker de Swynebroke, (ed. Thompson), 284-6, cit. Rickert, 307-8.
(обратно)398
Форма утвердительного ответа или подача голоса «за» при голосовании, которую можно перевести как «есть», то есть «да» – Прим ред.
(обратно)399
Подобно рыцарю, увековеченному в Кентерберийских рассказах: «Он был в пятнадцати больших боях; / В сердца язычников вселяя страх; / Он в Тремиссене трижды выходил / С неверным биться – трижды победил». (Перевод И. Кашкина). Чосер, чьим первым патроном была дочь герцога, написал Кентерберийские рассказы в то время, когда его собственная невестка вышла замуж за овдовевшего зятя Ланкастера Джона Гонтского, и, таким образом, возможно, имел в виду именно Ланкастера, когда описывал своего «исключительно благородного рыцаря».
(обратно)400
Вид воинского звания в среде гасконской знати. – Прим. ред.
(обратно)401
«Recit des tribulation d'un religieux de diocese de Sens pendant l'invasion Anglaise de 1358», Bibliotheque de l'Ecole des Charles III, ser. 4. 359-60, cit. Rickert, 292; Chronicle of Jean de Venette (ed. R. A. Newhall), 91.
(обратно)402
Froissart II, 36.
(обратно)403
History, Feb. 1960. M. McKisack, «Edward III and the Historians».
(обратно)404
M. D. Anderson, Design for a Journey, 93.
(обратно)405
В староанглийском языке это слово обозначает «награда».
(обратно)406
Pantin, 206.
(обратно)407
Camden Miscellany, xix (1952). Anglo-French Negotiations of 1361-1362 (ed. P. Chaplais), 5-6. См. также R. H. S. T. 5th Ser. 10: J. Le Patourel, The Treaty of Bretigny, 19-39.
(обратно)408
В соответствии с Фруассаром, французские пленники очень приятно проводили время, «развлекаясь без риска и опасности по всему городу, а крупные лорды ездили с ними охотиться и пускать соколов... и они ездили по всей стране и посещали дам и девиц без всякого контроля, таким куртуазным и дружелюбным был король Англии». Froissart, II, 74.
(обратно)409
Вместе с Робертом Ноллисом и Хьюго Колвели он был одним из основателей английского госпиталя в Риме и через дочь, которая вышла замуж за Джона Шелли, члена парламента от Райя, является предком поэта. D. N. В., IX, 236-42. За год до смерти он написал то, что считается самым ранним из дошедших до нас писем на английском языке. С. L. Kingsford, Prejudice and Promise in Fifteenth-Century England, 22. См. также History Today, May 1956: E. R. Chamberlain, The English Mercenary Companies in Italy.
(обратно)410
«Поскольку люди нашего королевства, как знать, так и общины, обычно использовавшие в своих играх искусству стрельбы из лука, посредством чего целое королевство приобретало честь и доход и от кого мы получили немалую помощь, во время войн с помощью Господа; и теперь указанным искусством почти все пренебрегают и те же люди развлекают себя бросанием камней, дерева или железа, или игрой в мяч, футбол или игрой в мяч с помощью палок или хоккей или петушиными боями, а некоторые потакают другим бесчестным играм, которые менее полезны или стоящи, так что указанное королевство... лишается лучников». Rymer, Rodera, 3: II: 79.
(обратно)411
Предварительный договор предлагал Шотландии лучшие условия, нежели те, которые она получила при унии обеих стран и парламентов в эпоху Стюартов – коронацию как английского, так и шотландского короля в Скуне так же, как и в Вестминстере, сохранение независимого шотландского парламента, освобождение от всех налогов, не одобренных парламентом, автономию шотландской церкви и судов. См. Е. W. М. Balfour-Melville, Edward III and David II (Historical Association, 1954).
(обратно)412
Перевод Б Колесникова.
(обратно)413
History, February 1962. Maurice Keen, Brotherhood in Arms.
(обратно)414
Среди них находился и огромный неограненный рубин, захваченный кастильским королем у убитого мавра. Генрих V носил его при Азенкуре, а последний Плантагенет – в битве при Босворте, сейчас он украшает имперскую корону, в которой монарх покидает Вестминстерское аббатство после коронации.
(обратно)415
Диспенсация – специальное освобождение от церковных ограничений, в частности, вступление в брак родственников. – Прим. ред.
(обратно)416
«Которая умерла прекрасной и молодой, в возрасте около 22 лет. Веселой и радостной она была, свежей и игривой, приятной, выглядела просто и скромно, вот какова была прекрасная леди, которую люди называли Бланш». Фруассар. Дочь великого воина, Генриха Ланкастерского, она стала героиней одной из ранних, но очень важных поэм Чосера.
(обратно)417
См. A. Deroux, Le Sac de la Cite de Limoges: A. H. Burne, The Agincourt War 20-2, 27-8.
(обратно)418
Торп, уроженец Норфолка и покровитель Кембриджского университета, был главным судьей Суда Общих Тяжб; Нивет, богатый нортгемптонширский землевладелец, – главным судьей Суда Королевской Скамьи. D. N. В.
(обратно)419
В странно пророческом и псевдоисторическом трактате о полномочиях и процедуре ведения парламентских дел под названием Modus Tenendi Parliamenti, было сделано заявление, что два рыцаря имеют преимущество в голосовании по поводу предоставления и отказа в помощи, чем самый могущественный граф. Это положение, хотя и неверное для царствования Эдуарда II, сделалось частичной реальностью в конце царствования его сына. Wilkinson, III, 64, 323-31, 356.
(обратно)420
«Именно юристы усовершенствовали парламентскую процедуру таким образом, что он стал действующей ассамблеей и единственной в своем роде посреди средневековых представительных собраний, которые выжили и сделались внутренней частью механизма управления». W. Holdsworth, Makers of Law, 55.
(обратно)421
The Anonimalle Chronicle (ed. V. H. Galbright), 79-80 cit. Rickert, 163-164. Учитывая обзор этого же заседания в Chronicon Anglicae Томаса Уолсингема, можно проследить первые дискуссии в парламенте. Wilkinson, II, 210.
(обратно)422
Говорят, что он сказал: «Что это рыцарское отродье себе позволяет? Они что думают, что они короли или принцы в этой стране? Откуда, спрашивается, они набрались этой гордости и высокомерия?». Thomas Walsingham, Chronicon Anglicae, cit. Wilkinson, II, 217.
(обратно)423
4 шиллинга в день для рыцарей и 2 – для горожан, включая время, проведенное в дороге.
(обратно)424
То, что случилось, описано у Уильяма Ленгленда, чей взгляд на безрассудство Общин, если не сказать опрометчивость, возможно, разделяли большинство его современников. «В это время вдруг прибежала толпа крыс / И с ними более тысячи малых мышей. / И стали совет держать о своей общей пользе, / Ибо придворный кот приходил, когда ему вздумается, / И вдруг кидался на них и хватал из них, кого хотел, / И играл с ними в опасную игру и отшвыривал их от себя». Piers Plowman, Prologue.
(обратно)425
Название района в Лондоне, находившегося в юрисдикции Белых Братьев, обитель которых являлась прибежищем для нарушителей закона, должников, проституток и других низов общества. – Прим. ред.
(обратно)426
И сегодня, при произнесении смертного приговора, судья Высшего Суда помещает над своим париком XVIII века небольшую черную шапочку как будто для того, чтобы скрыть тонзуру.
(обратно)427
36 Edw. Ill, cit. Stephenson and Marcham, 231-2.
(обратно)428
Когда один из оксфордских учеников Уиклефа, отвечая на обвинение в поддержке его еретических воззрений на пресуществление, указал магистрам университетского совета, что не существует идолопоклонства подобно культу священного тела Господня, канцлер ответил: «Теперь ты говоришь, как философ». Medieval Panorama, 648.
(обратно)429
History, n. s., XXXIV. V. F. M. Garlick, «The Provision of Vicars in the Early Fourteenth Century»; Owst, Literature and Pulpit, 261. Когда в 1368 году Уиклеф был представлен к приходу Людгершел, ему было пожаловано разрешение на двухлетнее отсутствие епископом Линкольна. D. N. В. Только таким образом он смог исполнять свои функции в Оксфорде, ибо университетские преподаватели как таковые не имели жалования.
(обратно)430
Король и его предки с незапамятных времен привыкли, что клерков, нанятых на королевскую службу, в течение того времени, на которое они были наняты, не должно заставлять присутствовать в своем приходе». Statutes of the Realm, I, 342. cit. V. F. M. Garlick, «The Provision of Vicars in the Early Fourteenth Century». History, n. s., XXXIV.
(обратно)431
Перевод М. Г. Муравьевой.
(обратно)432
Owst, Preaching, 171.
(обратно)433
Перевод И. Кашкина.
(обратно)434
«Иисус любимый, тебе я спою / Песнь любовную мою; / Сердце мое озари весной, / Чтобы любить тебя все душой...» Vernon ms. f. CCXCVII, cit. A Medieval Anthology (ed. Mary Segar), 16.
(обратно)435
Перевод М. Г. Муравьевой.
(обратно)436
The Book of Margery Kempe, ed. W. Butler-Bowdon. (World's Classics), 193, cit. Pantin, 258.
(обратно)437
Owst, Literature and Pulpit, 274-275.
(обратно)438
G. R. Owst, Literature and Pulpit in Medieval England, 255-6. Очень трудно переоценить тот вклад, которые внес этот великий и оригинальный ученый благодаря своим двум томам, посвященным средневековым проповедям.
(обратно)439
Political poems (R. S.), I, 330, cit. G. G. Coulton, Chaucer and his England, 281; Owst, Preaching 258.
(обратно)440
Перевод М. Г. Муравьевой.
(обратно)441
«В моем диоцезе Армах, – сказал он папе, – у меня проживает, как я полагаю, две тысячи человек, которые каждый год попадают под приговор отлучения от церкви на основе приговоров, принятых против добровольных самоубийств, общественных грабежей, поджогов и тому подобных вещей, из которых едва ли сорок человек в год приходят ко мне или в мои пенитенциарии; и все эти люди получают причащение подобно другим и им отпускаются грехи или говорят, что грехи отпущены... нищенствующими монахами... ибо никто другой никогда не сделал бы этого». Pantin, 156.
(обратно)442
Owst, Preaching, 67. См. также Pantin, 159-160.
(обратно)443
Political Songs, John to Edward II, ed. Wright, 145.
(обратно)444
Перевод И. Кашкина.
(обратно)445
Owst, Literature and Pulpit, 244-5, 282-3.
(обратно)446
Cm. G. R. L. Highfield, The English Hierarchy in the Reign of Edward HI. R. H. S. T. Fifth Ser., vol. 6, 115-38.
(обратно)447
Среди многих сокровищ, которые он оставил собору, была великолепная шелковая риза с его гербом, которая теперь находится в приходской церкви Понта Делгада на Азорских островах.
(обратно)448
Rot. Parl. II, 338.
(обратно)449
Harl. Ms. 247 f. 172v., cit. Rickert, 233.
(обратно)450
Select Works of John Wykliffe (ed. T, Arnold), I, 172, 174, 179, 197-9 et passim. Цитаты даны в современном написании.
(обратно)451
Он обосновывал свое отрицание невозможностью существования случайных свойств без какой-либо субстанции, но верил, что Христос может присутствовать без каких-либо изменений в элементах хлеба и вина – то есть в доктрину «пресуществления».
(обратно)452
Owst, Literature and Pulpit, 302-3.
(обратно)453
Там до сих пор по соседству существует поле под названием Лонгленде, в честь которого, возможно, и был назван поэт. В своей поэме он описывает себя как «Длинное Завещание» (Long Will). А. Н. Bright, New Light on Piers Plowman; Nevil Coghill, Visions from Piers Plowman, 127-8.
(обратно)454
Здесь и далее перевод А. Сиповича.
(обратно)455
The Vision of Piers Plowman, 15, 41, 50.
(обратно)456
А. Брайант использует перевод на современный английский язык, сделанный Невилом Когилом (Nevill Coghill). Где же он не указывает, что происходит цитирование из Когила, то это является его собственным переводом, который он основывает на тексте, изданном доктором Скитом (Skeat), а также великолепной современной версии Дональда и Рейчел Этуотеров (Donald and Rachel Attwater) в серии «Everyman's Library».
(обратно)457
Walsingham, Historia Anglicana, cit. McKisack, 399.
(обратно)458
Его имя все еще почитается в Сити, ибо им названа улица, расположенная на том месте, где стоял его дом. D. N. В. XV, 1047.
(обратно)459
Это рассматривалось как кара за ту резню, которую его люди устроили в женском монастыре. Walsingham, Historia Anglicana (ed. Riley), 418-425.
(обратно)460
Owst, Literature and Pulpit, 75-76.
(обратно)461
A. Gwynn, English Austin Friars, 203.
(обратно)462
Powicke, 523-7; См. также S. К. Mitchell, Taxation under John and Henry III, 164-5; T. F. Plucknett, Concise History of Common Law, 84. Об этом сложном, но недемократическом методе обложения сэр Морис Поуик со своим глубоким знанием английских институтов написал: «За всеми этими сценами, когда крестьяне и горожане спорили о том, что следует и не следует облагать из их запасов, одежды ли домашней утвари, мир мог быть сохранен только своевременными уступками и удобными недосмотрами... При всем своем ворчании и увиливании, эти лорды, рыцари, горожане и крестьяне стали осознавать свои общие обязанности... Они выучили, что естественные и упорядоченные действия, в которые они втянуты, в поля, в судах, в жюри и комиссиях, в охране порядке, в ловле преступников, были всего лишь частью нечто большего и подчинялись более широкому понятию верности». Powicke. 525-6.
(обратно)463
Серебряная английская монета в 4 пенса. – Прим. ред.
(обратно)464
«Ответ, данный духовенством, заключался в следующем: их пожалования никогда не утверждались парламентом и не должны быть таковыми, и что миряне не должны обязывать духовенство, да и не могут этого делать... И они молили своего господина короля о том, чтобы свобода Святой Церкви должна быть полностью сохранена... Ибо, конечно, духовенство желает исполнить со своей стороны то, что оно и должно, и обязано, учитывая настоящую крайнюю необходимость, и то, как они поступали в прошлые годы». Rot. Parl. III, 90.
(обратно)465
Bennett, 277; Kossaminsky, 197-255. Обзор манориальной системы в конце XIII века см. Makers of the Realm, 359-369.
(обратно)466
Меркет – налог, взимаемый с виллана за выдачу замуж или женитьбу своих детей. – Прим. ред.
(обратно)467
Leywnte – штраф, взимавшийся с дочерей вилланов за прелюбодеяние. – Прим. ред.
(обратно)468
Chevage или поголовный налог – налог, взимавшийся с крестьян, живших вне манора. – Прим. ред.
(обратно)469
Это, однако, не было так тяжело, как пошлина на смерть, которую его собрат вынужден платить государству сегодня. R. Н. Hilton в The English Rising of 1381 (с. 31) (см. перевод на русский язык: Хилтон Р., Фагай Г. Восстание английского народа в 1381 году. – М., 1952) рассказывает о деле уилтширского виллана, который сосредоточил в своих руках владения на сумму 2000 фунтов – около 100 тыс. в современном эквиваленте. С них он должен был заплатить 140 фунтов – то есть около 7500 фунтов наших денег по сравнению с 50 тыс. пошлины на смерть, взимаемой с такого же современного имения. Гериот на смерть лучшей головы скота у человека гораздо больнее бил по бедным вилланам; в марте 1347 года, на смерть виллана, лорд забрал его лошадь, повозку, овцу и двух свиней, стоимостью 2 шиллинга, вдове же было дано пять месяцев, чтобы выкупить их обратно за ту же сумму. Bennett, 145.
(обратно)470
Для лорда было обычной практикой удерживать от 16 до 24 части всего перемолотого зерна; мельник часто брал еще больше. «Какая вещь является самой смелой в мире? – вопрошала народная загадка, и получала ответ: – Рубаха мельника, ибо она каждый день сжимает вору горло».
(обратно)471
«Третье лицо всегда должно было купить хартию об отпущении на волю, которая освободила бы крепостного». Hilton and Fagan, 63.
(обратно)472
Предполагалось, что аббатство Сент-Олбанс владело хартией, дарованной королем Оффой в VIII веке, которая, написанная золотыми буквами, рассматривалась держателями как главное препятствие к своей свободе. Keen, 163.
(обратно)473
Мастер Ральф Актонский, Owst, Literature and Pulpit, 344.
(обратно)474
Перевод А. Сиповича.
(обратно)475
В поэме Джона Гауэра «Зеркало человека» есть описание с точки зрения современного мирянина молодого юриста, изучающего свое, как оказалось, корыстное ремесло. «Зеркало человека» Rickert, 159-60.
(обратно)476
Подобно «юристу» у Чосера, которого, как считают, он писал со своего друга Томаса Пинчбека, который, получив барристера в 1376 году, стал главным бароном Казначейства: «Он знал законы со времен Вильяма / И обходил – уловкой или прямо – / Любой из них, но были неоспорены / Его решенья...»
(обратно)477
Y. В. 2 and 3 Edw. II (Selden Society) XIII, 59 cit. Т. F. Plucknett, Concise History of Common Law, 639; С. K. Allen. Law in the Making, 181, 375.
(обратно)478
Незаконная покупка или финансирование чужого судебного процесса с целью получения денег в случае успешного завершения дела. – Прим. ред.
(обратно)479
Cohen, 481, Owst, Literature and Pulpit, 339-49.
(обратно)480
Jusserand, English Wayfaring life in the 14th Century, 149-150, McKisack, 206-7, G. M. Trevelyan, England in the Age of Wycliffe, 59-60, 64-65, Cohen, 465-66. «И тогда вошел Мир в парламент и представил билль о том, / Как Неправда против воли взял у него жену, / И как он лишил девственности Розу, возлюбленную Реджинальда, / И Маргариту, несмотря на их сопротивление / И моих гусей, и моих поросят забрали его товарищи / Я не осмелился из страха перед ним пи драться с ним, ни браниться / Он взял у меня на время лошадь и не привел ее домой, / И не заплатил мне и фартинга, потому что я не умел с ним тягаться / Он подговаривает своих людей убивать моих слуг / Он покупает продукты прежде, чем они придут па мои рынки, и заводит драку на моем базаре, / И выламывает двери у моей житницы, и уносит мою пшеницу, / И дает мне только бирку за десять четвертей овса!» Visions from Piers Plowman (transl. Into modern English by Nevill Coghill), 34-35. (Перевод Д. M. Петрушевского).
(обратно)481
Tout, Chapters III, 184.
(обратно)482
Hilton and Fagan, 27.
(обратно)483
Cm. Makers of the Realm, 119-123.
(обратно)484
Y. B., 3 Ed. II, 94 (Selden Society), cit. Bennett, 309.
(обратно)485
Франции, Шотландии, Дании и Кипра – первые два находились тогда в Англии в плену.
(обратно)486
Mitchell and Leys, 199.
(обратно)487
Сочинение Джона Баньяна (Буниана, Бюниана) (1628-1688), английского духовного поэта и писателя. – Прим. ред.
(обратно)488
Borenius and Tristram, 29-5, См. также: Speculum, vol 22, p 462-5.
(обратно)489
Специальный судебный выезд, связанный с наказанием преступников и мятежников, назван так, потому, что судьи использовали плети для наказания виновных. – Прим. ред.
(обратно)490
См. перевод на русский язык, сделанный Д. М. Петрушевским в книге: Английская деревня XIII и XIV веков. – М., 1935. – С. 175-194. – Прим. ред.
(обратно)491
T. Walsingham, Historia Anglicana II, 32, Hilton and Fagan 99 et seq. Джон Болл начал свою карьеру в качестве священника аббатства Св. Марии и затем служил в Колчестере. D. N. В.
(обратно)492
T. Walsingham, Historia Anglicana II, 32.
(обратно)493
London Letter-book, H, fol. CXXXIII, Riley, Memorials of London 11,449-51 cit. Rickert, 365.
(обратно)494
Его поймали в Лейкенхите, когда он пытался пересечь реку Брендон, крестьянка опознала его и вытолкнула его лодку в течение так, что он не мог избежать своих преследователей, которые с ним тут же и расправились.
(обратно)495
См. Maurice Hastings, St. Stephen's Chapel, 72-77. Много лет спустя капелла Св. Стефана стала местом заседания Палаты Общин.
(обратно)496
При споре вокруг даты и повода написания этой великолепной картины, ни доктор Эванс в своем труде Oxford History of English Art, ни Маргарет Рикерт в своей работе Painting in Britain in the Middle Age не рассматривают этой возможности, склоняясь к приурочиванию написания этой картины или к коронации Ричарда в возрасте 11 лет или его повторной коронации в капелле Св. Стефана после принятия на себя полной власти в 1389 году в возрасте 23 лет, в то время как мистер Джон Харви в своем докладе, зачитанном перед Обществом Любителей Древностей в Лондоне в феврале 1957 года относит эту картину к последним годам царствования. При этом, когда бы она ни была написана, король выведен не ребенком, но и не взрослым мужчиной, но он, без сомнения, является здесь подростком. Никакое больше событие в жизни Ричарда не могло иметь для него большего значения, чем этот случай, кажется достаточно вероятным предположить, что хотя и написанная позднее – возможно, к церемонии в Св. Стефане в 1389 году – художник думал об этом событии в королевской капелле.
(обратно)497
The Anonimalle Chronicle (ed. V. H. Galbright). (Перевод на русский язык с текста оригинала сделан Д. М. Петрушевским. – Прим. ред.)
(обратно)498
Этимология из стихотворения Браунинга «Флейтист из Гамельна», где Гамельн выводит детей, завлекая их звуками флейты, из опасного места. – Прим. ред.
(обратно)499
Knighton's Continuator, II, 140, cit. Oman, 130.
(обратно)500
Цифра Фруассара, около 1500 повешенных и обезглавленных, как и большинство его остальных подсчетов, является исключительно неточной. В своем подробном, но, к сожалению, незаконченном исследовании восстания, Андре Ревиль составил список – конечно же, неполный – из ста десяти лиц, которые были казнены. Andre Reville, Le Soulevement des Travailleurs d'Angleterre en 1381. cit. Oman, 87.
(обратно)501
Генрих Йевель был выдающимся английским архитектором, ум. в 1400 году. – Прим. ред.
(обратно)
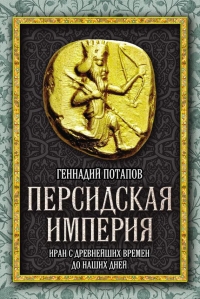

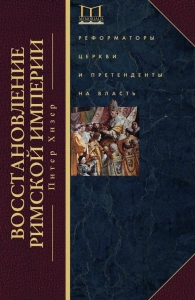
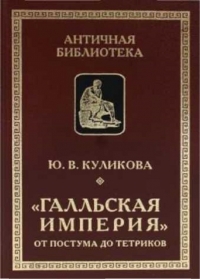


Комментарии к книге «Эпоха рыцарства в истории Англии», Артур Брайант
Всего 0 комментариев