Роберт Конквест Жатва скорби (Советская коллективизация и террор голодом)
Посвящается Элизабет Нис Коквест
Предисловие к русскому изданию
Я приветствую это русское издание «Жатвы скорби».
На сегодняшний день эта книга является единственным историческим отчетом о важнейшем периоде советского прошлого. Она отражает страшное время кровавой сталинской эпохи, тяжелейшее по числу своих жертв. В книге показано, как под тиранией Сталина и его приспешников было уничтожено все старое крестьянство, а вместе с ним вырублены и исторические корни русского, украинского и других народов. При отсутствии правдивой истории этих событий мне представляется важным, чтобы моя книга дошла до русского читателя.
«Жатва скорби» вышла в свет в Англии в конце 1986 года. За последующие два года в Советском Союзе были опубликованы материалы, подтверждающие многое из написанного мной. Долгие годы в СССР говорилось об успехах коллективизации. Теперь от этой лжи пришлось отказаться. Утверждалось, что ее жертвами стали только кулаки. И от этой лжи теперь отказались. Я писал о десяти – двенадцати миллионах крестьян, высланных в процессе раскулачивания. Сегодня весьма авторитетный советский ученый говорит, что раскулачиванием было захвачено не менее пятнадцати миллионов крестьян, из которых два миллиона было переброшено на строительные работы, а остальные (не менее тринадцати миллионов) депортированы в отдаленные районы страны (академик В.Тихонов, «Литературная газета» от 3 августа 1988 года).
Утверждалось, что в 1932–1933 гг. не было голода, и разговоры о нем истолковывались как антисоветские выступления. И лишь несколько лет назад признали, что голод существовал, объясняя его саботажем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпретировалось как антисоветизм. Позднее, однако, признали: голод был спровоцирован политикой правительства. Но по-прежнему не признавалось, что таков был замысел Сталина и его окружения. И эта точка зрения квалифицировалась как антисоветская. Сегодня в СССР признают, что и это имело место, однако утверждения, что погибло больше четырех-пяти миллионов, считают антисоветскими… Все это важно отметить хотя бы для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском Союзе «антисоветские» оценки. «Нечеловеческая власть лжи», о которой говорил Б.Пастернак, начинает рушиться.
И до тex пор, пока не появятся серьезные исследования на рассматриваемую нами тему, единственным остается мой анализ, который, за вычетом некоторых деталей, не сомневаюсь, верен.
Это, разумеется, не означает, что каждое предложенное мной здесь толкование бесспорно. Возможны и иные трактовки исследуемых мной явлений, при условии, что сами факты – реальные факты – будут признаны. Как говорил известный английский издатель: «Факты священны – мнение свободно».
Возможно, что очень скоро в СССР появятся и правдивые исследования антикрестьянского террора, книги о ежовщине и других ужасах советского прошлого. Западные исследователи, как и я сам, были вынуждены предпринять эту работу потому, что ее нельзя было осуществить в Советском Союзе, тем более, что многие свидетельства, полученные от эмигрантов, недоступны советским ученым.
Сталинские и после сталинские фальсификации распадались и рассыпались и потому, что сам– и тамиздат донесли до читателей многие правдивые произведения писателей. Эту правду нельзя было полностью выкорчевать из сознания советских людей. Невозможно было навсегда заставить их верить в заведомую ложь. Фальсификация подтачивала основы государства, вела к раздвоению и развращению советского человека.
Мне нечасто приходилось встречать официальных советских деятелей или интеллектуалов, которые бы не читали мою книгу «Большой террор». И я надеюсь, что русское издание «Жатвы скорби» поможет разорвать оковы фальсификации, которые многие годы духовно сковывали советских людей. Я горжусь, что мой труд хотя бы в малой мере способствовал сокрушению столь длительно насаждаемой лжи и триумфу истины над огромным аппаратом власти.
Роберт Конквест,
Стэнфорд,
Калифорния,
1988 г.
Мертвыми усеяно костями…
Далеко от крови почернев…
И взошел великими скорбями
На Руси кровавый тот посев.
(«Слово о полку Игореве» Перевод Н.Заболоцкого)Введение
Прошло пятьдесят лет с той поры, когда Украина и другие регионы, расположенные к востоку от нее и частично заселенные казаками, – эта обширная территория с населением приблизительно в сорок миллионов человек, напоминала сплошной Берген-Бельзен[*], только Берген-Бельзен огромных масштабов. Мужчины, женщины, дети – четвертая часть тамошнего крестьянства – умерли или агонизировали, остальные же были истощены настолько, что не могли даже хоронить родных и соседей. И так же, как позднее в Берген-Бельзене, за гибелью жертв присматривали сытые охранители порядка, включая партийных функционеров.
Был самый разгар «революции сверху», как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой «революции» вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, «враждебных» элемента: во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ.
Пятьдесят лет… Кажется, это очень большой срок, когда изучаешь существование того или иного режима или специфику его политики. Но наложите полвека на судьбу людей – и вдруг выясняется, что это все-таки не чрезмерно долгий отрезок времени. Мне, например, пришлось встречаться с мужчинами и женщинами, которые когда-то – конечно, тогда они были еще детьми или совсем молодыми людьми – пережили многое, может быть, даже почти все, о чем здесь будет рассказано. Среди них я наблюдал людей, измученных комплексом собственной вины перед погибшими. Над ними довлело иррациональное чувство вины за то, что они остались живы в то время, как их друзья, братья, сестры, родители были погублены. Подобное же чувство вины перед ушедшими наблюдалось и среди уцелевших узников нацистских лагерей смерти.
Но с точки зрения правящей кремлевской элиты все происшедшее как тогда, так и потом, явилось лишь этапом на пути нормального – в их представлении – политического развития общества. Созданная на основе «революции сверху» сельскохозяйственная система до сих пор считается одной из опор советского строя, а использовавшиеся для ее создания методы осуждены в СССР очень незначительно.
События, вокруг которых ведется наше повествование, таковы: с 1929-го по 1932 гг. КПСС, возглавляемая И.Сталиным (мотивы его личных действий мы разберем дальше), нанесла двойной удар по советскому крестьянству – партия осуществила «ликвидацию кулачества» и провела коллективизацию на селе. Раскулачивание практически означало либо физическое уничтожение, либо высылку в Сибирь или в Заполярье миллионов крестьянских семей, причем это были в основном зажиточные крестьяне, пользовавшиеся большим влиянием в своих селах и сопротивлявшиеся планам насильственной коллективизации. Появление колхозов привело к отмене частной собственности на землю и сконцентрировало крестьянство в обобществленных хозяйствах, отдав их под полный партийный контроль. В итоге этого двойного удара погибли не только миллионы «раскулаченных», но и большое количество тех, кто избежал высылок (например, в Казахстане).
Сразу после этого, в 1932–1933 гг., произошло то, что можно назвать так: террор голодом, или голод, искусственно созданный властями. Прежде всего, он был нацелен на согнанных в колхозы украинских крестьян, но охватил и регионы Украинского Прикубанья, Донского края и Поволжья. Голод был организован с помощью взимания непосильных налогов на урожай, конфискации продовольствия у населения, а также пресечения какой-либо поддержки голодающим извне, даже из других районов Советского Союза. А вслед за этим голодом, унесшим больше человеческих жизней, чем даже сама коллективизация 1929–1932 гг., власти начали широкое наступление на украинскую культуру, на национальное самосознание украинского народа, на его наиболее выдающихся представителей. Обрушились гонения и на украинскую церковь. Упорство, строптивость крестьян, сопротивлявшихся сдаче зерна, которого практически вообще почти не оставалось, власти мгновенно объявили проявлением их, крестьян, «украинского национализма» – в соответствии с идеей Сталина, заявившего, что национальный вопрос по существу является крестьянским вопросом. Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец. Так объединились против него два фактора: противостояние партии крестьянству и противостояние партии украинскому национализму.
Прежде чем мы перейдем собственно к описанию трагических событий эпохи, попытаемся разгадать их подоплеку, их скрытый смысл. Этому будет посвящена первая часть книги. Ее действие охватит период с 1929-го по 1932 гг., по длительности равный Первой мировой войне, причем число жертв в происходившей тогда битве Сталина с крестьянами превосходило общее число всех жертв Первой мировой войны во всех странах, принявших участие в мировой бойне. Что же касается отличия этой войны с мужиками от Первой мировой, то тут в первую очередь отметим, что ради успеха задуманного предприятия вооружили только одну сторону, зато жертвы, как и следовало ожидать, пали почти исключительно с другой… В числе жертв оказались женщины, дети и старики.
Сотни исторических и прочих произведений посвящены Первой мировой войне. Неверно было бы сказать, что о коллективизации и истреблении крестьян голодом книг не писали. Нет, имеется немало публикаций на эту тему, но почти все они носят чисто документальный характер, либо же написаны в расчете на узких специалистов. Я весьма признателен авторам этих работ, но все же полной истории коллективизации и голодного террора до сих пор не существовало.
Цель написания моей книги была необычной. Я хотел, чтобы западное общество узнало и выработало, наконец, собственное отношение к событиям величайшей важности, участниками которых явились миллионы людей, к событиям, результатом которых были миллионы жертв – и все это случилось на памяти еще живущего ныне поколения.
Но как могло случиться, что события такого масштаба через столько лет все еще не запечатлены в памяти общественности? На мой взгляд, тому есть три причины.
Во-первых, человеку Запада очень трудно представить нечто подобное. Достаточно напомнить хотя бы, что само понятие «крестьянин» малодоступно для американца или англичанина, особенно когда речь заходит о положении сельского труженика в дальних краях или в отдаленном прошлом. Поймите, что история русского или украинского крестьянина коренным образом отличается от истории и самого бытия британского или американского фермера!
Вторая причина – трудность в рассмотрении украинцев как нации в западном понимании этого слова: они находятся совсем в иной национальной ситуации, чем их соседи – поляки, венгры или даже литовцы. На протяжении новой истории Украина была независимой – причем всегда шатко и вообще с перерывами – лишь на протяжении нескольких лет. И два последних столетия все карты мира изображали ее только как часть Российской империи (или Советского Союза). Что не менее важно, украинский язык похож на русский, примерно в той же степени сходства, что существует у норвежского языка со шведским или у голландского с немецким. Само по себе сходство языков не является доказательством единства общественно-политического сознания тех или иных народов, но когда отсутствуют другие признаки национального размежевания, оно все-таки может восприниматься именно в таком духе.
Третьей – и одной из важнейших – причин, мешавших пониманию ситуации, явилось умение Сталина и других советских руководителей скрывать или запутывать факты. Более того, им активно содействовали в этом многие люди на Западе, которым по разным причинам было выгодно говорить неправду или же позволять себя обманывать. Поэтому даже тогда, когда какие-то факты или хотя бы частичная информация проникали в сознание западного общества, всегда в ответ шли подготовленные заранее советские формулировки, с помощью которых всему можно было найти оправдание или хотя бы объяснение. Ну, например, создан был стереотипный образ кулака – богатого, сального, несимпатичного эксплуататора, которого ликвидировали пусть не совсем гуманным способом, но зато как врага партии, прогресса или толщи крестьянских масс. Но в реальной действительности подобная общественная фигура, если даже предположить, что когда-то ее наполняло некое содержание, к 1918 году полностью исчезла, и потому в последующие годы кулаком обычно называли крестьянина, имевшего две или три коровы (а то и просто приятеля такого вот зажиточного крестьянина!). Впрочем, к началу рассматриваемого нами периода, то есть ко времени искусственно вызванного голода 1932–1933 гг., даже таких «кулаков» уже не оставалось в селах.
* * *
Все действия советского правительства в этот период были взаимосвязаны: раскулачивание, коллективизация и инспирированный голод на селе. Если не вдаваться в особые глубины, то связь между ними просматривается с трудом. С точки зрения чистой логики раскулачивание вроде бы могло произойти без коллективизации (как это и случилось на самом деле в 1918 году, например), или же коллективизация могла проводиться без предшествующего раскулачивания, как этого требовали некоторые коммунисты. И уж тем более необязательным после всего этого выглядел голод.
Мы постараемся в ходе нашего рассказа прояснить те мотивы, на которые опирались руководители режима, когда они приводили в действие каждую составляющую этого, на самом деле единого, хотя на вид и тройного удара по мужикам.
* * *
Помимо непосредственной истории войны сталинского режима с крестьянством нам предстоит неизбежно рассмотреть и некоторые общие социально-экономические вопросы, а также некоторые проблемы внутрипартийной борьбы того времени.
Очень коротко и по возможности доступно придется, например, коснуться экономических проблем. Тут надо сразу оговорить, что даже на Западе, где ничто не сдерживало исследовательскую работу экономистов, и даже сейчас, то есть через пятьдесят лет, когда все явления уже можно рассматривать достаточно полно и ретроспективно, экономические механизмы исследуемой ситуации все еще не слишком хорошо понятны. В Советском же Союзе 1920-х гг. уровень их понимания был, конечно, намного ниже. Кроме того, даже добытая информация и статистические данные являлись недостаточными: или просто неверными. Вдобавок партийные теоретики-экономисты выдвигали концепции, которые уже в те времена были давно опровергнуты в академических кругах. Но самое главное, что нам необходимо отметить, – это то, что партия рассматривала рациональные пути для экономического развития подвластной ей страны как некое препятствие, которое ей предстоит отменить с помощью всесильных государственных декретов.
Не так давно на Западе вышли работы, полностью посвященные экономике рассматриваемого нами периода, написанные серьезными экономистами. Так вот даже они, сами авторы этих специально-экономических трудов отказались проверять официальные цифры или искать экономическую целесообразность в тех мероприятиях, где эту целесообразность или достоверность выявить заведомо невозможно. К счастью, в задачу нашей работы не входит детальный разбор экономики исследуемого периода, и вообще экономическая сторона истории не играет для нас главной роли.
Другая тема, которая имеет прямое отношение к проблематике нашей работы и которая много раз освещалась в научной литературе, – это борьба фракций в Коммунистической партии Советского Союза 20-х – начала 30-х гг. и связанный с ней приход к власти Сталина. Я тоже анализирую эту борьбу в своей книге, но лишь постольку, поскольку она связана с более важными, на мой взгляд, событиями, происходившими в то время в деревнях. В отличие от других авторов, я, однако, не склонен принимать за чистую монету всю идеологическую аргументацию разных интеллектуалов той эпохи, а постараюсь рассматривать ее лишь во взаимосвязи с теми задачами, которые реально волновали партийных мыслителей.
Дело в том, что события, о которых здесь будет повествоваться, явились не просто результатом жажды власти или желания подавлять всякую независимую мысль (или общественную силу) в стране. Они возникли также и в результате сочинения целого комплекса доктрин, суливших многочисленные социально-экономические выгоды, но требовавших взамен для достижения обещанных выгод использования методов террора и лжи. Сразу заметим, что желаемых выгод получить так никогда и не удалось. Но если даже принять, что действия организаторов преступлений диктовались их верой в некие будущие райские перспективы для всего общества, их готовность приносить чудовищные жертвы во имя нигде и вдобавок никоим образом не проверяемой догмы выглядит в наших глазах не только умственным, но и нравственным извращением. А ведь в добавление к этим идеалистическим мотивам у тех, кто отвечал за жуткие дела, имелись более земные, хотя не высказываемые ими и, может быть, даже не осознаваемые некоторыми из них мотивы для преступных действий – те земные мотивы, которые существуют повсюду, не только в СССР.
Словом, коммунисты действовали тогда не только в целях личного самоутверждения, или личной мести, или личного обогащения. По словам ясно понимавшего их Г.Орвелла, они «делали вид, а может быть, даже верили, что захватили власть помимо своего желания, на ограниченный период времени, а где-то рядом уже находится земной рай, в котором человеческие существа будут наслаждаться свободой и равенством». Но на деле всегда как-то выходило, что власть, как говорил тот же Орвелл, была для них не средством, а целью.
Когда пробуешь понять мотивы, двигавшие в те годы сторонниками Сталина, невозможно все-таки не прийти к парадоксальному выводу: даже противники сталинской программы усматривали в ней определенный здравый смысл, но на самом-то деле никакого здравого смысла ретроспективно усмотреть в этих действиях нельзя. Однако если даже он там где-то имелся и мы просто его не углядели, то, видимо, это была такая незначительная мелочь, которую никак нельзя сопоставлять с невероятностью тогдашних реалий.
Над человеческой трагедией начала 30-х гг. зловеще царит образ Сталина. Именно он заклеймил это время особым тавром лицемерия или полуправды. Нужно сказать, что лицемерие и обман вовсе необязательно являются спутниками террора. Но в данной ситуации именно обман сопровождал буквально каждый террористический шаг властей. Например, в кампаниях против своих коллег по партии Сталин до последнего момента никогда не признавал, что ведет борьбу против них лично, персонально, и когда оппоненты решались на открытый протест, обычно шел с ними на компромисс – правда, только словесный. В период раскулачивания он же представил дело так: якобы крестьяне победнее, охваченные стихийным классовым гневом, начали выбрасывать «класс кулаков» из их домов! В эпоху коллективизации прием состоял в создании фасада ее «добровольности», а любое применение силы толковалось как досадное нарушение партийной линии; когда же «тройной удар» завершился искусственно организованным голодом 1932–1933 гг., он просто отрицал, что такой акт когда-либо имел место в советской действительности.
* * *
Но вот, наконец, настало время, когда мы можем из всего потока противоречивых фактов и сведений отсеять истину. Сейчас мы располагаем такой огромной массой информации, черпаем ее из такого множества подтверждающих друг друга источников, что практически нет возможности для сколько-нибудь серьезных сомнений относительно буквально любого аспекта рассматриваемого периода.
Начнем с того, что и советские ученые уже собрали к настоящему времени большое количество материала по данной эпохе своей истории (часто, однако, правдивые сведения нам приходилось вылавливать у них по крохам из потока официальной информации). Особенно много удалось узнать в период пребывания у власти Н.Хрущева, в начале 60-х гг., да и позднее тоже[1]. (Правда, после его снятия ученые, пытавшиеся показать некоторые ошибки и злоупотребления Сталина по отношению к крестьянству, даже если они не выходили при этом за рамки обычных партийных предписаний, подвергались нападкам[2].)
Например, именно советские ученые восстановили и опубликовали основные цифры переписи 1937 года, долгое время остававшиеся засекреченными. Поэтому теперь появилась возможность сравнить их с советскими же данными по «естественному приросту» за исследуемый период. Таким образом, с достаточно высокой степенью точности выяснился чудовищный процент смертности в 1930–1933 гг. (В скобках добавим, что даже если производить расчеты, исходя из явно сфабрикованной переписи 1939 года, то и тогда процент смертности выглядит огромным.)
Официальные данные, зафиксированные в исследуемый период советской прессой, нередко содержат материалы, поражающие своей откровенностью. Особенно это относится к публикациям, сделанным в провинции, то есть вне Москвы. Некоторые из них стали известны исследователям совсем недавно. Кроме того, в Гарварде хранится так называемый «Смоленский архив», содержащий секретные документы (хотя и местного уровня). Существуют и иные пути проникновения подобных сведений на Запад…
В добавление к этому, мы располагаем сегодня важными свидетельствами бывших партийных функционеров, которые сами участвовали в те годы в навязывании крестьянам политической воли властей. Среди них имеются показания таких выдающихся диссидентов, как генерал Петр Григоренко и д-р Лев Копелев[*].
Еще одним важным источником послужили отчеты иностранных корреспондентов в СССР (вопреки тому, что этим людям очень мешали, а иногда даже «забивали» их информацию их же собственные коллеги из других западных газет, которым важно было угодить режиму или даже стать его пособниками, – этот феномен мы рассмотрим в главе семнадцатой). В нашем распоряжении имелись также сообщения иностранных граждан, посещавших родные места в СССР, а также зарубежных коммунистов, побывавших в Советском Союзе. Есть у нас и письма жителей украинских сел к своим родственникам, братьям по вере и просто другим людям на Западе, в которых содержалась информация по исследуемой нами теме.
Но самые главные источники – это рассказы множества людей, лично переживших высылку и голод. Некоторые из них уже опубликованы в книгах и статьях, но гораздо больше собрано украинскими учеными, самоотверженно разыскивающими документы об этом периоде и опрашивающими свидетелей, живущих ныне в самых разных уголках земного шара. Например, множество таких живых свидетельств было собрано в рамках Гарвардской программы исследований. К сожалению, я отметил с незаслуженной скупостью в предисловии, какой огромный объем подобной разрозненной информации, собранной специалистами по всему миру, был предоставлен ими в мое распоряжение. И нужно отметить, что самой замечательной особенностью этих живых свидетельств, особенно крестьянских, был бесхитростный, иногда даже суховатый тон рассказчиков, повествовавших обычно о чудовищных вещах.
Огромное удовлетворение я испытываю от того, что могу публично засвидетельствовать высокие достоинства этих показаний очевидцев. Долгие годы их честность и правдивость ставились под сомнение и даже начисто отвергались – прежде всего, конечно, официальными советскими лицами, но также и теми людьми на Западе, которые по собственным и иным разным причинам не могли взглянуть в глаза ужасающим фактам истории. Я рад возможности заявить здесь, что доброе имя столь долго опорачиваемых или попросту игнорируемых свидетелей правды нынче полностью признано.
Нельзя было отказаться и от использования художественной литературы, то есть правды жизни, отраженной в форме вымысла. Один из ведущих ученых в области исследования советской экономики, профессор Алек Ноув, заметил однажды, что в СССР «самый лучший материал о деревне можно найти в литературно-художественных журналах». Некоторые произведения художественной литературы, изданные в СССР, носят явно автобиографический характер и вполне заслуживают доверия. Да и роман М.Шолохова «Поднятая целина», в той части, которая вышла в свет в 30-е годы, содержит в себе необычайно откровенное и четкое описание событий в селах, хотя и ограниченное, конечно, коммунистическими взглядами автора.
Также и произведения, изданные во времена Н.Хрущева, и вообще весь круг прозы новых «писателей-деревенщиков», опубликованной к 1982 году, содержат весьма откровенные свидетельства об исследуемом нами периоде. Вот, к примеру, в 1964 году один из известных советских писателей так описывал возникновение голода 30-х годов и его причины: «В соответствии с тем или иным Указом отбирали все зерно и весь корм для скота. Начался массовый падеж лошадей, и в 1933 году наступил ужасный голод. Погибали целые семьи, дома разрушались, сельские улицы опустели»[3]. В 1927[*] году тот же писатель жаловался: «Поражает, что ни в одном из учебников по современной истории вы не найдете ни малейшего упоминания о 1933 годе, отмеченном ужасной трагедией»[4].
В самиздате встречаются, разумеется, откровенные и прямые высказывания по этому поводу. Здесь, прежде всего, нужно отметить повесть лауреата Сталинской премии писателя Василия Гроссмана «Все течет…», главы которой о коллективизации и голоде следует отнести к самым сильным страницам, написанным кем-либо об этом периоде истории. (К слову сказать, В.Гроссман, еврей по национальности, был одним из составителей «Черной книги» о зверствах нацистов, тоже не опубликованной в СССР, а также автором документального исследования «Треблинкский ад».)
Подводя итог, я хотел бы выделить два момента. Первый – необычайное количество собранного документального материала: почти по каждому описанному в моей книге происшествию имеются источники, позволяющие удесятерить, а иногда увеличитъ в сотни раз описания аналогичных случаев.
Но, что гораздо важнее, материалы, полученные из разных источников, неизменно свидетельствуют об одном и том же. Можно было бы, например, заподозрить рассказчиков эмигрантов в том, что на изложение ими событий наложили отпечаток их антисоветские настроения, если бы оно не совпадало абсолютно точно с другими, неэмигрантскими источниками. Во многих случаях читателю сложно даже определить, кому именно принадлежит данное свидетельство – эмигранту или, напротив, советскому гражданину.
Такое взаимное перекрестное подтверждение свидетельств из разных источников очень важно. Вот почему можно уверенно сказать, что нынче реально восстановить истинный и точный ход тогдашних событий.
* * *
Террор 1929–1933 гг. – отнюдь не единственный в советской истории эпизод террора. И в 1918–1922 гг. список погибших от рук государственных террористов был, деликатно выражаясь, более чем внушительным. Напомню, что автор настоящей книги посвятил специальное исследование «Большому террору» 1936–1938 гг. Да и послевоенный террор вряд ли уступал этим периодам по своей жестокости. Специфика антикрестьянского террора 1930–1933 гг. состоит лишь в том, что он был едва ли не самым страшным по масштабам и методам, а вот документирован он намного хуже других периодов.
Эта история ужасна. Борис Пастернак писал в своих мемуарах: «В начале 1930-х годов среди писателей принято было выезжать в колхозы и собирать материалы о новой жизни села. Я не хотел отставать от других и тоже совершил такую поездку с целью написать книгу. То, что я увидел, никакими словами выразить нельзя. Там царила такая нечеловеческая, невообразимая нищета, такая ужасная разруха, что все это начинало казаться нереальным, разум не в состоянии был охватить весь этот ужас. Я заболел. Целый год я не мог писать»[5]. Один из современных советских писателей, переживший голод в детстве, заметил, что хотя о 1933 годе стоило бы написать книгу, он никак не может набраться для этого смелости – ведь тогда ему пришлось бы пережить это все сначала[6].
Автору настоящей книги, хотя его-то впечатления были куда менее непосредственными, задача часто представлялась настолько мучительной, что бывали моменты, когда он не мог продолжать писать.
Обязанность историка состоит лишь в том, чтобы зафиксировать конкретные факты, не оставляя у читателей сомнений в их достоверности, и представить их в верном историческом контексте. Если он выполнил эту свою обязанность, он не должен более притворяться, что описанные события его не волнуют. Автор этой книги не склонен лицемерно изображать себя человеком нравственно нейтральным по отношению к описываемым событиям. Более того, он убежден, что в наши дни мало кто из читателей не разделит его отношения к тому, что он прочтет на следующих далее страницах.
Часть I. Главные действующие лица: Партия, крестьяне, народ
Коммунистическая революция осуществляется классом, который сам является продуктом распада всех классов, наций и т.д.
К. Маркс и Ф. ЭнгельсГлава первая. Крестьяне и Партия
Сельское хозяйство – тяжкий труд.
Э.ЗоляВ начале 1927 года советский крестьянин – русский, украинец или любой другой «национал» – имел, как казалось, основания с надеждой смотреть в будущее. Земля принадлежала ему. По своему усмотрению он мог сбывать урожай. Страшный период конфискаций зерна, крестьянских мятежей, подавляющихся с помощью жестокого кровопролития, ужасного голода закончился. Казалось, большевистское правительство решило пойти навстречу селянам.
Конечно, с точки зрения такого крестьянина, далеко не все обстояло благополучно. Власти часто меняли важную для него политику в сфере цен и налогов. Невозможно было полностью преодолеть и законное недоверие к долгосрочным планам начальства. Правительство и его представители оставались крестьянину чуждыми, как в общем-то и всякое иное правительство и иная власть: к действиям властей ему по традиции следовало относиться с оглядкой, сохраняя неизбежную осторожность и мужицкую хитрость.
Но пока что можно было наслаждаться относительным процветанием. Благодаря Новой экономической политике (НЭПу), предоставившей мужику экономическую свободу, разрушенное войной и революцией сельское хозяйство начало восстанавливаться.
Выражаясь проще, это было хорошее время. Впервые в истории почти вся земля находилась в руках того, кто ее обрабатывал. Плодами своего труда мог пользоваться сам земледелец. А уж для украинцев наступили времена, о каких они могли лишь мечтать за последние полтораста лет – после того, как были уничтожены остатки их древней государственности: в 1927 году их языку, их культуре была дана возможность развиваться с невиданной дотоле силой.
Этот специфический, украинский национальный аспект проблемы мы рассмотрим подробно в одной из последующих глав книги, а пока что займемся только теми фактами из прошлого и настоящего, которые являлись присущими всему крестьянскому укладу на территории бывшей Российской империи.
В подробностях, конечно, этот уклад был очень сложным, на территории буквально каждой губернии; имелись свои особенности, осложняемые еще и тем, что юридически зафиксированные нормы землевладения часто нарушались и вообще были сложны и запутаны – так что изобразить этот уклад подробно нет никакой возможности. Но для наших задач вполне достаточно представить здесь условия жизни российского крестьянства лишь в самых общих чертах и в самых главных российских регионах.
К 20-м веку способ обработки земли был в России такой же, как в Западной Европе в средние века. Преобладала «трехполка», при которой одно из трех крестьянских полей оставалось лежать под паром. Каждое хозяйство владело по одной полоске земли на каждом из трех общинных полей и соблюдало цикл севооборотов, установленных для него всем селом. Впрочем, случалось, порядок бывал и таков: поля гуляли под паром несколько лет подряд, а иногда и вовсе забрасывались.
По почвенно-климатическим особенностям земли в России разделялись в основном на две главные зоны, и это имело для страны важное социальное значение.
На севере она представляла (и в значительной мере представляет собой сегодня) зону естественных лесов. Там поселения разбивались на свободных от леса участках, и, как правило, на каждом подобном участке стояло не более дюжины двухэтажных бревенчатых домов-изб с соломенными крышами. Их окружали подсобные помещения. Иначе говоря, северная деревня нередко составляла большую семью и все имущество ее фактически находилось в общей собственности. Почвы на севере были малоплодородными, и много сил у крестьян уходило на побочные занятия – на охоту, рыболовство, а также разные кустарные промыслы.
На юге же Россия, в особенности на большей части Украины, раскинулись плодородные степи, среди которых выделяется богатством почв черноземная полоса. Обычно тамошние села гораздо крупнее северных – они состоят из нескольких сотен домов, сколоченных, из длинных бревен, обмазанных с обеих сторон желтой глиной. Располагались села, как правило, в долинах рек, а поля лежали несколько в стороне, в степи. Однако эти плодородные земли находились в большой зависимости от сезонных колебаний погоды, что, в свою очередь, влияло на урожаи. Типичное крупное село, наподобие, например, села Хмелива в Полтавской губернии, насчитывало около двух с половиной тысяч хозяйств (если считать и расположенные неподалеку от него хутора местных жителей), в нем стояло две церкви, шестнадцать ветряных и одна паровая мельница, больница, сельская школа с пятью классами и – уже за околицей – большое зернохранилище.
До 1861 года русский крестьянин в большинстве случаев был крепостным, то есть фактически принадлежал своему господину. Подобное общественное устройство часто называют «феодальным», но тут следует уточнить, что «феодализм» есть очень широкое понятие, и если одинаково использовать его по отношению к средневековой Англии и к России 18-го – 19-го вв., то от наблюдателя под этой общей «шапкой» ускользнут основные различия двух систем. Прежде всего, в эпоху западноевропейского феодализма крепостной имел не только обязанности, но и права по отношению к своему господину, и эта система взаимных прав и обязанностей пронизывала все общество снизу доверху. В России же под влиянием монгольского ига крепостные имели одни обязанности перед лицом своих господ.
Кроме того, на Западе крепостное право постепенно ушло в прошлое. В России же оно распространялось все больше, становилось все более тяжким и бесчеловечным, ибо поборы и налоги постоянно повышались, – и так длилось до самой середины 19-го века. К этому времени из 36 миллионов российских подданных 34 миллиона составляли крепостные.
В эпоху крепостного права в России деревенская община, или «мир», совместно отвечала за выплату селом налогов и за перераспределение земель между хозяйствами, которое время от времени проводили в селах и деревнях. Такой «передел «земель, иногда проводившийся и раньше, окончательно вошел в обычай с 17-го века (орудия производства и скот оставались при этом собственностью семьи, так же как и участки дворовой застройки, передававшиеся по наследству).
Такая общинная организация села существовала и на правобережной Украине (а также в Белоруссии), но в этих регионах община не обладала правом перераспределения земли между хозяйствами. Вместо «переделов» там практиковалась передача наделов по наследству, а за общиной оставалось лишь право на контроль за севооборотами и выбором посевных культур. Такое координирование технологии в делах земледелия было необходимым при ленточной системе посевов.
* * *
Отмена крепостного права при царе Александре Втором в 1861 году явилась замечательным шагом на пути к прогрессу, хотя у этого социального акта имелись и свои минусы. Крестьянин стал свободным человеком, получил во владение участок земли. Минусы же заключались в том, что земледелец получал, как правило, не всю землю, которую обрабатывал до реформы 1861 года, и, кроме того, должен был довольно долго выплачивать выкуп за полученный надел.
Наиболее образованные подданные царя давно пришли к мнению, что отмена крепостного права является насущной необходимостью для страны, иначе та впадет в застой. Позорное поражение в Крымской войне выдвигалось ими как доказательство, что они были правы в своей оценке крепостных порядков. Но реформа 1861 года, подготовленная верхами, пытавшимися избежать революционных изменений в существующем обществе, учитывала интересы не только крестьянина, но и помещика. Поэтому крестьяне очень долго чувствовали себя обделенными ею и продолжали считать землю, оставленную царем их бывшим владельцам, своей собственностью по праву.
Но все же крестьяне многое выиграли в результате реформы, и они знали это. Вот цифры, приведенные недавно одним советским ученым: в 1859–1863 гг. было зарегистрировано 3579 крестьянских бунтов, а в 1878–1882 гг. – всего 136. Разве это не доказывает, что у освобожденного крестьянина стало намного меньше поводов для недовольства жизнью, чем иногда считается?[1]
Но справедливости ради признаем, что выкупные платежи были непомерно большими (хотя как раз западных областей, в том числе правобережной Украины, в силу особенностей тамошней исторической ситуации, это обстоятельство не коснулось), и они лежали тяжелым бременем на крестьянстве. Более того, начавшийся после освобождения бурный демографический рост крестьянского населения повлек за собой уменьшение размеров крестьянских наделов (в черноземных районах страны они уменьшились примерно на четверть). Накапливались недоимки. Наконец, правительство, хотя и с запозданием, отреагировало на эту ситуацию, и после ряда указов недоимки, а потом и самые выкупные платежи были сначала сокращены, а впоследствии вовсе отменены.
Выше упоминался демографический рост: между 1860–1897 гг. крестьянское население европейской части империи увеличилось с 57 до 79 миллионов человек, и тогда-то стала чувствоваться в стране нехватка сельскохозяйственных земель. Отметим, однако, что в 1877 году, например, средний крестьянский надел в России составлял около 35 с половиной акров, то есть примерно 16 га на хозяйство, а – для сравнения – во Франции в том же году средний размер всех хозяйств, как крестьянских, так и помещичьих, составлял менее 9 акров, то есть примерно 3,6 га. При этом три четверти земельных наделов во Франции, то есть участки подавляющего большинства французских крестьян, не превышали в это время 5 акров – чуть больше 2 га. Так что даже если принять справедливые поправки на лучшие климатические и природные условия во Франции, все равно получается, что по сравнению с европейскими достижениями русский крестьянин тогда не умел эффективно использовать даже ту землю, что у него уже имелась.
Но это, так сказать, относительные по отношению к Европе показатели. В абсолютных же цифрах был заметен впечатляющий рост именно в эффективности сельского хозяйства по сравнению с крепостным периодом: в 1861–1870 гг, (когда действовал еще полукрепостнический, так называемый «временно-обязанный» порядок) объем сельскохозяйственной продукции, собираемый с акра крестьянского надела (акр равен примерно 0,405 га), составлял 387 фунтов, то есть примерно 175 кг. Через четверть века, в 1896–1900 гг., он увеличился до 520 фунтов (236 кг), то есть более чем на треть. Кроме того, сам факт формального уменьшения надела не полностью отражал реальную экономическую ситуацию, поскольку, помимо собственного надела, средний крестьянин, как правило, еще арендовал землю – примерно один акр арендованной земли шел в добавку к шести, находившимся в его законном владении. Часть крестьян имела приработок, именно сдавая свою землю в аренду, а кроме того, они могли подработать, нанимаясь в батраки (таких батраков относительно было не слишком много – меньше двух миллионов). В целом, однако, крестьянству России, конечно же, жилось тяжело и трудно: достаточно напомнить, что на один двор в среднем приходилось всего одна лошадь.
После отмены крепостного права сельские общины продолжали нести ответственность за выплату налогов и за дела местного самоуправления. Манифестом 19 февраля предусматривалось создание «сельскохозяйственного собрания» из глав хозяйств (по-украински «громады») для ведения местных дел. Еще в 1905 году свыше трех четвертей этих общин относились к так называемым «передельным», хотя половина из них не устраивала реальных «переделов» с самой отмены крепостного права[2]. Надо заметить, что на Украине общинное владение землей было распространено меньше, чем в собственно России, а в районах к западу от Днепра в 1905 году им вообще было охвачено меньше четверти хозяйств.
Это следование вековым общинным традициям заставляет иногда предполагать, что в своих общинах крестьяне жили в полном отрыве, в изоляции от городского, быстро развивавшегося мира. Но как далеко такое представление от действительности! Русские мужики куда в большей мере, чем европейские фермеры и бауэры, постоянно появлялись в городах, где устраивались сезонными работниками – на стройки, фабрики, в торговлю, плотничали и т.д. В северных же районах России, где сельское хозяйство не могло прокормить работников, почти все крестьянские хозяйства подрабатывали, как тогда говорили, «на стороне», то есть преимущественно в городах: там они добывали в среднем 44 процента своих доходов. Но даже в степных, плодородных районах три четверти хозяйств подрабатывало аналогичным образом, хотя здесь эти занятия приносили только 12 процентов общего дохода.
Вот несколько примеров. В 1912 году в 90 процентов всех крестьянских дворов Московской губернии кто-то в семье занимался несельскохозяйственным трудом «на стороне». Другой пример. В конце первого десятилетия 20-го века треть коммерческих и промышленных предприятий Москвы принадлежала членам крестьянского сословия, причем крестьяне составляли самый высокий процент среди владельцев торговых и промышленных предприятий (правда, если исключить из этого расчета текстильные фабрики)[3].
* * *
Тем не менее, социальный антагонизм в стране нарастал. Во-первых, экономическое давление на крестьян действительно был огромным, а во-вторых, почти все крестьяне в силу давнего внутреннего убеждения считали помещиков врагами, а их землю – по праву своей незаконно отобранной собственностью.
Существовало много форм традиционного крестьянского протеста: вырубка леса, незаконный выпас скота, кража сена и зерна с помещичьих полей, разбой, поджоги, отказы от выплаты арендной платы, иногда даже открытый захват и засев помещичьей земли. В 1902 году на Украине, в Харьковской и Полтавской губерниях, прошли очень серьезные беспорядки, в которых участвовало примерно 160 сел. В течение нескольких дней нападениям подверглись приблизительно 80 помещичьих имений. А в 1905–1906 гг. уже по всей России прокатилась волна мужицких бунтов.
* * *
Все политические движения в России согласны были в одном: положение в сельском хозяйстве опасно и оно может быть спасено только путем усовершенствования методов труда. Основная проблема формулировалась тогда так: если и в дальнейшем будут использоваться устаревшие методы земледелия, то площадь обрабатываемой земли постепенно окажется недостаточной для того, чтобы прокормить растущее население, и эта взрывоопасная ситуация со временем будет все усугубляться. Если анализировать эту идею объективно, то легко можно убедиться, что собственно самой-то земли было в России достаточно – необходимо было изменить не землеустройство, а организацию сельского хозяйства. Ему насущно был необходим технический прогресс. Поэтому к концу 19-го века в русском обществе возник, по словам Эстер Кингстон-Манн, настоящий культ сельскохозяйственной модернизации, «оправдывавший любые меры, которые могли способствовать „упразднению“ крестьянства до того, как это произойдет под воздействием „истории“ или законов экономического развития»[4]. Многие, кстати сказать, сами собой напрашивавшиеся предположения потом отнюдь не подтвердились. Например, будто бы общинные земли дают меньше сельскохозяйственной продукции, чем необщинные; или – что то же самое – будто бы община есть вид организации хозяйства более отсталый, чем частное хозяйство; или будто бы зато в общине царит что-то напоминающее экономическое равенство ее членов и т.д.[5]. Во всяком случае, все это не выглядело верным для эпохи 1880-х гг. Что касается практической модернизации сельского производства, то спрос крестьян на новые плуги превышал предложение[6], но даже в 1917 году только в половине крестьянских хозяйств пользовались железным плугом. Жали серпами, молотили цепами. И даже в 1920-е гг. урожай пшеницы на гектар еще составлял примерно 7–10 центнеров, что лишь незначительно превышало урожай в английских поместьях 14-го века[7].
Если попытаться найти общий пункт для всех планов аграрной модернизации России в те времена, то он будет сводиться к следующему: трехпольная система севооборотов стала нерентабельной и уже несовместима с современными методами ведения хозяйства.
Консервативно настроенные специалисты отсюда делали вывод, что следует предоставить право самым предприимчивым из крестьян выходить из общины. При этом выделенный им надел будет состоять не из полосок на трех полях, а станет сплошным полем, и таким образом в России постепенно возникнет нечто вроде сословия западных фермеров, имеющих и стимулы, и возможности для улучшения своего участка и повышения его продуктивности.
Революция 1905 года благоприятно сказалась на судьбе крестьянства. Крестьяне были окончательно уравнены в юридических правах с остальными подданными царя, что нашло выражение в получении ими внутренних паспортов. Было резко увеличено финансирование Крестьянского банка, и это позволило ему выдавать ссуды крестьянам в размере до 90 процентов и более от сумм, необходимых для покупки земли. Наконец, в январе 1906 года премьер-министр C.Витте добился правительственного постановления о разделении общин на частные хозяйства. Этот план стал осуществляться уже при сменившем Витте новом премьере Столыпине, которому поэтому и приписывается самое авторство. Намерение Столыпина, в его собственной интерпретации, сводилось к тому, чтобы правительство сделало ставку «не на нищих и пьяниц, а на крепкого собственника, который призван сыграть роль в перестройке нашего царства на основах сильного монархического начала».
Даже Ленин характеризовал эти планы Столыпина как «прогрессивные в научно-экономическом смысле»[8].
Столыпинская программа была законодательно оформлена указами от 9 ноября 1906 года, 4 июня 1910 года и 29 мая 1911 года. В соответствии с ними любой крестьянин имел право требовать юридического оформления документов на владение землей, занятой его хозяйством. Это, конечно, не сразу привело к соединению «полосок» крестьянина в единый участок, считавшийся его, крестьянским, частным владением: полагают, что к 1917 году три четверти наследственных земель все еще разделялись на полосы. Но тем не менее, реальное слияние полосок в единый участок все же разрешалось и даже предусматривалось механизмом закона, и оно уже начало осуществляться в значительных масштабах.
Задача превращения средневековой системы землепользования в современное индивидуальное земледелие справедливо считается трудной до невозможности. В 1905 году девять с половиной миллионов крестьянских дворов состояло в общинах, а 2,8 миллиона владели землей на правах наследственной частной собственности. В 1916 году еще около двух с половиной миллионов дворов вышло из общин[9]. Следовательно, к 1917 году все российские 13–14 миллионов крестьянских наделов, по-видимому, можно было примерно разделить на такие категории:
5 миллионов оставались во владении на основе «передела»;
1,3 миллиона формально находились в частном владении, но фактически принадлежали общине;
1,7 миллиона – в переходном от общины к частному владению состоянии;
4,3 миллиона являлись частной собственностью владельцев, но все еще были разделены на полоски;
1,3 миллиона частично или полностью представляли собой объединенные, хуторские хозяйства.
На Украине (да и в других местах тоже) новые хуторские хозяйства часто разбивали не в самом селе, расположенном, как упоминалось, обычно в долинах ручьев или рек, а в стороне, прямо в степи, на пахотных землях. Есть данные, что в 1915 году там насчитывалось около 75 тысяч таких отдельно стоявших хуторов.
Эти своеобразные фермы почти сразу значительно увеличили объем производства[10]. Но к 1917 году масштабы слияний оставались недостаточно большими, чтобы вызвать намечавшийся Столыпиным переворот в сельском хозяйстве России. Сам Столыпин говорил о необходимости для завершения его реформы эпохи двадцатилетнего мира, а судьба отпустила ей меньше десяти лет. Окончательно итоги столыпинской реформы были почти полностью уничтожены революциями 1917 года, одним из главных результатов которых явился новый «черный передел» – стихийный захват крестьянами помещичьих имений, возрождение общинных порядков и, как следствие, исчезновение большого количества вновь возникших частных крестьянских хозяйств.
* * *
В своем истинном отношении к крестьянству российская интеллигенция проявляла двойственность. С одной стороны, крестьянство несомненно было «народом в его истинном воплощении», то есть душой страны, страждущей, но терпеливой, а также надеждой нации на будущее. С другой стороны, эти же мужики считались «темными», отсталой, упрямой, тупой, глухой к любым увещеваниям преградой на пути социального прогресса в России.
Как ни странно, элементы истины содержались в обеих точках зрения, и некоторые из лучших умов страны это понимали. Например, Пушкин с похвалой отзывался о многих хороших качествах крестьян, таких как трудолюбие, терпеливость. Автор знаменитых мемуаров Никитенко называл крестьянина «почти полным дикарем» и пьяницей, и к тому же вором, но добавлял, что, тем не менее, мужик «несравненно превосходит по своим качествам так называемых образованных интеллигентов. Ибо в мужике есть искренность, он не старается казаться не тем, кто он есть на самом деле». Герцен с излишним, пожалуй, оптимизмом утверждал, что в соглашениях между самими мужиками любые документы излишни, и такие устные мужицкие соглашения нарушаются очень редко; только в отношении крестьянина к власти его оружием становятся обман и уловки – единственное, что могло его от нее защитить. В произведениях многих советских писателей, причем самых разных направлений, от Шолохова до Солженицына, мы видим, что этим своим единственным оружием крестьянин продолжал пользоваться и при советской власти.
Интеллектуалам-утопистам в России мужик казался либо дьяволом, либо ангелом. В 1870-х гг. воспитанные ими молодые радикалы, несколько тысяч человек, отправились «в народ», месяцами жили в деревнях и пытались привлечь мужиков к «социально-революционной» деятельности. Но эта попытка потерпела полный провал, и последствия провала оказали серьезное негативное влияние как на интеллигентов, так и на крестьян. Ситуация эта в какой-то степени была изображена в романе И.Тургенева «Отцы и дети», написанном, правда, значительно раньше; тургеневский Базаров говорил: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет»; но он, в свою очередь, не подозревал, что в глазах самих крестьян выглядит кем-то «вроде паясничающего шута».
Неверно утверждать, что вся интеллигенция испытала этакое внезапное разочарование в мужике и пришла к выводам Базарова: в начале следующего века социал-революционная партия занималась всерьез крестьянским вопросом и понимала его довольно тонко. Но параллельно с этим значительную часть радикальной молодежи увлек марксизм, который дал ей идеологическое обоснование – почему именно нельзя крестьянство, основную массу русского народа, рассматривать как надежду России на будущее. Эта эволюция взглядов от народничества 70-х – 80-х гг. к марксизму, в сущности, явилась простым перенесением иллюзий и надежд с воображаемого интеллигентским сознанием крестьянина на столь же воображаемого пролетария.
Что касается другой стороны интеллигентского отношения к крестьянству, связанной с убеждением в его «отсталости», то презрение и даже ненависть к мужику, действительно, можно обнаружить у многих российских марксистов, особенно у некоторых интеллектуалов в большевизме. Причем стоит отметить, что эти чувства, то есть презрение и ненависть, простирались у них куда дальше, чем то, что следовало из простого пренебрежения к крестьянству в обычной марксовой теории – и этот эмоциональный феномен едва ли можно сбрасывать со счета, когда излагаешь события, последовавшие в истории России вслед за Октябрьской революцией.
Горожане (особенно марксистски настроенные) плохо понимали не только положительные, но и отрицательные стороны крестьянина. То ли он «равнодушен», то ли у него «тупая жадность и соперничество»…[11] Максим Горький, например, выразил мнение многих, заявив, что «главной преградой на пути прогресса России в направлении европеизации и культуры» было «бремя невежественной деревенской жизни, которая давит на город»; он обрушивался на «почти звериный индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие у крестьян социального самосознания»[12]. Горький надеялся, что «некультурные, тупые, угрюмые люди в российских деревнях вымрут, все эти почти приводящие в ужас люди, о которых я говорил выше, и на их место придет новый тип просвещенных, разумных, энергичных людей»[13].
Основоположник российского направления в марксизме Георгий Плеханов видел в мужиках грубых землекопов, жестоких, безжалостных, вьючных животных, «жизнь которых делала невозможной такую роскошь, как мысль»[14]. Сам К.Маркс тоже высказался об «идиотизме деревенской жизни», и это его замечание часто цитировалось Лениным (заметим, что в марксовом контексте восхваляется… капитализм, за то, что он освобождает значительную часть населения от этого «идиотизма»). Ленин и сам поминал «деревенскую заброшенность, оторванность от мира, одичалость»[15]. Вообще-то Ленин считал, что крестьянин, «никак не будучи инстинктивным или традиционным коллективистом, является на самом деле лютым и подлым индивидуалистом»[16], а что касается более молодого поколения большевиков, то Н.Хрущев сообщает нам: для Сталина крестьяне были отбросами человечества[17].
* * *
Но если принципиально Ленин разделял восприятие крестьян другими большевиками в качестве архаичного элемента в современной ему России, то все-таки в конкретной политике ему важно было понять их историческую роль и, согласно марксистской теории, разработать тактику для использования этой социальной силы в промежуточный период, пока она не исчезла с исторической сцены. Потом следовало, наконец, решить и другой вопрос: как же организовать всю жизнь в сельских местностях, когда его партия придет к власти.
Как известно, в соответствии с марксовым учением, центральным событием истории должно стать решающее столкновение между зарождавшимся рабочим классом и капиталистами, владельцами промышленных предприятий. По Марксу, любое обшество в мире, если только оно достаточно продвинулось на пути к прогрессу, должно разделиться на эти два основных класса, а между ними останутся промежуточные, или «мелкобуржуазные», элементы, в число которых входит и крестьянство, которому суждено либо перейти на сторону пролетариата, если оно само пролетаризуется, либо примкнуть к буржуазии, поскольку оно является частным собственником.
Вне пределов подобной схемы Маркс, собственно, мало занимался анализом вопросов, связанных с аграрной проблематикой. Тем не менее он уверенно провозглашал исчезновение противоречий между городом и деревней в будущем социалистическом обществе; предвидел торжество капитализма в деревне, вслед за которым – после победы социализма – произойдет «пролетаризация деревни», то есть превращение крестьянства в ведущую силу современности, в передовой рабочий класс на селе. Но пока, до наступления этого светлого будущего, крестьяне вместе взятые напоминали ему мешок с картошкой – сравнение, долженствовавшее подчеркнуть невозможность истинного общественного развития в изолированных друг от друга крестьянских хозяйствах[18].
Что касается конкретных мер, намеченных на эпоху после победы пролетарской революции, то «Коммунистический манифест» требовал отмены земельной собственности… работы по улучшению почв, проводимой по общему плану, создания промышленной основы для сельского хозяйства и соединения его с промышленностью. Постепенно различия между городом и деревней должны были исчезнуть.
Следовательно, Маркс предполагал, что социальные процессы в деревне будут идти аналогично городским: произойдет концентрация производства, изменится характер сельского труда, и он превратится в некое подобие «сельского фабричного труда». С точки зрения марксовой экономической схемы, ставившей во главу общественной эволюции процессы, происходившие тогда в городах, мелкое, в том числе крестьянское, производство было обречено на скорое исчезновение; о будущем процветании его не могло быть и речи. По словам одного из исследователей, Д. Митрани, Маркс и его последователи относились к крестьянину «с неприязнью, в которой презрительное отношение горожанина ко всему деревенскому плюс неодобрение экономистом мелкого производства смешивалось вдобавок с неприятием коллективиста-революционера психологии землепашца, упорствующего в своем индивидуализме»[19].
Энгельс в «Анти-Дюринге» заявил, что социалистическая революция призвана «положить конец товарному производству и тем самым господству продукта производства над производителем». Далее он рассуждал о том, что, мол, законы общественной деятельности человека, с которыми тот до сих пор сталкивался как с чем-то чисто внешним по отношению к нему, человеку, «впредь будут применяться человеком с полным пониманием».
Полное понимание!.. Прошло с тех пор сто лет, и кто решится сегодня утверждать, будто мы достигли этого самого полного понимания законов общества или хотя бы его экономических законов! И причина такого глубокого скептицизма в отношении возможностей нашего познания этих законов заключается, в частности, в результатах тех общественных экспериментов, которые провели в жизнь сторонники марксистских идей.
Что касается конкретного анализа действительности, то Маркс исходил из убеждения, что в сельском хозяйстве, подобно промышленности, происходит процесс все большей концентрации собственности. Но в жизненной практике было не так: в Германии, которую оба теоретика знали, казалось бы, лучше всего остального, как раз в последние годы жизни Энгельса, между 1882-ми 1895 гг., стала увеличиваться общая площадь, занимаемая именно небольшими хозяйствами (от двух до двадцати гектаров) – и этот процесс происходил не только в Германии. (И потом перепись 1907 года показала, что ослабление и разорение крупных имений и ферм продолжались в Германии, по крайней мере, до этого года.)
Посмотрите один из ранних трудов Ленина о развитии капитализма в России. Пока речь у него идет о развитии промышленности – перед вами хорошо аргументированное исследование. Едва только он начинает анализировать положение в сельском хозяйстве, всякий научный подход, как и у Маркса, испаряется, и вам предстоит прочесть плохо аргументированный «классовый анализ». Экономисты 19-го века, те, на которых так полагались российские последователи Маркса, именно в этой области не проводили самостоятельных исследований: они просто декларировали, что община якобы приходит в упадок вследствие конфликта между деревенскими пролетариями из крестьян и деревенскими же капиталистами (из них же) и не приводили в подтверждение такого тезиса ни одного фактического доказательства – за полным их отсутствием.
Общий ленинский анализ отношения к крестьянину (некулаку) достаточно ясно вытекает из общих же марксистских положений: «Частично он, крестьянин, собственник, а частично труженик. Он не эксплуатирует других рабочих, много лет он терпит самые тяжелые житейские невзгоды, подвергается эксплуатации со стороны помещиков и капиталистов. Он все выдержал – и все-таки он остается собственником, частным собственником. И в силу этого проблема нашего отношения к крестьянам невероятна трудна и сложна». Ленин постоянно повторяет одну и ту же мысль: «Мелкое производство рождает капитализм… постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе»[20].
Правда, однажды Маркс написал в письме к Вере Засулич (1881 г.), что Россия сможет прийти к социализму, используя для этого в качестве одной из составных частей старую общину (возможно, он рассматривал ее как некий пережиток выделенной им в процессе мирового развития фазы «примитивного коммунизма»). Хотя первая публикация этого письма была осуществлена лишь в 1924 году, но даже если допустить, что высказанное Марксом мнение было известно раньше его российским последователям, то, зная их логику и психологию, легко представить, как они восприняли эту мысль основоположника своего учения: как достойную сожаления уступку врагам-народникам, как вывод, основанный великим учителем на неверной информации… Ленин же рассматривал общину довольно однозначно – как систему отношений, которая загоняет крестьянство в некое гетто, в мелкий средневековый союз фискально-тяглового характера, в «союз по совместному владению надельной землей, то есть общину»[21].
Ленин считал, что в будущем неизбежна модернизация сельского хозяйства России на основе марксистской схемы, когда крупные кооперативные хозяйства будут работать по единому для всех плану. Единственную альтернативу своему проекту он видел в идеях Столыпина, о которых заметил: «Столыпинская конституция и столыпинская аграрная реформа являют собой новую фазу в разрушении старой, полупатриархальной и полуфеодальной системы царизма, новый маневр на пути его превращения в монархию среднего класса… Было бы пустой и глупой демократической фразеологией, если бы мы сказали: успех такой политики невозможен. Возможен! Если столыпинская политика продержится достаточно долго, тогда аграрный строй России станет вполне буржуазным»[22]. Следовательно, Ленин сам догадывался, что бедное крестьянство плохо справляется с землей и эффективность сельского хозяйства возрастет, если за него примутся состоятельные мужики[23].
Если сравнивать оба подхода к возможной модернизации сельского хозяйства в России, то есть столыпинский и ленинский, то преимущество Столыпина состоит прежде всего в том, что премьер-министр предлагал план действий, уже успешно опробованный во всех развитых странах. А недостаток ленинской методы (если рассматривать план Ленина исключительно как план сельскохозяйственной модернизации, вне его социального экспериментаторства) сводился к тому, что этот вариант модернизации не был нигде и никем опробован и до сих пор остается сугубо теоретическим упражнением интеллектуала. Оговорю, что это замечание вовсе не означает, будто план Ленина был обязательно бесплодным, вовсе нет, но где они, доказательства противного?
Но это были, так сказать, стратегические соображения Ленина относительно возможностей будущего крестьянства. Что касается его же идей относительно тактики, которую руководимая им партия должна использовать в своих отношениях с крестьянством (при сем предполагалось, что партия как бы будет представлять городской пролетариат), то идеи эти базировались на известном замечании Маркса о том, что будущую пролетарскую революцию в Германии мог бы поддержать новый вариант Крестьянской войны (наподобие той, что бушевала в Германии в 16-м веке).
Практически это выразилось в том, что в книге «Две тактики социал-демократии» (1905 г.) Ленин выдвинул такую идею: между капитализмом и социализмом возникнет некая промежуточная ступень, названная им «демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». «Это будет, разумеется, не социалистическая, а демократическая диктатура». Но на страницах той же самой брошюры Ленин признает, что после прихода этой коалиции к власти смешно будет говорить о единстве воли обоих партнеров, пролетариата и крестьянства. «Тогда мы будем думать уже о социалистической, пролетарской диктатуре»[24].
Слабое место во всем большевистском видении аграрной проблемы, догматический схематизм, присущий этому мышлению на протяжении всего рассматриваемого нами периода, ярче всего проявляется в сочинении или, в лучшем случае, в раздувании большевиками неких классовых или хотя бы экономических противоречий в среде крестьянства. «Деревенский пролетариат», понятие, которым они оперировали постоянно, пожалуй, можно было бы обнаружить в действительности: в 1897 году 1 837 000 человек назвали себя при переписи наемными сельскохозяйственными работниками, указав, что это их основное, хотя не единственное занятие. Более того, в страду, на короткий срок, нанималось в батраки еще больше рабочих. Но, как будет показано далее, социальное значение этой рабочей прослойки было небольшим и пролетарского сознания в марксистском понимании этого термина у них тоже имелось совсем немного.
Еще труднее оказалось для большевиков провести грань между этими наемными рабочими и так называемыми середняками. Даже Ленин понимал, что крестьянин, владеющий молочной фермой близ большого города, вовсе не обязательно должен быть зачислен в разряд бедняков, даже если он относится к категории «безлошадных», и наоборот, крестьянин в степи, даже если он владел там тремя лошадьми, далеко не всегда зачислялся в богачи. Теорию классового деления внутри крестьянства было очень трудно логически обосновать, особенно в тех случаях, когда в практике жизни ее авторы встречались с такими вот фактами[25].
В силу подробных сложностей ленинские представления насчет крестьян были непоследовательными и переменчивыми. Лишь в одном теоретическом вопросе и сам Ленин, и его преемники проявили непоколебимость, и это сыграло решающую роль в последующие годы: врагом партии и пролетариата будет «кулак» (по-украински – «куркуль»)! «Кулачество» определялось Лениным как класс богатых крестьян-эксплуататоров, против которых после устранения помещиков и следует направить ярость всех остальных жителей деревни.
Кто такой, в сущности говоря, деревенский кулак? Это сельский ростовщик и залогодержатель: в деревне или группе деревень имелся, как правило, хотя бы один такой деятель. Вообще-то, любой богатый крестьянин время от времени давал соседям ссуды, и это считалось совершенно нормальным явлением. Лишь в случае, когда ростовщичество становилось главным источников доходов и махинаций богача, сельские жители начинали называть его «кулаком». О.П. Аптекман, народник, оставивший очень искренний отчет о своем общении с российским крестьянством, писал, что в ответ на интеллигентское замечание, что, мол, кулак сосет крестьянскую кровь, мужик обычно отвечал ему: «Некоторые добросердечные господа никак не могут успокоиться оттого, что какому-то крестьянину теперь живется получше» или же возражал: вы, горожане, просто не понимаете нашей крестьянской жизни.
Еще в 1889 году Ленин употреблял термин «кулак» довольно точно, то есть применительно к сельскому ростовщику, но впоследствии он и слушать не хотел разъяснений тех, кто объяснял, что между сельским ростовщиком и тем зажиточным мужиком, который просто использует наемных работников, существует коренное отличие. Он на это возражал, что и ростовщик, и крепкий хозяин являются «двумя формами одного и того же экономического явления»[26]. Ни он, ни его последователи так, в конце концов, никогда и не сумели дать строго научного определения «кулаку», «середняку» или «бедняку», опиравшееся на их же экономические теории. Сам Ленин, когда его спрашивали, кто же такой этот пресловутый кулак, раздраженно отвечал, что кулака «можно сразу распознать»[27].
В итоге оформилась концепция о существовании в деревне богатого меньшинства, естественным образом жестоко угнетающего все остальное крестьянство. И если угнетенное крестьянство пока что не в состоянии почувствовать ненависть к угнетателям-кулакам, то задачу раздуть эту ненависть возьмет на себя партия.
В отношении большевиков к проблемам классовой борьбы имелась некая идея, часто не находившая у них нужного словесного оформления. Вот, например, какой разговор состоялся в августе 1917 года в столовой Смольного института между Феликсом Дзержинский, вскоре ставшим главой ВЧК в правительстве Ленина, и Рафаилом Абрамовичем, одним из меньшевистских лидеров.
«– Абрамович, вы помните речь Лассаля о сути конституции?
– Конечно.
– Он сказал, что конституцию определяет соотношение реальных сил в стране. Но как можно изменить уже существующее соотношение сил?
– Ну, путем экономического и политического развития данного общества, развития новых форм хозяйства, эволюции социальных классов и так далее – вы все сами знаете прекрасно…
– А разве нельзя изменить соотношение сил путем подавления или уничтожения некоторых классов в обществе?»[28]
Через год Г.Зиновьев, один из главных руководителей нового советского государства, заявит на митинге в Петрограде: «Мы должны повести за собой девяносто из ста миллионов человек, составляющих население Советской России. Остальным нам нечего сказать. Их нужно ликвидировать»[29]. Оказалось, однако, что цифра, названная Зиновьевым, страдала явно недооценкой масштабов террора: ведь жертвы его выбирались из классов, составлявших большинство населения России.
Глава вторая. Украинский национализм и
Интересы социализма стоят выше интересов права наций на самоопределение.
В.ЛенинПочему события, которые будут описаны нами дальше, никогда по-настоящему не овладевали вниманием мыслящих людей на Западе?
Основной причиной, думается, было недостаточное понимание или незнание национальных чувств украинского народа, непонимание источников украинского национализма.
Во-первых, независимое украинское государство продержалось всего несколько лет, притом с перерывами, и ему не удалось утвердить себя ни на карте мира, ни в мировом сознании. Украина, занимавшая территорию размером с Францию и населенная нацией большей, чем польская, осталась, пожалуй, самым большим этносом в Европе, который не сумел создать собственной государственности в период между двумя мировыми войнами (мы сознательно исключаем очень короткое время, когда такая государственность возникла)
Высказываться одобрительно о создании украинской государственности – вовсе не значит хоть как-то выступить против интересов русского народа. Даже А.Солженицын, это живое олицетворение русского национального духа, всегда выступая за братские отношения между тремя восточнославянскими странами – Россией, Украиной и Белоруссией, – считает само собой разумеющимся, что любое решение о союзе, федерации или выходе из них должно быть делом свободного выбора украинского народа и никакой русский решать этот вопрос за украинцев не может.
Старинная украинская культурная традиция мало известна на Западе. На картах Украина всегда изображалась как часть Российской империи, и даже название у нее было Малороссия. Было известно, что говорят украинцы на языке отличие которого от русского посторонними людьми не воспринималось достаточно отчетливо. Украинский язык значительно отличался от русского и до покорения Западной Украины Екатериной Второй, но позднее не только правители империи, но даже русские, в теории бывшие либералами, считали украинский язык всего лишь диалектом русского.
Царям, а позднее некоторым советским руководителям, языковая и национальная ассимиляция украинцев в общерусском регионе совершенно искренне представлялась процессом естественным.
Почему же такая ассимиляция не осуществилась в реальной истории?
Прежде всего, корни исконного украинского языка, которым пользовались миллионы селян, оказались глубже и крепче, чем можно было предполагать. Тенденции к смешиванию языков не возникало: люди разговаривали или же по-русски, или по-украински.
В городах даже украинцы, которые приняли господствующую в империи культуру, разговаривали на русском языке. Но, помимо главного бастиона украинской «мовы» – крестьянской среды – существовали у нее и дополнительные укрепления – кружки образованных украинцев, которые в своем родном языке и культуре видели специфическую ценность и не желали допустить исчезновения их из мира якобы во имя универсального прогресса.
Украинский и русский языки – ветви одной и той же языковой семьи, восточнославянской. Это напоминает родство шведского и норвежского языков как членов скандинавской ветви германской языковой семьи или близость испанского и португальского из иберийской ветви романской семьи. Но, как известно, языковая близость не играет решающей роли при определении политических или культурных тенденций: Норвегия непреодолимо стремилась отделиться от Швеции на референдуме 1905 года; старание голландцев, чей язык исторически является диалектом нижнегерманского, ни при каких условиях не покоряться Германии демонстрировалось много раз, в последний – относительно недавно. Ту же тенденцию Украина почти всегда проявляла по отношению к России, хотя мировому сообществу она казалась частью, вернее сказать, естественной частью Российской империи, а потом и Советского Союза.
* * *
Исторически украинцы – древний народ, которому удалось сохраниться и выжить, несмотря на ужасные испытания. Когда-то великие князья Киевской Руси, центр которой находился на нынешней Украине, правили всеми восточными славянами. Но после захвата их столицы, Киева, монгольским войском в 1240 году это государство распалось. Славянское население северной части его территории, продержавшись полтора века под игом монголов, со временем превратилось в народ, названный по имени их столицы «московитянами», или же «великороссами». Население же южных районов бывшей Киевской Руси тяготело к странам, расположенным от них к западу, и там возник народ, названный «украинцами». Сначала они вступили в союз с Великим княжеством Литовским, где украинский язык стал одним из официальных языков, а позднее – перешли под менее для них благоприятный сюзеренитет Польского королевства.
Во второй половине 16-го века, в «польскую эпоху», появились первые печатные украинские станки. Украинцы вновь возникли на европейской сцене как часть обширного и разнообразного содружества восточноевропейских народов. Большая часть их исконных земель все еще пустовала после монгольского погрома, народ подвергался опустошительным и систематическим набегам крымских татар. В качестве ответной реакции на набеги кочевников появляются в степях отряды казаков, этих украинских флибустьеров, которые первоначально ушли в степи, чтобы там на свободе охотиться и рыбачить, но постепенно научились отбивать татарские наскоки и, создав к концу 16-го века собственные укрепленные поселения, превратились в самостоятельную военную силу. В 1540-х гг. они основали Сечь, крупный укрепленный лагерь ниже днепровских порогов, на границе татарских вторжений. Свыше двух веков Запорожская Сечь оставалась своеобразной военизированной республикой, подобной аналогичным обществам, возникшим в других местах в подобных условиях, то есть демократической в мирное время и дисциплинированной армией в военное. Вскоре казаки возглавили крестьянские восстания против своих – уже почти что символических – сюзеренов, польских панов. В следующем столетии бесконечные войны и мирные соглашения между украинцами и поляками в конце концов привели к провозглашению Украинского государства гетманом Богданом Хмельницким в 1649 году. Москва непрерывно пыталась вмешиваться в его внутренние дела, и наконец гетман Иван Мазепа вступил в союз со шведским королем Карлом Двенадцатым, надеясь отстоять Украину от притязаний Петра Великого. Сечь поддержала гетмана, но поражение Карла под Полтавой в 1709 году стало судьбоносной катастрофой для Украины.
В течение 18-го века Москва еще продолжала признавать некую автономию гетманской власти, хотя всячески ограничивала право украинцев избирать своего гетмана и усиливала давление на выдвигаемых кандидатов. В 1764 году власть гетмана вообще была упразднена, хотя некоторые внешние ее атрибуты продолжали сохраняться до 1781 года. Запорожская Сечь, сражавшаяся на стороне русских в войне с Османской империей в 1769–1774 гг., вскоре после окончания войны (в 1775 г.) внезапно была уничтожена могущественным союзником. Ее кошевого атамана сослали на Соловецкие острова в Белом море, а полковников выслали в Сибирь, что очень напоминает судьбу их потомков полтора века спустя, в 20-е – 30-е гг. 20-го века. Украинская государственность, просуществовавшая в определенных формах свыше столетия, пала, как вскоре вслед за ней пала и польская, причем в силу тех же самых причин – из-за невозможности устоять в борьбе с сильным и многочисленным противником.
Подобно Польше, казацко-гетманское государство принадлежало к типу конституционно-парламентскому, во многих отношениях оно было весьма несовершенным – и поэтому не готовым усвоить традиции крепостничества и жестокого деспотизма, навязываемые ему Санкт-Петербургом. Через некоторое время украинцы с правобережья Днепра, оставшиеся под властью Польши и часто устраивавшие против нее восстания (они известны в истории под названием «гайдаматчины»), тоже были покорены могущественными соседями – частично Россией, а частично ее партнером по разделу Польши, Австрийской империей. В последующие столетия этот находившийся под властью Австрии «западноукраинский» элемент нации оставался мощным форпостом национального сознания и оказывал значительное влияние на общественное и культурное развитие всего украинского народа, хотя численность западных украинцев, на которых не распространялась власть русских царей, была относительно небольшой.
На территориях же, отошедших по условиям раздела к России, продолжали укрепляться феодальные отношения. Царские фавориты получали крупные поместья на Украине. Указы, изданные Екатериной Великой в 1765–1796 гг., положили конец тем свободам, которыми мог дотоле пользоваться украинский крестьянин – его низвели до общероссийского положения. Но все-таки на Украине лишь несколько поколений крестьян успели испытать крепостное право в полном объеме, и двух поколений, чтобы стереть народную память о былых свободах, оказалось явно недостаточно (Маколей[*] считал, что и пяти-то мало!) .
Но в реальностях того времени Александр Герцен должен был зафиксировать: «Несчастная страна протестовала, но не была в состоянии противостоять лавине, надвигавшейся с севера в направлении Черного моря и покрывавшей все сплошным саваном рабства»[1].
Порабощение вольного крестьянства шло параллельно с гонениями на украинский язык и культуру. В церковь проникали московские обряды. В 1740 году на левобережной Украине имелось 866 школ, в 1800-м не осталось ни одной. Киевская Академия, основанная в 1631 году, была в 1819 году преобразована в чисто богословское заведение.
Конец украинской государственности, водворение крепостного права и самодержавного царского господства – все это не уничтожило национального самосознания до конца, но все же загнало его глубоко в национальную подкорку.
Начиная с конца 18-го века и до середины 19-го отдельные украинские лидеры пытались вовне найти какую-то поддержку идеям самостоятельного украинского государства. Но не благодаря их усилиям сохранялся этот народ. Просто крестьянство продолжало говорить на своем языке, просто песни и баллады о казацком славном прошлом стали частью естественного культурного наследия нации, которое никому оказалось не под силу искоренить. В 1798 году вышла в свет «Энеида» И.Котляревского, пародия на поэму Вергилия, считающаяся первым литературным произведением, напечатанным на современном украинском литературном языке. В течение всей первой половины 19-го столетия активно собирался украинский фольклор. В 1840 году начал публиковать свои замечательные лирические и патриотические стихи великий поэт нации, происходивший из крепостных, Тарас Шевченко (1814–1861). Его влияние на народное самосознание было колоссальным. В 1847 году поэта арестовали и сослали в Сибирь, в солдаты. Там он провел десять лет. Его произведения были запрещены, полностью их опубликовали в России лишь в 1907 году.
* * *
В начале 19-го века существовало множество народов, которых тогда определяли немецким словом «Naturvolk»[*]. Это означало, что, несомненно, существует этнически родственная группа людей, которые говорят на своем языке, хотя он и распадается нередко на десятки диалектов, но у этой группы, или общности людей, отсутствует национальное сознание, вырабатываемое для нее интеллигенцией. Подобное состояние было тогда характерно для всех балканских народов, да и для многих других тоже.
В аналогичное состояние, похоже, впали украинцы. Но их древнее национально-народное сознание не исчезало окончательно никогда. Свое отличие от русских они ощущали очень остро – их русифицировавшиеся помещики казались чуждыми, и Шевченко приравнивал позор русификации к позору крепостничества.
Под иго Российской империи попало много народов, недаром ее и прозвали тогда «тюрьмой народов». В Средней Азии, на Кавказе, в Польше, Прибалтике местные нации были подчинены России силой оружия. Но следует оговорить, что рассматривали их в империи обычно как «инородцев» (или «иноверцев»), и хотя перспективу их ассимиляции в русском среде не отбрасывали окончательно, но все-таки не считали ее и вполне реальной.
Иное положение складывалось в отношении Украины. К концу 19-го века, а особенно в новую, революционную эпоху, сама мысль, что эта обширная территория, которую российские империалисты неизменно считали неотъемлемой частью России, пусть не совсем ассимилировавшейся, что она вдруг пожелает освободиться от суверенитета северной столицы, – такая мысль казалась русскому обществу куда более невыносимой, чем соображения о том, что могут захотеть отделиться любые другие народы империи – и куда более малые, и значительно позднее завоеванные, и часто вообще неславянские, то есть неродственные. Поэтому даже самые либеральные круги русской интеллигенции, поглощенные борьбой с абсолютизмом царей, все же отворачивались от украинской проблемы и в общем противились предоставлению Украине даже символической автономии.
Подобно другим народам, веками находившимся в аналогичном положении (например, чехам), украинцы, казалось, состояли целиком из крестьян и священнослужителей. Но процесс индустриализации протекал и на их территории, и это привело к тому, что на украинские заводы, шахты, фабрики стекались наниматься на работу крестьяне из собственно русских областей, которые в целом жили значительно беднее украинцев. Поэтому промышленная революция 19-го века привела к новому демографическому процессу – к вторжению на Украину масс русского и вообще некоренного населения, составившего большую часть украинских горожан.
В начале 60-х годов 19-го века русское правительство вело сравнительно либеральную политику, и в этот период возникло немало украинских обществ и периодических изданий на украинском языке. Но уже в 1863 году был издан указ, провозгласивший, что украинского языка как такового не существует, что это лишь диалект русского языка, и были запрещены любые публикации на украинском языке –исключение сделали только для беллетристики. В первую очередь запрещались книги «религиозного содержания и образовательные, а также книги, предназначенные для начального чтения». Ряд украинских деятелей был выслан на север России, украинские школы и газеты закрыты.
Несмотря на эти меры правительства, в 1870-е годы все еще продолжали существовать украинские общества (громады), легально занимавшиеся чисто исследовательской работой, но все-таки поддерживавшие возрождение национального самосознания. В 1876 году вышел новый указ, позволявший публиковать на украинском языке только исторические документы и одновременно запрещавший украинские театральные или музыкальные представления и закрывающий главные печатные органы движения – хоть и на русском языке, но с проукраинской ориентацией.
Последовавшая вслед за этим действенная кампания русификации, однако, не слишком русифицировала украинское крестьянство. Удалось достичь одной-единствениой цели: народу отказали в книгах и школах на родном языке. Это привело к беспрецедентному росту безграмотности, охватившей до 80 процентов населения – огромный спад! По словам П. Григоренко, украинца, хоть он и выразился в несколько драматизированной форме, за столетия, которые украинцы провели в российском имперском государстве, они забыли имя своего народа и привыкли к названию, навязанному им колонизаторами – малороссы[2].
И все же среди крестьянства из уст в уста передавались старинные баллады о великих национальных героях гетманской республики и Запорожской Сечи, а поэты и интеллигенция хранили память о национальных идеях. В 1897 году была основана нелегальная Всеукраинская демократическая организация, координировавшая деятельность культурных и социальных групп по всей Украине.
Но до начала 20-го века почти не наблюдалось массового движения среди украинского населения. Возрождение нации на рубеже веков показалось всем внезапным и поразительным по масштабам. (Один из ведущих представителей украинского национального движения утверждал, что по-настоящему массовым оно стало к 1912 году.)[3]
Появились признаки того, что близится новая вспышка национального духа. В 1908 году повторились крестьянские бунты 1902 года. Имущие классы состояли главным образом из неукраинцев, украинцы составляли крестьянскую массу. Поэтому зарождавшееся на Украине националистическое движение (как и в Польше, так и в будущей Чехословакии и других странах) одновременно имело социальную тенденцию. Первая чисто политическая партия – Украинская революционная партия, – основанная в 1900 году, вскоре подпала под марксистское влияние. Позже она раскололась, и одна из ее фракций присоединилась к Российской Социал-Демократической Рабочей партии и вскоре в ней растворилась, зато другая, называемая Украинской Социал-Демократической партией, разошлась с Лениным по вопросу о самоопределении Украины и сохранила определенную самостоятельность.
Следующей и в конечном итоге куда более значительной украинской партией стала Украинская партия Социалистов-Революционеров, хотя вплоть до 1917 года она имела незначительное влияние в народе.
В 1905 году появилась первая в Российской империи газета на украинском языке «Хлiбороб», вслед за ней возникло множество других, в частности, начала выходить ежедневная газета «Рада». В 1907 году вышло первое полное собрание поэтических произведений Шевченко. В Первой Государственной Думе, избранной в соответствии с Манифестом, вырванным в ходе революции 1905 года, украинские представители создали блок из сорока депутатов. Во Второй Думе украинские депутаты уже выдвинули требования об автономии Украины.
Столыпин – какими бы прогрессивными ни были его взгляды в вопросах экономики – являлся подлинным русским империалистом во всем, что касалось национального вопроса. В 1910 году он приказал закрыть украинские культурные общества, издательства, запретил чтение лекций на украинском языке и в местных университетах – короче, он вновь реализовал запрет на публичное применение национального языка на Украине. Хотя некоторые либералы в это время уже поддерживали культурные – отнюдь не политические! – требования украинцев, но в обществе премьер не встретил никакой оппозиции: «прогрессивная» и «либеральная» пресса промолчала.
Но, несмотря на любые запретительные меры властей, столетний юбилей со дня рождения Шевченко в 1914 году вылился в бурное проявление национальных чувств, и стоит отметить, что непосредственное участие в празднике приняли и села.
То, что национальный ренессанс наступил так поздно (хотя, оговорим, не позже, чем и у многих других народов Восточной Европы), плюс ошибочное восприятие языкового родства русских и украинцев за полную их языковую тождественность, и отсутствие политических границ между Россией и Украиной, – все это вместе взятое произвело на непроницательный Запад впечатление, что украинской нации вообще не существует – в отличие, скажем, от польской или русской. Эта точка зрения, несмотря на ее полную несостоятельность, сбивает нас с толку даже сегодня, определяя у многих инстинктивное отношение к украинскому народу. Весь этот комплекс обстоятельств стоит серьезно проанализировать.
Когда разразилась Первая мировая война, вся деятельность украинской периодической прессы была немедленно приостановлена, просветительская работа прекращена, ведущие национальные лидеры, несмотря на их заверения в лояльности к воюющей России, были арестованы и потом сосланы.
* * *
Национальность в принципе пустой звук в ортодоксальном марксизме. Как известно, «пролетарии не имеют отечества». Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» определили пролетариат как «выражение недовольства существующим обществом со стороны всех классов, национальностей и т.д.».
В 1916 году Ленин прямо заявил, что «целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, но и слияние их»[4]. И он определил нацию как исторически преходящую, характерную для своей исторической эпохи категорию – характерную именно для стадии капитализма[5].
Но одновременно он заявил (в документе 1914 года), что «именно потому и только потому, что Россия вместе с соседними странами переживает эту эпоху, нам нужен пункт о праве наций на самоопределение в нашей программе»[6].
Признав, что в течение какого-то неопределенного переходного периода национальные устремления все же сохранятся, Ленин стал обдумывать, как их ему использовать. В его знаменитом высказывании (именно в связи с националистическими движениями) есть такие слова:
«Генеральные штабы в теперешней войне тщательно стараются использовать всяческое национальное и революционное движение в лагере их противников… Мы были бы очень плохими революционерами, если бы в великой освободительной войне не сумели использовать всякого народного движения против отдельных бедствий империализма в интересах обострения и расширения кризиса»[7].
Итак, с точки зрения ленинской теории, национальные движения и проблемы национального суверенитета – все это преходящие явления буржуазного характера, но коммунисты могут использовать их в более важном деле – в интересах собственной классовой борьбы. Отсюда был сделан вывод, что те или иные национальные движения должны (или, наоборот, не должны) употребляться на пользу коммунизму! И те, которые нельзя будет использовать в нужных целях, следует подавить самым безжалостным образом.
Даже в канун российской революции Ленин писал:
«Если… несколько народов начнут социалистическую революцию… и если другие народы окажутся главными столпами буржуазной реакции, – мы тоже должны быть за революционную войну с ними, за то, чтобы «раздавить» их, за то, чтобы разрушить все их форпосты, какие бы мелко национальные движения здесь ни выдвигались…»,
поскольку
«отдельные требования демократии, в том числе самоопределение, не абсолют, а частичка общедемократического (ныне общесоциалистического) мирового движения. Возможно, что в отдельных конкретных случаях частичка противоречит общему, тогда надо отвергнуть ее».
Таким образом, всяким конкретным национальным движением можно жертвовать, если руководствоваться принципом, что «…интересы демократии одной страны должны быть подчинены интересам демократии нескольких и всех стран»[8].
По словам Ленина, Энгельс еще в 1849 году писал, что немцы, венгры, поляки и итальянцы «представляют революцию», тогда как южные славяне «представляют контрреволюцию», и что так дело обстоит уже тысячу лет[9]. Сам Маркс писал (в тот, конечно, период, когда немцы еще считались «прогрессивной нацией»):
«Если не считать поляков, русских и, в лучшем случае, славян в Турции, ни у одного славянского народа нет будущего, по той простой причине, что у славян нет самых основных исторических, географических, политических и промышленных предпосылок к независимости и жизнестойкости»[10].
А вот комментарий к этому же вопросу у Энгельса:
«Да, вы можете спросить, неужели у меня нет нм малейшего сочувствия к малым славянским народам и остаткам народов… По правде говоря, у меня ни бог весть сколько сочувствия к ним». (С таким же презрением он высказывался и об «этих несчастных бессильных так называемых нациях» – датчанах, голландцах, бельгийцах, швейцарцах и т. п.)[11]
Центральная глава в труде Сталина «Марксизм и национальный и колониальный вопрос» была написана им еще до революции и тогда же одобрена Лениным, который впоследствии назначил этого теоретика своим народным комиссаром по делам национальностей в первом советском правительстве в 1917 году. Развивая основную идею Ленина, Сталин писал так:
«Бывают случаи, когда национальные движения: в некоторых угнетаемых странах сталкиваются с интересами развития пролетарского движения. В таких случаях ни о какой поддержке не может быть и речи. Вопрос права наций не есть изолированный самостоятельный вопрос; он является частью общей задачи пролетарской революции, подчиненной целому, и должен рассматриваться с точки зрения целого»[12].
И еще:
«Случается, что право на самоопределение вступает в конфликт с другим, более высоким правом – правом рабочего класса, который пришел к власти, укрепить эту власть. В таких случаях – и это следует сказать прямо – право на самоопределение не может и не должно служить препятствием на пути рабочего класса к осуществлению права на диктатуру»[13].
Сразу же после революции Ленин заявил:
«Но ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы права наций на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и пр. Но если конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций (Польши, Литвы, Курляндии и пр.), то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше»[14].
Что касается определения реальной структуры государства в многонациональной России, то большевики первоначально и слушать не хотели о решении этого вопроса на основе федеративных начал. В 1913 году Ленин говорил:
«Федерация означает союз равных с их согласия… Мы принципиально отвергаем федерацию; она ослабляет экономические звенья; для нашего государства это неприемлемая форма»[15].
Опыт нескольких последующих лет показал, что Ленин и большевики сильно недооценивали, недопонимали важность национального вопроса: по этой проблеме как раз на Украине они получили свои главные политические уроки. После событий, ход которых будет изложен ниже, Ленин согласился на провозглашение всех атрибутов федерации, на полную культурную автономию – словом, он уступил очень многое, но при единственном условии: политическая власть должна остаться централизованной, и центр ее останется в столице России.
В марте 1917 года, вскоре после краха монархии, украинские партии во главе с наиболее выдающейся личностью в этом регионе, социалистом-революционером и историком Михайлой Грушевским провозгласили созыв Украинской Центральной Рады (то есть Украинского Совета депутатов – «Рада» переводится на русский язык как «Совет»). В июне того же года Рада потребовала от Петрограда автономии; она создала первое по счету украинское правительство, премьер-министром которого стал писатель Владимир Винниченко (социал-демократ), а самым видным членом – выдающийся экономист Михаил Туган-Барановский. В июле к нему присоединились представители национальных меньшинств – евреи, поляки и русские.
Рада вначале не выставляла особых требований независимости, но добивалась различных уступок от российского Временного правительства в Петрограде. Она пользовалась действенной властью и поддержкой огромного большинства и народа и даже местных советов. Такова была украинская реальность, с которой столкнулся Ленин в ноябре, захватив власть в бывшей империи.
Украине суждено было первой испытать на себе опыт насильственного навязывания советской власти одной из независимых стран Восточной Европы (Ленин в 1918 году признал-таки ее независимость). Покорение Украины и установление в ней серии марионеточных правительств, в которых отдельные министры действовали, руководствуясь своим пониманием национальной лояльности, напоминает нам то, что происходило двадцать лет спустя с прибалтийскими народам», а через двадцать пять лет – с Польшей и Венгрией.
16 ноября 1917 года Рада приняла на себя всю полноту власти на Украине и 20 ноября провозгласила создание Украинской Народной республики, хотя и тогда речь у нее еще шла об отношениях с Россией на основе федерации (но поскольку Рада не признавала большевистского правительства, ей не с кем было вступать в эту самую федерацию).
На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся 27–29 ноября 1917 года, большевики получили на Украине лишь 10 процентов голосов, украинские социалисты-революционеры – 52 процента, а все остальные голоса были отданы другим национальным партиям, в частности украинским социал-демократам и украинской партии независимых социалистов.
16–18 декабря 1917 года в Киеве был созван съезд Советов. Большевики и там потерпели полный провал – получили всего 11 процентов голосов. Тогда их делегаты собрались в Харькове, только что занятом Красной армией, и созвали собственный съезд Советов, причем почти все его делегаты были по национальности русскими. Там 25 декабря 1917 года они провозгласили создание «советского правительства» во главе с Г. Коцюбинским. 22 января 1918 года рада еще успела объявить Украину независимой суверенной республикой, но уже 12 февраля 1918 года марионеточное советское правительство, находившееся в Харькове, вступило вслед за Красной Армией в Киев, а Рада переехала западнее – в Житомир.
Большевистских оккупантов сопровождали продотряды, разделявшиеся на группы по десять человек в каждой. В их задачу входила конфискация зерна в деревнях, в соответствии с требованием Ленина присылать «зерно, зерно и еще зерно»[16]. Между 18 февраля и 9 марта 1918 года из одной только Херсонской губернии было отправлено в Россию 1090 железнодорожных вагонов с зерном[17].
Стоит отметить, что большевики тогда в лучшем случае «различно относились к проявлению украинских политических тенденций и в собственной партийной сфере. Главный помощник Ленина Яков Свердлов говорил, что „создание отдельной Украинской партии, как бы она ни называлась, какую бы программу она ни приняла, мы считаем нежелательным“[18]. Первое советское правительство на Украине, просуществовавшее лишь несколько недель, открыто демонстрировало навязывание народу российской – хотя и революционной – власти. Оно закрывало украинские школы, подавляло прочие культурные институты, и вообще, тенденция к русификации в первые годы существования советского режима на Украине носила предельно резкий, подчеркнуто антиукраинский характер. Известный украинский коммунист Затонский позднее рассказывал, как первый глава ЧК в Киеве, печально известный Лацис, расстреливал людей за то, что они на улице говорили по-украински, и как он сам чудом тогда уцелел[19]. Делалось все, чтобы препятствовать созданию украинской коммунистической партии и не допустить деятельности даже номинального украинского профсоюзного движения.
Когда весной 1918 года началось наступление немцев и австрийцев на Украину, большевикам пришлось отступить, и в апреле они объявили о роспуске украинского советского правительства.
* * *
Правительство Рады отправило своих делегатов в Брест-Литовск, где большевики вели переговоры с немцами, и в итоге этого, по указанию Ленина, большевистское правительство сняло с повестки дня притязания на земли Украины и косвенно признало независимое украинское правительство.
Немецкие и австрийские войска, оккупировавшие страну под флагом союзников Рады, почти сразу начали эксплуатацию природных и хозяйственных богатств Украины: центральные державы намеревались использовать ресурсы этой богатой страны как источник пополнения своих сил на последней стадии войны против Франции, Великобритании и США. Поскольку Рада противилась этим грабительским планам, германские власти организовали 29 апреля 1918 года военный переворот во главе с генералом П.Скоропадским, провозгласившим себя гетманом. Вплоть до декабря того же года он правил Украиной, опираясь на местных русифицированных помещиков и пользуясь поддержкой многочисленных русских офицеров и дворян. Большевики тем временем успели отреагировать на новую ситуацию и создали у себя в России новую Коммунистическую партию большевиков Украины. 2–12 июля 1918 года состоялся ее первый съезд – в Москве. Несмотря на возражения группы коммунистов-украинцев во главе с ветераном РСДРП/б/ Миколой Скрыпником, партия большевиков Украины была провозглашена неотъемлемой частью Российской коммунистической партии большевиков. Собравшийся в октябре (17–22 октября 1918 года) ее Второй съезд отметил, что главной задачей этой партии является «объединение Украины с Россией»[20]. На съезде, проходившем в Москве, выступил глава московского партийного руководства Л.Б.Каменев, который сообщил, что в Финляндии, Польше, а также на Украине «лозунг самоопределения наций превратился в оружие контрреволюции»[21].
В это время большевики, как, впрочем, и другие русские политики, никак не ожидали такого быстрого и серьезного возрождения украинской нации. Ведь даже украинский язык они продолжали еще воспринимать как мужицкий диалект великорусского языка. Правда, сам Ленин некогда провозгласил право украинцев на самоопределение вплоть до отделения, полагавшееся им, как и другим народам бывшей Российской империи, но уже на 8-м съезде РКП/б/ (1919 г.) стал заявлять, что национальные чувства, возможно, и существовали когда-то на Украине, но теперь они выкорчеваны немцами и даже высказал вслух сомнение в том, что украинский язык есть действительно язык масс[22].
В партийной программе 1918 года черным по белому было сказано:
«Украина, Латвия, Литва и Белоруссия существуют в настоящее время как отдельные советские республики. Таким образом решен сейчас вопрос государственной структуры.
Но это ни в коей мере не значит, что Российская коммунистическая партия должна, в свою очередь, реорганизоваться как федерация независимых коммунистических партий.
Восьмой съезд РКП/б/ постановляет: должна быть одна централизованная коммунистическая партия с единым Центральным Комитетом… Все решения РКП/б/ и ее руководящих органов подлежат безоговорочному исполнению всеми отделениями партии, вне зависимости от их национального состава. Центральные комитеты украинских, латышских, литовских коммунистов пользуются правами региональных комитетов партии и полностью подчинены Центральному Комитету РКП/б/».
Через несколько лет, столкнувшись с тенденциями к неподчинению, Ленин писал:
«Украина – независимая республика, это очень хорошо, но в партийном отношении она иногда берет – как бы повежливее выразиться? – обход, и нам как-нибудь придется до них добраться, потому что там сидит народ хитрый, и ЦК – не скажу, что обманывают, но как-то немного отодвигаются от нас»[23].
Вслед за поражением Германии в ноябре 1918 года народное восстание на Украине против гетмана Скоропадского привело к восстановлению республики, и победивший Украинский Национальный союз учредил в Киеве Директорат во главе с Владимиром Винниченко, Симоном Петлюрой и другими.
В Москве в это время было принято решение не вмешиваться прямо в дела воссозданной народной республики, при условии, что Коммунистической партии Украины будет дана возможность действовать на ее территории легально. Ленин, по-видимому, не решился начинать новое вторжение на юг до конца года.
В военном отношении режим на Украине оказался очень слабым. Петлюра, военный министр Украины, ранее сумел организовать крупномасштабные крестьянские выступления против гетманской власти. Но когда национальное правительство было уже восстановлено и крестьяне просто разошлись по домам, то государство стало почти что беспомощным. У Петлюры не нашлось иного выхода, как предложить полномочия и деньги тем, кто был в состоянии собрать ему новую армию, и впоследствии этих новоявленных атаманов невозможно было остановить. Зачастую они превращались в местных военных диктаторов, вступали в сговор с противником и устраивали погромы.
По этой причине Украинской республике не удалось устоять перед возобновившимся в новом году наступлением советских сил, и 5 февраля 1919 года украинскому правительству опять пришлось покидать Киев и оставаться почти весь 1919 год на западе, в Каменец-Подольске. Одновременно Москва аннулировала свое прежнее признание независимости Украины. Но вследствие такого акта, как и по многим другим причинам, советская власть стала ненавистной местному населению. Новое большевистское правительство попыталось создать на месте дворянских поместий совхозы или колхозы, но 75 процентов выделенной для этого земли было самочинно захвачено крестьянами.
Этот второй советский период на Украине зиждился частично на надеждах Ленина (его речь от 22 октября 1918 года), что, мол, скоро разразится «всемирная пролетарская революция»[24]. В киевском советском правительстве на ролях министров сидело четверо русских и два украинца, главой правительства Украинской советской республики быт назначен Христиан Раковский (болгарин). Еще ранее он вел в Киеве переговоры от имени Ленина с гетманским правительством, после чего, вернувшись в Москву, написал серию статей, из которых следовало, что украинский национализм не более как причуда нескольких интеллектуалов, тогда как местные крестьяне хотят, чтобы с ними говорили только по-русски[25].
Известно и другое его заявление, сделанное в феврале 1919 года, о том, что признание украинского языка в качестве государственного на Украине было бы «реакционной» мерой, выгодной только кулакам и националистически настроенной интеллигенции[26].
* * *
В любом случае Ленин постарался бы вернуть Украину в свою новую империю. Но сильным дополнительным моментом в этом его стремлении служило то обстоятельство, что он, подобно немцам в их отчаянной борьбе с Антантой, тоже считал богатства Украины жизненно важными для достижения победы над своими врагами. 11 февраля 1919 года Москва издала указ о безвозмездной конфискации всех «излишков» зерна, превышавших норму на душу крестьянского населения в размере 286 фунтов. В марте 1919 года Ленин потребовал сдачи уже 50 миллионов пудов зерна, чтобы большевики смогли удержаться у власти![27] Один украинский ученый, словам которого можно доверять, утверждает, что эта идея эволюционировала таким образом: у Ленина якобы первоначально был другой вариант – обратиться к крестьянству собственно русскому и осуществить там даже еще более обширную реквизицию. Но в итоге он все-таки предпочел переложить бремя хлебозаготовок на плечи иного народа.[28] Во всяком случае, на Украине результатом этих ленинских мер явились 93 мятежа в апреле 1919 года и 29 – в первой половине мая. С 1 по 19 июня мятежей было 6329. В целом же за короткий промежуток времени с апреля по июль имело место около 300 бунтов! Вместо запланированной для Украины добычи в размере 2 317 000 тонн зерна, большевикам пришлось удовольствоваться лишь 423 тысячами (в 1919 году).[29] Так что действие грозных коммунистических декретов едва ли в то время широко распространялось за пределы городов.
Наступающая Белая армия под командованием Деникина в августе 1919 года вновь выгнала большевиков с Украины, и тогда на западном берегу Днепра была восстановлена в конце того же, 19-го, года Украинская народная республика. 2 октября 1919 года Москва объявила о роспуске Второго украинского советского правительства (на сей раз распущен был также Украинский Центральный Комитет, который оказался ответственным за всяческие «националистические» отклонения). Это решение сопровождалось разными «противозаконными» оппозициями со стороны украинских коммунистов, и в декабре 1919 года Ленин добился принятия партией новой тактической линии. Она в основном сводилась к признанию национальных устремлений украинского народа, хотя собственно украинские коммунисты должны были и впредь остаться под строгим контролем Москвы.
Совершенно ясно, что такая важная перемена в тактике явилась результатом провала прежних методов насильственной централизации. На Десятом съезде Российской Коммунистической партии украинский коммунист В. Затонский сказал откровенно:
«Национальное движение вызвано к жизни революцией. Нужно прямо сказать, что мы не придали этому факту должною значения и не приняли необходимых мер. Это была грубейшая ошибка коммунистической партии, действовавшей на Украине… Мы не воспользовались усилением национального движения, которое было совершенно естественным в тот момент, когда широкие крестьянские массы пробудились к сознательной жизни. Мы пропустили момент, когда в этих массах проявилось совершенно естественное чувство уважения к самим себе, и крестьянин, который прежде с пренебрежением относился к своему происхождению и к своему мужицкому языку, поднял вдруг голову и начал требовать больше, чем требовал в царское время. Революция дала толчок культурному развитию, пробудила народ к широкому национальному движению, но нам не удалось направить это национальное движение в нужное русло, мы позволили ему пройти мимо, и оно пошло путем, где им руководила мелкобуржуазная интеллигенция и кулаки. Это была наша самая серьезная ошибка»[30].
Или, по словам еще одного известного украинского коммуниста Гринько, национальный фактор в 1919–1920 гг. был «оружием крестьянства, направленным против нас»[31].
Неудача первых двух советских попыток подчинить Украину была проанализирована в Москве, и последовал верный вывод, что украинская нация и украинский язык, действительно, являются важным фактором и что власть, которая нарочито игнорирует этот фактор, неизбежно будет рассматриваться местным населением как насильственно ему навязанная, а потому враждебная.
В организационном отношении новая ленинская линия означала сотрудничество с «боротьбистами», левой фракцией Украинской Социал-Демократической партии, которая приняла советскую власть, но придерживалась ярко национальных принципов и демонстрировала способность добиться какой-то поддержки в селе, тогда как большевики потерпели там полный провал.
Большевистские настроения на Украине были настолько слабыми, что никакого, хотя бы даже формального, но по происхождению украинского советского руководства организовать оказалось просто невозможно. Но теперь, когда Москва решила бросить в игру новый украинский «козырь», нашлись у нее и эти новые люди. Союз, в результате которого «боротьбисты» вошли в Коммунистическую партию, означал, что в будущем в украинском руководстве неизбежно окажется много людей с националистическим, а не с ленинским прошлым. Первые советские историки писали, что у Украинской Коммунистической партии имелось как бы «два корня». Если в правящей верхушке России насчитывалось лишь несколько бывших небольшевиков, выходцев из других партий, к тому же не занимавших ключевых политических постов (пример – А.Я.Вышинский), то на Украине мы видим бывшего «боротьбиста» Любченко, который в 30-е годы стал председателем Совета Народных Комиссаров УССР и других, вроде Гринько (ставшего всесоюзным наркомом) занимавших столь же высокие должности.
Среди ветеранов движения имелось много поляков (Дзержинский, Косиор, Менжинский, Уншлихт и др.), латышей (Рудзутак, Эйхе, Берзинь и др.), но украинцев там всегда было мало, да и те, кто имелись, например Скрыпник, Чубарь, занимавшиеся революционной деятельностью в центре империи, едва получив назначение на Украину, начинали здесь склоняться к поддержке национальных устремлений своего народа. Как говорилось, здесь мы можем наблюдать феномены, сходные с теми, которые впоследствии, в 40-е – 50-е годы, фиксировались в Восточной Европе: духовная эволюция того же типа произошла, например, с И. Надем или Г. Костовым, «национальными коммунистами», которые в собственном «досоветском» прошлом считались людьми, безоговорочно послушными Москве.
Следует учесть и то, что в бурное время немногие могли отчетливо понять, что именно несет народам и им самим ленинизм. В первые годы советской власти некоторые некоммунистические партии левого толка продолжали еще сохранять легальность, хотя положение и оставалось шатким и в самой партии в ту пору дозволялось существование группировок, придерживавшихся разных взглядов.
Итак, сила советской власти на Украине наконец-то была подкреплена группой, имевшей реальные связи с украинским народом, но в этом одновременно крылся и источник националистических требований.
* * *
Никакой реальной власти этой группе получить не удалось, и произойти этого не могло без разрушительных последствий. Конференция в значительной мере фиктивной Коммунистической партии Украины, проведенная за пределами республики, в Гомеле (Белоруссия), в октябре 1919 года, приняла реалистическую резолюцию (опубликованную семью годами позднее), в соответствии с которой «продвижение на юг и установление советской власти на Украине станут возможными только при содействии регулярных обученных отрядов войск (которые ни в коем случае не должны быть местного происхождения)»[32], в тот период среди членов Коммунистической партии Украины было всего лишь 23 процента украинцев[33].
Различия в осуществлении советской власти в собственно России и на Украине особенно ярко видны, если рассматривать методы управления селами и деревнями в обоих регионах. В период военного коммунизма главным органом власти в деревне являлся Комитет крестьянской бедноты, состоявший из прокоммунистически настроенных бедных крестьян и «сельского пролетариата». В России такие комбеды подчинили себе сельские советы, на Украине же они полностью их заменили. Комбеды в России были упразднены в конце 1918 года, но 9 мая 1920 года их восстановили, и только для Украины (под названием «комнезамы»). В них могли входить лишь самые неимущие крестьяне. Во всех остальных частях страны действовали сельские советы. Такие советы были созданы и на Украине тоже, но там коммунисты из комнезамов имели право обжаловать любое решение сельского совета перед вышестоящими органами, могли исключать «неподходящих» членов исполнительной власти в сельских советах, могли вообще распустить сельский совет и созвать новые выборы. В их обязанности входила и реквизиция продуктов питания у местного населения.
Полномочия комнезамов следующим образом разъяснялись в циркуляре Центрального Комитета: «В украинских селах истинная власть находится в руках богатых крестьян, кулаков, которые по природе своей являются непримиримыми врагами пролетарской революции» и которые «организованы и вооружены до зубов». Комитетам крестьянской бедноты вменялось в обязанность организовать сельских бедняков, «разоружить кулаков» и искоренить бандитизм»[34].
Ведущими деятелями в комнезамах, то есть главной опорой партии в деревне, стали неукраинцы. На первом съезде комнезамов лишь 22,7 процента делегатов говорили по-ук-раински, на втором – лишь 24,7 процента[35]; к тому же и эта группа считалась недостаточно надежной базой для советской власти, и в помощь селу вскоре было послано несколько тысяч городских коммунистов.
Украинские коммунисты, сознававшие свою национальную принадлежность, не встречали понимания со стороны вышестоящих большевиков даже в своих чисто культурных требованиях. Украинский делегат Двенадцатого партийного съезда рассказывал о «высокоответственных товарищах с Украины», которые утверждали, будто «объездили всю Украину, беседовали с крестьянами, и у них создалось впечатление, что украинский язык там не нужен»[36].
Среди тех, кто сумел извлечь из уроков гражданской войны верные выводы, оказался Раковский. Но зато теперь ему самому пришлось жаловаться на трудности в процессе внедрения в сознание местных партийных деятелей «значения национального вопроса»: «Большинство на Украине, и еще больше здесь, в России, видели в национальной политике некую стратегическую игру дипломатии». …«Как выразился один товарищ: „Мы страна, которая вышла за рамки национального этапа, мы – страна, где материальная и экономическая культура вступает в противоречие с культурой национальной. Национальная культура существует для отсталых стран по ту сторону баррикад, для капиталистических стран, а мы – страна коммунистическая“[37].
Была распространена и своеобразная версия ленинской теории «борьбы двух культур» (ее в числе других большевиков придерживался, например, ветеран партии Д.З.Лебедь): «пролетарская Россия» противопоставлялась «крестьянской Украине», и отсюда уже делался вывод, что «украинизация» не нужна принципиально, поскольку в конечном итоге преимущество всегда будет на стороне пролетарской, то есть городской, то есть русской культуры. 17–20 ноября 1920 года, на Пятом съезде УКП/б/ Г.Зиновьев, ближайший соратник Ленина, предпринял попытку ограничить употребление украинского языка одной только сельской местностью, учитывая – в рамках той же теории – конечную победу «более высококультурного русского языка». Но его предложение было отвергнуто[38].
На протяжении 1920–1921 гг. по этому вопросу велись бесконечные внутрипартийные споры, и многие украинские коммунисты боролись за удержание завоеванных ими культурных возможностей и старались осуществить на деле культурную и языковую украинизацию. Скрыпник, самый выдающийся в ту пору большевик из украинцев, настаивал (как он выразился на Десятом съезде Российской Коммунистической партии в марте 1921 года), что «товарищи должны выбросить из головы мысль о том, будто советская федерация – это не более как федерация российская, поскольку важен не тот факт, что она российская, а тот, что она советская»[39]. Борьба вокруг этого вопроса продолжалась еще довольно долго.
* * *
Третья советская оккупация Украины завершилась к марту 1920 года. Непродолжительное завоевание большей части правобережной Украины, включая Киев, поляками в мае 1920 года явилось последним значительным перерывом для советской власти в этой стране.
В ноябре 1920 года регулярные украинские войска потерпели еще одно поражение от Красной армии, их остатки перешли через польскую границу и были интернированы. Но крупные партизанские выступления продолжались до конца 1921 года. В апреле 1921 года на Украине и в Крыму еще действовало 102 вооруженных антикоммунистических отряда по 20 или 30 человек, а в некоторых по 50 или даже 500 человек, не считая армии анархиста Махно, которая все еще насчитывала от 10 до 15 тысяч человек. Менее значительные партизанские выступления, как подтверждают советские источники и как мы увидим в следующей главе, продолжались и много лет спустя, после разгрома в 1921 году антисоветских украинских сил[40].
Но как бы то ни было, в 1921 году Украина оказалась наконец усмиренной – первым независимым государством Восточной Европы, успешно завоеванным Кремлем. Попытка московских властей покорить Польшу в 1920 году провалилась: в противном случае некоторые и сейчас рассматривали бы как естественное явление то, что являлось просто историческим, и Польша выглядела бы в их глазах сегодня традиционно подчиненной Москве. Они считали бы, что такая традиция прервалась лишь несколькими годами польской независимости…
Итак, в 1918–1920 гг. на Украине одно за другим поменялись три советских правительства, причем каждое из них создавалось вслед за вступлением в страну Красной армии. Первые два были изгнаны соперничавшими силами других оккупационных армий, но не ранее чем успели продемонстрировать полную неспособность завоевать поддержку украинского народа. Только во время третьей попытки Ленин и большевики поняли, что без серьезных или, по крайней мере, кажущихся серьезными уступок украинским национальным интересам их власть всегда будет слабой и ненадежной. Отдадим должное Ленину: как только он усвоил политический урок на тему о том, насколько важно не задевать национального самолюбия других наций, он запомнил его навсегда и позднее отчитывал Сталина и других, когда чувствовал, что они выступают как явные великорусские шовинисты.
Украине была предоставлена формальная независимость, и в течение последующих десяти лет она пользовалась значительной культурной и языковой свободой, власти старались не слишком грубо и демонстративно навязывать ей политическую волю Москвы. Борьба, однако, продолжалась, и ясно было, что значительная часть РКП/б/ считает украинские национальные чаяния фактором, сеющим в СССР раздоры, а стремление Украины к достижению фактической независимости все еще недостаточно искорененным. Сталин разделял это убеждение, и когда пришло его время властвовать, он действовал в соответствии с подобными взглядами и безжалостно расправлялся с непокорным украинским народом.
Глава третья. Революция, крестьянская война и голод (1917–1921 гг.)
Любит, любит кровушку
Русская земля.
Анна АхматоваК 1917 году у крестьян в собственности (часть которой они сдавали в аренду) было уже вчетверо больше земли, чем у других российских землевладельцев (включая выскочек-«горожан», доля которых в населении страны к 1911 году превышала 20 процентов). 89 процентов посевных площадей империи уже находилось в крестьянских руках[1].
Гибель старого режима в марте 1917 года привела к захвату крестьянством крупных поместий. В 1917 году у 110 тысяч помещиков было отобрано 108 миллионов акров земли, и еще 140 миллионов акров – у двух миллионов богатых крестьян, причем последние, как показывают цифры, владели в среднем по 70 акров каждый, и их скорее можно отнести к мелким помещикам. За 1917–1918 гг. (данные по 36 представительным губерниям) крестьяне увеличили общую площадь своих наделов с 80 процентов до 96,8 процента всей пригодной к возделыванию земли[2], и средний крестьянский надел увеличился приблизительно на 20 процентов (на Украине же – почти вдвое)[3].
Число безземельных крестьян снизилось почти наполовину в период между 1917-м и 1919 гг., а число тех, кто владел участками свыше 10 десятин (приблизительно 27,5 акра), уменьшилось более чем на две трети[4]. Естественно произошло реальное сглаживание социальных различий между сельскими жителями.
В соответствии с тактическими соображениями Ленина, Декрет о земле, изданный 8 ноября 1917 года, сразу же после захвата власти большевиками, основывался на требованиях крестьян, изложенных социалистами-революционерами. Это был вполне сознательный маневр, рассчитанный на завоевание поддержки крестьянства. В декрете было заявлено, что только Учредительное собрание (разогнанное большевиками позднее, в январе 1918 года) сможет решить земельный вопрос, но тут же отмечалось, что «самым справедливым решением» была бы передача всей земли, включая государственную, «тем, кто ее обрабатывает», и что «формы земледелия должны совершенно свободно выбираться… по решению конкретного села».
Позднее Ленин совершенно открыто признавал, что это был маневр:
«Мы, большевики, были противниками закона… Но все же мы его подписывали, потому что мы не хотели идти против воли большинства крестьянства… Мы не хотели навязывать крестьянству мысли о никчемности уравнительного разделения земли. Мы считали, что лучше, если сами трудящиеся крестьяне собственным горбом, на собственной шкуре увидят, что уравнительная дележка – вздор… И поэтому мы помогали разделу земли, хотя и сознавали, что не в этом выход»[5].
В декрете о социализации земли, изданном 19 февраля 1918 года, перечислялись достоинства коллективизации, но фактический упор делался на распределении наделов в соответствии с Декретом о земле от 8 ноября.
Вновь возникла, вернее, заново укрепилась в ходе стихийной аграрной революции община, и произошло это как бы само собой. Общине была предоставлена возможность заняться перераспределением помещичьей и прочей земли. Большевики, по-видимому, думали, что только этим можно ограничить полномочия общин и что остальные функции сельского управления возьмут на себя Советы. Но в жизненной практике реальное руководство селом оказалось именно в руках общины.
Возрождение общинных отношений повлекло за собой, можно сказать, частичный регресс крестьянства, разумеется, в столыпинском понимании движения вперед. Отделившихся зачастую принуждали возвращаться в общину[6]. Частные хозяйства, или хутора, во многих случаях оказались достаточно крупными или процветающими, что и дало властям формальные основания отнести их владельцев к разряду кулаков и ликвидировать под корень: таковы были жестокие и удобные для коммунистов тогдашние меры. В Сибири, как и на Украине, где почти всегда больше значения придавалось хуторам, достаточно много их сохранилось, но в целом по СССР к 1922 году осталось менее половины прежних выделившихся хозяйств[7]. (Позднее, в период, когда производству зерновых начали отдавать предпочтение перед верностью теоретической догме, власти вновь стали поощрять хуторные методы ведения интенсивною хозяйства.)
Восстановление общин в те годы явилось социальным фактором первостепенной важности. Накануне революции менее 50 процентов крестьян в 47 губерниях европейской части территории состояли членами деревенских общин. Но к 1927 году в прежние общины вернулось до 95,5 процента всех хозяйств и лишь 3,5 процента крестьян владели частными фермами столыпинского типа. В результате возрождения общинного социализма (какая ирония!) не произошло, однако, ни малейшего продвижения к социализму, о котором мечталось! В общине укоренилась технологическая хозяйственная отсталость; в то же время как истинная крестьянская форма организации села она становилась препятствием к дальнейшему обобществлению земли и собственности. Так это виделось, во всяком случае, коммунистам. С их точки зрения, весь этот «черный передел» сводился к тому, что «когда деревне удалось захватить помещичью собственность, ее перестали интересовать идеи социализма»[8].
Ленин не раз излагал свое мнение по поводу этого явления. Он высказался четко:
«Да, мелкие хозяйчики, мелкие собственники готовы нам, пролетариям, помочь скинуть помещиков и капиталистов. Но дальше пути у нас с ними разные».
И продолжал:
«Тут нам с этими собственниками, с этими хозяйчиками придется вести самую решительную, беспощадную борьбу»[9].
* * *
Еще в мае 1918 года большевики решили, что начальная фаза союза с крестьянством в целом завершена и пришло время всерьез перейти к социалистической революции. Ленин высказался в том смысле, что если Россией могли править несколько сот тысяч аристократов, то с той же задачей справятся и несколько сот тысяч коммунистов. И эту волюнтаристскую идею, а вовсе не какой-то схоластический классовый или социальный анализ следует принимать во внимание, когда пытаешься анализировать ситуацию того периода.
Ухудшение отношения к крестьянству было узаконено в июле 1918 года, когда новая советская конституция дала рабочим преимущество перед крестьянами в представительстве в официальных органах власти – Советах: от рабочих один представитель приходился на 45 тысяч избирателей, а от крестьян – один представитель на 125 тысяч населения, то есть в пропорции, вероятно, 3:1. В центральных советских органах, где в основном проявлялось это неравенство, партийный контроль в любом случае свел бы к нулю любое законное голосование. Но даже выряженный в мантию добропорядочного марксизма, этот «классовый» шаг едва ли мог польстить крестьянству. В селах же лозунгом новой фазы социализма был объявлен союз лишь с беднейшим крестьянством (и «сельским пролетариатом») против кулачества при нейтрализации «середняка» (хотя в критический период гражданской войны середняка вновь превратили в «союзника»).
Несмотря на то, что с точки зрения базовой классовой теории эта формулировка выглядела более или менее удачной, в жизни, однако, все протекало негладко. Начнем с того, что кулак, то есть богатый крестьянин-эксплуататор, против которого все остальные должны были отныне повести борьбу, превратился к этому времени в некую мифическую фигуру. Ростовщичество и выдача ссуд под закладную, что считалось первичными признаками былого кулака, потеряли актуальность, поскольку были официально запрещены законом. Официально считается, что первый удар по кулачеству был нанесен только летом 1918 года, когда число кулацких хозяйств сократилось втрое и 50 миллионов гектаров было экспроприировано у богатых крестьян[10], так что кулаки потеряли сразу более 60 процентов своих земель[11]. В августе 1918 года Ленин еще говорил о двух миллионах эксплуататоров-кулаков, а в апреле 1920 года уже об одном миллионе «эксплуатирующих чужой труд».
Конфискация и перераспределение кулацкой земли продолжались (во всяком случае, на Украине) вплоть до середины 1923 года, и никто, даже очень приблизительно подпавший тогда в категорию кулаков, не избежал этой участи.
Но что было самым странным – одновременно с этим и сельский пролетариат считался теми же коммунистами наиболее слабым элементом в деревне, и они вовсе не желали сравнивать его с городским пролетариатом, хотя бы в плане производительности труда. Категория «сельских пролетариев», по признанию коммунистов, анализировавших события тех дней, включала в себя лентяев, пьяниц, в общем – людей, не пользовавшихся никаким уважением в деревне. Там, где Столыпин делал ставку на сильных, Ленин отдавал предпочтение слабым. У него просто не было иного способа обеспечить поддержку своей политики в деревне. Позиции партии в деревне всегда были чрезвычайно хлипкими: до революции в большевистской партии насчитывалось только 494 представителя крестьянства и существовало лишь четыре сельских партийных ячейки[12].
Большевистские руководители в то время не скрывали необходимости организовать классовую борьбу в деревне, поскольку вначале ее практически просто не существовало. Свердлов в обращении к Центральному исполнительному комитету в мае 1918 года сказал:
«Мы должны самым серьезным образом поставить перед собой задачу разделить деревню на классы, создать в ней два противоположных враждебных лагеря, восстановить беднейшие слои населения против элементов кулачества. Только если нам удастся расколоть деревню на два лагеря, вызвать в ней такую же классовую борьбу, как в городе, только тогда мы добьемся в деревне того, чего добились в городе»[13].
* * *
Борьба в деревне, действительно, непрерывно ожесточалась. Конфликт, раздиравший ее, заключался вовсе не в столкновении бедных и богатых крестьян. В гораздо большей степени, чем сия классовая борьба, центральной задачей властей к тому моменту стало проведение в жизнь вполне конкретной меры – отмены права крестьянина продавать выращенный им урожай. Борьба шла за то, чтобы отобрать этот собранный урожай в пользу государства. Декретом от 9 мая 1918 года о «монополии на продукты питания» наркомату продовольствия была предоставлена власть отнимать у крестьян «излишки зерна» сверх установленных комиссариатом норм, причем указывалось, что «это зерно находится в руках кулаков». Декрет призывал «всех трудящихся и неимущих крестьян незамедлительно объединиться для беспощадной войны против кулаков». В декрете, изданном 27 мая, наркомат продовольствия получал полномочия создать специальные «продовольственные отряды» из надежных рабочих для конфискации зерна силой; в июле 1918 года в этих отрядах было 10 тысяч человек, а к 1920 году – 45 тысяч. Как вели себя эти «войска», можно представить из описания самим Лениным их обычного поведения: «Отряды красноармейцев… иногда, прибыв на места… поддаются соблазну грабежа и пьянства»[14].
В декрете, изданном в мае 1918 года, речь еще шла об изъятии «излишков», сделанных из расчета, что мужику оставят вдвое больше зерна, чем считалось необходимым для обеспечения «нужд» его семьи. Но в январе 1919 года в новом декрете «о конфискации продовольствия» расчет был совсем иной: в его основе были «нужды» государства, и узаконивалась конфискация, при которой не имело значения, сколько зерна вообще оставалось у крестьянина. Ленин позднее признал:
«Мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия»[15].
Один советский ученый в изданном не так давно исследовании рассказывает, что продотряды первоначально пытались отнимать зерно непосредственно у тех, кто подозревался в его сокрытии, остальных крестьян в это дело не вмешивали. Но оказалось, что без давления со стороны односельчан кулаки отказывались сдавать «излишки», они даже прятали часть зерновых запасов в домах у бедняков, обещая им за это вознаграждение[16]. Деревенская солидарность не была еще поколеблена пришельцами из города.
Тогда для введения нового этапа классовой борьбы декретом от 11 июня 1918 года были созданы комитеты крестьян-бедняков (о них мы уже говорили применительно к Украине). По заявлению Ленина, они-то и ознаменовали переход от борьбы с помещиками к началу социалистической революции в деревне[17].
Из имеющихся у нас данных по отдельным губерниям следует, что комитеты бедноты (комбеды) только наполовину состояли из представителей крестьян[18] (в 1919 году, после упразднения комбедов, в России их члены приблизительно в том же составе влились в сельские советы). В обоих случаях активистами стали городские коммунисты – свыше 125 тысяч таких коммунистов было направлено в деревню для укрепления там советов[19]. В многочисленных речах, произносимых одна за другой, Ленин вначале требовал, а потом и объявил об отправке в деревню «тысяч и тысяч» «политически грамотных» рабочих из двух столичных городов, с тем чтобы они возглавили продотряды и обеспечили руководство комитетами бедноты.
Несмотря на то, что большинство даже самых бедных крестьян без энтузиазма отнеслось к подобным планам, властям все же удалось создать в деревне какую-то собственную базу. По мере того, как усиливались противоречия в деревне, мелкие банды, пользовавшиеся покровительством коммунистов, при поддержке вооруженных пришельцев из городов, начали грабить и убивать своих односельчан уже более или менее по собственной инициативе[20]. В конце августа 1918 года Ленин порекомендовал брать в каждом районе заложников – 25–30 заложников из числа богатых крестьян, которые будут отвечать головой за сбор и погрузку всех излишков зерна[21]. Он предложил также выделять часть конфискованного зерна местным осведомителям[22].
По подсчетам одного советского специалиста в 1919 году было конфисковано 15–20 процентов сельскохозяйственной процукции, а в 1920 году 30 процентов[23]. (По декрету от 5 августа 1919 года принудительным поставкам подлежала также продукция «надомного производства».)
Такое отношение к продукции крестьянского производства часто называется «военным коммунизмом» в том смысле, что это, мол, была политика чрезвычайных мер, продиктованных нуждами гражданской войны. Подобная трактовка абсолютно неверна. Гражданская война не только не началась, когда были изданы первые декреты, но сам Ленин в июне 1918 года уже определил государственную монополию на зерно с совершенно иной точки зрения, то есть «как одно из важнейших средств постепенного перехода от капиталистического товарообмена к социалистическому товарообмену»[24].
Иначе говоря, политика военного коммунизма являлась вовсе не военной мерой, а сознательной попыткой создания нового социального порядка – осуществления немедленного перехода страны к полному социализму. Даже после провала этого замысла Ленин недвусмысленно подтвердил, что то была «попытка сразу перейти к коммунизму» и заявил: «В общем, мы считали возможным… приступить без перехода к строительству социализма»[25]. В октябре 1921 года он сказал:
«…наша предыдущая экономическая политика, если нельзя сказать: рассчитывала (мы в той обстановке вообще рассчитывали мало)… можно сказать, безрасчетно предполагала, что произойдет непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах»[26].
А что касается конкретной политики конфискаций, он объяснил ее следующим образом:
«…Мы сделали ту ошибку, что pешили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, – и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Не могу сказать, что именно так определенно и наглядно мы нарисовали себе такой план, но приблизительно в таком духе мы действовали».[27]
Один из ведущих советских экономистов писал, что в период военного коммунизма недоставало планирования, и любая неудача в хозяйстве рассматривалась как чрезвычайное происшествие, которым следовало немедленно и столь же чрезвычайно заняться. Подобный порядок в управлении хозяйством неизбежно вел к экономической анархии[28], которая особенно ярко проявилась при изъятии зерна у крестьян единственным имеющимся у властей методом – силой. Николай Бухарин в своем труде «Экономика переходного периода», однако, утверждал с непонятной логикой, что давление на крестьянство нельзя рассматривать как «чистое принуждение», поскольку оно (крестьянство) «тормозит общее экономическое развитие». Ленин реагировал на эту странную фразу примечанием на полях: «Очень хорошо»[29].
В более общих чертах социализм представлялся русским большевикам как централизация, планирование и отмена денег. Созданная ими к тому времени система предусматривала национализированную промышленность и финансы, а также принудительное изъятие зерна под контролем централизованной государственной машины. Партия, начиная с Ленина и кончая рядовым коммунистом, считала такую «безрыночную» модель не просто социализмом, но даже коммунизмом! В одном из своих заявлений Ленин охарактеризовал изъятие излишков зерна как сущность социализма. И еще он утверждал, что непосредственные экономические отношения государства с крестьянством и есть отношения социалистические, а отношения через посредство рынка – капиталистические[30]. Поражает то, что Ленин рассматривал построение социализма, или социалистических отношений, вне всякой связи с коллективизацией крестьянства. Главным для него являлась лишь отмена товарных отношений…
Практическая проблема большевизма состояла, однако, в том, как все-таки получать от крестьян зерно, не покупая его. Поэтому и коллективизацию 1930 года желательно рассматривать не столько в свете осуществления желанной коллективной собственности и коллективного труда, сколько исходя из того факта, что она отнимала у крестьянина возможность удерживать продукт своего труда, не отдавать его государству.
Между тем в 1918–1921 гг. существовавшие на дотациях колхозы были немногочисленны и малопроизводительны. Ленин презрительно называл их «богадельнями». Ряд крупных хозяйств был преобразован в совхозы, считавшиеся высшей формой ведения социалистического сельского хозяйства – истинной сельской фабрикой, о которой мечтали марксисты. В законе о социалистической собственности на землю от 14 февраля 1919 года отмечалось, что совхозы организованы с тем, чтобы «создать условия для полного перехода к коммунистической форме ведения сельского хозяйства». Но и совхозы оказались непроизводительными, и они не пользовались популярностью, несмотря на все предоставленные им льготы. В период военного коммунизма ни совхозы, ни колхозы никакой сколько-нибудь значительной роли не сыграли.
Что касается действенной модернизации, то на трактор, уже использовавшийся в Америке, возлагались тогда большие будущие надежды. В 1919 году Ленин сказал, что сто тысяч тракторов смогут повернуть крестьян к коммунам[31].
Окончание гражданской войны не привело к смягчению военного коммунизма. Была принята еще серия утопических мер: упразднение платы за пользование средствами связи и жилой площадью; отмена денежных знаков была в стадии подготовки, равно как и упразднение центрального банка; а в конце 1920 года были национализированы последние мелкие предприятия – и тогда же государство начало вмешиваться в дела крестьян, вплоть до указаний им, какие культуры выращивать.
8 марта 1921 года, в разгар кронштадтского восстания, Ленин все еще убеждал Десятый партийный съезд, что отказ от конфискации зерна и переход к свободной торговле непременно приведут к захвату власти белогвардейцами, к торжеству капитализма, к полной реставрации старого режима. И он призывал ясно видеть эту политическую опасность.
* * *
Пока шла гражданская война, у крестьян было мало надежд на белых. Деникин, согласно статье о нем в Большой Советской Энциклопедии, был сторонником не царизма и помещичьего строя, а конституционной демократии. Но отсутствие единства или однородности мнений в рядах белых всегда оставляло повод для обвинения их в стремлении реставрировать власть помещиков (что, несомненно, было верным, во всяком случае, в отношении некоторых из них). Деникин к тому же выступал за «единую и неделимую Россию» и отказывался признать самое национальное существование украинцев. Еще одна роковая ошибка в политике Деникина и большинства других антисоветских претендентов на власть состояла в их отношении к насущному аграрному вопросу: неотложная потребность любого режима или армии в хлебе определяла политику отрицания товарных отношении с крестьянством. Это, пожалуй, относилось ко всем белым режимам до Врангеля. Он первый начал одобрительно относиться к свободной торговле зерном. И его прорыв из Крыма в 1920 году с небольшой и часто терпевшей поражения армией, которая находилась, казалось бы, в отчаянном положении, впервые пополнил Белую армию украинскими крестьянами-добровольцами.
Гражданская война, в сущности, явилась столкновением между двумя хорошо вооруженными, но не пользовавшимися популярностью меньшинствами. Но если при рассмотрении периода после 1918 года мы в силу привычки обращаем главное внимание только на конфликт белых и красных, это нельзя считать вполне оправданным. Да, гражданская война была настоящей, в ней принимали участие организованные армии, соперничающие правительства, генеральные штабы; велась она с целью захвата ключевых позиций, центральных городов. Ее ход и сражения в общих чертах всем известны ее значение в представлении всего мира ясно и преисполнено драматизма, все это верно. Но по масштабу и особенно по количеству жертв ее можно считать менее крупной и менее тяжелой, чем крестьянскую войну 1918–1922 гг., частично совпавшую с ней по времени, но продолжавшуюся еще дольше, В 1921 году, когда белых уже не было, ведущий советский историк так описывал сложившееся положение:
«Центральные районы РСФСР почти полностью окружены мятежниками-крестьянами, от Махно на Днепре и до Антонова на Волге»[32].
Восстания охватили Белоруссию, юго-восточные районы, Сибирь, Карелию, Кавказ и Среднюю Азию[33].
Уже в 1918 году, по официальным данным, в советской республике с июля по ноябрь 1918 года имели место 108 «кулацких мятежей». За весь 1918 год только в 20 районах Центральной России произошло не менее 245 значительных антисоветских бунтов[34], за семь месяцев 1919 года почти на трети территории, захваченной большевиками, зарегистрировано 99 бунтов[35].
В некоторых районах уполномоченных из продотрядов убивали, как только те появлялись в деревне; за убийством следовала карательная экспедиция, полдюжины крестьян расстреливали, других арестовывали; через день или два прибывал новый уполномоченный с помощниками, и его тоже убивали; вновь карательная экспедиция и т.д.[36]. Такие мелкие столкновения были повсеместными и сливались в более крупные мятежи, причем «зеленые», как называли этих повстанцев, являли собой не меньшую угрозу, чем белые или поляки.
Отношение Ленина к своим разнообразным врагам удивительно откровенно отражено в его записке к одному из главных комиссаров Красной армии: «Великолепный план. Осуществите его вместе с Дзержинским. Под видом „зеленых“ (мы им это потом и припишем) мы пройдем вперед на 20 верст и повесим кулаков, священников и помещиков. Награда: 100 тысяч рублей за каждого повешенного»[37].
В начале 1919 года в Поволжье вспыхнуло крупное восстание, в 1920 году – новое. Летом 1919 года русская крестьянская «армия» в Фергане, сформированная для борьбы с мусульманским населением, выступила с мусульманами против красных. На Северном Кавказе, по сообщению большевистских властей, возникли настоящие повстанческие армии, несколько советских дивизий было уничтожено[38].
Мятежи значительного размаха прокатились по территориям, населенным национальными меньшинствами. 13 февраля 1921 года поднялись армяне и через пять дней захватили Ереван.
В Западной Сибири в январском восстании 1921 года участвовало 55–60 тысяч крестьян. Это восстание охватило более чем 12 округов[39]; были отрезаны коммуникации красноармейцев и заняты города, в том числе такой крупный как Тобольск[40]. Знаменитое восстание Антонова, начавшееся 19 августа 1920 года, распространилось на большую часть территории Тамбовской губернии и на некоторые районы соседних губерний. Участвовало в нем свыше 40 тысяч крестьян. На съезде этих тамбовских повстанцев была принята программа с требованием ликвидации советской власти и созыва Учредительного собрания на основе равного голосования, причем земля должна была быть передана тем, кто ее обрабатывает. Аналогичные документы были обнародованы повстанцами Поволжья, которые также призывали передать власть народу «без разделения на классы или партии»[41].
Невозможно было трактовать мятежников кулаками, так как даже по официальным сообщениям от 25 до 80 процентов деревенских жителей, активно сражавшихся на стороне антоновской армии[42], были бедняками или середняками. Они много месяцев сдерживали крупные силы большевиков, не давая им победить. И лишь в мае 1921 года регуярным частям под командованием Тухачевского удалось подавить восстание. Но даже после этого приблизительно до середины 1922 года продолжали действовать небольшие отряды повстанцев. Карательные меры против них были жестокие; с целыми деревнями расправлялись так же, как через, много лет нацисты расправятся с Лидице[*].
На Украине в широком по размаху восстании Григорьева в мае 1919 года участвовало 20 тысяч человек с 50 пушками и даже шестью бронепоездами; советские историки считают, что именно из-за этого восстания не удалось осуществить намеченного вторжения Красной армии в Румынию для оказания помощи Венгерской советской республике Белы Куна[43]. Из других повстанческих войск самыми известными стали отряды анархиста Махно, объединявшие в определенный период до 40 тысяч человек. Какое-то время махновцы боролись на стороне красных с белыми, но с января 1920 года между отрядами Махно и большевиками восемь месяцев не прекращались жестокие бои. В октябре и ноябре 1920 года этот союз ненадолго восстановился перед лицом последней угрозы белых – наступления Врангеля. Затем стычки возобновились и продолжались до августа 1921 года. Махно охотно объяснял, в чем состояла притягательная сила его анархизма: крестьянство боролось против «помещиков и богатых кулаков», но с противоположной стороны также и против «их прислужников – политической и административной власти чиновников»[44]. С его точкой зрения перекликается рассуждение доктора Живаго в романе Бориса Пастернака:
«Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но хочет он совсем не того, что мы с вами.»
Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости со стороны и обязательств кому бы то ни было. А он из старой, свергнутой государственности попал еще в более узкие шоры нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя»[45].
В числе руководителей украинских повстанцев были не только Григорьев и Махно. На значительной территории близ Киева действовал атаман Зеленый. Было и много других отрядов. В феврале 1921 года ЧК сообщала о 118 все еще продолжавшихся мятежах[46]».
Что касается более мелких, инцидентов, то в отчете ЧК только о четырех днях апреля 1921 года на Украине сообщается о банде из десяти человек, которая захватила зерно и убила представителя властей в Подолии; о банде из пяти всадников, вооруженных пулеметами, которые напали на сахарный завод, убили пятерых сторожей и скрылись, уведя с собой восемнадцать лошадей и унеся 306 тысяч рублей и две пишущие машинки (это было в Полтавской губернии); о банде из двухсот всадников, которые напали на железнодорожную станцию и прежде, чем их отбил бронепоезд, убили 26 красноармейцев – в Харьковской губернии[47].
Партизанская война в тех же местах продолжалась еще годы, хотя и в меньших масштабах. В Лебединском районе Сумской губернии вплоть до 1928 года действовал отряд партизан[48]. В районе Белой Церкви в Киевской губернии до 1928 года орудовал отряд из более чем 20 украинских партизан[49]. Подобные сообщения поступали и из других мест, особенно с Северного Кавказа и из Средней Азии.
Примечательно, что к людям Антонова присоединились рабочие, «среди которых было несколько железнодорожников», как указывалось в официальных отчетах[50]. Мы здесь не собираемся рассматривать борьбу рабочих, но важно то, что рабочий класс тоже (и почти так же) начал выступать против коммунистов. Даже в 1918 году в Петрограде проходили мощные забастовки и демонстрации рабочих, а в уральской промышленной области, как отмечает советский историк, левые эсеры восстановили против большевиков отсталые элементы из числа фабричных рабочих Кушвы, Рудянска, Шайтанска, Юговска, Сеткино, Каслнно и др.[51] Значительные по размаху рабочие волнения имели место в Ижевске – крупном промышленном центре, и в окружающих его местностях. Возникла так называемая «Ижевская народная армия», объединившая 30 тысяч человек, впоследствии она перешла на сторону белых и сражалась у Колчака.
По словам советского специалиста, рабочие выдвигали «чисто крестьянские» требования, например, прекращение насильственных реквизиций и конфискаций предметов крестьянского обихода[52].
Еще более зловещей, с точки зрения советских властей, была все возраставшая ненадежность самой Красной армии. Дезертирство, неявки на призывные пункты в среднем составляли 20 процентов, а в некоторых районах достигали и всех 90 процентов[53], в одной только Тамбовской губернии, по сообщению из советского источника, осенью 1920 года было 250 тысяч случаев дезертирства из Красной армии[54].
В марте 1919 года бригада, набранная в основном из русских крестьян Тульской губернии, подняла бунт в Белоруссии и, объединившись с местными крестьянами-мятежниками, объявила о создании там «Народной республики»[55].
Командир Красной армии Сапожков руководил 2700 солдатами в восстании на Волге в июле 1920 года. После его гибели принявший на себя командование Серов продержался еще более двух лет, захватывая целые города, и в январе 1922 года в его распоряжении все еще находилось три тысячи человек. В декабре 1920 года еще один командир Красной армии, Вакулин, поднял мятеж на Дону. Вначале у него было около 500 человек; он увеличил их число до 3200, а после гибели Вакулина его преемник Полов к марту 1921 года располагал армией в шесть тысяч человек. В феврале 1921 года еще один красный командир, Маслак, вместе со своей бригадой из состава любимой сталинской Первой конной армии перешел к Махно.
Но самым критическим моментом явилось восстание 2 марта 1921 года на Кронштадтской морской базе. Кронштадтские повстанцы хорошо понимали причины недовольства крестьян. Они писали в своей газете: «За почти полностью отобранное зерно, за конфискованных коров и лошадей они еще получили в ответ налеты ЧК и расстрелы».[56] Как заявил потом на Пятнадцатой партийной конференции в 1926 году Троцкий, в Кронштадте средний крестьянин разговаривал с советским правительством посредством морских пулеметов.
Нет ничего удивительного в том, что 15 марта Ленин заявил, правда, не публично: «…Мы едва выдерживаем»[57].
* * *
О размерах людских потерь в период крестьянской войны можно судить по таким цифрам: даже до большого голода 1921–1922 гг., который унес около пяти миллионов жизней, советские официальные источники сообщили, что в 1918–1920 гг. погибло свыше девяти миллионов человек[58] (в это число не включают два миллиона россиян, погибших во время Первой мировой войны, и более миллиона беженцев-эмигрантов) .
От сыпного, брюшного тифа, дизентерии и холеры в 1918–1923 гг. умерло чуть меньше трех миллионов (главным образом от сыпного тифа)[59]; многие из этих людей умерли в период голода, и их смерть записали на счет голода. Но даже если принять в расчет, что в 1918–1920 гг. умерли из этих почти трех миллионов два миллиона человек, то и тогда в остатке – почти семь миллионов смертей.
Известный советский специалист Б.Ц.Урланис[60] подсчитал, что во время гражданской войны было убито на фронтах с обеих сторон приблизительно 300 тысяч человек, включая поляков и финнов. Даже если добавить сюда массовую резню, расстрелы пленных и т.д., то и тогда количество прямых военных жертв в гражданской войне не превысит миллиона.
Остальные шесть миллионов умерли от голода и в ходе того, что мы назвали крестьянской войной. Жертвами войны обычно являются мужчины. Перепись 1926 года выявила, что в составе СССР проживает на пять миллионов мужчин меньше, чем женщин – главным образом в возрастной группе от 25 до 65 лет[61]. Это свидетельствует, грубо говоря, что в Первой мировой войне было убито два миллиона мужчин и еще миллион (или меньше) погиб в гражданскую войну, то приблизительно несколько миллионов человек (причем из них – мужчин на два миллиона больше, чем женщин) погибли от других причин, то есть почти исключительно в ход крестьянской войны.
Люди погибали вовсе не обязательно в боях. Расстреливали не меньше, чем убивали в сражениях. Высокий чин в ВЧК в своем отчете о подавлении мятежей писал, например что во время подавления нескольких мятежей было убито 3057 мятежников, а расстреляно после них еще 3437 человек[62].
Число погибших в крестьянской войне мы рассчитали конечно, весьма приблизительно. Но и это примерное число может убедительно свидетельствовать о масштабах и силе крестьянского сопротивления, о жертвах, на которые готовы были идти крестьяне, чтобы не допустить подчинения своего бытия системе реквизиций.
* * *
События в 1918–1921 гг. разрушили социально-экономический порядок в России настолько, что сравнивать это можно только с последствиями Тридцатилетней войны в Германии. Во время Первой мировой войны миллионы подданных царя (как и других европейских народов) были мобилизованы на фронт. Впоследствии большинство из них, состоявшее из крестьян, вернулось к себе в села, чтобы отобрать землю у помещиков. Поскольку последние представляли собой относительно немногочисленный класс, этот «черный передел» разрушил его, но не слишком-то потряс основы общества – скорее, наоборот, раздел барской земли успокоил и укрепил подавляющее большинство населения бывшей империи – крестьянство. Разложение социума произошло по-настоящему в последующий, ленинский период: значительная часть населения умерла или эмигрировала, еще миллионы людей бродили из села в село, убегая «из одного охваченного голодом района в другой, от одного театра военных действий – к другому.[63] Экономика между тем развалилась. Как уже говорилось, политика коммунистов в деревне привела к возврату к старым методам хозяйствования. Более передовую часть крестьянства лишили земли или «пустили в расход», и на значительных земельных площадях возродилась старая трехпольная система. Но гораздо губительнее технологического регресса был просто развал всего сельского хозяйства. Он начался еще в 1919 году, но к 1922 году тягловых лошадей стало меньше на 35,1 процента (по сравнению с 1916 годом), крупного рогатого скота на 24,4 процента, свиней на 42,2 процента, овец и коз на 24,8 процента[64] – то есть oт поголовья скота осталось лишь две трети его довоенного уровня.
В 1913 году в почву было внесено около 700 тысяч тонн удобрений, а в 1921-м – около 20 тысяч тонн. Посевные площади сократились с 214 миллионов акров в 1916 году до примерно 133 миллионов в 1922 году. Урожай зерновых культур (включая картофель) сократился приблизительно на 57 процентов в периоде 1909–1913-го по 1921 гг. В некоторых случах цифры вычислены недостаточно точно, но в целом они рисуют вполне ясную картину.[65]
Большой голод, наступивший в 1921 году, не явился результатом чьего-то сознательного решения заморить крестьянина голодом. Но нельзя отнести его и просто за счет засухи. Климатические условия, действительно, не благоприятствовали урожаю, но и не были на катастрофическом уровне. Решающим фактором, доведшим страну до голода, нужно считать методы реквизиции, применявшиеся советским правительством – частично потому, что у крестьянина отбирали столько продукции, что у него почти ничего не оставалось для собственного пропитания и, следовательно, для продолжения полноценной работы, частично оттого, что за три года удалось подавить у крестьянина желание вообще что-либо производить.
Голод, который обрушился на деревню, явился неизбежным следствием решения (и Ленин откровенно об этом заявил) не принимать во внимание нужды крестьян.
* * *
Страшнее всего был голод в Поволжье. Люди мучились и умирали так же, как и во время еще более ужасного голода 1932–1933 гг. Но было одно важное различие. В 1921–1922 гг. существование голода еще не скрывалось, а помощь, из-за границы принималась пока что с благодарностью.
13 июля 1921 года советское правительство разрешило Максиму Горькому обратиться за помощью к иностранным государствам. Американская администрация помощи (АРА) будущего президента Гувера, которая уже много сделала для Центральной и Восточной Европы, вскоре после 20 августа начала направлять в Россию запасы продовольствия. В декабре Конгресс США выделил для этих целей 20 миллионов долларов. Американских граждан призывали жертвовать деньги на отправку в Россию посылок, и таким образом было собрано шесть миллионов долларов. Всего Америка в это время предоставила в помощь голодавшим около 46 миллионов долларов.
В Москве Горький собрал группу выдающихся граждан, главным образом беспартийных и не занимавшихся политической деятельностью, для участия в работе по спасению голодающих
Американская администрация помощи и связанные с ней организации в кульминационный момент своей деятельности кормили 10 400 000 ртов, и разные другие организации еще почти два миллиона, всего, таким образом, – 12 300 000 человек.
Голод в России бывал и раньше – в 1891-м, в 1906-м и 1911 гг. – но никогда еще он не был таким тяжким и не охватывал такого количества населения. Во время худших из прежних голодных годов число крестьян, которым нечего было сеять, ни разу не превышало трех миллионов, а в 1921 году таких крестьян насчитывали 13 миллионов.
По данным Американского комитета помощи голодающим, в России в 1922 году было около трех миллионов бездомных детей[66] (еще два миллиона страдали от голода у себя дома). Из них 1 600 000 находились в детских домах, временно или постоянно, и полтора миллиона из них получали питание от зарубежных организаций помощи.
И даже тогда именно украинское голодающее крестьянство пытались оставить без помощи (по официальным советским данным, от голода и болезней на Украине в первой половине 1922 года умерло 800 тысяч человек, причем, по имеющимся у нас сведениям, здесь не были учтены районы, наиболее пострадавшие от голода)[67]. Наличие голода на Украине вначале скрывалось, как сообщается о том в отчетах Американской администрации помощи. Делалось это путем «завышения почти вдвое данных по собранному урожаю, представленных местными властями»[68]. И охваченные голодом районы Украины поначалу не могли получить никакой помощи от американских организаций.
«Правительство Москвы, – как заметил в связи с этим один американский ученый, – не только не поставило в известность Американскую администрацию помощи о положении на Украине, но намеренно чинило препятствия всему, что могло бы позволить американцам наладить связь с Украиной…»[69]
Между 1 августа 1921 года и 1 августа 1922 года с Украины для распределения его в других районах страны было вывезено 10,6 миллиона центнеров зерна. Только в апреле–июне 1922 года американская помощь наконец сумела поступить на Украину – и как выразился всесоюзный староста М.И.Калинин, на высшей точке голода, когда тысячи уже умирали и еще тысячи были обречены на смерть[70]. Представители Администрации помощи были поражены, когда узнали, что вагоны с продовольствием из Киева и Полтавы все еще «отправляются за сотни миль голодающим Поволжья», вместо того, чтобы помочь расположенным на расстоянии десятков миль Одессе и Николаеву, где «свирепствовал голод»[71]. Лишь в январе 1922 года Донецкой губернии позволили прекратить поставки зерна за пределы Украины[72]. Все это свидетельствует не просто о неумении справиться с задачей, но и об официальной тенденции накладывать максимальное бремя на «менее лояльных» (хотя временное запрещение американцам въезда на Украину может быть частично объяснено нежеланием пустить их в Киев, который находился в это время на военном положении
Большая Советская Энциклопедия в издании 1926 довольно объективно описывает работу Американской администрации помощи, признавая, что в разгар своей деятельности американцы снабжали продовольствием около 10 миллионов человек и что они потратили на это 137 миллионов золотых рублей. В Малой Советской Энциклопедии, вышедшей немного позже, уже сообщается, что Американская администрация помощи на самом деле воспользовалась возможностью хлебопоставок в Россию, чтобы ослабить кризис производства зерна в самих США. К 1950 году в новом (втором) издании БСЭ говорилось уже, что Американская администрация помощи использовала свой аппарат для развертывания шпионской деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. Контрреволюционная деятельность администрации вызвала, дескать, бурю протестов со стороны широких масс трудящихся. А из новейшего (третьего) издания БСЭ (1970 г.) мы узнаем, что Американская администрация помощи «оказала определенную помощь в борьбе с голодом», но «в то же время правящие круги США пытались использовать ее для поддержки контрреволюционных элементов и шпионско-подрывной деятельности…»
Осенью 1921 года русские руководители Комитета помощи голодающим, то есть представители АРА в Москве, не состоявшие членами коммунистической партии, были арестованы (Максим Горький в то время находился за границей). Личное вмешательство Гувера заставило советские органы отменить вынесенные ими смертные приговоры, и некоторым из членов Помгола и АРА после сибирской ссылки было разрешено покинуть страну.
В период между 1918-м и 1922 гг. погибла десятая часть населения России. Голодная смерть явилась последней жертвой, принесенной крестьянством на алтарь нереалистической и жестокой аграрной политики властей. Борьба крестьян против попыток полностью подчинить деревню и разрушить крестьянскую экономику завершилась все-таки успехом. Крестьянские повстанцы и, наконец, матросы Кронштадта заставили правительство Москвы осознать, что продолжение прежней политики может их самих привести к катастрофическим последствиям. Поэтому в Кремле было решено временно отступить, пойти на перемирие с крестьянством, и это дало ему возможность выжить.
Глава четвертая. В тупике (1921–1927 гг.)
Надежда, и страх, и мир, и борьба
Вальтер СкоттНаконец, казалось, в самый последний момент, Ленин прислушался к голосу действительности, то есть к голосу крестьянина, заговорившего с ним посредством морских орудий Кронштадта и пулеметов Махно и Антонова. 15 марта 1921 года, на Десятом съезде, всего лишь через семь дней после того, как вождь заявил, что не будет никаких послаблений в политике партии и в ее доктринах, он понял, что советская власть находится перед лицом краха. И Ленин решил временно отступить, оставить попытки социализации деревни и воспользоваться будущей передышкой, чтобы укрепить политическую власть партии. Была провозглашена Новая экономическая политика (НЭП). Даже в этот момент отступление было сделано им очень неохотно. Вначале Ленин рассчитывал умиротворить крестьянство, не восстанавливая с ним товарных отношений, а лишь путем организованного товарообмена между государственной промышленностью и крестьянским производством. Но из этого ничего не вышло, и только тогда он «отступил к рынкам, деньгам и капиталистам»[1]. Вместо неограниченной реквизиции зерна было введено налогообложение (на Украине эти меры были пущены в ход с опозданием на несколько месяцев, с тем, чтобы успеть провести дополнительные срочные заготовки зерна). Была восстановлена денежная система и сняты все ограничения с размеров денежных накоплений.
Декретами от 9 июля 1921 года, 1 августа 1921 года и 15 сентября 1921 года были восстановлены плата за проезд по железной дороге, за почтовые отправления и т.п., отме-ненные на последней стадии военного коммунизма. А в октябре 1921 года промышленные предприятия получили право продавать свою продукцию на свободном рынке.
Старый большевик Д. Рязанов на Десятом съезде партии охарактеризовал НЭП как «крестьянский Брест» – отступление перед крестьянством, аналогичное Брест-Литовскому договору, принятому перед лицом немецкой угрозы.
Ленин сам говорил о НЭПе как о «передышке», необходимой для того, чтобы собраться с силами перед окончательным революционным преобразованием. Он добавлял: «Мы находимся в положении людей, которые все еще вынуждены отступать, чтобы в скором будущем перейти наконец в наступление»[2].
Во времена Хрущева среди советских ученых принято было цитировать высказывания Ленина о том, что «переход к коллективному земледелию пролетарская власть должна осуществлять лишь с громадной осторожностью и постепенностью, силой примера, без всякого насилия над средним крестьянством», и что «экспроприация даже у крупных крестьян никоим образом не может быть непосредственной задачей победившего пролетариата, ибо для обобществления таковых хозяйств нет еще налицо материальных, в частности технических, а затем и социальных условий»[3].
Хотя и называя НЭП вначале «отступлением», как бы одним из многих тактических ходов, к которым большевикам приходилось прибегать, Ленин, когда НЭП набрал силу, иногда даже оправдывал его как особый метод завоевания социализма: это был не последний раз, когда он менял свое мнение по подобным кардинальным вопросам. Еще в августе 1922 года он, например, называл крестьянские торговые кооперативы «кооперативным капитализмом», но в нескольких коротких записках января 1923 года, когда он уже в значительной мере был обессилен болезнью, Ленин вдруг высказался так, что «…раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас, действительно, задачей осталось только кооперирование населения»[4]. Он даже поощрял применение передовых методов торговли в качестве коммерческого аспекта кооперации, призывая (как и в других случаях) к «культурной революции», которая может улучшить Россию в этой сфере[5]. (В действительности же кредитное кооперирование, купля и продажа обогащали как раз более состоятельных крестьян и вовсе не способствовали переходу к коллективному ведению сельского хозяйства.)
В то же время заявление Энгельса о том, что социал-демократы никогда не станут принуждать, а будут только убеждать немецкое крестьянство принять коллективные формы ведения сельского хозяйства, стало часто упоминаться в партийной литературе. Тот факт, что многие большевистские руководители, и Ленин в том числе, дали столь широкое теоретическое обоснование НЭПу, не представляется нам столь уж важным, столь знаменательным, как склонны оценивать его некоторые ученые. Любые подлинно прагматичные действия, если их инициаторами являлись большевики с их неотъемлемым доктринерством и теоретизированием, почти автоматически находили себе в партийной среде аналогичную теоретическую интерпретацию. Но зато теперь правые элементы в партии, которые позднее предлагали довольно длительный период постепенного развития в рамках НЭПа, действительно, могли цитировать ленинское заявление в поддержку своих постулатов, а также напоминать и сам факт, что именно Ленин ввел НЭП!
Было бы, по нашему мнению, ошибкой искать реальную основу для какой-либо конкретной политической линии ленинских высказываний этого периода. Иногда создается впечатление (как и на ранних этапах революции), что он просто не был уверен, какой путь лучше, и занимался экспериментальными поисками пригодного политического и теоретического решения. Например, на Одиннадцатом съезде в 1922 году он вдруг объявил, что отступление зашло слишком далеко и пора снова продвигаться вперед. Однако потом, по-видимому опять передумал, и никаких конкретных «наступательных» действий предпринято не было[6].
Восстановление промышленности было частью НЭПа, и без уступок капитализму здесь тоже не обошлось. По словам Ленина в октябре 1921 года, «поскольку разрушена крупная капиталистическая промышленность… пролетариат исчез», «капиталисты будут создавать промышленный пролетариат»[7]. Однажды он даже заявил, что крупных капиталистов можно было бы превратить в союзников в борьбе против мелкого крестьянского собственника, в котором Ленин по-прежнему видел главного врага[8]. Этим он подтвердил и свою формулу 1918 года о том, что «мелкобуржуазные экономические условия и мелкобуржуазная стихия» являются «главным врагом социализма у нас»[9].
Когда Ленин не призывал к скорейшему возобновлению наступления, то есть когда он ратовал за НЭП, вождь партии предвидел длительную борьбу за союз с середняками – пожалуй, и на протяжении нескольких поколений, а уж в крайнем случае на десять – двадцать лет[10]. (По официальным данным НЭП продолжался чуть меньше девяти лет.) Но в контрасте с этой тактической рекомендацией Ленин неизменно отстаивал свою более капитальную теоретическую позицию: крестьянство порождает капитализм и буржуазию «постоянно, каждый день, каждый час и в массовом масштабе»,[11] что оправдывало самую высокую бдительность по отношению к этому источнику опасности и использование первой же возможности для того, чтобы положить конец такому нетерпимому положению вещей.
Ленин высказывался и в том смысле, что при сложившихся в мире политических условиях период мирного строительства социализма «будет скорее всего не очень продолжительным»[12]. А в письме к Каменеву от 3 марта 1922 года (опубликовано лишь в 1959 году) он добавил: «Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору, и к террору экономическому»[13].
В своем классическом труде о Ленине Адам Улам делает вывод, что если бы Ленин еще жил, он закончил бы НЭП даже раньше, чем Сталин[14], поскольку Сталину, прежде чем действовать, пришлось укреплять собственные позиции в партии. Как бы то ни было, постепенное исчезновение Ленина из общественной жизни и его смерть 21 января 1924 года поставили перед партией задачу: рано или поздно, тем или иным способом, но необходимо уничтожить независимое от нее, партии, крестьянство.
* * *
Неуверенность Ленина в последние годы его жизни отражала тот объективный факт, что в политике партии действительно возникло внутреннее противоречие. С одной стороны (в экономике), ей нужно было поощрять сельскохозяйственное производство, что предполагало и поощрение лучших производителей. С другой стороны (в политике и доктринах), она рассматривала именно этих умелых производителей в конечном счете как своих главных классовых врагов и делала ставку на их менее удачливых соперников, а особенно на совсем уже слабые элементы в крестьянстве. Но всякий раз, когда «бедному крестьянину» помогали укрепить его экономическое положение, он переставал быть бедным крестьянином; и когда безземельный крестьянин получал землю, это переводило его в куда менее благоприятную с точки зрения теории категорию «середняков»; а когда середняк улучшал свое положение, то в глазах коммуниста он автоматически превращался просто во врага – в кулака.
Эти противоречия не могли быть разрешены вплоть до сталинской революции 1930 года. А пока что самой неотложной задачей казалось восстановление сельского хозяйства страны. Добиться этого можно было только путем настоящего поощрения, настоящего стимулирования производителя, то есть кулаков.
С национальным вопросом тоже смогли справиться лишь на новых путях временного отступления. В гражданской войне ни Ленин, ни Деникин не собирались предоставлять Украине или другим народам подлинную независимость. Но у Ленина была (вернее, он в конце концов пришел к ней) более привлекательная тактическая линия, и его политика, казалось обещала лучшие перспективы для национальных меньшинств. Белые не так уж недопонимали национальные проблемы как считают некоторые исследователи, а Колчак даже призывал к признанию независимости Финляндии, Польши и других стран. Но в критический момент об этом было позабыто и Деникин шел на Москву с лозунгами «единой неделимой России»…
В наши дни украинские коммунисты-диссиденты часто говорят, будто Ленин сочувственно относился к идее независимой государственности национальных меньшинств. Но ведь совершенно ясно, что он как политический прагматик просто стал понимать, какая опасность грозит режиму со стороны национальных движений украинцев и других народов, и считал, что их сопротивление необходимо как-то нейтрализовать, в то же время ни на шаг не отступая от главных принципов – централизации и контроля со стороны Москвы.
Именно провал первых коммунистических режимов на Украине заставил власти Москвы задуматься над решением проблемы. Подобно тому, как Рязанов определил Новую экономическую политику «крестьянским Брестом», новую политику по отношению к Украине можно назвать «украинским Брест-Литовском». В обоих случаях уступки были рассчитаны на то, чтобы ослабить враждебность противника к коммунистическому режиму: крестьянина больше не преследовали за то, что он вел себя как крестьянин, украинцу же решили даровать некоторую культурную автономию.
Как мы видели, уступки украинскому национальному сознанию, как и уступки крестьянству, были продиктованы только политической необходимостью. Первый советский режим на Украине был открыто антиукраинским и потому погиб в буре враждебности масс. Национальная политика второго режима, хотя и более осторожная, все же вызвала резкое сопротивление народа. Третье и успешное наступление коммунистов встретило серьезный отпор, но на этот раз оно было лучше подготовлено и не только в военном отношении. Были предприняты политические шаги для ослабления народного сопротивления. Делалось это путем более осторожной и последовательной национальной политики, то есть уважительного отношения к украинским национальльным чувствам или к тем из украинцев, которые не казались победителям совсем уж неисправимо антикоммунистическими.
В декабре 1922 года дотоле все еще считавшиеся формально независимыми Украина, Закавказье и Белоруссия присоединились к Союзу Советских Социалистических Республик. Но почти одновременно, в апреле 1923 года, была официально принята на Двенадцатом съезде Российской Коммунистической партии политика «украинизации». Впервые после 18-го века прочно обосновавшееся на Украине правительство открыто объявило о намерении хранить и развивать украинский язык и культуру.
Из эмиграции вернулись выдающиеся ученые и писатели, даже те, кто в свое время поддерживал Раду. В их чист был историк Михаил Грушевский, в прошлом председатель Рады, а также и другие министры и рядовые члены Рады.
Тогда же были амнистированы и назначены на высокие должности некоторые украинские социалисты-революционеры, которых в 1921 году судили и приговорили к коротким срокам заключения. Например, Всеволод Голубович, бывший премьер-министр Украинской республики, возглавил Украинский Верховный экономический совет, другие заняли менее высокие должности в области культуры и экономики[15].
В отличие от того, что происходило в самой России, на Украине новая политическая правящая группа не отвергала включения в свой состав крупных деятелей добольшевистского режима.
Правда, почти все они получили должности не в собственно политической, а в гуманитарной сфере. Хотя вот бывший премьер Винниченко был принят в коммунистическую партию Украины и в ее Центральный Комитет и даже назначен заместителем председателя Совнаркома Украины и комиссаром по иностранным делам. Вскоре он, однако, проявил дальновидность и мудрость и предпочел вернуться в изгнание…
«Украинизация» пошла дальше, чем аналогичные уступки национализму в других регионах. Представители украинской Культуры, вернувшиеся в страну, искренне надеялись, что даже Советская Украина может стать ареной национального возрождения. И они оказались в значительной мере правы, но… всего лишь на несколько лет. Поэзия и беллетристика, труды по языкознанию и истории восторженно принимались всеми слоями общества, а литература прошлого переиздавалась массовыми тиражами.
Украинские культурные организации сумели найти путь к сердцу села, к сердцу крестьянства. Разрешенные большевиками в рамках их новой тактики, эти организации состояли из людей, которые, хоть и считали себя коммунистами, прежде всего интересовались историей и литературой своего украинского народа. Генерал Григоренко описывает, как в юности впервые услышал украинскую музыку и познакомился с украинской литературой благодаря деятельности одного из отделений такой культурной организации в собственном селе: «И от них я узнал, что принадлежу к той же нации, что и великий Кобзарь, что я – украинец»[16].
Даже Сталин на Десятом съезде партии в 1921 году с одобрением говорил о предстоящей «украинизации» городов на Украине и о том, что хотя в этих городах пока что этнически доминируют русские, но с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы, и даже привел в пример Прагу, которая до 1880-х гг. была в основном немецким городом, а затем стала чешской.
* * *
После смерти Ленина началась борьба за лидерство, которая через шесть лет завершилась приходом Сталина к непререкаемой верховной власти. Сначала Сталин громил левых оппозиционеров, потом – правых. Л.Троцкий оказался обойден коалицией «тройки» – Г.Зиновьева, Л.Каменева, И.Сталина. Затем победители – Зиновьев и Каменев – были побеждены своим былым союзником И.Сталиным, который вступил против них в новую коалицию с «правыми» членами Политбюро – Н.Бухариным, А.Рыковым, М.Томским. С возродившимся блоком Троцкого, Зиновьева, Каменева Сталин справился еще успешнее (в скобках отметим, что каждый раз, когда после разгрома очередной оппозиции в Политбюро освобождалось место, его занимал деятель, который на следующем этапе внутрипартийной борьбы поддерживал, как правило, Сталина). А когда к концу 1927 года левые оказались полностью разгромленными, Сталин взялся за своих последних, временных союзников, правых, с которыми сумел политически покончить всего за два года.
Эта внутрипартийная борьба носила, конечно, общеполитический характер, но мы рассмотрим только одну ее сторону – полемику вокруг аграрного вопроса, который и был, несомненно, одним из главных, центральным вопросом в теоретических партийных спорах.
Вот самые важные особенности партийных позиций в этой схватке: в принципе в тот период все одобряли НЭП, и одновременно каждый из спорщиков хотел как можно скорее перейти к этапу «социализации» села. Никто не требовал насильственного осуществления этого процесса, но никто и не возражал против достаточно сильного давления на крестьянство.
Полемика в партии вокруг аграрного вопроса, как в окончательное решение Сталиным крестьянского вопроса в 1929–1930 гг., представляет интерес для исследователя в двух планах. Во-первых, конкретные идеи всех фракций интересны сами по себе. Взятые в совокупности, они представляют собой живое свидетельство того, с какими огромными трудностями сталкивается политическое меньшинство в стране, в данном случае – марксистско-ленинская партия, когда оно стремится навязать свои доктрины и одновременно удержать власть над большинством собственного народа.
Во-вторых, то была не только идейная борьба, но прежде всего борьба за власть. Даже Ленин, который в своем «Завещании» пытался объяснить фракционность в собственной партии якобы двухклассовой природой советского общества, все-таки указал, что конкретный и главный повод к расколам в партии – это личная вражда ведущих политических лидеров. И мы видим, что в период 1924–1930 гг. совершилось не только торжество сталинской политики в деревне, но параллельно с этим были отстранены от власти все члены ленинского Политбюро, за исключением, понятно, самого Сталина.
Едва ли стоит уделять партийным дискуссиям об очередных шагах в политике больше внимания, чем того заслуживают даже самые интересные из них. И не следует принимать всерьез все нюансы в политических заявлениях руководства, и все выступления оппозиционных, то есть второстепенных деятелей – и в том и в другом случае всегда стоит учитывать, что в этих речах и программах: могут преобладать не принципиальные, а тактические соображения.
Оговорив все вышесказанное в качестве методологической позиции, можно сделать и общий вывод: после ухода Ленина у его наследников, у партийного руководства образца 1924 года, не существовало единого подхода к крестьянскому вопросу.
Эта правящая коллегия целиком состояла из приверженцев доктрины, в соответствии с которой товарное производство и рыночные отношения принципиально не приемлемы для социалистического общества. Одновременно все они понимали, что попытка уничтожить эти досадные и вредоносные явления может привести руководимую ими страну к экономической и социальной катастрофе. Поэтому руководство было вынуждено отложить осуществление идеологически правильной линии и временно поразмыслить о том, как ему сладить с сегодняшними проблемами.
Одновременно основополагающая доктрина как бы подсказывала им, что в классовой структуре деревни преуспевающий крестьянин будет не только «антипартийным» врагом, но и врагом остального, не так сильно преуспевшего крестьянства. Конечно, несостоятельность подобного «классового анализа» довольно легко проверялась на практике, но проверки-то не производилось: руководство было не в силах отказаться от этой схемы.
Еще один пункт, общий для всех лидеров: в первые годы НЭПа все фракции согласились, что деревне необходимо кооперативное сельское хозяйство и что путь к этой завершающей фазе должен первоначально пролегать путем приобщения крестьянина к кредитной кооперации и торговле, и только потом коллективизация затронет все сельское хозяйство. В теории эта догма считается действующей и по сию пору: по словам одного современного западного ученого, «и сегодня продолжают утверждать, хотя и с меньшей убежденностью, что все должно происходить именно так»[17]. Но, как говорится, гладко было на бумаге…
Часто представляют внутрипартийные споры так, якобы Бухарин и его сторонники стремились к некоему либеральному будущему. Но ведь и они были сторонниками однопартийного руководства страной, и они ставили цель – покончить с товарной экономикой, и они видели в кулаке классового врага!
Разногласия в партии строились не вокруг стратегических вопросов, а лишь о тактике: сколько времени должны еще длиться товарные отношения с мужиком и как долго останется легальной частная собственность на землю, в какой мере и то и другое должно контролироваться государством и как в финале все-таки положить этому конец.
Но если диапазон направлений в принципах политики у соперничавших фракций не кажется нам таким уж широким, то, напротив, различия в оттенках позиции просто поражают. В апреле 1925 года Бухарин так высказался на страницах газеты «Правда»:
«Наша политика в отношении деревни должна развиваться в налравлении снятия и в отдельных случаях полной отмены многих ограничений, которые тормозили рост хозяйств преуспевающих крестьян и кулаков. Крестьянам мы должны сказать: «Обогащайтесь, совершенствуйте свои хозяйства и не бойтесь ограничений». Как это ни парадоксально, мы должны развивать преуспевающие хозяйства с тем, чтобы помочь крестьянину-бедняку и середняку»[18].
Обращено это было не к какому-то неопределенному зажиточному крестьянину, но прямо в адрес кулака, то ecть как бы «классового врага». Отсюда можно уверенно заключить, что в тот момент для Бухарина интересы экономического развития общества превышали все остальное. Ведь точно так же Ленин однажды обращался непосредственно к капиталисту… А Бухарин еще добавил, что всякие опасения насчет превращения кулачества в новый класс помещиков безосновательны и никакой второй революции в деревне не понадобится.
Бухаринская формулировка «Обогащайтесь!» сильно коробила партию, и уже осенью ему пришлось от нее отмежеваться. Но фактически он выразил (хоть и в вызывающей форме) то, что являлось центральной идеей НЭПа. Лидер правых понял, что попытка партии совместить два диаметральных подхода (уступок и подавления) привела к ситуации, «когда крестьянин боится поставить у себя железную крышу из страха прослыть кулаком; и если он покупает сельскохозяйственную машину, то делает это так, чтобы не заметили коммунисты. Передовая техника конспирируется!»[19]
Бухарин (и правые) склонялся к мысли, что со временем мужика можно будет убедить в преимуществах для него коллективного хозяйства. Объективно говоря, ясно, что большинство крестьянства добровольно никогда бы на коллективизацию не пошло, и ленинские соображения о крестьянах, которые вдруг в массовом порядке скажут: «Я за коммунию!», не слишком тезисам Бухарина помогают. Даже самая мягкая тактика, предлагавшаяся некогда Лениным, не исключала в его расчетах экономического и любого другого принуждения. Большинство правых в этом вопросе тоже шло за Лениным: вопрос для них состоял не в том, допустимо ли принуждение принципиально, а лишь в том, какое именно принуждение стоит пустить в ход и в какой именно момент.
Позднее и сам Бухарин заявлял, что, мол, кулаков разрешено преследовать во всякое время, но в начале НЭПа он, кажется, еще надеялся, что кулацкие кооперативы будут осаждены мощными госбанками и госпромышленностью, что они будут вынуждены конкурировать с госкооперативами или кооперативами других крестьянских прослоек, и в конце концов у побежденных экономически кулаков не останется другого выхода, кроме как влиться в поток социалистической экономики, даже оставаясь в ней особым, «чуждым» элементом. Он настаивал, что такое предполагаемое врастание кулака в социалистическое народное хозяйство будет фактически означать его уничтожение (то есть кооператив должны будут так же экономически одолеть кулака, как социалистическая промышленность победит мелких промышленников-нэпманов).
Позиция его противников, левых, хотя и лишенных рычагов власти, но долго доказывавших свою правоту, была изложена видным экономистом Е.Преображенским. Ключом к прогрессу, по Преображенскому, являлась индустриализация: только с ее помощью мощь социалистического сектора превзойдет силу капиталистической деревни. Принадлежащее Троцкому определение «первоначальное социалистическое накопление» шокировало правых – ведь оно подразумевало эксплуатацию крестьян для развития индустрии. Преображенский даже назвал крестьян «внутренней колонией»! Но на самом деле ничего особо циничного или неприемлемого в идеях Троцкого–Преображенского не было – средства для индустриализации (или перестройки промышленности) в любой стране мира так или иначе взимаются с населения, и крестьянское производство всюду служит самым крупным и надежным источником накоплений для этой цели. Например, в Японии в эпоху Мейдзи до 60 процентов доходов крестьян были изъяты посредством налогов и земельной ренты на финансирование индустриализации этой страны. Используя экономические стимулы, фермеров поощряли резко увеличить выход сельскохозяйственной продукции, так что в 1885–1915 гг. продуктивность сельского хозяйства в Японии выросла вдвое! Преображенский аналогичным образом рассчитывал, что увеличение налогового бремени, наложенного на российских крестьян, будет сопровождаться одновременным увеличением крестьянского производства – и достигнуть этого, думал он, возможно, с помощью современных, усовершенствованных методов в земледелии.
Бухарин возражал Преображенскому, что эксплуатация деревни для финансирования промьшшенности есть ошибка даже с точки зрения чисто экономических расчетов. Крестьянство, если оно вообще уцелеет, именно должно обеспечивать рынок для промышленных товаров. Следовательно, товары с самого начала должны поступать к мужикам! Но ведь и Троцкий вкупе с другими левыми понимал, что крестьянам надо оставить возможность покупать необходимые им товары (например, спички, мыло, керосин и пр.). Так что практически взгляды правых и левых в то время не слишком расходились, тем более что Бухарин, в свою очередь, всегда подчеркивал решающее значение преобладающих темпов развития государственного сектора в хозяйстве над частным. По-видимому, он верил, что крупная социалистическая индустрия, благодаря присущему ей превосходству, будет автоматически совершать «большие скачки». Но к 1926 году и он, наверное, сообразил, что такой большой рост надо как-то стимулировать и крестьянину придется внести в это дело немалый вклад[20].
Бухарин осознавал, что крестьянин не примет социализма, пока не увидит своими глазами его особой экономической привлекательности, и что простыми внушениями глубоко укоренившееся классовое сознание изменить невозможно (это положение, кстати, прямо вытекало из общей марксистской теории). Здесь в его взглядах нет большой разницы с тем, что прокламировали левые. Троцкий, например, объявил, что лучше всего преодолеть разрыв между ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары, улучшив эффективность и повысив производительность труда именно в промышленности. Отмечая расслоение в деревне и «рост кулацкой прослойки»[21], он уверял, что при правильном партийном подходе рост индустрии помешает процессу классового расслоения крестьянства и сведет на нет его последствия[22]. Левые постоянно утверждали, что коллективизация должна следовать за индустриализацией, а не наоборот, и материально обеспечиваться именно за счет роста индустрии. (Можно заметить в скобках, что в некоторых недавних исследованиях советских ученых пробуют утверждать, что так оно и происходило в действительности.) Левые продолжали говорить о «смычке» со средним крестьянством, подчеркивали, что превыше всего они ставят интересы пролетариата, но отнюдь не призывали к насильственной коллективизации, как иногда считается в широкой публике. Они верили, что отдельный крестьянин, будь это даже кулак, продержится исторически долго: «Принудительные поставки 150 миллионов фунтов зерна десятью процентами наиболее состоятельных крестьян – ничего более радикального, чем такая мера, левые не предлагали»[23]. Троцкий, находясь в изгнании, писал, что левые вовсе не собирались в ближайшую пятилетку ликвидировать деление крестьянства на классы – им нужно было только обложить доходы кулака налогами, чтобы обеспечить индустриализацию[24]. Как правые, так и левые считали, что необходимо непрерывно укреплять социалистический сектор в хозяйстве с тем, чтобы он стал преобладающим и в конце концов подчинил себе всю экономику.
У левых особой программы по аграрному вопросу почти что и не было; если не считать нескольких предложений по вопросам налогообложения и усовершенствования сельскохозяйственных методов, основной упор они делали в своей программе на промышленность, хотя и требовали принятия мер для создания новых колхозов (которых в то время было еще очень мало), особенно для крестьян-бедняков. Бухарин тоже мало что предлагал конкретного в деле модернизации или социализации деревни. Он больше говорил о каком-то неопределенном будущем, когда изменится характер крестьянина. Общим для левых и правых на данном этапе была их убежденность в том, что в сельском хозяйстве следует прибегать к мерам финансового характера (иногда довольно жестким); и наоборот, «принудительная» коллективизация может привести страну только к катастрофическим последствиям.
Но не в коллективизации деревни заключался главный момент спора фракций. По мере того, как политика партии завоевывала поддержку или хотя бы терпимое отношение со стороны самого преуспевавшего сектора в крестьянстве, ее, партии, левую фракцию все больше беспокоила мысль, что коммунистические идеалы поставлены под угрозу и что коммунистическое представление о классовой борьбе размывается. Почти никто в партии по-настоящему не примирился с товарной системой, и в аргументации всех спорящих мы находим очень шаткое предположение, что централизованное планирование экономики как-то сможет сосуществовать с рынком.
Как отмечалось, и не только тогдашними левыми, и не только сподвижниками Сталина, Бухарин, казалось, все надеялся, что переход к социализму в деревне следует отложить, пока не наступит эпоха принятия крестьянством социалистических порядков. До этой весьма маловероятной поры советская власть будет в определенной мере зависеть от сил рынка, которыми она не в состоянии полностью управлять (или, если пользоваться марксистской терминологией, советская власть будет зависеть от класса, являвшегося для нее не более чем союзником, а часто и хуже того).
Другой важный теоретический спор сводился вот к чему. Ленин и большевики с самого начала считали, что социализм не может быть построен в одной отдельно взятой стране и уж, во всяком случае, в такой отсталой стране, как Россия. После 1917 года они часто заявляли, что рассчитывают на революцию в Западной Европе, которая обеспечит необходимую марксистскую основу для победы социалистического всемирного пролетарского строя. Нет необходимости приводить множество цитат из трудов Ленина и других большевиков о том, что европейские революции произойдут неизбежно и что российская социалистическая революция выжить без них не может.
Эти логические построения подсказывал им не только здравый смысл, но и марксова теория. Уровень индустриализации в России, количество и «зрелость» пролетариата были явно недостаточны, чтобы с их помощью преобразовать коренным образом подавляюще огромную массу сельского населения. Задача, которая стояла перед руководством, в этих условиях была заведомо невыполнимой.
Но в будущем мы увидим, что большевики на деле уже давно вели себя так, будто Россию все-таки можно переделать без поддержки извне. Аргументация периода НЭПа уже учитывала, что пройдет много времени, пока возникнут революционные режимы в других странах. Но особенно левые фракционеры все еще по традиции и по теории рассчитывали на мировую революцию. Однако постепенно, вначале как чрезвычайно спорное теоретическое новшество, была выдвинута в партии идея «построения социализма в одной, отдельно взятой стране», и в конце концов эта новая мысль стала в ней общепринятой.
Вот как изложил обе концепции Сталин в мае 1924 года:
«Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран, или, во всяком случае, большинства таких стран. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира – все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах»[25].
Истинным автором теории о построении социализма в одной стране был не он, а Бухарин. Заслуга же Сталина заключалась в том, что он сделал ее главным пунктом внутрипартийных дискуссий. И политически он был абсолютно прав. Троцкий и другие могли сколь угодно пылко доказывать, что марксовой теории не соответствует раздувание пожара революции в одной стране, заведомо недостаточно развитой для намеченной цели. Но после поражения советской интервенции в Польше в 1920 году, после последнего «броска» Коминтерна на Западе, завершившегося поражением германской революции 1923 года – едва ли можно было дальше надеяться на успех ее где-либо в развитых странах, – успех, который по теории считался необходимым и для успеха в революционной России. Но это значило: либо советский режим должен бросать все силы на заранее обреченную европейскую революцию, либо он должен смириться и отступить назад, к буржуазно-демократическому этапу. Партийные деятели, однако, вовсе не собирались заниматься коллективным политическим самоубийством и уже достаточно созрели для принятия в качестве доказанной доктрины, пусть очень страной с точки зрения Карла Маркса, но зато политически обеспечивающей их затаенные цели.
Как обычно, Сталин постарался приписать теорию «построения социализма в одной стране» Ленину, который, действительно, однажды высказался на эту тему – правда, он имел в виду возможность построения социализма в одной развитой стране!
* * *
Сам ход партийных дискуссий должен напомнить нам, что партийные лидеры вовсе не были мыслящими экономистами, разрабатывавшими пути создания разумного общества (хотя иногда они и сами себя такими считали, и соответственно объясняли свои действия западным наблюдателям). Нет, перед нами группа людей, принявших на веру утопическую доктрину и считавших свою власть оправданной лишь в том случае, если они эту доктрину будут осуществлять, создавая новое, «лучшее» общество. Их превосходство над оппонентами зиждилось на убеждении, что они осуществляют на практике теории Маркса, и «пролетарский строй» (каковым считался советский режим) приведет в итоге к «социалистическому правопорядку». Отсюда вытекало, что доктрина неуклонно предписывала своим адептам четко определенные ею общественные цели – в экономическом, скажем, плане она требовала ликвидации товарного производства и рыночных отношений, а в социальном – ликвидации классов, основой существования которых как раз и являлись частная собственность и рынок.
Уступки, сделанные российскими коммунистами «рыночной стихии» в 1921 году, можно было оправдать тем, что они дали возможность удержать власть в руках партии.
Но само удержание власти могло быть принципиально оправдано только в том случае, если партия воспользуется первой же возможностью для перехода к созданию нового социального строя, предписанного ей доктриной, и ликвидирует классы, которые, в соответствии с этой доктриной являются преградой на пути к предусматриваемому неизбежному светлому будущему.
Ленин откровенно признавал, что коммунисты мало знают об экономической реальности. Это следует учитывать всякий раз, когда речь пойдет и о стремлении советского правительства управлять или овладеть экономикой деревни.
Знаменитое заявление о «ножничном кризисе» впервые прозвучало на Двенадцатом партийном съезде в 1923 году. «Ножницами» назвали две расходящиеся на диаграмме линии, одна из которых показывала все растущие цены на промышленные товары, а другая – чрезвычайно низкие цены на продукты сельскохозяйственного производства.
Этот первый «ножничный кризис» явился кратковременным явлением, последовавшим вслед за периодом большого беспорядка в экономике и вдобавок при отсутствии резервов зерна[26]. Вызван он был произвольным завышением цен на промышленные товары и занижением их на товары сельскохозяйственные, и прекратился, как только это положение было исправлено.
Но эти истерические крики о кризисе служат ярким примером того, насколько власть раздражало само явление рынка, к которому она испытывала отвращение и которого совсем не понимала. Всякий раз, когда условия торговли не устраивали правительство (или ему просто казалось, что они его не устраивают), на верхах появлялись эти признаки чрезмерной нервозности, нетерпимости, хотя терпимое отношение к ситуации является главным условием эффективности рынка в механике торговли.
Между тем начался, несмотря ни на что, подъем. Громан, главный экономист страны, писал, что «1922–23-й год явился первым нормальным годом экономической жизни после пяти ненормальных лет»[27]. Структура цен все еще была в плачевном состоянии, но улучшение ситуации было уже заметно и произошло оно исключительно благодаря товарным отношениям и крестьянской собственности. Закон о земле, принятый в октябре 1922 года, объявлял землю всенародной собственностью, но гарантировал право вечного владения ею тому, кто ее возделывает. В законе были даже столыпинские идеи объединения крестьянских полос; в некоторых районах начали вновь возникать индивидуальные хозяйства. Узаконивались три формы владения: кооперативная (которая в 1920 году объединила один-два процента земельной собственности); частная собственность, включавшая индивидуальные хозяйства столыпинского типа; и общественная, в традиционном общинном понимании этого термина. В начале 1925 года были сняты ограничения с использования наемного труда. В результате принятия таких мер произошел резкий экономический подъем. Уже в 1925–1926 гг. валовый сельскохозяйственный продукт достиг довоенного уровня[28]. Производство зерна увеличилось с 57,7 миллиона тонн в год в 1922–1925-х до 73,5 миллиона тонн в 1926–1929 гг.[29], хотя так и не достигло довоенного уровня, особенно на Украине и Северном Кавказе.
Это оздоровление, как отмечает генерал Григоренко, работавший в то время на отцовском участке, было результатом труда «людей разоренной деревни. Сельское хозяйство почти не имело тягла. Пахали на коровах и сами впрягались в плуги»[30].
* * *
Как и предвидел Ленин, успех частного сектора в сельском хозяйстве означал процветание самых трудолюбивых крестьян, и тогда «кулацкое пугало» вновь замаячило перед глазами бдительной партии.
Даже среди советских писателей, занимавшихся этой темой, нет полного единства по вопросу о том, кто они были, эти «новые кулаки». Одни считают, что просто это старые кулаки, притаившиеся до поры до времени и вновь появившиеся на сцене. Другие думают, что это новая прослойка из бывших середняков и бедняков, благосостояние которых повысилось после революции. Несомненно, в обеих точках зрения имеются элементы правды, и, кроме того, не везде и не все происходило одинаково. Как позднее выяснилось, многие из разбогатевших крестьян находились в период гражданской войны за пределами своей деревни, в Красной армии или в партизанах. Это оказались люди, довольно часто проявлявшие исключительную инициативу, которые столкнулись «на стороне» с иной жизнью и иными идеями. Oбpaтная сторона этой медали заключалась в том, что бывшие солдаты, доказавшие в бою свою преданность советской власти могли, конечно, оказывать давление на местное начальство и добиваться для себя наилучших условий при выплате ими налогов. Пока что против них не принималось никаких строгих мер. В те годы (конечно, по сравнению с предыдущими и последующими) террор был едва заметен, оставаясь, по советским меркам, на самом низком уровне. Крестьяне-мятежники даже были амнистированы. Типичной сценой явился выход из подполья в ответ на объявленную амнистию 126 крестьян-партизан в марте 1922 года в городе Лохвица на Украине. Лично присутствовал при этом председатель ВУЦИКа Петровский. (Все амнистированные погибли через семь лет во время новой волны террора.)[31]
Понимание того, что мирный период недолговечен, ширилось, однако, в партийных кругах и среди лиц, ответственных за охрану порядка. По словам одного московского наблюдателя, партия, особенно в низах, инстинктивно, подсознательно относилась к НЭПу с враждебностью[32]. Партийные активисты в деревнях, которые хорошо понимали четкие инструкции 1918–1921 гг., теперь недоумевали и не могли согласиться с перемирием с середняком и тем более кулаком. Действовали они часто соответствующим образом. Еще в 1924 году известный коммунист М. М. Хатаевич говорил, что у простых крестьян, да и у членов партии тоже, сложилось мнение, будто достаточно быть членом партийной ячейки, чтобы проводить реквизиции, или аресты, или конфискацию чего угодно без разрешения соответствующей инстанции. Он добавил, что трудно было определять, где кончалась партийная ячейка и где начинался трибунал, или милиция, или земельная комиссия[33].
Что касается крестьян, то их «отношение к советской власти никогда не было особо восторженным, если не считать некоторых бедняков, да и у тех восторг наличествовал далеко не всегда»[34]. Другие мужицкие слои воспользовались сложившейся ситуацией: в Сибири в 1925–1926 гг. кулаки создать собственную партию «Крестьянский союз» и для этого под петицией подписи нескольких тысяч человек.[35]
Ведущий сотрудник ГПУ Петерс писал открыто, что нельзя забывать: в условиях НЭПа нас все еще окружают наши враги[36]. А в секретном циркуляре от июня 1925 года уже говорилось: «Нам известно, что контрреволюционные организации и группы на Украине хорошо понимают, что ОГПУ вынуждено в настоящее время, можно сказать, пребывать в бездействии, продиктованном новой экономической политикой, а также правительственными соображениями более высокого порядка. То, что эта ситуация лишь временная, каждому из нас ясно. Поэтому ОГПУ не должно терять возможности разоблачать наших врагов с тем, чтобы нанести им сокрушительный удар, когда настанет для этого время».[37]
В систему подготовки «сил правопорядка» к этим чаемым временам входило прорабатывание чекистами инструкций по составлению списков «лиц, подозреваемых в контрреволюционной деятельности». Для Украины (в секретном циркуляре от февраля 1924 года) были перечислены такие категории особо опасных лиц и организаций.
Политические партии и организации
1. Все бывшие члены дореволюционных буржуазных политических партий,
2. Все бывшие члены монархических союзов и организаций (черные сотни),
3. Все бывшие члены Союза вольных хлеборобов (времен Центральной Рады на Украине).
4. Все бывшие представители дворянства и титулованные особы старой аристократии,
5. Все бывшие члены молодежных организаций (бойскауты и др.),
6. Все националисты всех мастей.
Чиновники и служащие, активно служившие царской власти
1. Чиновники бывшего Министерства внутренних дел: все чиновники Охранки (тайная полиция), полиции и жандармерии и т.д.,
2. Чиновники бывшего Министерства юстиции: члены окружных и губернских судов, присяжные заседатели, прокуроры всех рангов, судьи мировых и следственных судов, судебные исполнители, председатели окружных судов и т.д.
3. Все без исключения офицеры и младший командный состав бывшей царской армии и флота.
Тайные враги Советской власти
1. Все бывшие офицеры, младший командный состав и рядовые белых движений и армий, украинских петлюровских соединений, различных мятежных частей и банд, которые активно выступали против советской власти. Амнистированные советской властью исключения не составляют,
2. Все находившиеся на гражданской службе в отделениях и местных конторах белых правительств, в армиях Украинской Центральной Рады, в полиции гетманского государства и т.д.,
3. Все служители религиозных культов: епископы, православные и католические священники, раввины, дьяконы, церковные старосты, регенты, монахи и т.д.
4. Все бывшие купцы, лавочники и нэпманы,
5. Все бывшие землевладельцы, крупные земельные арендаторы (которые в прошлом использовали наемный труд), крупные ремесленники и владельцы промышленных предприятий,
6. Все лица, в числе родственников которых имеются находящиеся на нелегальном положении или ведущие вооруженную борьбу против советской власти в составе антисоветских банд,
7. Все иностранцы, вне зависимости от их национальности,
8. Все лица, имеющие родственников или знакомых за границей,
9. Все члены религиозных сект и общин (особенно баптисты)
10. Все старорежимные ученые и специалисты, особенно те, что до сегодняшнего дня скрывают свою политическую ориентацию,
11. Все лица, прежде судимые или подозревавшиеся в контрабанде, шпионаже и т.д.[38]
Довольно внушительная часть населения!
Кстати, разве не показательно, что 67 процентов расстрелянных по решению суда в 1923 году были крестьяне?![39]
* * *
Потеря партией прямого экономического контроля над советской деревней сопровождалась потерей ею и того, что еще сохранялось от прямого административного контроля на местном уровне.
Старая община оставалась по преимуществу подлинным центром экономической власти в новой российской деревне. Партия часто выражала недовольство подобной «двойственностью власти», но фактически местные советы всегда были значительно слабее, чем местные же общины.
Сельский совет избирался в те годы взрослым населением в соответствии со всеобщим избирательным правом, но с самого начала он контролировался властями как рычаг «диктатуры пролетариата в деревне»[40]. Даже советские источники не скрывают, что все решения предварительно «готовились» председателем – неизменно ставленником партии. Когда анализируешь списки членов окружных и сельских партячеек, ясно видишь, что многие активисты переводились в села извне или долго пребывали в чужих районах и вернулись в села лишь по решению партии. «Преданные» же деятели из числа местных жителей в большинстве своем оказывались бездельниками – исключение составляют сельские учителя, но этих насчитывалось немного[41].
Но с течением времени середняки и более зажиточные «элементы» добились доступа к власти и в сельских советах. С этого момента община, осуществлявшая после революции уравнительный передел, а потом занимавшаяся решением тех сельских дел, где не требовалось мер принуждения, стала доминирующим фактом деревенской жизни. Советы являлись исполнительным органом общин при выполнении теми некоторых бюрократических функций[42]. В 1926 году 90 процентов дворов входили в общины, и последние «на деле управляли всей хозяйственной жизнью в селах».[43]
Участвовать в сходах мог каждый член двора, достигший восемнадцати лет, и каждый участник схода мог голосовать. Но практически, как и раньше, голосовали только главы хозяйств. Даже в советском земельном кодексе фиксировалось, что кворум схода должен состоять не из большинства, а лишь из «половины представителей крестьянских дворов»[44].
Только в 1927 году советская власть предприняла серьезные шаги, чтобы дать больше реальной власти в деревнях местным советам (и заодно очистить их от нежелательных ей элементов). Но все понимали, что вопрос о том, кто реально будет управлять деревней, упирается в размеры влияния общины. Молотов сказал на Пятнадцатом съезде, что кулаки, изгнанные из советов, «пытались окопаться в общине (реплика Кагановича: „Правильно!“). Сейчас мы, наконец, выбьем их из этих последних окопов».
* * *
Но, повторим еще раз, кто они были, эти кулаки? Вопрос важный – именно попытки определить природу классового врага в деревне и подсчитать его численность в конечном итоге завершились гибелью миллионов людей.
Если сформулировать одной фразой, то кулачество как экономическая категория явилось чистой выдумкой партии. Выше говорилось (в главе о военном коммунизме), что именно Ленин переосмыслил этот исторически сложившийся термин и обозначил им выдуманный «новый класс» в деревне. Это иногда признавалось даже большевиками. В опубликованной в 1925 году брошюре Бухарин стал проводить различие между «зажиточным хозяином постоялого двора, сельским ростовщиком, кулаком» и, с другой стороны, преуспевающим земледельцем, который держал несколько наемных работников. Последнего он кулаком не считал[45]. А.П.Смирнов, нарком земледелия СССР, тоже пытался исключить преуспевшего мужика из той семантической путаницы, куда втянул его Ленин. Он указывал, что в собственном смысле слова «кулак» есть тип дореволюционного эксплуататора, который после революции практически исчез из жизни[46]. В аналогичной ситуации Милютин (первый ленинский нарком земледелия) спрашивал: «Что такое кулак? Пока что нет ясного, четкого определения роли кулака в процессе расслоения деревни»[47]. Такого определения так никогда никто и не сделал.
Один из участников партийных дискуссий по сельскохозяйственным вопросам писал, что всякий, кто знаком с реальными условиями, «прекрасно знает, что деревенского кулака прямо выявить нельзя (то есть, если исходить при этом из статистики по использованию наемной рабочей силы). Его нельзя обнаружить обычными средствами, как нельзя определить, является ли он в действительности капиталистом»[48]. Так что в распоряжении партии оставалось лишь психологическое или политическое распознавание кулака, и то был обычный, хотя официально не признаваемый метод для определения классовой дифференциации на селе в последующие, решающие годы.
В печатном органе партии «Большевик» однажды даже предлагали вообще отказаться от понятия «кулак»,[49] но в видении партией деревни сие определение было совершенно необходимым, и она постоянно делала усилия, чтобы не только дать кулаку определение, но и подсчитать точное количество этих своих классовых врагов на селе.
Подсчеты количества кулаков, однако, давали весьма различные результаты. В 1924 году один советский ученый заметил, что, «если бы хорошенько подогнать цифры, то получится два-три процента случаев кулацкой эксплуатации но в действительности наблюдаемые виды эксплуатации вовсе не доказывают их кулацкого характера»[50].
В 1927–1929 гг. к кулакам уже стали относить от 3,7 до 5 процентов крестьян (каждый процент охватывал 1,25 миллиона человек). Но даже Молотов, принимая цифру в З,7 процента, заявил, что установить точное количество кулаков – почти неосуществимая задача[51].
Официальный «Статистический справочник СССР» за 1928 год, которым часто пользовалось политическое руководство (хотя в целях экономического анализа в нем используется термин не «кулак», а «предприниматель») приводит цифру в 3,9 процента хозяйств, или 5,2 процента сельского населения, входящих в эту категорию, и классифицирует их следующим образом:
1. Владеют средствами производства на сумму более чем 1600 рублей и сдают внаем или в аренду средства производства или нанимают рабочую силу в течение 50 дней в году,
или
2. Владеют средствами производства на сумму более чем 800 рублей и нанимают рабочую силу более чем 75 дней в году,
или
3. Владеют средствами производства на сумму более чем 400 рублей и нанимают рабочую силу более чем 150 дней в году.
Следует напомнить всякому, для кого слово «кулак» ассоциируется с богатым эксплуататором крупного масштаба, что в 1927 году у самых преуспевающих крестьян было по две или три коровы и до 10 гектаров посевной площади на среднюю семью из семи человек[52]. Причем доходы на душу населения в самой богатой группе крестьян были лишь на 50–56 процентов выше доходов в самой бедной группе[53] .
Но если по доходам на душу населения разница была невелика, то зато в чисто производственной сфере – и это было важно! – кулаки, составлявшие всего 3–5 процентов крестьянских хозяйств, производили около 20 процентов всего зерна[54].
В эпоху «угара» НЭПа партия умиротворяла кулака экономически, но в политическом отношении она всегда подчеркивала, что необходимо крепить союз против него, союз пролетариата и беднейшего крестьянства[55]. Но, как ни трудно ей пришлось, когда она пыталась определить своего врага, то есть кулака, не легче ей было и при попытке понять, кто же такой ее союзник-бедняк.
Трудности начинались с определения даже самой, казалось бы, ясной экономической категории – «наемный сельскохозяйственный рабочий» (батрак). У большинства из них (63 процента) оказались собственные хозяйства, у некоторых скот (20 процентов), и часто нанимались они не на сезон или год, а лишь на короткую поденную работу – их, таким образом, было трудно отличать от соседней категории «крестьян-бедняков», которые точно так же могли время от времени наниматься на работы. Иногда же в «наймаки» шел вообще не сам крестьянин, а подрабатывал на стороне кто-то из членов его семьи…
Бывало, считали, что понятие «крестьянин-бедняк» включает в себя земледельца с небольшим участком земли и без лошади, иногда выполняющего работу за пределами своего хозяйства. Согласно другому определению бедняка, принадлежавшему Струмилину, ведущему экономисту при Сталине, у того имелось хозяйство, доходы от которого не превышали среднего заработка сельскохозяйственного работника. По другим определениям, у крестьянина-бедняка могла быть лошадь.
Но полная и законченная путаница начиналась тогда, когда теоретики пытались выделить «крестьян-середняков». Она усугублялась попытками поделить этих середняков на «слабых» и «состоятельных». Обычный критерий, с помощью которого их отличали от «бедняков» – это владение лошадью, хотя, как мы говорили, и он оставался предметом партийной полемики. А разделение между середняками и кулаками в большинстве определений основывалось лишь на том, что кулак, мол, использует труд наемных рабочих, и это именно превращает его в глазах партийных теоретиков в некое подобие капиталиста. Но середняки (и даже бедняки!) тоже в страду пользовались наемным трудом. В период борьбы с левой оппозицией Отдел пропаганды и агитации при Центральном Комитете прямо объявил, что «значительная доля в использовании наемного труда приходится на хозяйства середняков»[56]. Тогда придумали другие критерии – например размеры посевной площади в хозяйствах. Но часто бывало, что крупное хозяйство принадлежало большой семье безупречных середняков, а явный кулак, то есть более зажиточный крестьянин, засевал площади поменьше, зато сдавал в аренду сельскохозяйственную технику, спекулировал зерном и тому подобное[57]. Придумывался еще критерий, считавшийся «основным»: кулак за плату давал другим пользоваться своим инвентарем и тягловым скотом[58]. Но некоторые теоретики считали, что сдачу напрокат животных или инвентаря можно скорее отнести к товарным отношениям, чем к классовым[59].
Предпринимались попытки дать определение кулаку (как и середняку), исходя из количества его скота. Но тот, кто считался середняком, поскольку не использовал наемный труд и мало занимался торговлей, иногда (если у него была большая семья) держал трех коров или двух лошадей.
Представитель аграрной секции Коммунистической академии Крицман, выдвигая свою собственную сложную систему определений и подсчетов, заметил, что «наши статистические материалы, к сожалению, мало годятся для такого сравнительно тонкого исследования»[60]. А другой уважаемый советский экономист сообщил (правда, в книге, опубликованной посмертно в 1956 году), что у советских ученых вообще не имеется статистических данных, даже неполных или приблизительных, позволяющих оценить эволюцию в классовой структуре советской деревни ни по одному периоду![61] Западный исследователь насчитал в советской литературе четыре основных определения для каждой классовой категории в составе крестьянства. Эти определения регистрировались в 1925–1928 гг., а на деле их было гораздо больше. Причем как применявшиеся теоретиками критерии классовой дифференциации, так и результаты подсчетов численности «классов» почти постоянно были неодинаковыми[62].
Но даже если бы в распоряжении партии оказались самые точные классовые категории, все равно на простого крестьянина-бедняка особой ставки она сделать не могла. Только четвертая часть бедняков состояла, например, в государственном союзе сельскохозяйственных работников (хотя партийные наблюдатели и этот-то союз считали никуда не годным)[63].
К концу 1927 года только 14 тысяч (из общего числа в 2,75–3 миллиона) таких трудящихся-бедняков состояли членами коммунистической партии[64].
Пока сельскохозяйственный труженик-бедняк оставался в своей прослойке, он не чувствовал особой поддержки советского правительства. А как только начинал преуспевать, то сразу попадал в группу, к которой партия относилась с явным недоверием или даже враждебностью.
Если бедняки не повышали своего благосостояния, несмотря на официальные льготы, причитавшиеся их сословию, то их презирали даже местные партийные органы, даже партийные чиновники отказывались иметь с ними дело, считая таких мужиков просто пьяницами[65]. Советское периодическое издание по вопросам сельского хозяйства вложило в уста середняка такое мнение о бедняке: «Как можно чему-то учиться у бедного крестьянина, если он борща себе сварить не в состоянии?»[66]
Итак, экономическая помощь беднякам в деревне была для советской экономики либо бесполезной, так как увеличивала потребление бедняцкой семьи, либо социально вредной, если помогала им перейти в категорию середняков. Из множества официальных отчетов явствует также, что суммы, выделявшиеся для помощи крестьянам-беднякам, были явно недостаточными, и местные чиновники к тому же грели на них руки[67].
Вдобавок, к разочарованию партии более бедные крестьяне отнюдь не всегда относились с подобающей классовой ненавистью к более богатым. Крестьянские делегаты Пятого съезда Советов говорили, что провал государственных кредитных обществ подорвал коммунистические возможности обращаться к массам, тогда как кулак и подкулачник, помогая односельчанам с кредитом, задевают у тех самые чувствительные струны в душах[68].
Относительно середняка партия всегда прокламировала союз с ним против кулака, и это оставалось ее официальным, лозунгом на весь период больших перемен в реал-политике.(так в книге. – Д.Т.) Но истинное отношение к среднему крестьянству (да и к крестьянству вообще) колебалось у коммунистов между поощрением и подавлением. Влиятельные члены партии, к которым в то время примкнул Сталин, на самом деле испытывали к середняку скорее ненависть, тем большую, чем чаще им приходилось провозглашать лозунг союза с этим ненавистным середняком[69].
Эту ненависть можно, пожалуй, объяснить тем, что партийное разделение крестьян на категории строилось на заведомо неверном представлении о классовом характере крестьянства, и партия инстинктивно это чувствовала. Единственным социальным преимуществом бедняка являлось то, что его в первую очередь продвигали вверх по общественно-политической лестнице, например, в сельский совет. Но, попав туда, он проводил ту же линию, что и все остальные крестьяне. И в последующий период, при всех трудностях, связанных с хлебозаготовками и политикой цен, «бедняки вели себя точно так же, как другие производители»[70].
* * *
В политической и идеологической борьбе 20-х годов основной целью Сталина стало укрепление собственного, личного положения в партии с помощью системы назначений на ответственные посты своих людей. Эти назначения осуществлялись через руководимый им самим аппарат ЦК партии.
Так называемый актив власти в лице кадрового рабочего класса к тому времени в значительной мере (но, конечно, не полностью) превратился, с одной стороны, в организационную force majeure (высшую силу), а с другой – в чистейшую фикцию. Но существовал в стране параллельный ему источник силы: сама партия со всеми ее высокими должностями стала новой притягательной силой. Возникла партийная бюрократия, огромная группа людей, для которых власть и что с ней связано, в значительной степени вытеснили или исказили прежние идеалы. То, что Раковский характеризовал в те годы как «синдром автомобиля и гарема», превратилось на глазах в новый слой общества. Дело было не только в приходе в партию новых карьеристов, но в превращении и старых партийных кадров в новое социально-психологическое сословие – в правящую элиту. И это перерождение бывших революционеров далеко не всегда сопровождалось отказом от их безжалостных революционных мер. С одной стороны, надо было сохранить власть, и сохранить силой. С другой же – ленинская идеология по-прежнему оставалась движущей силой и в то же время легитимным основанием власти и новой правящей элиты.
Как и левые, так и правые оппозиционеры сомневались в социальной законности создания коммунистической привилегированной группы, зато ее влиятельные члены предпочитали солидаризироваться со Сталиным. Многие представители более молодого поколения борцов, сражавшиеся в свое время против царской власти, а затем всплывшие в гражданскую войну, с презрением относились к европеизированным интеллектуалам, как левым, так и правым, которые одолевали их в теоретических спорах; эти наследники – нередко чисто рабочего происхождения – стали резервом сталинистов.
В политических баталиях, когда нужно было нанести поражение Троцкому и Зиновьеву, Сталин вначале как бы соглашался с Бухариным, особенно в том, что крестьянин, мол, примет социалистические принципы через посредство торговых кооперативов, а затем постепенно перейдет к производственным кооперативам; или что государственные кредиты и есть главное оружие в деревне. Слово «колхоз» вовсе не упоминалось в сочинениях Сталина вплоть до Пятнадцатого съезда партии (в декабре 1927 года). И на съезде он еще настаивал, что индустриализация будто бы возможна только на основе прогрессивного улучшения материального положения крестьянства[71].
Но исподтишка Сталин уже начал сводить на нет смысл заявлений Бухарина. При этом он старался (по мнению Исаака Дойчера) проявлять куда больше гибкости в отношениях с партийными деятелями, чем это делали правые. В начале 1926 года Сталин, например, конфиденциально писал, что крестьянство – довольно неустойчивый союзник, что во время гражданской войны оно принимало сторону то рабочих, то генералов[72]. Этот скептицизм отражал подлинное отношение к крестьянству большинства коммунистов.
Победа над троцкистами, затем над Зиновьевым и Каменевым, затем над общей оппозицией, возглавлявшейся всеми тремя, была завершена в декабре 1927 года, когда на Пятнадцатом съезде Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. На этом съезде главным политическим маневром Сталина стало изображение видимости некоего единства в рядах победоносного сталинско-бухаринского руководства в момент окончательного разгрома левых. Но одновременно Сталин и его сторонники впервые попытались присвоить себе политическую линию левых. В официальных документах съезда речь шла только об «ограничении» кулака, но лично Сталин и его первый помощник Молотов уже заговорили о «ликвидации» кулачества как класса. Становилось известным, что Сталин склоняется влево. Он начал рассылать инструкции[73] о чрезвычайных мерах против кулаков, и тон инструкций резко контрастировал с умеренным тоном речей на съезде.
Правые, настаивая на необходимости экономического равновесия, также сделали больший упор на промышленность и потребовали с этой целью принятия более жестких мер против кулака. Бухарин еще в октябре заявлял, что союз с середняком уже достигнут и поэтому можно начать форсированное наступление против кулака, с тем, чтобы ограничить его эксплуататорские тенденции, а для этого следовало прибегнуть к новому налогообложению и к лишению возможности пользоваться наемной рабочей силой. На Пятнадцатом съезде партии Бухарин и Рыков говорили о необходимости оказывать давление на крестьянство, но вместе с тем предостерегали против отхода от НЭПа, чтобы не вызвать в обществе жесточайшего кризиса.
Советские авторы обычно считают, что Бухарин и его сторонники, или сознательно (как утверждал Сталин), или следуя объективному ходу событий, хотели восстановить капитализм в деревне. Некоторые исследователи на Западе разделяют эту точку зрения: правые, мол, были людьми умеренными, которые с радостью помогли бы частному фермеру, опоре сельского хозяйства страны. Они, дескать, были за коллективизацию, но только после того, как крестьянство будет готово к ней, когда тракторы и другое оборудование привлекут крестьян в колхоз.
Их политика, действительно, выглядела таковой до определенного момента. Но к концу 1928 года Бухарин занял гораздо более жесткую по отношению к крестьянству позицию. Он говорил о крупных капиталовложениях в сельское хозяйство, об опасности роста частного крестьянского сектора, особенно той его части, которая была ответственна за поставки зерна, о необходимости ограничений кулацкого сектора, о создании совхозов и колхозов, о правильной политике в области цен, а также о развитии кооперативов, которые должны объединить крестьянские массы[74].
В начале НЭПа Бухарин на страницах прессы, действительно, всячески ратовал за частный сектор, и в 1929 году он и правые выражали недовольство методами навязываемой Сталиным коллективизации. Но куда важнее то, что правые ни разу не предложили альтернативного варианта истинной модернизации сельского хозяйства на основе частного сектора. Они восторженно поддержали решения Пятнадцатого съезда партии, принявшего долгосрочную программу коллективизации (к 1933 году намечалось осуществить ее на 20 процентов). Бухарин никогда по-настоящему не критиковал аграрную теорию партии, в его «Заметках экономиста» (1928 г.) на эту тему нет ни строчки.
Нет, правые вовсе не отказались от идеи социализации сельского хозяйства, и они не отвергли ленинский тезис о классовой борьбе в деревне. Свою декларацию о необходимости крепить союз с середняком Бухарин высказал в параллели с заявлением, что кулака-то следует всячески подавлять, и эта именно бухаринская формулировка считалась официальной линией партии в течение всего периода коллективизации.[75]
Точнее всего было бы сказать, что в вопросах сельского хозяйства и промышленности Бухарин был против максималистского подхода, например, слишком высоких налогов на крестьян, которые могли привести к спаду сельскохозяйственного производства. Он был за разумно сбалансированное отношение к тяжелой и легкой промышленности.
Тактика Сталина на этом новом этапе, то есть в 1927–1930 гг., когда его главной политической целью стал разгром правых, отличалась и непостоянством, и неопределенностью. С одной стороны, он делал все, чтобы расставить своих людей на ключевых постах в партийном аппарате – как в центре, так и по всей стране. С другой стороны, перетягивая на свою сторону лишенные к тому времени традиционного руководства левые элементы, он действовал с достаточной осторожностью, стараясь одновременно повести за собой как можно больше и тех, кто ранее выступал за НЭП, и таким образом все сильнее изолировал правое руководство – как идеологически, так и организационно. Когда в городах проявилась наконец некоторая стабильность и даже повышение уровня благосостояния населения и начался вновь рост пролетариата, в партии, во всех ее фракциях именно в этот момент возникло сильное стремление предпринять новые шаги на пути к социализму. Сталин искусно использовал это настроение партийного большинства.
Предполагалось в целом осуществить укрепление восстановленной в значительной мере промышленной базы и постепенно расширить заложенную в деревне систему колхозов. Решениями Пятнадцатого съезда намечался план, в котором эти пункты были главными. Бухарин и Томский этот план поддержали.
* * *
Внутрипартийная борьба на Украине отлилась в формы, сильно отличавшиеся от московских. Первым секретарем коммунистической партии Украины в апреле 1925 года был назначен Лазарь Каганович, сменивший на этом посту тормозившего украинизацию Квиринга (происходившего из немцев Поволжья). Каганович, преданный Сталину деятель, вскоре приобрел ужасную репутацию, и многие полагали, что новое его назначение окажется для Украины губительным. А. Шумский, украинский нарком просвещения, считал, что на такой пост следовало назначить В. Чубаря – украинца. Но Каганович, хотя и сознавал, что националистические украинские настроения могут выглядеть вредными в глазах руководства в Москве, активно проводил политику умеренной украинизации[76] в ее культурном и языковом аспектах. В течение нескольких лет его лидерства на Украине национальная культура продолжала развиваться, хотя и не без задержек со стороны Москвы (Каганович, не будучи украинцем, родился все-таки на Украине и свободно говорил по-украински). Например, в 1926 году именно руководство в Москве решило, что украинское национальное самовыражение зашло уж слишком далеко: Шумский выступил с требованием более полной культурной, экономической и политической автономии. Его обвинили в национализме и отстранили от всех дел вместе с его сторонниками. Всю эту кампанию сильно осложнило то, что в его защиту выступила коммунистическая партия Западной Украины (в то время действовавшая на территории Польши). Дело Шумского обсуждалось исполнительным комитетом Коминтерна. Выступивший в прениях Сталин высказался в том смысле, что позиция Шумского устраивает местную интеллигенцию, но на деле она приведет лишь к борьбе за отчуждение украинской культуры и общественной жизни от общей советской культурной жизни, к борьбе украинцев против Москвы и русских вообще, против русской культуры.[77] И мнение Сталина в определенном смысле было, конечно, верным.
Устранение Шумского и нападки на его линию не повлекли за собой, однако, перехода к полной русификации. Шумского на посту наркома просвещения сменил Скрыпник, остававшийся на протяжении последующих семи лет ключевой фигурой в составе партийного руководства, защищавшей культуру своей страны.
Скрыпник, сын украинца, железнодорожного служащего вступил в Российскую Социал-Демократическую рабочую партию в 1897 году, а в 1901 году в первый раз был арестован за свою партийную деятельность. После раскола партии в 1903 году стал большевиком. В 1913 году состоял в редколлегии «Правды». На Шестом съезде партии в 1917 году стал членом в то время еще очень узкого состава Центрального Комитета. Вернувшись в Киев в качестве полномочного представителя Ленина в декабре 1917 года, он сначала мало интересовался украинским национальным вопросом, и только в следующий свой приезд в апреле 1920 года, после короткого периода, в течение которого он занимал вполне централистскую позицию, Скрыпник постепенно превратился в сторонника независимой, но советской Украины. Исключительно благодаря силе своего характера он смог примирить в собственном мировоззрении эти два противоречивых понятия – вплоть до самой гибели в 1933 году.
Как отметил д-р Дж. Е. Мейс, звание «нарком просвещения» никак не отражало подлинной степени влияния Скрыпника, который де-факто ведал сферой культуры, идеологии и национальных взаимоотношений в республике. Он вел упорную, хотя на первых порах явно успешную борьбу с противостоящими ему силами.
Скрыпник не скрывал, с кем именно он борется. На Двенадцатом съезде партии он с возмущением рассказал о высокопоставленных коммунистах, принимавших на словах «украинизацию», ибо такой была текущая партполитика, но не делавших ничего для ее практического осуществления в жизни. К одному из делегатов, голосовавших на недавней республиканской конференции за «украинизацию», рассказывал Скрыпник, подошел на выходе из зала рабочий и обратился к нему по украински. «Почему бы тебе не разговаривать со мной на понятном языке?» – ответил тот[78].
Помощник Скрыпника писатель-коммунист Мыкола Хвылевой открыто выступил в 1926 году в официальном органе ЦК КПУ со статьей, где заявил, что украинская экономика – не русская экономика и таковой быть вообще не может, уже хотя бы потому, что украинская культура, которую порождает экономическая структура страны и которая, в свою очередь, влияет на хозяйственную основу, обладает собственными, характерными формами, особенностями… То есть, Союз, конечно, Союзом, но ведь в составе Союза Украина называется независимым государством, это Союз равных и независимых республик[79] (Хвылевой использовал в борьбе официально зафиксированные формулы советской Конституции, умышленно пренебрегая реальной централизаторской политикой, которую эти статьи прикрывали по фасаду). Другой сотрудник Скрыпника, М.Волобуев, отвечавший за работу политпросвещения, возмущался, что Украина все еще подвергается экономической эксплуатации посредством тех же фискальных методов, которые господствовали и до революции.
«Украинские» настроения в КПУ разделяли и местные еврейские деятели – Кулик, Лифишц, Гуревич и Равич-Черкасский. Последний критиковал русских членов КПУ, которые, по его словам, «считают, что УССР и КПУ существуют лишь на бумаге или просто играют в украинские игры. В лучшем случае эти люди допускают, что в период борьбы против националистической Центральной Рады и Директории большевистская партия и советское правительство Украины были вынуждены вырядиться в защитные цвета независимости национализма. Теперь же, когда советская власть на Украине укрепилась, они считают, что роль УССР и КПУ/б/ подошла к концу»[80]. (А не КП(б)У? – Д.Т.)
В противовес этим деятелям, так называемые партийные ортодоксы постоянно высказывали опасения, что влияние национализма в республике угрожает Союзу расколом. Сталин в это время проводил среднюю линию – до тех пор, пока он занимался разгромом Бухарина и его сторонников, а борьба с крестьянством еще не стала центральным вопросом на повестку дня.
В июле 1928 года Каганович, который руководил Украиной, по крайней мере, с достаточным тактом, был отозван в Москву. По словам Бухарина, «Сталин подкупил украинцев, удалив Кагановича с Украины»[81]. Сталин и сам признавал, что на Украине требовали вместо Кагановича назначить Гринько или Чубаря[82]. Но новым генсеком Украины стал поляк Ст.Косиор, а Чубаря назначили предсовнаркома республики
* * *
Что вытекает из всего вышеизложенного? Украинская партинтеллнгенция не успокоилась. Деревня не была покорена: даже там, где новый порядок был принят как свершившийся факт, корней он не пустил. Как признал один видный местный коммунист, в 1926 году всякий, связанный с властью, пусть даже селькор, чувствовал себя на Украине «неуютно»[83]
Частично по этой причине на Украине продолжали сохранять повсеместно презираемые комбеды, давно расформированные в других местах. Хотя в разгар НЭПа их лишили большой части прежних полномочий, но в 1927–1928 гг. многое в их функциях было восстановлено – и, в частности, особой задачей было объявлено создание комиссий по выявлению «излишков зерна».[84] Это выглядело как предвестие новой политики Сталина, когда, полностью захватив власть, он проявил наконец свои истинные замыслы.
Часть II. Подавление крестьянства
Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены.
Иеремия, 8:20Глава пятая. Нарастание противоречий (1928–1929 гг.)
Я, избежав одной беды, в другую попадаю.
КорнельВ начале 1928 года разразился зерновой кризис – вернее говоря, таковым положение представлялось советскому руководству. В действительности же имело место некоторое временное нарушение равновесия на мировом рынке зерна, и если бы советским правительством были приняты необходимые в таких случаях меры предосторожности, положение с зерном в стране можно было бы сравнительно легко выправить.
Снова наблюдаем полное непонимание партийной верхушкой механизма функционирования хлебного рынка, ее некомпетентность в вопросах ценообразования и ее вечную подозрительность – все это не могло не привести к панике в стране.
Трудности на самом деле существовали. К началу 1928 года хлебный экспорт практически прекратился. Ведь перед Первой мировой войной половина производившегося в России хлеба поступала из помещичьих и кулацких хозяйств, более того, именно они производили свыше 71 процента зерна, которое шло на внутренний рынок и на экспорт.
В 1927 году в распоряжении советских крестьян было 314 миллионов гектаров земли, в то время как до революции им принадлежало только 210 миллионов гектаров. Возросло за эти годы и число крестьянских хозяйств – с 16 миллионов до 25 миллионов[1]. Крестьяне, не входившие в категорию кулаков, производили до Первой мировой войны 50 процентов зерновых и потребляли 60 процентов производимого ими зерна; теперь они производили 85 процентов всего урожая зерновых и потребляли 80 процентов производимого зерна[2]. Задача государства сейчас состояла в том чтобы завладеть этим хлебом. Но еще на Пятнадцатом съезде партии, состоявшемся в декабре 1927 года, один из ветеранов партии Г.Я.Сокольников предупреждал: «Мы не должны думать, что имеющиеся у крестьян запасы хлеба свидетельствуют о какой-то кулацкой войне против экономической системы пролетариата и что нам следует организовать специальную кампанию, чтобы завладеть ими. Если мы это сделаем, то просто вернемся к политике реквизиций»[3].
Единственной альтернативой этой политике было разумное использование рыночного механизма и системы прямого и косвенного налогообложения, а также элементарное продумывание применяемых мер.
То и другое, увы, отсутствовало. Обычно симпатизирующий советскому режиму автор замечает: «Политика советского правительства, ежегодно планирующего высокий урожай на данный год, является по самой своей сути нереалистичной»[4].
Да и вообще, «режим не имел ни малейшего понятия, куда идти, принимаемые решения противоречили друг другу и вели лишь к дестабилизации сельского хозяйства».[5] На Пятнадцатом партийном съезде несколько ораторов затронули эту тему. Например, Каминский осудил «колебания и неустойчивость цен на сельскохозяйственную продукцию»[6], указав, к примеру, что официально установленные цены на лен менялись пять раз за два года.
Один из ведущих западных специалистов в этой области, покойный ныне профессор Ежи Ф.Карч, считал, что провал попыток создать зерновой резерв в период урожаев свидетельствовал о «халатности, граничащей с безумием» и добавлял, что когда «бестолковая финансовая политика и неумелый подход к ценообразованию вызвали крах заготовительной кампании 1927–1928 гг.», принятию разумных мер со стороны правительства препятствовал разразившийся одновременно с этим «кризис информации, масштабы которого почти невозможно представить»[7]. В самом деле, как указал Карч, «бытовавшие тогда мнения о способности советского крестьянина поставлять продукцию на рынок кажутся совершенно необоснованными»[8]. По расчетам специалистов, дополнительные вложения в размере всего лишь 131,5 млн. рублей, направленные на повышение цен на зерно в течение 1927–1929 гг., могли бы сбалансировать хлебный рынок.[9]
Даже советские экономисты молчаливо подтверждают выводы западных ученых о том, что основные показатели, на которых основывал свою зерновую политику Сталин, были сильно искажены[10] (действительно, приводимые в разных советских источниках цифры урожая зерновых на тот или иной конкретный год значительно расходятся)[11]. На практике Сталин исходил из данных, значительно недооценивавших количество зерна, поступившего на рынок в 1926–1927 гг.; фактически эта цифра была выше, чем считали его плохо информированные и низко квалифицированные советники[12]. Один советский исследователь доказал недавно (не акцентируя этого факта), что в своих расчетах Сталин принимал валовое производство зерна за 1926–1927 гг. равным 10,3 млн. тонн, тогда как реальная цифра составляла 16,2 млн. тонн.[13]
Итак, на протяжении рассматриваемого периода, со всеми его реальными и мнимыми кризисами, цифры, на которых основывалось советское руководство, были почти столь же ненадежными, как и прогнозируемые, и «запланированные». Современный советский исследователь отмечает, что работники на местах, ошарашенные бесконечными анкетами и запросами, говорили: «Мы попросту не понимаем половины вопросов и потому вписываем первую пришедшую в голову цифру»…[14] Между тем Центральное статистическое управление, Госкомитет по планированию (Госплан), наркомат рабоче-крестьянской инспекции и статистические отделы кооперативного движения «продолжали публиковать значительно расходящиеся между собой данные по одним и тем же, зачастую весьма важным показателям, как, например поставки зерна, посевные площади, пятилетние планы».[15]
Сталин ошибочно заявлял: «Мы имеем теперь вдвое меньше товарного хлеба [по сравнению с довоенным временем] несмотря на наличие довоенной нормы валовой продукции хлеба»[16]. Тут же, резко взяв влево даже по отношению к вводимому в тот момент жесткому курсу, Сталин возложил вину за создавшееся положение прежде всего на «кулаков» и добавил, что «решением вопроса является переход от единоличного крестьянского хозяйства к коллективному, общественному хозяйству в земледелии» и «борьба против капиталистических элементов крестьянства, против кулаков».[17]
На пленуме ЦК и ЦИКа, состоявшемся в апреле 1928 года, была выработана линия, согласно которой кризис обусловлен различными экономическими факторами, причем кулаки лишь использовали в своих целях нарушение равновесия рынка. Сталин, однако, почти сразу же свалил главную вину на кулаков, и советские специалисты, позже писавшие по этому вопросу, поддержали позицию вождя. Один из них, например, пишет: «Кулаки организовали саботаж уборки хлеба в 1927–1928 гг. Обладая большими запасами зерна, они отказались продавать его государству по цене, установленной советским правительством»[18].
Правда, в настоящее время большинство советских историков, в том числе и такие догматики, как Сергей Трапезников, объясняя причины зернового кризиса 1928 года, оперируют практически теми же формулировками, что и западные исследователи: неправильное соотношение между ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; дефицит промышленных товаров, предназначенных для сельского рынка, а отсюда – отсутствие стимулов для продажи сельскохозяйственной продукции; ошибочное использование программы закупок зерна, поощрявшее крестьян создавать запасы хлеба, поскольку цены на него были слишком низкими. Сокращение же числа кулаков означало, что тех, у кого имелся излишек зерна, стало еще меньше[19].
Но при любом варианте дефицит зерна в январе 1928 года исчислялся всего в 2 160 000 тонн[20], то есть ни в коей мере не представлял собою ни «кризиса», ни «угрозы», как назвал Сталин[21].
Ибо, хотя объем производства зерновых снизился, производство другой сельскохозяйственной продукции, в том числе скота, увеличилось, так что валовая продукция сельского хозяйства возросла в 1928 году примерно на 2,4 процента[22]; причем уже в те времена один из советских специалистов посчитал ежегодный прирост крестьянского производственного капитала равным 5–5,5 процента, то есть цифре весьма значительной[23]. Более того, как отмечает Трапезников, продажа крестьянами технических культур, на которые были установлены высокие закупочные цены, быстро росла[24].
В сущности, крестьяне просто нормально прореагировали на сложившуюся на рынке ситуацию – на нереалистично низкие цены, установленные государством на зерно.
И все же в январе 1928 года наступил, по определению американского ученого Стефена Ф.Коэна, «поворотный момент». Столкнувшись с нехваткой хлеба или поверив в таковую, Политбюро единогласно проголосовало за «чрезвычайные» или «срочные» меры. Правые рассматривали их как ограниченную экспроприацию кулацкого зерна, и когда кампания переросла в массовую конфискацию хлеба у крестьянства, проводившуюся с почти такой же жестокостью, как в 1919–1921 гг., они забили тревогу.
Но, по существу, само решение, пусть даже обставленное всеми оговорками о его временном характере и о том, что оно не является концом НЭПа, явилось фатальным. Ведь партия захватывала хлеб, произведенный для продажи при якобы гарантированных условиях рынка. Экспроприация обеспечивала государство зерном, в котором оно нуждалось. Но одновременно она демонстрировала производителям сельскохозяйственных продуктов, что они более не могли полагаться на условия рынка. Таким образом, ранее только поколебленный экономический стимул был теперь в значительной степени подорван. В то же время успехи в конфискации зерна создавали у партийного руководства ложную и необоснованную уверенность, что оно нашло способ решения проблемы. Ибо дефицит зерна, составлявший чуть больше 2 млн. тонн, был восполнен с лихвой: чрезвычайные меры принесли около 2,5 млн. тонн[25].
Сталин определил чрезвычайные меры как «сугубо исключительные», но применявшиеся властями методы не могли не напомнить крестьянству о военном коммунизме. Была проведена мобилизация кадров. В зерновые районы было отправлено 30 000 активистов. В деревнях появились чрезвычайные «тройки», располагавшие всей полнотой власти и не считавшиеся с местными органами управления. В сельских, районных и губернских парторганизациях разразились чистки «слабых элементов». Хлебные рынки были закрыты. Количество зерна, которое крестьянам разрешалось молоть на мельницах, было сведено к минимуму, необходимому для личного потребления. И хотя из центра время от времени раздавались сожаления о «перегибах», возобновились по существу реквизиции периода гражданской войны. Сталинская политика атаки на кулака и реквизиций в деревне приближалась фактически к наиболее экстремистским вариантам программ левых, не случайно Преображенский полностью поддержал ее.
Снова, как в 1919 году, самая многочисленная прослойка крестьян – середняки – более не имела соответствующего представительства в сельских советах. В некоторых украинских губерниях их доля сократилась до 30 процентов и менее. А в таких органах как избирательные комиссии, где по существу, и определялся состав советов, крестьяне всех категорий зачастую едва ли составляли большинство, оттесненные множеством должностных лиц и прочих посторонних[26].
Закон от 10 января 1928 года изменял правила о кворуме на собраниях сельских общин, так что теперь треть членов могла навязывать решение остальным[27]. Крестьяне, лишенные в СССР права голоса, не могли голосовать также и на сельских собраниях, тогда как работники, не имевшие собственного надела, получили это право. Кроме того, решения собрания могли быть оспорены сельским советом, если они, по мнению последнего, противоречили политике советской власти[28]. Это было началом конца независимости общин и одновременно – ударом по середняку.
Опять начали использовать в широких масштабах ту функцию, которую имела община при царизме, а именно «самообложение». Это означало, что община отвечала за сбор с деревни «дополнительных денег» – уже после того, как проведенное по новому уставу собрание заставляли принять определенную норму хлебозаготовок (в то же время, поскольку было заранее установлено, что община обкладывает кулаков более высоким налогом, независимо от мнения жителей деревни, традиционная свобода самообложения больше не применялась). Из официальных документов ясно следует, что партийные установки не пользовались поддержкой даже у крестьян-бедняков и что введенные тогда жесткие правительственные меры были враждебно встречены всеми элементами деревни[29].
Особое внимание уделяли Украине, Северному Кавказу и Поволжью, но главной целью правительства на этот раз была Сибирь. Сталин лично выехал туда (последнее в его жизни посещение деревни). Он выступал на заседаниях бюро Сибирского крайкома ВКП/б/ и других органов, обвиняя их работников в некомпетентности, граничащей с саботажем. Когда те попытались протестовать, заявляя, что из центра запросили чрезмерное количество зерна, Сталин ответил, что если бедняки и середняки продали излишки хлеба, то у кулаков еще имеются огромные запасы, по 50–60 тысяч пудов на семью. То были чистейшие домыслы, к тому же, противореча сам себе, Сталин заявил, что наибольший объем непроданного зерна находится в руках середняков.[30]
Когда дело дошло до сбора зерна на местах, где государственные служащие составили списки всех, кого можно было отнести к категории кулаков, но так и не получили от внесенных в эти списки запланированного по разнарядке объема поставок, кулакам велели просто «изыскать недостающее зерно»[31]. Поскольку у кулаков, как бы широко ни толковали это понятие, не имелось излишков хлеба, покрывавших нормы поставок, спущенные местным работникам, последним не осталось ничего иного, как восполнить недостающее зерно за счет запасов всей крестьянской массы.
В письме, направленном Сталиным местным парторганизациям, признавалось, что кулаки не являются главным источником излишков хлеба, но с ними следует бороться как с экономическим руководством крестьянства, «причем непосредственно за ними следуют середняки»[32].
После того, как острота кризиса спала, Сталин и поддерживавший его Бауман признали, что «чрезвычайные меры» включали обыски, конфискации и т.п. и что они перешли за грань разумного «предела безопасности» середняка. Сталин лично с поразительной откровенностью объяснил, в чем именно состояли ошибки. В апреле – мае 1928 года планы хлебозаготовок не выполнялись. «Ну а хлеб все-таки надо было собрать. Отсюда повторение рецидива чрезвычайных мер; административный произвол, нарушение революционной законности, обход дворов, незаконные обыски и т.д., ухудшившие политическое состояние страны и создавшие угрозу смычке рабочих и крестьян»[33].
Главным орудием «закона», применявшегося тогда против крестьянства, была «статья 107», вступившая в силу в 1926 году. Она предусматривала тюремное заключение и конфискацию имущества лиц, виновных в умышленном завышении цен или отказывавшихся поставлять свои товары на продажу. Статья эта никогда не предназначалась для использования против крестьянства, введена она была для борьбы со «спекулянтами». На пленуме ЦК, состоявшемся в июле 1928 года, Рыков получил возможность сообщить присутствующим, что обычно зона действия «статьи 107-й» охватывала в 25 процентах случаев крестьян-бедняков, в 64 процентах случаев – середняков, а кулаков – лишь в 7 процентах случаев[34]. Позднее, в том же году, были опубликованы результаты голосования, четко показывавшие, что крестьяне-бедняки не оказали ожидавшейся поддержки мерам правительства[35].
На том же июльском пленуме было объявлено об отмене чрезвычайных мер. (Принципиально продолжение НЭПа было подтверждено уже на апрельском пленуме.) Сталин, хоть и не напрямую, высказался в поддержку предложения о том, что необходимые для индустриализации средства следует собрать с крестьянства; в то же время открыто он не отказывался от НЭПа:
«С крестьянством у нас обстоит дело в данном случае таким образом: оно платит государству не только обычнее налоги, прямые и косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары промышленности – это во-первых, и более или менее недополучает на ценах на сельскохозяйственные продукты – это во-вторых…
Это есть нечто вроде «дани», нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии, обеспечить индустрию для всей страны, поднять дальше благосостояние деревни и потом уничтожить вовсе этот добавочный налог, эти «ножницы» между городом и деревней… без этого добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна пока что обойтись не могут…»
Но, продолжает Сталин:
«Может ли крестьянство выдержать эту тяжесть? Безусловно, может: во-первых, потому, что тяжесть эта будет ослабляться из года в год, во-вторых, потому, что взимание этого добавочного налога происходит… в условиях советских порядков, где эксплуатация крестьянства исключена со стороны социалистического государства и где выплата этого добавочного налога происходит в условиях непрерывного улучшения материального положения крестьянства».[36]
Однако у Сталина хватило решимости заявить на пленуме, что давление на «капиталистические» элементы деревни достигло такой силы, что «иногда» доводило их до краха[37].
Существует мнение, что чрезвычайными мерами Сталин хотел лишь «запугать кулаков до полной покорности»[38]. Как бы то ни было, пленум издал новые директивы: прекратить применение чрезвычайных мер, поднять цены на зерно, направить в деревню промышленные товары.
Но более зажиточные крестьяне уже перепугались всерьез. Некоторые из них стали выращивать меньше хлеба, другие продавали свое имущество. Ведь теперь цены на хлеб не позволяли даже покрыть затраты на его производство – это признавал и ведущий сталинский экономист Струмилин.[39] Да и вообще, реакция производителей зерна на принудительные хлебозаготовки оказалась вполне естественной: у них пропала всякая охота развивать производство, и тяжкий крестьянский труд, благодаря которому начало восстававливаться сельское хозяйство страны, стал понемногу замирать.
И вот к концу 1928 года партия столкнулась с мрачными результатами собственного управления сельским хозяйством. Осенью 1928 года показатели зернового и животноводческого производства начали снижаться. Если же еще учесть прирост населения с 1914 года, то станет ясно, что производство хлеба на душу населения снизилось с 584 кг до 484,4 кг.[40]
Когда выяснилось, что рынок не удовлетворил возложенные на него надежды, то дефицит зерна восполнили за счет реквизиций, а потом правительство снова вернулось к рынку. Но, с точки зрения крестьянина, рынок более не являлся надежным каналом сбыта продукции, ибо его можно было перекрыть в любой момент и перейти опять к реквизициям. Правительство, напротив, помнило лишь успех, достигнутый с помощью реквизиций, и не понимало, что они повлекли за собой развал рыночных отношений, что принудительная реквизиция зерна при наличии рынка лишает рынок стимулирующей функции и в новых условиях он неминуемо должен количественно сократиться.
Совершенно ясно, что главную роль в этом сыграло не тайное накопление запасов хлеба производителями, а снижение его производства[41]: Бухарин прямо говорил про «сказки о хлебных запасах».[42]
* * *
На всем протяжении борьбы за хлеб в деревне Сталин использовал эту ситуацию для атаки на правых. Его тезис заключался в том, что «в наших партийных организациях народились в последнее время известные, чуждые партии элементы, не видящие классов в деревне» и желающие «жить в мире с кулаком»[43]. На апрельском пленуме Центрального Комитета (1928 г.) Сталин выступил с резкими нападками на партийцев, «плетущихся в хвосте у врагов социализма». К середине 1928 года Бухарин понял, что Сталин решился проводить курс, который вызовет восстания в деревне, он готов «потопить их в крови»[44]. Уже в июне 1928 года Бухарин и Сталин не разговаривали друг с другом. Но приличия еще соблюдались.
Бухарин жаловался на то, что рядовые члены ЦК не понимали сути разногласий, но сам не прилагал особых усилий, чтобы разъяснить положение. Правые боролись со Сталиным втихую, а перед широкой аудиторией скрывали раскол, Сталин же тем временем открыто не нападал на лидеров правых, его приспешники, не называя лиц, критиковали «тех, кто не хочет ссориться с кулаками», и, наконец, в «Правде» началась атака на «основы позиций правых»[45].
Теперь уже Бухарин стал подгонять «наступление против кулаков». Калинин, находившийся в тот момент на стороне Бухарина, истолковал его позицию таким образом, что насильственной экспроприации кулаков все равно нельзя допускать, подкрепив свое мнение благоразумным доводом о том, что пока существует частное хозяйство, новые кулаки будут неминуемо возникать взамен экспроприированных.
Сталин тоже пока зарекался «передавать кулаков в ГПУ», хотя и в менее решительных выражениях, но недвусмысленно оставлял за государством право принимать против них «административные» меры наряду с экономическими. Когда дело дошло до личностей, Сталин публично обрушился на менее значительных и более явных правых, в частности, на заместителя наркома финансов и наркома внешней торговли Фрумкина. 15 июня 1928 года Фрумкин направил письмо в ЦК ВКП/б/. В ноябре Сталин выступил на пленуме ЦК, обвинив его в «правом уклоне». Одновременно с этим Сталин заявил о единстве взглядов в Политбюро, но подверг критике в качестве «примиренца» Угланова, занимавшего четвертое место в правой группировке. На том же ноябрьском пленуме ЦК Бухарин и Томский были все же вынуждены подать заявление о выходе из состава Центрального Комитета. Но Сталин еще не был готов к такому повороту событий и убедил их взять заявления обратно, согласившись на их требование прекратить распространение слухов о расколе.
На протяжении 1928–1929 гг. Сталин попросту перехитрил правых. Позиции их постепенно подрывались, но Сталин не дал повода начать какую-либо серьезную открытую полемику – хотя бы такую, какую вел Троцкий, не говоря уже о Зиновьеве.
Как прекрасно сформулировал Роберт В. Дэниэлс, «история правой оппозиции являет собой единственный в своем роде пример того, как политическую группировку сперва победили и только потом атаковали».
* * *
Когда в конце 1928 года снова появились признаки зернового кризиса, даже Госплан пришел к выводу, что «тенденция к снижению» сбора зерна представляет собой сезонное явление.[46] Еще в конце ноября 1928 года сам Сталин отвергал идею превратить «чрезвычайные меры» в постоянную политику.[47]
Поэтому с новым дефицитом зерна государство справилось все теми же методами, но при этом отрицая, что они являются «чрезвычайными» или доходят до неприкрытой конфискации. Политбюро одобрило «уральско-сибирский метод» (Рыков возражал), основанный на рекомендациях партийных органов этих двух регионов; примерно с февраля 1929 года его начали в широких масштабах применять по всей стране (хотя официально он был узаконен лишь в июне). В основе этого метода лежала идея о значительных запасах хлеба, накопленного главным образом в руках кулаков, отсюда и вытекало увеличение нормы хлебозаготовок для деревень. В теории «метод» базировался на «единодушии, выражаемом крестьянскими массами».
Направленные в деревню партийные уполномоченные не объявляли реквизицию в приказном порядке. Вместо этого они устраивали собрания крестьян, и те под давлением уполномоченных принимали обязательство повысить норму хлебозаготовок, ввести «самообложение» по зерну и деньгам, а также решали, на каких именно кулаков следует оказать «общественное давление». Подчеркнем, что уполномоченные добивались от крестьянских собраний подобных решений практически с помощью насилия. Сначала сельский сход почти неизменно голосовал против новых предложений. Тогда уполномоченный разоблачал выступавших против него ораторов, объявляя их «кулаками» или «подкулачниками»; применялись аресты, обыски, штрафы, конфискация имущества или даже расстрел[48]. Сельский сход распускался до тех пор, пока оставшиеся делегаты не голосовали за новые предложения. Наличие кворума не принималось во внимание. Затем, якобы для исполнения решении сельской общины, государственная власть «применяла меры» против подозреваемых в укрывании зерна.
Непокорных исключали из кооперативов, лишали права пользоваться мельницей и т.п. В советской печати описаны случаи, когда им объявляли бойкот, применяли штрафы, детям не разрешали посещать школу…[49]
К весне 1929 года начались также насильственные заготовки мяса. Таким образом Сибирь поставила 19 000 тонн мяса вместо 700 тонн в предыдущем году.[50]
В дополнение к реквизициям, поддержанным штрафами и тюремным заключением, нередки были случаи конфискации у кулаков сельскохозяйственного инвентаря и тяглового скота, а иногда, особенно на Украине, конфискации земли. Ситуация приближалась к полному раскулачиванию, хотя партия все еще отрицала его необходимость.
В теории «принуждение кулака» стало возможно только потому, что его требовала якобы «воля крестьянских масс». Это «общественное давление» по существу являлось фальшивкой. Вот несколько фактов, опровергающих косметически-идеологический фасад кампании. В одном из районов, по сообщениям официальной печати, партии не удалось привлечь на свою сторону ни бедняков, ни середняков; в другом против новой системы проголосовало 40 процентов деревень; в третьем – 30 процентов, В «Известиях» отмечалось, что сельские сходы часто голосуют против предложений партийных уполномоченных.[51]
Тем не менее кампания продолжалась, причем был сделан большой упор на участие партийных работников из города, которые, как говорилось в одной статье, «воздействуют на сельские сходы… кавалерийскими методами»[52]. Сосланный в Сибирь «левак» Сосновский писал, что власти «набросились на крестьянина» с концентрированной свирепостью редко виданной со времен 1918–1919 гг.: от крестьянина требовали: «давай!» – хлеб, налоги (прежде чем их полагалось вносить), займы, страховые и другие сборы…[53]
Читая сообщение за сообщением, убеждаешься, что крестьян просто заставили подчиняться силой. К тому же (как мы увидим ниже) все эти меры скорее сплотили, чем разъединили крестьян, включая бедняков[54]. Поскольку меры против кулаков не дали достаточных результатов, местные власти, хотя им никто не давал соответствующих указаний, снова стали проводить конфискацию хлеба у середняков.
В целях разжигания классовой борьбы в деревне, сверху спустили указание распределить 25 процентов конфискованного у кулаков зерна между беднейшими крестьянами и наемными работниками. Но даже при таком подстрекательском «стимулировании» деревенская беднота отреагировала слабо. А к концу весны, когда власти особенно нуждались в услугах бедняков, упомянутое стимулирование вовсе пришлось прекратить: весь хлеб был нужен государству. В результате, как пишет Бауман, крестьяне-бедняки, еще недавно оказывавшие поддержку властям, теперь, когда у них «зачастую нечего было есть, шли, снявши шапку, на поклон к кулаку»[55]. Микоян также говорил о «колебаниях» беднейшего крестьянства под давлением кулаков[56]. «Правда» в передовой статье отмечала, что кулаки переманивают на свою сторону остальную массу крестьянства с помощью лозунгов, призывающих к равенству в общине.[57]
Но и сам по себе уральско-сибирский метод нельзя было считать вполне технически удачным. Недостатки его обуславливались тем обстоятельством, что зерно находилось в руках собравших его людей, и забрать у них хлеб можно было только совместными усилиями чужаков, в большинстве своем незнакомых с деревней. Кроме того, уральско-сибирский метод представлял собой попытку использовать принуждение, характерное для экономики военного коммунизма в той экономической системе, которая в принципе регулировалась рынком.
Разгром кулаков и уничтожение свободного рынка оказались связаны друг с другом неразрывно. Ведь, говоря экономическими категориями, разгром кулачества означал попросту подрыв у крестьянства стимулов к производству продуктов для рынка.
* * *
Кампания, проводившаяся в деревне, не являлась тогда единственным симптомом «поворота влево». Начиная с 1928 года в стране царила атмосфера террора и истерии, особенно заметных, если сравнить ее с относительно мирной обстановкой начала НЭПа.
Сигналом к открытию этой кампании послужил первый из серии печально известных показательных процессов – так называемое «Шахтинское дело». Вопреки желаниям правых, а также некоторых своих приспешников, таких как отвечавший за экономические вопросы и придерживавшийся умеренных взглядов Куйбышев или даже глава ОГПУ Менжинский, Сталин добился осуждения по Шахтинскому делу группы инженеров-«буржуазных специалистов». (Впрочем, Шахтинское дело не являлось исключением. Повсюду в 1928–1929 гг. разоблачали вредителей, например в Казахстане осудили группу буржуазных специалистов, якобы связанных с английским капиталистом Урквартом.[58])
Шахтинское дело и ему подобные процессы со всей ясностью сигнализировали, что классовая борьба разгорается с новой силой. В тот период каждый третий специалист, занятый в народном хозяйстве, рекрутировался из дореволюционной интеллигенции, а среди специалистов с высшим образованием они составляли несомненное большинство. 60 процентов преподавателей высших учебных заведений были того же происхождения. Старых интеллигентов стали смещать с занимаемых постов, подвергали преследованиям, зачастую высылали, даже расстреливали. Их детей исключали из вузов и до 1934– года вузы находились на грани краха.
К 1930 году свыше половины инженеров не имели соответствующей подготовки: лишь 11,4 процента из них получили высшее образование, а некоторые не успели пройти даже ускоренных курсов.
На Украине «культурная революция» носила несколько иной оттенок, нежели в Москве: атака велась не только на старшее поколение украинской культурной элиты, но также на коммунистическую интеллигенцию с «националистическим уклоном».
На местах, в частности в деревнях, козлами отпущения частенько делали учителей, в особенности тех, у кого выявляли «сомнительное происхождение». Их то и дело заставляли платить незаконные штрафы – как классовых врагов, или – очень часто – на том основании, что они состояли в родстве со священниками.[59]
К 1929 году обстановка обострилась. К этому времени относится, например, следующее свидетельство о поведении местных заправил:
«Они поехали в Яблонскую школу к учительнице Орловой, дочери кулака, приговоренного к восьми годам за антисоветскую деятельность, а также к дочери священника Кустова. Там они устроили попойку и заставили учительниц с ними спать… [Один из них] так обосновал свои притязания: „Я – [советская] власть, я все могу“, – зная, что подобные заявления возымеют особое воздействие на Орлову и Кустову, поскольку обе они враждебного происхождения. Вследствие этих мучительств учительница Кустова оказалась на грани самоубийства».[60]
* * *
В общем, марксистское положение о том, что классовое чутье является определяющей силой социальных перемен, должно было массами усвоиться, и его изо всех сил разжигали и стимулировали. А на селе, где никак не удавалось разжечь, его просто сочиняли.
В речи на заседании ВЦИК в декабре 1928 года советский президент Калинин привел несколько причин, объясняющих, почему даже беднейшие крестьяне недостаточно ненавидят кулаков. Кулак, говорил Калинин, может сыграть и положительную роль в экономике села, давая взаймы беднякам и таким образом «спасая их от лишений в тяжелые времена» – косвенное признание того, что правительство НЕ оказывало помощи крестьянам. А когда кулак резал корову, добавляет Калинин, бедняк мог купить у него немного мяса.[61]
Вести классовую борьбу в деревне было нелегко. Повсеместно звучали одни и те же жалобы: «Иногда кулак ведет за собой бедный и средний слои крестьянства. Бывают случаи, когда колхозники голосуют против высылки кулаков. Подчас бедняки идут за кулаком из-за плохой организации дела. Причины этого, помимо слабой организации бедняков – запугивание со стороны кулака, недостаток культуры, а также семейные связи»[62].
Согласно официальным отчетам, бедняки нередко говорили: «В нашей деревне нет кулаков». Или (что еще более поразительно): «Сегодня они конфискуют хлеб у кулаков, завтра они повернут против бедняков и середняков»[63].
В речи на северокавказской партконференции в марте 1929 года (не опубликованной в то время) Микоян откровенно заявил, что середняки видели в кулаках пример для подражания и признавали их авторитет, а на бедняков смотрели как на не способных вести хозяйство. Только большое коллективное хозяйство, прибавил Микоян, сможет выправить положение (замечание, отражающее новые сталинские идеи)[64]. В апреле 1929 года, на Шестнадцатой партконференции, Сергей Сырцов, вскоре после этого выдвинутый кандидатом в члены всесоюзного Политбюро, заявил, что не только часть середняков, но и некоторые бедняки поддерживают кулаков. А глава сельскохозяйственного отдела ЦК откровенно сказал: «Середняки повернули против нас и сомкнулись с кулаками»[65]. На всем протяжении 1928–1929 гг. мы найдем десятки признаний того, что кулаки и остальные крестьяне заняли одинаковую позицию – даже из уст деятелей типа Кагановича[66].
Тем не менее, в одном отношении мания борьбы против кулаков оказалась для партии полезной, и сам Сталин отметил, что, поскольку середняк увидел, что личное благосостояние, к которому он стремился, сделает его кулаком и, следовательно, подведет под репрессии, или поскольку «ему просто помешали стать кулаком», середняк в конце концов придет к выводу, что колхоз – единственный остающийся ему путь к благосостоянию[67].
Что касается численности кулаков, то налоги, введенные в ноябре 1928 года на «богатейший слой деревни»[68] теоретически затрагивали лишь 2–3 процента крестьянства (в целях борьбы с «апатией» принцип налогообложения был изменен: теперь налог стали исчислять на основании засеянной площади, а не собранного урожая)[69], Но на практике, как признал и сам Сталин, до 12 процентов крестьянства, а в некоторых районах и больше, подверглось такому налогообложению.[70] Согласно другим источникам, «добавочный налог» распространялся на 16 процентов крестьянских хозяйств в РСФСР[71], а «Правда» писала уже о «сплошь кулацких» деревнях[72]. В одной из станиц Северного Кавказа даже члены местного совета не являлись на собрания, посвященные хлебозаготовкам[73]. Советские исследователи не могут определить численность хозяйств, обязанных в 1929 году выполнить предусмотренную для кулаков норму хлебозаготовок, но один из них считает, что она составляла 7–10 процентов всех крестьянских хозяйств[74], а объединенная псевдокатегория кулаков и зажиточных крестьян, как уверял впоследствии Сталин, охватывала до 15 процентов от общего числа сельских хозяйств.
Наступил решающий 1929 год. Ни зерновая проблема, ни крестьянский вопрос не были решены. Зимой 1928–1929 гг. в городах было введено распределение хлеба по карточкам (осенью 1929 года карточная система распространилась и на мясо). Весной 1929 года Рыков (при поддержке Бухарина) внес предложение об импорте зерна – выход, к которому СССР в конце концов прибег в 60-х годах. Но тогда это предложение было отвергнуто после «очень бурных прений»[75].
На заседании Политбюро Бухарин заговорил о «военно-феодальной эксплуатации крестьянства», и на протяжении первой половины года правые продолжали предпринимать мощные усилия, направленные на стабилизацию отношений с крестьянством, отмену принудительных мер, возвращение к НЭПу и свободному рынку[76].
Весной 1929 года Сталин (в неопубликованной тогда речи) упомянул о «предательском поведении» Бухарина[77]. Бухарин выступил со своим главным тезисом: цитируя Ленина, он утверждал, что было бы гибельным для дела коммунизма применять жесткие коммунистические принципы в деревне, поскольку там «не существует материальной базы для коммунизма»[78]. Почти все беспартийные, то есть профессионально подготовленные экономисты поддержали этот тезис, а также идею правых о восстановлении равновесия рынка. Особенно горячо высказался за это лучший из специалистов Госплана Владимир Громан. Даже Струмилин, наиболее близкий к Сталину деятель Госплана, считал, что темпы производственного роста не должны превышать пределы, поставленные им наличием необходимых ресурсов.
В апреле–мае 1929 года, не дожидаясь окончательной обработки, приняли пятилетний план. «Планом» он ни в коем случае не являлся. Хотя в нем имелась некоторая координация заданий и уделялось значительное внимание взаимозависимости различных ресурсов и возможностей роста экономики, но по существу то был «лишь свод цифр, непрерывно скачущих кверху – в этом состояла его единственная функция»[79].
Разработчики предложили два варианта плана, первый из которых был менее грандиозным, чем второй – как бы и необязательным. Этот второй вариант исходил из предположения, что все пять лет будут урожайными, что создадутся благоприятные условия на международном зерновом рынке, Что не возникнет необходимости в высоких расходах на оборону и т.д. Но даже он был пересмотрен в сторону увеличения показателей. А потом принятый план, все-таки сохранявший следы координации, к которой стремились разработчики из Госплана, совсем потонул в потоке ударных программ с их все более недостижимыми показателями, объявлявшимися каждой отраслью промышленности и отдельными предприятиями без какой-либо оглядки на ресурсы экономики в целом.
Тем не менее, если бы хозяйство страны развивалось в соответствии с первоначальным пятилетним планом, число частников в 1932–1933 гг. сократилось бы лишь на какой-то незначительный процент от общего количества населения и в этом секторе по-прежнему производилось бы почти 90 процентов валового объема сельскохозяйственной продукции[80]. Это показывает, какой именно была официальная политика партии еще весной 1929 года.
Действия партии в деревне существенно подорвали НЭП. Неясно, однако, успело ли к тому времени партийное руководство понять, что именно оно натворило. Даже тогда, в середине 1929 года, еще существовало общее соглашение с идеями НЭПа, с идеями длительного сохранения в сельском хозяйстве частного сектора и рыночных отношений. Особенно такого рода мысли были очень популярны среди экономистов, и не только в Госплане, но и даже в наркомате земледелия.
В апреле 1929 года даже Сталин еще говорил, что из необходимых государству 8,2 миллиона тонн зерна от 4,9 до 5,7 млн. тонн можно получить на рынке, а уже остальные 2,5 млн. тонн потребуют «организованного давления на кулаков» по уральско-сибирскому образцу[81] – совершенно невероятная, фантастическая смесь двух экономических методов. Но о полном контролировании сельского хозяйства пока не было и речи.
Сравнительно затяжное начало двойной операции Сталина по разгрому правых и введению сплошной коллективизации, по-видимому, в значительной степени объясняется тем обстоятельством, что большая часть его собственных сторонников в начале 1929 года еще не была готова ни к тому, ни к другому – или же тем, что таким положение казалось Сталину. Поражение правых в апреле 1929 года явилось следстствием объединения ветеранов ЦК вокруг экономического курса, который по-прежнему представлялся весьма умеренным. Но, поддержав Сталина в роли руководителя партии, они шаг за шагом позволили ему вернуться к тотальному применению политики «чрезвычайных мер», проводившейся минувшей зимой.
* * *
В первой половине 1929 года партийные органы и организации не раз обсуждали вопрос о непрекращающейся борьбе против кулаков, но решение о том, что же с ними делать, так и не вынесли. Лишь в мае 1929 года Совет Народных Комиссаров составил формальное определение кулацкого хозяйства: в таком хозяйстве регулярно применяется наемный труд; или же имеется мельница, маслобойня или подобное заведение; или же сдается внаем сельскохозяйственный инвентарь или постройки; или же его члены занимаются торговлей или ростовщичеством, или имеют другие нетрудовые доходы, особенно же «требы» за исполнение обязанностей священника.[82]
При таком широком определении появилась возможность подвергать репрессиям почти любого крестьянина. К тому же республиканским, краевым и губернским властям предоставлялось право изменять это определение применительно к местным условиям.
В это время даже самые радикальные ораторы говорили о том, что партия не имеет намерения физически ликвидировать кулака, а о массовой депортации не упоминалось до тех пор, пока подкомиссия, созданная для решения этого вопроса, не внесла к концу года предложение, предусматривавшее тюремное заключение или депортацию для самой худшей из трех категорий кулаков – для активных врагов советской власти, виновных во враждебных актах.[83]
Однако «раскулачивание» – массовая кампания, которую мы рассмотрим в следующей главе, – спорадически проявлялась уже в начале 1929 года.
Так, в селе Шампаивка Киевской губернии, насчитывавшем около 3000 хозяйств, 15 крестьян были раскулачены и сосланы на север еще в марте 1929 года[84].
Подобные методы раскулачивания поощрялись наиболее рьяными сталинистами в губкомах. 20 мая 1929 года партийный комитет Среднего Поволжья постановил, что кулаки-контрреволюционеры должны быть высланы; 14 июня северокавказский комитет проголосовал за экспроприацию и высылку отъявленных кулаков, правда, только в том случае, если они были пойманы на укрывательстве зерна, да и то не более одного-двух человек на станицу[85]. В принципе, согласно советским публикациям, местные органы власти получили полномочия высылать кулаков в административном порядке «пo решению общих собраний трудового крестьянства» уже в начале 1929 года.[86]
Но ситуация пока что оставалась двусмысленной. Обычным оружием против кулака было последовательное увеличение нормы хлебозаготовок и повышение налогов. По Струмилину, кулак со средним доходом, впятеро превышавшим доход бедного крестьянина, платил в тридцать раз больше налогов на каждого члена семьи[87]. Декретом от 28 нюня 1929 года сельским советам «разрешалось» накладывать штрафы, впятеро превышавшие стоимость продуктов индивидуального хозяйства, если оно не выполняло норму хлебозаготовок. Такова была «законная» основа для работы в деревне, включая раскулачивание, вплоть до февраля 1930 года. В случае неуплаты штрафа хозяйство кулака распродавалось и он лишался надела. Вот типичный для того времени приказ по Днепропетровской губернии: «Гражданин Андрей Бережный, зажиточный крестьянин, обязан сдавать зерно по 40-процентной норме. Он не сдал 203 пуда, а теперь отказывается от дальнейших поставок, и ему надлежит уплатить 500 рублей штрафа в течение 24 часов. В случае неуплаты будет произведено насильственное взимание штрафа за счет распродажи имущества»[88].
В результате подобных мер за 1928–1929 гг. кулаки потеряли от 30 до 40 процентов приналежавших им средств производства[89].
Наряду с другими наказаниями часто применялось лишение права голоса на выборах Может возникнуть вопрос, какoe значение для крестьянина имела потеря этого, практически несуществовавшего права. Причина проста: отметка о поражении в правах заносилась в удостоверение личности и, как клеймо, преследовала такого крестьянина повсюду, где бы он ни искал убежища и работы. Кроме того, лишение избирательных прав «нередко сопровождалось лишением права на жилье, продовольственную карточку и медицинское обслуживание, а особенно часто – высылкой»[90].
Следует отметить, что вместе с кулаком теперь исчез и другой элемент, терпимый во времена НЭПа в интересах поддержки сельской торговли – пресловутый нэпман, новая «буржуазия», численность которой достигала полумиллиона, то есть по преимуществу мелкие лавочники, не содержавшие наемных работников.
По оценке, относящейся к 1927 году, средний капитал такой лавки в деревне составлял 711 рублей. Исчезновение этих мелких лавочников привело к полному краху распределения потребительских товаров. «Даже те жалкие товары, которые имелись в наличии, невозможно было распространять»[91].
Наперекор нараставшей в 1929 году тенденции выселения кулаков и распродажи их имущества, Калинин сделал попытку разрешить кулакам (после сдачи имущества) вступать в колхозы. По крайней мере, в середине 1929 года многие партийные деятели еще, безусловно, склонялись к тому, чтобы разрешить кулакам вступать в колхозы, «если они полностью откажутся от личного владения средствами производства». Другие руководящие работники партии придерживались противоположных взглядов.[92] В августе Бауман авторитетно заявил, что вопрос этот партией окончательно не решен.[93] Однако уже во второй половине того же года мало кто из партийцев заговаривает о возможности принятия кулаков в колхозы. К октябрю же выступавших с такими предложениями обвиняли в правом уклоне.
* * *
Но все это пока оставалось далеко от поставленной задачи привлечения на свою сторону крестьянских масс и изоляции классового врага. Подавляющее большинство крестьян было восстановлено против властей. Они пользовались всеми доступными им способами протеста, включая массовые жалобы собственным сыновьям, служившим в армии.[94]
В передовой статье «Правды» от 2 февраля 1929 года с горечью говорится о том, что крестьянин все еще не осознал «коренного различия между законами старого режима и советскими законами», что он по-прежнему воспринимает власть как автоматически враждебную ему силу. «Правда» была особенно обеспокоена такими живучими поговорками, как «закон что дышло, куда повернул – туда и вышло», или «закон – паутина, шмель вылетит, муха попадется».
Относительно мирная обстановка, установившаяся в деревне в пору расцвета НЭПа, исчезла без следа. Уже в 1928 году со всех концов страны поступали сообщения о беспорядках, грабежах, бунтах, в которых участвовали и рабочие[95]. В официальной книге по истории партии упоминается ряд случаев нападений крестьян на партийных активистов: 7 июня 1928 года трое кулаков убили секретаря Ивановской парторганизации; 7 ноября 1928 года был застрелен председатель колхоза из Костромской области; в тот же день и в той же области был убит другой колхозный активист; 19 декабря 1928 года убили председателя сельсовета из Пензенской области; к тому же периоду относятся более десятка других аналогичных инцидентов по всему Советскому Союзу[96]. За период 1927–1929 гг. было убито, по официальным данным, 300 уполномоченных по хлебозаготовкам[97].
С 1927-го по 1929 год число «зарегистрированных кулацких террористических актов» на Украине учетверилось; в 1929 году сообщалось о 1262 террористических актах[98]. Сопротивление крестьянства усиливалось. Официальные данные всего за первые девять месяцев 1929 года дают огромную цифру: 1002 террористических акта, из них 384 убийства – и это только по центральным губерниям. За эти действия было осуждено 3281 человек, из них только 1924 (то есть 31,2 процента) являлись кулаками, 1896 относилось к середнякам-подкулачникам, 296 – к беднякам, а 67 осужденных занимали официальные должности. Поскольку в подобных случаях под давлением властей возможно большее число обвиняемых стремились зачислить в кулаки, приходится прийти к выводу, что враждебность к режиму проявляло крестьянство в целом[99].
Осенью 1929 года было зарегистрировано дальнейшее усиление «терроризма».[100] Тем не менее, несмотря на то, что спорадические случаи вооруженного сопротивления значительно участились, на этой стадии не наблюдалось ничего похожего на серьезное восстание; по сравнению с тем, во что предстояло перерасти крестьянскому сопротивлению в будущем, это были лишь отдельные, изолированные инциденты.
Более показательно пассивное сопротивление режиму широких слоев крестьянства. Прежде всего сюда следует отнести укрывание хлеба: сперва его прятали на крестьянских участках, потом на всяких заброшенных землях, под стогами сена, в церквах, в открытой степи, в оврагах и в лесах. Кулаки записывали свое зерно на имя родственников, продавали его по низким ценам крестьянам-беднякам или нелегальным частным торговцам, которые по ночам вывозили мешки с зерном на телегах или плотах. Середняки и бедняки, насколько могли, делали то же самое. Даже колхозники старались по мере сил отвертеться от хлебозаготовок. Когда им не удавалось спрятать или продать свое зерно, они пускали урожай на корм скоту, сжигали его или бросали в реки.[101]
* * *
Партия оказалась не в силах контролировать положение в деревне. Численность коммунистов в сельских районах за период 1917–1921 гг. составляла около одной шестой от общего состава партии, причем многие из них были рабочими. К тому же, как отмечает советский исследователь, «в 1922–1923 гг. почти никто из проживавших на селе коммунистов не возобновлял свое членство в партии»[102]. Таким образом, в 1929 году основная масса сельских коммунистов состояла из вступивших в партию в период НЭПа, а потому была не особенно затронута воинствующими партийными доктринами предшествующей эпохи.
В партийной литературе отмечалось, что активисты из бедных крестьян, которые иногда вступали в партию, не оставались неизменно лояльными по отношению к режиму и с легкостью «переходили на враждебные классовые позиции».[103] Кроме того, в деревнях (как с неудовольствием отметил в 1928 году Молотов) наемные работники и крестьяне-бедняки составляли всего пять процентов от общего числа коммунистов[104]. В резолюции ноябрьского пленума ЦК 1928 года говорится, что на Украине сельский партсостав включает «значительное число зажиточных крестьян и близких к кулакам элементов, выродившихся и абсолютно враждебных рабочему классу»[105]. Наконец, подавляющее большинство коммунистов в сельских районах состояло вовсе не из крестьян, а из административных работников местного масштаба.
Но каковы бы ни были по качеству сельские коммунисты, их было и количественно просто недостаточно. В сентябре 1924 года в деревнях имелось всего 13 558 партячеек, насчитывавших в общей сложности 152 993 члена партии, причем в ячейку обычно входило от четырех до шести коммунистов, да и те были разбросаны по трем-четырем деревням, отстоявшим друг от друга зачастую на пять-шесть миль (7,5–9 км)[106]. Даже в октябре 1928 года в партию входило лишь 198 000 крестьян (из общего числа членов партии 1 360 000), то есть один крестьянин-коммунист приходился на 125 крестьянских хозяйств. В 70 000 деревень имелось всего 20 700 сельских партячеек. В 1929 году на селе было 333 300 членов партии (не обязательно крестьян), входивших в 23 300 ячеек (хотя, согласно комментариям видного коммунистического деятеля, часто и эти партячейки были фиктивными).[107] На Украине численность партсостава в деревнях была еще меньше: 25 000 членов партии, занятых в сельском хозяйстве, приходилось на 25 миллионов сельских жителей.[108]
Даже в 1929 году на три сельских совета числилась одна партячейка. В составе сельсоветов процент крестьян-бедняков, составлявший при НЭПе всего около 16 процентов, за один только 1929 год вырос с 28,7 процента до 37,8 процента, но и это считалось недостаточным. Да и само это, исполненное по марксистским рецептам, вливание «беднейших крестьян» в советы оказалось малоэффективным. Когда наступление на крестьянство стало набирать силу, сельские и даже районные советы выступили против него, «сомкнувшись с кулаками и другими (по определению Москвы) переродившимися элементами».[109]
Характерно высказывание некоего председателя райисполкома, заявившего, что давление на кулака «повернет его и все население против нас». Не только рядовые крестьяне, но и местные члены партии говорили уполномоченным: «У нас тут кулаков нет». Сами уполномоченные подчас становились «примиренцами»[110].
Члены партии на местах и даже местные органы ГПУ и милиции испытывали постоянное давление сверху, их критиковали за недостаток «наступательного духа». Многие местные работники были смещены, в некоторых случаях – распушены целые райкомы и даже все партячейки района[111], а партийные работники, пытавшиеся поддерживать относительный порядок и законность, были объявлены сообщниками правых[112].
Так, «Правда» писала, что коммунисты часто «…противятся быстрому развертыванию колхозов и совхозов», они «принципиально» поддерживают «свободное развитие крестьянской экономики», защищают мирное сосуществование с кулаком, вообще «не видят классов в деревне».[113]
В партии началась массовая чистка «оппортунистов», не выражавших энтузиазма по поводу новой политики.[114] Даже «селькоров» стали официально критиковать за то, что они являлись «в значительной степени чужеродными элементами».[115]
Разумеется, эти факты еще не говорят о том, что у режима не было надежных агентов на селе. В деревне, насчитывавшей две с лишним тысячи жителей, нетрудно было найти соответствующую «бригаду» активистов. В одном отчете сообщается о такой бригаде из 14 человек: несколько наемных работников, несколько экс-партизан, несколько подающих надежды начинающих стукачей. Многие из них, как и десять лет назад, вербовались из полупреступного элемента.[116]
В романе Василия Белова «Кануны»[117] рисуется грустная картина конца НЭПа на Вологодчине. Один из главных приверженцев режима в деревне пишет анонимные доносы и вообще ведет себя крайне подло и отталкивающе; мотивы его поступков – месть, комплекс собственной неполноценности, зависть, трусость. В изображении Белова, этот человек никогда не прощал других, видел в них только врагов не верил ни во что, кроме собственной силы и хитрости. Он был убежден что все люди подобны ему, что мир живет под знаком страха и силы и силой можно добиться всего.
В целом сельские коммунисты представляли собой шаткую опору режима, поэтому летом 1929 года 100 тысяч городских партийцев были направлены в деревню для оказания «помощи» в заготовках хлеба. Впоследствии к ним присоединилась другая, возможно, столь же значительная группа. Только на Северном Кавказе осело в селах около 15 тысяч горожан[118].
* * *
От фазы прямой партийной интервенции, замаскированной под действия масс, нетрудно было перейти к следующему этапу. В прессе началось нагнетание истерии против классовых врагов, проникнутой духом линча. Опыт 1928–1929 гг. показал, что подобные массовые кампании влекут за собой самосуды, то есть народное возмущение, а не «применение голых административных мер», даже если поначалу реальные настроения крестьянства и были далекими от энтузиазма.
Более того, атмосфера самосудов распространилась, пусть пока еще не буквально, и на кампанию против правых. В июне 1929 года Томский был отстранен от поста председателя ВЦСПС, а в июле Бухарина сняли с его поста в Коминтерне, хотя оба они некоторое время оставались членами Политбюро ЦК. Их сторонники также были сняты со всех ответственных постов. В течение всего последующего периода велась чистка правых уже среди рядовых членов партии. Несмотря на то, что Бухарину не удалось организовать настоящую оппозицию, как в свое время это сделали левые, в современных советских исследованиях сообщается, что Бухарина поддерживали целые партийные организации и что в результате из партии было исключено 100 000 человек, обвиненных в правом уклоне.[119] (ср. – троцкистов ранее было исключено 1500 человек).
С другой стороны атмосфера кризиса импонировала бывшим левым, поэтому в тот момент группа крупных деятелей левой оппозиции – Преображенский, Радек и Смилга – порвали с Троцким и приняли новую линию Сталина.
Власти не забывали, хотя бы в теории, и положительных стимулов. Дефицит потребительских товаров для деревни был назван «одним из самых серьезных препятствий»[120], однако в резолюции ЦК от 29 июля 1929 года было указано, что снабжение деревни товарами «следует поставить в зависимость от выполнения планов хлебозаготовок[121]. Было предписано распределять товары на основе классового подхода, например, оказывая предпочтение крестьянам-беднякам.[122]
Фактически промышленные товары в деревню не поступали, но не было никакого основания полагать, что из-за этого будет отложено введение новой политики. 28 июня 1929 года вышло постановление, предусматривавшее меры наказания для крестьянина, не выполнившего норму хлебозаготовок, даже если не было доказано, что он «укрывает» зерно: такого крестьянина можно было оштрафовать и в случае неуплаты штрафа лишить имущества. Другой декрет, датированный тем же днем, предусматривал меры наказания за «невыполнение основных государственных установлений»: сперва штрафы, а при повторном нарушении – годичное тюремное заключение, если же нарушение носило групповой характер, срок заключения мог достигать двух лет и сопровождаться полной или частичной экспроприацией и высылкой.[123] Многие кулаки, чтобы избежать подобных мер, распродали имущество и перебрались в города.[124]
Тем временем вводились всевозможные новшества, чтобы восполнить дефицит хлеба, принимавший грандиозные размеры. Крестьянам было предписано вносить «добровольные» пожертвования хлеба в пользу государства; например, в октябре 1929 года в украинские села было спущено распоряжение поставить в течение нескольких дней 20 фунтов пшеницы от каждой семьи сверх плана хлебозаготовок[125].
Факты, относящиеся к этому периоду, не всегда ясны ввиду уклончивого стиля выступлений Сталина. Борясь против правых, Сталин под них подкапывался, не нанося открытого удара. Ему удалось представить дело так, будто искусственное возбуждение, раздуваемое его клевретами, как раз и представляло собой подлинную классовую борьбу в деревне. А в конце он мог всегда списать вину за «перегибы», являвшиеся неизбежным следствием его политики, на каких-либо уклонистов.
Находились партийцы, которые прекрасно понимали, что борьба ведется не только против кулака, но и против середняка, но, считая эту линию правильной, «ленинской» политикой, хотели, чтобы она была провозглашена открыто.[126] Однако в сфере теории этот откровенный анализ трактовался только как левый уклон.
В каждый конкретный момент политику партии полагалось обрядить в соответствующее одеяние из марксистских терминов. Поэтому сначала необходимо было внедрить в теорию почти что насквозь искусственное понятие «классовой борьбы в деревне»; потом, в результате беспрестанного употребления, это понятие доводилось до уровня набившего оскомину трюизма, хотя даже партийные лидеры знали, что оно фальшивое. Потом, в конце 1929 года, в моду вошел воображаемый добровольный переход середняка на позиции коллективизации. Ни один партийный оратор не мог обойтись без этого перла партийного благочестия – о том, чтобы оспорить доктрину, уже и речи быть не могло.
В атмосфере концептуальной путаницы и фантазирования, когда политика менялась, а одевающие ее словеса оставались те же самые, рядовому члену партии было трудно приспособиться к темпу перемен. Да на этой стадии и нельзя было с уверенностью сказать, когда именно Сталин решился на сплошную коллективизацию.
Описывая развитие воззрений Сталина на сельское хозяйство исследователь отметил, что в начале 1929 года Сталин вновь убедился в «краткосрочной эффективности» методов принуждения, а затем «пытался разрешить долгосрочные, глобальные проблемы с помощью краткосрочных мер, то есть мер военной экономики, включая коллективизацию».[127] По-видимому, частичный успех и частичный провал уральско-сибирского метода и последующих действии привели Сталина к убеждению, что стоящие перед партией проблемы можно разрешить только при тотальном контроле над деревней.
Пятилетним планом предусматривалось к 1932–1933 году объединить пять миллионов крестьянских хозяйств в колхозы. Однако только что сформированный правительством «колхозный центр» уже в июне 1929 года называл цифру 7–8 миллионов хозяйств в течение 1930 года, намечая за пятилетку коллективизировать половину сельского населения – тем самым разрушая предусмотренные пятилетним планом показатели по обрабатываемым площадям[128]. По существу, здесь-то и начался крах пятилетнего плана по сельскому хозяйству. Но даже эти, новые цифры, были переделаны снова, на еще более высокие. К ноябрю намеченные показатели почти удвоились, а в декабре были удвоены уже и ноябрьские «рубежи».
Правые считали, что коллективизация будет иметь смысл, только если крестьянство получит соответствующие машины и другие товары из городов, но среди сталинистов господствовали иные идеи. Как выразился в июне 1929 года Микоян, «если бы не хлебные затруднения, коллективизация не была бы столь срочной».[129]
* * *
В первые годы советской власти предпринимались огромные усилия, чтобы создать коллективные хозяйства на селе. Многие из них, возникнув под административным нажимом, исчезли с введением НЭПа. Во многих таких хозяйствах главную роль играли направленные туда рабочие; впоследствии они возвратились в города. В других случаях зажиточные крестьяне вступали в колхозы только затем, чтобы спасти свою собственность, а затем вернулись к частному ведению хозяйства[130] – явление, которому суждено было повториться в 1930 году. Как бы то ни было, эти ранние колхозы, хоть, и развивались сравнительно успешно, остались крайне немногочисленными. К середине 1928 года они охватывали менее двух процентов от общего числа хозяйств.
В декрете Совета Народных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета от 16 марта 1927 года нет никакой тенденции к их распространению. Даже в конце 1928 года мы еще не найдем предложений о коллективизации массы среднего крестьянства, хотя декрет от 15 декабря рекомендовал оказывать предпочтение всем формам коллективных хозяйств[131] (этот же декрет давал местным властям полномочия запрещать создание новых «о б ъ е д и н е н и й» частных хозяйств, если это усиливало «кулацкую прослойку»[132].
В середине 1929 года, по отчетам народного комиссариата земледелия, в стране существовало 40 000 колхозов, но только в 10–15 тысячах из них имелись председатели, способные возглавить хозяйство.[133] Большинство артелей составляли так называемые ТОЗы, то есть, по сути, не коллективные хозяйства, а лишь товарищества для совместной обработки земли – для совместной пахоты, уборки урожая и последующего его раздела. Таким образом, это была артель совсем иного образца, чем колхоз, в котором и земля, и инвентарь, и произведенная продукция всецело находились под контролем «коллектива» – или фактически государства – такова была принятая и излюбленная в сталинскую эру система.
* * *
Кроме политических и социальных причин, приводившихся для объяснения коллективизации, существует еще одно серьезное ее обоснование: считается, что мелкое крестьянское хозяйство непроизводительно и поэтому переход к крупномасштабному хозяйству, либо социалистическому, либо капиталистическому, неизбежен. В описываемый нами период очень популярна была также вера в технологическую революцию, которая (к примеру) покончит с «архаичными» системами животноводства, «якобы требующего индивидуального ухода за скотом».[134]
Ленин, предсказывавший в конечном итоге создание огромных марксистских фабрик-ферм, был в этом отношении вполне ортодоксален. Но в 20-е годы советские экономисты на опыте чрезвычайно крупных коллективных ферм, уже созданных в то время, осознали, что хозяйства меньшего масштаба являются более эффективными.[135] Некоторые из этих экономистов, в прошлом принадлежавшие к партии эсеров (наиболее крупной фигурой среди них был Чаянов), занимали трезвую позицию на протяжении 20-х годов и в 1929 году еще отстаивали мелкомасштабное сельское хозяйство – вскоре, однако, они были вынуждены отречься от своих взглядов.
Сталин выступил в защиту «гигантских колхозов», утверждая: «Рухнули и рассеялись в прах возражения „науки“ против возможности и целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 50–100 тысяч гектаров».[136] Эта формулировка была затем пересмотрена, и в вышедших много лет спустя «Сочинениях» Сталина цифры были понижены до «40–50 000», но пока что специалисты по сельскому хозяйству волей-неволей следовали этой «руководящей установке», да еще делали упор на ста тысячах, а не на пятидесяти. Вскоре и другие ученые заговорили о колхозе в классических терминах марксизма, как о переходе к крупной коллективизированной фабрике по производству сельскохозяйственной продукции.[137]
Сам Сталин дошел до пророчеств о том, как с помощью таких методов «наша страна года через три станет одной из богатейших житниц, а может быть, и самой богатой житницей мира».[138] Вскоре и Бухарин с энтузиазмом стал рисовать гигантские фермы, каждая из которых охватывает целью район.[139]
Для того времени весьма типична история Хоперского района на Нижнем Дону, из которого сделали образец сплошной коллективизации. В конце 1929 года здесь был выдвинут план (на разработку которого понадобилось только три дня) создания «социалистического агрогорода» с населением в 44 000 человек, с квартирами, библиотеками, ресторанами, читальными и спортивными залами…[140] – фантазия, которая переживет все перипетии советской истории.
Эта тяга к гигантским фермам не имела под собой никакой иной базы, кроме стремления урбанизировать деревню и создать зерновые фабрики, гипотетически предсказанные одним немецким ученым, жившим двумя поколениями раньше. Самый беглый взгляд на реально существовавшее сельское хозяйство должен был вызвать вопрос, почему преуспевающие капиталистические фермы не имеют таких гигантских размеров. Ведь и без изучения политэкономии можно сделать вывод, что если бы огромные фермы оказались более производительными, они должны были неминуемо появиться при капитализме, как появились при нем огромные заводы. Но, как отметил один из ведущих западных специалистов в этой области, даже при несоветских способах коллективного производства «все попытки объединения мелких ферм в крупномасштабные кооперативы доказали свою несостоятельность… за пределами СССР».[141]
Частично под влиянием таких вот отвлеченных от практики доктрин в Советском Союзе никогда не пытались добиться интенсификации уже существовавшего там крестьянского хозяйства. Совершенно очевидно, что их производительность можно было значительно поднять. В 1901–1910 гг. по сравнению с периодом между 1861–1876 гг. среднегодовой урожай зерновых в России вырос на 45 процентов, а в 1924–1929 гг. средний ежегодный урожай превышал уровень 1901–1910 гг. на 22 процента[142]. Крестьянское хозяйство отнюдь не достигло пределов своего развития; как мы видели, в те именно годы советские специалисты оценивали ежегодные темпы прироста крестьянского производственного капитала в 5–5,5 процента.
Независимо от формы ведения сельского хозяйства, его продукция, несомненно, могла быть увеличена самыми простыми средствами. Замена пяти миллионов деревянных плугов стальными, лучшее использование семян и подобные меры, с успехом применявшиеся в других странах, безусловно дали бы значительный эффект. Требовалось всего лишь поднять производительность труда в России до уровня, к тому времени достигнутого другими восточноевропейскими странами.
* * *
До сих пор считается, что инициатива проведения массовой коллективизации зародилась в Нижнем Поволжье и оттуда «спонтанно» распространилась по стране[143]. На протяжении 1929 года другие партийные организации выступали с предложениями проводить коллективизацию в своих районах во все большем масштабе. Они делали это, чтобы угодить правильно оцененным желаниям руководства (хотя зачастую на местах раздували формальные показатели коллективизации, реально коллективизацию не усилив – во всяком случае, такое явление подвергалось критике[144]).
Колхозный центр, организованный летом 1929 года, сначала решил сосредоточиться на отдельных «районах сплошной коллективизации», в которых намеревались создать высокую концентрацию колхозов. В июле обширный казачий Северо-Кавказский округ объявил программу коллективизации целых станиц.[145] Коллективизация как бы приобрела небывалую еще концентрацию в строго ограниченном районе. К ноябрю в масштабе всего Советского Союза было коллективизировано только 7,6 процента крестьянских хозяйств (что составляло около двух миллионов дворов), но в отдельных губерниях и краях коллективизация достигала 19 процентов, а в некоторых районах 50 процентов и более; к концу года на этот уровень вышли целые губернии.
Теперь, если большинство владеющих земельным наделом крестьян деревни голосовало за колхоз, меньшинство обязано было подчиниться и тоже вступить в него. Нечего и говорить, что голосование, как всегда, проходило под сильным нажимом властей. Но даже при этих условиях «большинством», например, могли считать от 18 до 14 из 77 хозяев дворов (данные, приведенные одним из партийных руководителей); в другой деревне никто не проголосовал против коллективизации, но затем все 15 крестьян-единоличников, избранных в комиссию по проведению коллективизации, отказались в ней работать, несмотря на то, что в случае отказа им грозили штрафы и тюремное заключение. Подчас единоличники, поняв, что им не избежать колхоза, распродавали скот и инвентарь перед вступлением в колхоз.[146]
Партийное руководство извлекло из этих событий своеобразный урок: оно решило, что район высокой коллективизации должен послужить образцом для всей страны, а в конце года Сталин лично провозгласил «метод» массовой коллективизации решающим условием выполнения пятилетнего плана.[147]
Как всегда бывает в период сельскохозяйственной суматохи в Советском Союзе, детальное планирование оказалось полностью несостоятельным, а в печати часто появлялись материалы о разбазаривании значительных запасов зерна. «Двенадцать вагонов пшеницы гниют в подвалах мукомольной фабрики „Красная звезда“ в Железнянах на Донбассе»[148]; «в белорусском отделении Хлебного Центра 2500 тонн зерна свалены в кучу на дворе; в Воронково сгнило в зернохранилище 100 тонн хлеба… в Одесской губернии зерно во многих пунктах сваливают в кучи прямо на земле, даже не покрыв ничем… так лежат под открытым небом десятки тысяч тонн зерна».[149]
В середине 1929 года еще предполагалось, что темпы коллективизации будут зависеть от поступления тракторов, но затем это положение начали оспаривать. Так, Сталин, обращаясь к аграрникам-марксистам[150], заявил, что уже одно объединение плугов в условиях коллективизации значительно повысит эффективность сельского хозяйства.
Но изо всех сил нагнетая давление, Сталин разыгрывал свои карты столь осторожно, что даже в начале сентября один из его ведущих соратников Орджоникидзе говорил про «годы и годы», необходимые для полной коллективизации, а Андреев отрицал, что полная коллективизация достижима в течение пятилетки.[151]
Подлинные устремления сталинского руководства гнали его, однако, в противоположном направлении. Пятаков, бывший член левой оппозиции, пользовавшийся тогда большим влиянием, выступая в октябре 1929 года перед Советом Народных Комиссаров, высказался более здраво. «Мы вынуждены принять чрезвычайные темпы коллективизации сельского хозяйства, – сказал Пятаков и припомнил: – С таким же напряжением трудились мы в период вооруженной борьбы с классовым врагом. Теперь настал героический период нашего социалистического строительства».[152] Ветераны партии сплотились вокруг Сталина отчасти потому, что верили: как бы ни были жестоки его методы, он вел решающее сражение за существование режима, отчасти потому, что сами опасности нового этапа, казалось, требовали партийного единства. Пятаков верно подметил, что страна как будто вернулась к атмосфере гражданской войны. А чрезвычайная обстановка – она действовала ведь не только на крестьян, она оказывала воздействие и на чувства партийных активистов. Умеренность смывало волной партизанского энтузиазма.
* * *
Наиболее серьезные партийные экономисты полагали, что следует поддерживать промышленный прирост на уровне 18–20 процентов в год (к тому времени этот уровень уже был достигнут, по крайней мере, на бумаге), делая дальнейший упор на эффективность хозяйства. Они утверждали, что никаких планов не следует разрабатывать без учета имеющихся ресурсов. Но Сталин и его последователи настаивали теперь на удвоении темпов прироста (в конечном итоге реальные результаты роста промышленного производства в 1930 году были, даже по официальным данным, таковы: увеличение на 22 процента вместо плановых 35 процентов; аналогично возросли показатели и роста производительности труда, и капиталовложений в производство).[153]
Что касается экономистов, то у них оставалась альтернатива: либо поддерживать новые планы политического руководства, либо идти в тюрьму – об этом неопровержимо свидетельствует ряд заявлений, сделанных в 1929 году[154]. Сталинисты начали открытую атаку на экономистов. Молотов выступил против «буржуазно-кулацких идеологов в центре и на местах».[155] В октябре Громан был отстранен от работы в экспертном совете Центрального статистического управления, а в конце года этот орган был непосредственно подчинен Госплану[156]. Беспартийные экономисты, вроде Чаянова, отреклись от своих взглядов, как будто они являлись членами партии, хотя их тут же стали обвинять в неискренности. Им все-таки удалось пережить этот момент, впрочем, только для того, чтобы погибнуть в застенках ГПУ несколькими годами позже (они были привлечены к процессу меньшевиков и прошли также по другим процессам).
Политическое руководство пренебрежительно отвернулось от рекомендаций экономистов, а затем вовсе положило конец экономическим исследованиям на «математических моделях роста, изучению эффективности капиталовложений и ассигнований, моделей накопления и потребления, исследованиям моделей управления, научной организации труда и многим другим исследованиям»[157]. Присяжный сталинский экономист Струмилин заявил: «Наша задача состоит не в том, чтобы изучать экономику, а в том, чтобы изменить ее. Нас не связывают никакие законы. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Вопрос о темпах роста должен решаться людьми».
Было принято постановление об удвоении за пять лет основного капитала страны. Валовой продукт сельского хозяйства тоже должен был возрасти на 55 процентов, а потребление – на 85 процентов.
К 1 июля 1929 года 4 процента всех крестьянских хозяйств были объединены в колхозы, а к ноябрю – 7,6 процента. Всюду, кроме тех районов, где уже была силой проведена сплошная коллективизация, колхозы оставались «слабыми» и состояли почти поголовно из бедняков.
Однако Сталин сумел превратить этот не очень впечатляющий «подъем» в широкое, неудержимое движение. 7 ноября он объявил о «коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли… Новое и решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами. А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк. В этом основа того коренного перелома в развитии сельского хозяйства, который составляет важнейшее достижение советской власти за истекший год»[158].
Советские эксперты хрущевского периода называли это заявление фальшивкой[159], и весьма справедливо. Однако позднее в официальной советской истории вновь возобладала тенденция оправдывать это выступление Сталина и даже поддерживать его идею насчет того, что принадлежность некоторой доли земель колхозам являлась неоспоримым доказательством наличия условий для «сплошной коллективизации»[160].
Стали все громче раздаваться голоса, требовавшие крайних мер. Поворотным пунктом явился пленум ЦК, собравшийся 10–17 ноября 1929 года. Делегатам сообщили, что в стране уже полным ходом идет добровольная массовая коллективизация, на них давили (здесь особенно велика роль главного сталинского оратора Молотова), что якобы в течение ближайших недель или месяцев необходимо воспользоваться возможностью, «которую нельзя упустить» и раз и навсегда решить аграрный вопрос.
Молотов призывал добиться коллективизации целых губерний и республик «уже в следующем году» и совершить «решающий скачок» в течение последующих четырех с половиной месяцев. Он предупредил, что не следует допускать проникновения кулаков в колхозы и заявил: «К кулаку надо относиться как к коварному и еще непобежденному врагу».[161] Потом разъяснил, что ожидавшихся материальных условий для коллективизации создать не удастся: «Материальная помощь колхозам не может быть очень большой… несмотря на все усилия, государство может дать им очень мало денег».[162] Взамен Центральный Комитет призвал самих крестьян вложить средства в строительство колхозов.
Несмотря на все это, Молотов (все еще!) атаковал правых за ложные обвинения партии в том, что она «строит социализм с помощью политики чрезвычайных мер, то есть политики административных репрессий».[163]
Защищаясь, Рыков зачитал заявление, которое, кроме него, подписали еще двое лидеров правых. Они «отказались» от своего несогласия с большинством, утверждали, что они не возражают против темпов индустриализации и коллективизации, а также политики «решительных действий» против кулака. Однако Рыков все же утверждал, что тактика правых позволила бы идти «менее болезненным путем». Многие ораторы, в том числе Сталин, резко критиковали его за это заявление. «Покаяние» правых было признано недостаточным и отвергнуто. Отмечая политическую победу сталинистов, Микоян в своем выступлении сказал, что в предшествующие годы «противодействия и шатания правого крыла Политбюро» до некоторой степени связывали руки партии, и только теперь удалось выработать «четкую и ясную линию» в зерновой политике[164].
Кроме атаки на правых, не обошлось, как всегда, без традиционной критики незначительных «перегибов». Председатель Колхозного Центра Каминский в выступлении перед участниками пленума признал, что в «некоторых местах» были, возможно, применены «административные меры», но тут же снял это замечание как «малозначительное».[165]
Пленум принял ряд резолюций по сельскому хозяйству: была признана необходимость «радикального решения» проблем сельского хозяйства на пути дальнейшего убыстрения процессов коллективизации; пленум предписывал всем партийным организациям сделать «краеугольным камнем своей работы дальнейшее развитие массовой производственной кооперации, коллективизации крестьянских хозяйств». Он призвал «мобилизовать… на работу в колхозы» не менее 25 000 промышленных рабочих – членов партии и потребовал принятия «самых решительных мер» против кулаков.
В особой резолюции пленума говорилось, что «Украина должна в кратчайший период времени показать пример организации крупномасштабных коллективных хозяйств».
Пленум осудил правую оппозицию за то, что она «объявила установленные партией темпы коллективизации нереальными» и утверждала, будто в деревне «отсутствуют необходимые материальные и технические условия» для проведения коллективизации, а «беднейшие и средние слои крестьянства не проявляют желания перейти к коллективным формам землевладения». Пленум исключил Бухарина из Политбюро за «шантаж партии с помощь демагогических обвинений» и отстаивание тезиса о том, что «чрезвычайные меры» подтолкнули «середняка» к кулаку[166].
После пленума Бухарин, Томский и Рыков публично покаялись в совершенных ошибках (их «раскаяние» на этот раз было принято), а другие экс-оппозиционеры, вроде Шляпникова и Пятакова, выступили с призывом к единству партии.
Затем был сформирован новый обширный административный орган – Всесоюзный Народный Комиссариат земледелия, который получил верховные полномочия по планированию сельского хозяйства. А 5 декабря была создана комиссия для установления графика коллективизации во главе с новым наркомом земледелия Яковлевым. 22 декабря комиссия представила отчет, предусматривавший полную коллективизацию зерновых районов в течение двух-трех лет.
Даже тут Яковлев предупредил, что нельзя «впадать в экстаз» и делать все административным порядком, ибо это может отпугнуть середняка, и говорил, что необходимо остерегаться стремления руководства добиваться стопроцентной коллективизации раньше других районов. Нечего и говорить, что именно таким было отношение к делу многих безответственных карьеристов, возглавлявших проведение коллективизации на местах. Яковлев сразу подвергся критике со стороны суперсталинистов типа Шеболдаева, но комиссия по коллективизации несмотря на это рекомендовала обработать коллективно «по меньшей мере треть» посевных площадей к весне 1930 года.[167]
Для Сталина эти рекомендации были недостаточно радикальными. В декабре 1929 года торжественно отмечалось 50-летие генерального секретаря; празднества сопровождались фальсификацией истории партии, которой с годами предстояло принять чудовищные масштабы.
Молотов оценил рекомендации комиссии как неудовлетворительные, и Сталин послал их назад для доработки; он подчеркнул, что рубеж коллективизации зерновых районов следует наметить на осень 1930 года, как это было сделано для Украины[168].
4 января был утвержден переработанный план, согласно которому полная коллективизация Северного Кавказа и Поволжья должна была быть завершена не позднее весны 1931 года, а остальных зерновых районов – не позднее весны 1932 года.
Относительно раскулачивания Сталин заявил: «Теперь раскулачивание представляет… составную часть образования и развития колхозов… конечно, нельзя его [кулака] пускать в колхоз. Нельзя, так как он является заклятым врагом колхозного движения»[169]. К этому времени «Правда» уже сетовала на то, что кулаков не арестовывают в достаточных количествах[170], не заставляют их отдавать «излишки» хлеба и т.п.[171]
В отчете подкомиссии по кулакам при комиссии Политбюро говорилось: «Назрела необходимость конкретной постановки вопроса об устранении кулака»[172], поскольку политические условия для этого теперь налицо: середняк пошел в колхоз.
Подкомиссия распределила кулаков на три категории. Относящиеся к первой категории должны были быть арестованы и расстреляны или посажены в тюрьму, а их семьи – выселены; относящиеся ко второй категории – только выселены, а относящихся к третьей категории «невраждебных» кулаков (на этом этапе) разрешалось принимать в колхозы с испытательным сроком. Самое главное в этом отчете – это то, что здесь впервые заговорили о систематическом выселении кулаков.
Сталин дал ключевую установку для этой новой фазы: «Мы перешли от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулаков к политике ликвидации кулачества как класса.[173]
* * *
Подводя итоги периоду, предшествовавшему «второй эволюции» и новому циклу бесчеловечного массового терроа, можно сказать: с тех пор, как это стало практически осуществимо, партия всегда стремилась положить конец частному хозяйству и рыночной экономике в деревне; ее первая попытка разрушить рынок окончилась катастрофой, она была вынуждена в течение ряда лет приспосабливать свoe правление к существованию условий, несовместимых с ее доктринами; в этой ситуации партия не смогла понять принцип работы рыночного механизма и правильно управлять рынком; при первых же срывах партия снова вернулась к применению силы, якобы временному, не осознавая, что «временное» принуждение влечет за собой необратимое разрушение частной инициативы; а спад частной инициативы в свою очередь заставлял партию затягивать и наращивать применение силы; наконец, увидев, что «чрезвычайные» меры захвата хлеба дороги и трудноосуществимы, партия повернула к коллективизации как средству, способному с самого начала обеспечить партийный контроль за производством хлеба и вырвать его из рук крестьянства; все это к тому же представлялось ей идеологически правильным.
В течение трех зим партия испробовала три указанных подхода: зимой 1927–1928 гг. речь шла по существу о простом захвате хлеба; зимой 1928–1929 гг. для той же цели пытались создать видимость массовой поддержки и инициативы в деревне; в 1929–1930 гг. на это якобы стихийное движение надели узду коллективизации – это был способ обеспечить постоянный контроль за производством хлеба. Для достижения этих целей партия все время опиралась на насквозь фальшивые теоретические построения, согласно которым классовый враг составляет меньшинство в деревне, тогда как на деле почти все крестьянство было враждебно партии и ее политике. Эта фантастическая теория обладала одним практическим преимуществом: она позволяла бороться против естественных лидеров крестьянства и таким образом парализовать сопротивление деревни.
Экономические результаты решений партии должны были принести катастрофу: уничтожить самую производительную часть крестьянства и подорвать стимул к работе у остальных. Возможно, Сталин и его сподвижники не предвидели степени надвигавшейся катастрофы, по крайней мере такое представление создается, когда читаешь их предсказания о небывалом прогрессе сельского хозяйства после коллективизации. Когда же катастрофа разразилась, они решили пойти лишь на временное отступление: по-видимому, для них возможность контролировать сельскохозяйственное производство была важнее, чем сокращение его продукции.
Для партийного руководства конец частичной независимости крестьянства, уничтожение свободного рынка и последних остатков мелкой буржуазии, установление тотальной государственной власти в деревне казались несомненным благом. Все это, разумеется, перевешивало соображения гуманности, к тому же «война» с враждебными режиму кулаками и оживление классовой борьбы придавали партии новые силы, восстанавливали ее веру в ее raison d'etre[*].
Итак, мы вступаем в эпоху раскулачивания, коллективизации и террора голодом, в эпоху войны против советского крестьянства, переросшую затем в войну против украинского народа, в эпоху, которую можно считать одним из самых значительных и самых кошмарных периодов современной истории.
Глава шестая. Судьба кулаков
Схоронили его в земле чужой.
Т.ШевченкоС точки зрения последовательности событий, ошибочно было описывать раскулачивание отдельно от коллективизации, ибо они происходили одновременно и являлись двумя аспектами одной и той же политики. Однако судьба кулаков, начиная с данного момента, столь серьезно отличается от судьбы коллективизированного крестьянства, что представляется целесообразным рассмотреть ее отдельно. Тем не менее при чтении этой главы следует помнить, что не отнесенное к категории кулаков крестьянство переживало в то же самое время мучительный процесс коллективизации, описанный в следующей главе. Действительно, разгром кулаков частично был проведен ради того, чтобы обезглавить крестьянство и тем самым ослабить его сопротивление введению нового порядка.
27 декабря 1929 года, как мы уже знаем, Сталин провозгласил задачу «ликвидации кулачества как класса»[1].
Официальное партийное указание о раскулачивании поступило только 30 января 1930 года, когда Политбюро одобрило и направило местным партийным органам резолюцию «О мерах по искоренению кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»[2], окончательно же узаконена эта политика была лишь декретом от 4 февраля.
Однако, как мы уже имели возможность убедиться, к тому времени массовое раскулачивание в ряде районов шло полным ходом под руководством наиболее рьяных сталинистов. В течение 1929 года раскулачивание стало превращаться в обычное явление. «Отдельные группы кулаков» были выселены из ряда украинских сел, казачьих станиц и других мест.[3] Все поняли это как начало ликвидации кулачества «как класса»[4].
Теперь кампания достигла последней стадии и шла в атмосфере предельного «классового» ожесточения. Согласно официальным заявлениям о том, что «кулаки не сойдут с исторической арены без жесточайшего сопротивления»[5], было решено, что «с кулаком следует обращаться так, как обращались в 1918 году с буржуазией. Кулаков-вредителей, активно сопротивляющихся строительству нового, надо отправлять на Соловки»[6] (печально известный комплекс концентрационных лагерей на островах в Белом море).
Разумеется, как уже отмечалось, само применение термина «кулак» было искажением истины с самого начала существования советского режима. Но теперь его вообще едва ли можно было применять для обозначения класса как экономической категории, даже и в том извращенном значении, которое придавалось этому понятию после революции. Многие кулаки совершенно обеднели, даже по меркам конца 20-х годов, что с полной ясностью следует из советских источников.[7] Других тоже вряд ли можно было считать богатеями или эксплуататорами. Лишь небольшая часть кулаков владела тремя-четырьмя коровами, двумя-тремя лошадьми. Более чем по одному батраку насчитывалось в хозяйствах, составлявших всего один процент от общего числа.
Показательна стоимость товаров, конфискованных у кулаков. Приводилась цифра 170 миллионов рублей, позднее – 400 миллионов, то есть между 170 и 400 рублями на хозяйство – даже если считать, что общее число раскулаченных составляло всего миллион семей, как сообщалось в официальных источниках. По выражению одного из комментаторов, расходы на депортацию были, вероятно, выше указанной суммы[8].
В одной из губерний (Криворожской) за январь–февраль 1930 года было раскулачено 4080 хозяйств, причем к колхозам перешло всего 2367 строений, 3750 лошадей, 2460 голов крупного рогатого скота, 1105 свиней, 446 молотилок, 1747 плугов, 1304 сеялок и 2021 тонн хлеба и проса! Советский исследователь, приводящий эти результаты, объясняет их скудность тем, что большая часть кулацкой собственности была захвачена во время наступления на кулака в период 1928–1929 гг.[9] В любом случае ясно, что кулак уже стал бедняком. Один из активистов так рассказывает о типичном кулаке: «У него больная жена, пятеро детей и ни крошки хлеба в доме. А мы называем его кулаком! Дети ходят в отрепьях, все оборванные, похожи на призраков. Я заглянул в горшок, стоявший на печи: вода да несколько картофелин – ужин на всю семью».[10]
Особенно потрясали крестьян случаи экспроприации у бывших бедняков, которые непосильной работой за годы НЭПа скопили денег на покупку лошади или коровы.[11]
Наконец, не говоря уже обо всех прочих безобразиях, доход среднего кулака был ниже среднего заработка работников сельского аппарата, преследовавших его как представителя класса богачей.[12] Впрочем, экономическая классификация приобрела к этому времени поистине фантасмагорические черты. Решение о раскулачивании основывалось на списках налогообложения, но этот, хотя бы внешне логичный, способ уже не годился для проведения официальной линии. В одном рапорте ОГПУ указывалось, что такой способ «часто не соответствует действительности и не оправдан серьезными причинами!»[13] На практике вся антикулацкая кампания пошла самотеком, затронув большие группы крестьян разного достатка.
Советский писатель Иван Стаднюк рассказывает про деревню, где даже местные коммунисты чувствовали, что только пять семей (по пять – восемь человек каждая) из шестнадцати раскулаченных можно было и вправду назвать кулацкими[14]. Советские экономисты хрущевского периода приводили в пример село Пловицы на Украине, где 66 из 78 кулацких хозяйств были «в действительности середняцкими».[15]
Как пишет Э. Г.Карр, «классовый подход» уже более не определял политику. Наоборот, политика определяла, какая форма «классового подхода» соответствует ситуации.[16] Например, даже очень бедного крестьянина, если он был набожен и ходил в церковь, относили к кулакам.[17] В любой момент можно было с легкостью перевести почти 2,5 миллиона середняцких хозяйств из категории «союзников» в категорию «классовых врагов».
Сталинская политика излагалась в маловразумительных терминах классового подхода. Эта политика подрывала экономику, поскольку вела к «ликвидации» самых эффективных производителей сельскохозяйственной продукции. Но существовал уровень, на котором сталинская политика все же была логичной. Если мы взглянем на крестьянство более реалистично, чей марксисты, мы увидим, что оно по существу представляло собой единое целое, все компоненты его были тесно взаимосвязаны. Тогда мы поймем, что цель сталинского удара по крестьянству состояла в устранении естественных лидеров деревни в ее борьбе против подчинения коммунистам. То, что термин «кулак» стали применять в гораздо более широком значении, чем вытекало из партийных экономических дефиниций, как раз и доказывает правильность нашего заключения. Еще более ясно это прослеживается на формализации термина «подкулачник» – определения, лишенного какого бы то ни было социального содержания даже по меркам сталинизма, но беспомощно маскирующегося под социально-экономическую категорию.
Официальные документы гласили: «Под „кулаком“ мы подразумеваем носителя определенных политических тенденций, которые очень часто прослеживаются также у подкулачников, будь то мужчина или женщина»[18]. Таким образом, любой крестьянин мог подлежать раскулачиванию, и понятием «подкулачник» широко пользовались для расширения категории жертв далеко за пределы самой растяжимой трактовки определения собственно «кулаков».
К тому же, вопреки первоначальным инструкциям, раскулачивание отнюдь не было ограничено зонами максимальной коллективизации[19].
* * *
К 1931 году власти уже начали признавать, что прежние кулаки более не подпадают ни под одно из разнообразных советских определений кулака: так, например, партийный комитет Западно-Сибирского края сообщал в ЦК в мае месяце, что выселенные в марте кулаки «располагали очень ограниченной собственностью» – то есть были бедны[20]. Советский историк отмечает, что кулаки утратили большинство своих характерных особенностей, как то: систематическое использование наемного труда, сдача внаем сельскохозяйственного инвентаря и лошадей, собственные мастерские и т.п., так что «к 1931 году стало все труднее разоблачать кулака, маскировавшего свою классовую сущность»[21]. Таково классическое выражение марксистского понятия о том, что бытие определяет сознание: если человек некогда подпал под определенную марксистскую категорию, она стала его «сущностью», которую последующие изменения не способны преобразить.
9 мая 1931 года сам М.И.Калинин, выступая на конференции секретарей и членов ЦИК, сказал, что правительство собиралось внести изменения в закон об определении кулака, но после дискуссии вынуждено было оставить это намерение. Один из советских комментаторов так поясняет этот факт: «Особенности, характерные для кулака в прошлом, почти полностью исчезли, а новые не поддаются определению»![22]
«Правда» также предупреждала о том, что «даже лучшие активисты зачастую не могут распознать кулака», поскольку не понимают, что, удачно продав собранный урожай, некоторые середняцкие хозяйства быстро трансформируются в зажиточные и кулацкие»[23]. Поистине вечная проблема, сводящая на нет всю доктрину о классовой борьбе в деревне.
Итак, согласно сей странной логике, середняк мог сделаться кулаком, приобретая новую собственность, но кулак не мог стать середняком, лишившись своей собственности, По существу, у кулака не было выхода. Он был «по своей сущности» классовым врагом, недочеловеком. Объявление кулака врагом подходило под готовые схемы партийных активистов. Он представлял собою во плоти и крови врага обреченного мировой историей, а такая мишень позволяла организовать куда лучшую кампанию, чем любые абстрактные организационные перемены. Таким образом появлялась возможность наголову разбить руководителей деревни, которые могли бы значительно усилить и без того немалое сопротивление коллективизации.
* * *
Планы партии в отношении кулаков были сформулированы в резолюции от 30 января, основанной на отчете подкомиссии Баумана, разделившей кулаков на три категории, из которых первая, численностью не более 63 000 человек, подлежала расстрелу или тюремному заключению.
Однако данные о лицах первой категории (подлежащих расстрелу и тюремному заключению) должны были определяться исключительно местными ОГПУ и оказались значительно выше полученной на местах квоты. Мы располагаем сведениями, которые подтверждаются современными советскими историками, о том, что в действительности к первой категории было отнесено 100 000 человек вместо запланированных 63 000[24].
Лица, относящиеся ко второй категории (сюда входили и семьи кулаков из первого разряда), подлежали высылке на Север, в Сибирь, на Урал, в Казахстан или в отдаленные районы родной губернии; в этот разряд должно было входить не более 150 000 хозяйств. В письме от 12 февраля 1930 году, помеченном грифом «совершенно секретно», повторяется уже известная нам информация о трех категориях и указывается, что конфискация имущества улиц, относящихся ко второй категории, должна производиться постепенно, в соответствии с их окончательным выселением.[25]
Третья группа, определенная как «лояльная», подлежала теперь частичной экспроприации и расселению в том же районе, но подальше от колхоза. Очевидно, кулаки, относившиеся к этой категории, должны были находиться под контролем правительства и использоваться на лесоповале, строительстве дорог, землеустройстве и тому подобных работах.[26] Кулакам третьей категории часто выделяли участок неплодородной земли площадью не более гектара на человека в пределах их родной губернии.[27]
Секретарь Западно-Сибирского крайкома Роберт Эйхе (член комиссии, на отчете которой базировалось Политбюро) писал в то время, что «наиболее враждебных и реакционных» кулаков следует отправить в концентрационные лагеря, в такие «отдаленные районы» Севера, как заполярные Нарым и Туруханск; все остальные должны работать в «трудовых колониях» (эвфемизм, означающий трудовые лагеря менее строгого режима), а не оставаться в своих деревнях. За счет кулацкого труда можно будет выстроить новые дороги и предприятия в необжитых районах тайги.[28]
На основании анализа последних советских источников можно прийти к выводу, что согласно первоначальному плану по всем трем категориям должно было быть репрессировано 1 065 000 семей[29]. В декабре 1929 года в Политбюро говорилось о том, что раскулачиванию подлежат пять-шесть миллионов человек,[30] то есть примерно та же итоговая цифра (правда, в 1927 году указывалось, что средняя «кулацкая семья» состоит из семи человек, тогда итоговое число достигает 7–7,5 миллиона)[31]. Ясно, однако, что происходившая на месте инфляция целей и присоединение к кулакам подкулачников значительно увеличили общее число репрессированных. Один председатель сельсовета хвастал в 1930 году: «Мы у себя на пленумах сельсовета делаем кулаков сколько нам заблагорассудится. Например, четвертого января во время пленума сельсовета население двух деревень выступило по вопросу о выселении кулаков из района деревни Шуйской и высказалось в защиту гражданина Петухова; они настаивали на том, чтобы его считали середняком. Но мы отбили эту атаку и решили выселить его»[32].
Многие губернские и другие местные власти вскоре превысили установленные нормы. Так, в Московской губернии квота на выселение была практически перекрыта вдвое, аналогичное положение, согласно советским источникам, наблюдалось в Иваново-Вознесенске[33]. в официальных партийных документах признано, что в некоторых регионах вместо обычного раскулачивания 4–5 процентов крестьянских хозяйств раскулачиванию подверглись 14–20 процентов хозяйств.[34]
Эти данные подтверждаются, насколько это возможно цифрами, которые нам удалось собрать по отдельным деревням. Например, в одном селе, насчитывавшем 1189 дворов хозяева 202 из них были арестованы и сосланы, а владельцы 140 других выселены[35]. В другой деревне из 1200 хозяйств было раскулачено 160; в третьей 31 хозяйство из 120, в четвертой 90 из 800. Согласно статистическому отчету о раскулачивании трех сел Винницкой губернии, в одном из них были выселены хозяева 24 дворов из 312, в другом 40 из 283, в третьем 13 из 128.[36] А в книге современного советского писателя Стаднюка рассказывается про деревню, в которой «из каждых двадцати крестьян один был посажен под арест», и говорится, что им повезет, если на этом дело кончится.[37]
Известный советский прозаик Сергей Залыгин так описывает коллективизацию в Сибири: лучших крестьян намеренно уничтожают, к власти приходит кучка лодырей, болтунов и демагогов, любая сильная личность, независимо от социального происхождения, подвергается преследованиям.[38] О том же повествуют и другие советские писатели. Так, в повести В.Астафьева «Последний поклон» отбросы общества, придя к власти, постоянно провоцируют лучших крестьян, стремясь упечь их в Гулаг.[39]
Что же касается распределения кулаков по категориям, те данные, которыми мы располагаем (по одному из районов Западной губернии) показывают, что из 3551 зарегистрированных кулацких хозяйств 447 были отнесены к первой категории; 1307 – ко второй и лишь 1297 – к третьей. Таким образом, уже на этой стадии 63 процента кулаков подлежали расстрелу, тюремному заключению или выселению. Кроме того, местный циркуляр предписывает, чтобы оставшиеся в губернии кулаки, которым были выделены болотистые или разъеденные эрозией лесистые участки и которых использовали на лесоповале и прокладке дорог, также выселялись в случае невыполнения ими нормы на принудительных работах[40]. Если считать, что эти данные приблизительно отражают общую картину, то на миллион кулацких семей 630 000 относились к первой и второй, а 370 000 – к третьей категории. В любом случае определение каждой категории было очень растяжимым, как и дефиниция понятия «кулак», и указанные цифры очень скоро существенно выросли.
Первые массовые аресты (начавшиеся в конце 1929 года) проводились исключительно ГПУ. Были арестованы главы семей, многие из них в прошлом служили в белых армиях. Все они были расстреляны.
Затем, в декабре, были снова произведены аресты глав семейств, их в течение двух-трех месяцев держали в тюрьмах, а потом отправили в лагеря. Остальных членов семей пока не трогали, но описали имущество.
В начале 1930 года забрали семьи арестованных. На этот раз операция носила столь широкий характер, что на помощь ГПУ были мобилизованы партийные активисты, содействовавшие органам в проведении выселения.[41]
В нашем распоряжении имеются циркуляры из Западной губернии. Местная партийная организация приняла решение о раскулачивании 21 января 1930 года – до того, как было отдано официальное распоряжении. План проведения операции составили два руководителя местного ГПУ. Аппарат ГПУ был усилен, а отряды милиции сняты с выполнения других заданий. Всех участников операции снабдили оружием. Были созданы памятные со времен гражданской войны «тройки», состоявшие из руководителей местных партийных и советских организаций, а также ГПУ[42].
Декрет от 3 февраля 1930 года предписал ОГПУ совместно с Советом Народных Комиссаров РСФСР разработать предложения о размещении кулаков и их семей, «выселенных в отдаленные районы РСФСР, а также об их трудоустройстве». Этот упор на ответственность полицейского аппарата отражал реальное положение дел.
Принадлежность к третьей категории ненадолго скрасила участь «счастливчиков». Современные советские историки утверждают, что поскольку кулаки третьей категории «также противились созданию колхозов, возникла необходимость выселить и их в более отдаленные районы».[43]
В первые недели 1931 года до тех пор еще не депортированные украинские кулаки, не сумевшие выполнить нормы заготовок, также подверглись экспроприации и выселению. Вместе с аналогичными мероприятиями на Северном Kaвкaзе и в Поволжье это переросло в «новую волну ликвидации кулаков как класса»[44]. В одной деревушке на Днепропетровщине, состоявшей всего из девятнадцати дворов, десять семей было раскулачено в первую волну, а пять – позднее.[45] (Другое селение – Хрушка Киевской губернии, – насчитывавшее шестнадцать небольших хозяйств, владевших 950 акрами /менее 400 га/ земли, было полностью уничтожено в 1930 году.[46] В одной из деревень Северного Кавказа зимой 1930 года были «разоблачены» 16 кулацких семей, ранее не отнесенных к категории кулаков; у них было конфисковано 22 лошади, 30 коров и 19 овец. Таким образом, у этих «эксплуататоров-богатеев» приходилось в среднем по 1,4 лошади, 1,8 коровы и 1,2 овцы на семью![47]
Официально решение о второй волне депортации было принято в феврале 1931 года[48]. Эта операция была подготовлена лучше первой: были составлены списки, разосланы анкеты ОГПУ, замаскированные под налоговую проверку. 18 марта 1931 года в Западной губернии началась особая операция. Оказалось, однако, что план ее случайно просочился наружу, и в одном районе из намеченных 74 семей удалось задержать только 32 – остальные скрылись[49].
Пожалуй, иного выхода, кроме побега, у этих людей не оставалось. Тот факт, что свыше миллиона семей готовы были бросить свое имущество и дома, показателен сам по себе. «Правда» с самого начала кампании стала публиковать исполненные негодования статьи о кулаках, которые «распродают имущество, деля выручку между своими родственниками-середняками, и оставляют скот некормленным»[50]. Кулаков также обвиняли в том, что они предпочитают ломать свой инвентарь, лишь бы не сдавать его властям[51].
Иногда кулаки пытались перебраться в другие места вместе со скотом, но из этого ничего не выходило. В Ставропольском крае на Северном Кавказе «кулаки перегоняли стада, молочных коров, лошадей и овец из района в район».[52]
Когда в деревнях разгорелось массовое восстание (которое мы рассмотрим в следующей главе), руководителями его часто, хотя и не всегда, были зажиточные в прошлом крестьяне. У них, в сущности, не оставалось никаких других способов сопротивления. Существует множество рассказов о том, как, защищая свою семью, мужики набрасывались на гонителей с палками или топорами и падали, сраженные пулями. Но самой распространенной формой протеста стало уничтожение своей собственности, в том числе и путем поджога. Например, в украинском селе Подгородное на Днепропетровщине одна женщина бросила горящую головню на соломенную крышу дома, который конфисковало у нее ГПУ, с криком: «Мы на этот дом всю жизнь работали, вам он не достанется! Лучше пускай его огонь пожрет!»[53] Уже на ранних этапах раскулачивания советская пресса публиковала массу сообщений о поджогах, являвшихся актами протеста против власти и ее представителей.[54]
* * *
Иногда раздаются утверждения, что якобы выселение кулаков имело хотя бы одно экономическое обоснование: они пополняли резервуар рабочей силы в городах, недостаточный для проведения ударной индустриализации.
Кулаков, действительно, использовали на новых шахтах и других новостройках в местах их ссылки: в Сибири «значительная часть» кулаков третьей категории была, «ввиду недостатка рабочей силы», отправлена на строительство новых промышленных предприятий и на заготовку леса.[55] Но в других местах, если кулакам удавалось уйти из деревни и влиться в пролетариат крупных промышленных районов, это происходило вопреки строжайшим административным и иным мерам властей.
Строго секретный декрет от 12 февраля 1930 года требовал особой бдительности, чтобы не пропустить покидающих деревню кулаков на промышленные предприятия.[56] А введение 27 декабря 1932 года внутренних паспортов открыто трактовалось, в числе прочего, как мера «по очистке городов от кулаков, преступников и других антиобщественных элементов»[57].
Верно, что многие отчаявшиеся «кулаки» хлынули в города. Потребность в рабочих была столь велика, что руководители предприятий принимали их во множестве на работу часто в обход закона. «Правда» резко критиковала таких руководителей: в феврале 1930 среди 1100 человек, завербованных на работу в Херсонском районе, оказалось 50 кулаков; они, разумеется, бездельничали, пили и занимались саботажем, и потому от них необходимо было избавиться.[58] В Донецком каменноугольном бассейне кулаков, сумевших устроиться на работу, вылавливали и отправляли в дальневосточные лагеря[59].
Характерен приказ председателя райисполкома Каменского района от 31 января 1930 года об опознании и увольнении «всех в прошлом зажиточных крестьян» с железной дороги и трех местных фабрик.[60] А председатель Криницкого райисполкома Нелупченко осудил те сельсоветы, которые выдали «зажиточным крестьянам справки, где не было указано, что их собственность подлежала конфискации». Судя по этим справкам, предъявители «не подвергались налогообложению», то есть не были кулаками. Такие удостоверения давали ложное представление «о социальном положении» и использовались зажиточными крестьянами, чтобы «просочиться» на предприятия, нанимавшие новых рабочих. «Такую практику следует немедленно прекратить»[61]. Возле ворот Харьковского тракторного завода всегда стояли длинные очереди желавших получить работу. Однако подающие заявления о приеме на завод должны были ответить на вопросы: были ли ваши родители кулаками по происхождению? Ушли ли вы из колхоза? «Большинство претендентов не принимали, особенно тех, кто ушел из колхоза»[62] – дело в том, что не только кулаки, но и простые крестьяне все более крупными массами стекались в города.
Один тринадцатилетний подросток рассказывает, как он пытался устроиться на работу поблизости от дома, но его не взяли, сказав, что он должен принести свидетельство о рождении, которое активисты из его родной деревни отказались выдать. Через несколько дней, когда он попытал счастья на разработках торфа, его снова не приняли по той же причине.[63] Другой подросток, которому удалось сбежать из деревни устроился на работу, но всякий раз, как обнаруживалось его классовое происхождение или возникали подозрения на этот счет, ему приходилось бежать, пока он таким образом не попал в Среднюю Азию[64].
В работе советских историков рассказывается о том, как некоторые кулаки, «бежав из тех мест, куда их поселили, пробрались в советские учреждения, на промышленные предприятия, в колхозы, совхозы и МТС, где занялись вредительством и расхищением социалистической собственности. Постепенно эти дезорганизаторы производства были обнаружены и понесли заслуженное наказание»[65].
Не могли кулаки, конечно, вступать и в армию. Были разосланы специальные инструкции о проверке новобранцев с целью отсева кулацких элементов, «пытающихся проникнуть в Красную армию».[66]
* * *
Таким образом, кулакам ничего не оставалось, как только сидеть в деревне и ждать решения своей судьбы. В самом начале кампании «Правда» предупреждала, что нельзя позволить кулакам распродать имущество и скрыться[67].
В статье, опубликованной в разгар раскулачивания, сообщалось, что к концу 1930 года было раскулачено 400 000 семей, 353 400 еще оставались нетронутыми, а остальные (200–250 тысяч) распродали имущество и бежали в города[68]. Современные советские исследователи обычно приводят данные, лежащие в том же диапазоне – в 1929–1932 гг. 20–25 процентов из миллиона кулацких семей (такова была примерная цифра, фигурировавшая в официальных источниках) «самораскулачились», то есть бежали в города[69]. Соотношение это представляется довольно правдоподобным.
Оно влияет также на наши расчеты о количестве выселенных кулаков: если мы принимаем опубликованные Политбюро данные о числе раскулаченных в 5–6 миллионов – это будет означать, что 1–1,2 миллиона человек скрылись, хотя бы временно, а 4–4,8 миллиона скрыться не успели и были репрессированы. Как мы убедились раньше, за счет расширения категории кулаков и введения нового ярлыка «подкулачник» указанные цифры значительно возросли, однако соотношение выселенных и скрывшихся могло остаться тем же.
Советский ученый хрущевского периода пишет, что до октября 1931 года выселению подверглось 381 000 семей.[70] В «Статистическом справочнике по СССР» 1928 года указано, что средний состав семьи «предпринимателей», то есть кулаков, равен 6,5 человека (5,4 человека для семьи середняков, 3,9 – для бедняков), в совокупности это составит около 2,5 миллиона человек.
Диссидент Рой Медведев считает, что эти цифры значительно ниже реальных,[71] по ряду причин. Во-первых, массовая депортация не прекратилась в октябре 1931 года, а официально продолжалась до мая 1933 года, когда в декрете, подписанном Сталиным и Молотовым, было объявлено, что отныне будет продолжаться выселение лишь отдельных семей, общей численностью около 12 000 семей в год[72]. В этом декрете говорится, что в 1933 году было намечено выселить 100 000 семей, поэтому весьма вероятным представляется, что приблизительно таковы были темпы депортации за 18 месяцев между октябрем 1931 года и маем 1933 года. В совокупности это дает 150 000 семей, то есть от трех четвертей миллиона до миллиона человек, сверх указанных выше, которые были выселены после «второй волны».
В то же время целесообразно обратить внимание на реплику Сталина, сделанную в беседе с Черчиллем, о том, что раскулачивание коснулось «десяти миллионов» человек, хотя его комментарий, что, мол, раскулаченные были крайне непопулярными людьми, изгнанными в большинстве случаев собственными батраками, можно в расчет не принимать.
В 1933 году Сталин говорил про 15 процентов крестьянских хозяйств, что они, дескать, принадлежали кулакам и зажиточным и отошли в прошлое[73]. Численность крестьянских хозяйств в июне 1929 года равнялась 25 838 000. 15 процентов от этой цифры составит около 3 875 000 семей, или (из расчета пяти человек на семью) 19 380 000 человек. Отсюда следует вычесть число кулаков, тем или иным образом избежавших депортации. Мы уже указывали, что по советским расчетам 20-25 процентов кулаков бежало в города. По данным одного эмигранта с Украины, эта цифра еще выше. Он сообщает, что около двух третей раскулаченных было выселено, а одна треть скрылась[74]. Приняв за основу эти данные, мы получим численность действительно выселенных кулаков – 13 миллионов человек.
Далее, по официальным данным, 15 миллионов гектаров земли, отнятой у кулаков, стали в 1929–1932 гг. собственностью колхозов. Среднее кулацкое хозяйство обрабатывало в 1928 году 4,5 гектара; таким образом, переданная колхозам земля принадлежала около 33 миллиона кулацких хозяйств, насчитывавших свыше 15 миллионов человек, из которых (если треть скрылась) было выслано 10 миллионов человек. (К концу 1938 года площадь конфискованных у кулаков земель составила 30 миллионов гектаров, хотя сюда относятся более поздние конфискации.)[75] Но средняя площадь кулацких хозяйств к тому времени должна была, по ряду объективных причин, сократиться, поэтому цифра 10 000 000 является здесь явно минимальной.
Профессор Моше Левин указывает, что «численность депортированных, более или менее признаваемая пока в советских источниках, превышает один миллион семей, или пять миллионов человек»[76], причем эти данные касаются только РСФСР и Украины, поэтому к ним следует прибавить тысячи семей из других союзных республик (например, 40 000 из Узбекистана). Профессор Левин приходит к выводу, что фактически «было депортировано десять миллионов человек, а возможно, и больше»[77]. Итоговую цифру в 10–11 миллионов человек приводит еще один известный ученый (С.Сваневич), добавляя, что около трети из этих людей погибло[78].
Таким образом, приняв численность депортированных равной 10, а возможно, и 15 миллионам, мы вряд ли впадем в преувеличение. Данные, которые будут приведены в главе 16-й, позволяют считать наиболее вероятной величину 10–12 миллионов, из которых на данном этапе погибло примерно 3 миллиона, поскольку эти цифры лучше всего согласуются с данными о смертности крестьян за весь рассматриваемый период.
Но какие бы итоговые величины мы ни получили, необходимо принять во внимание и тех кулаков, преимущественно глав семей, которые были сразу арестованы и расстреляны или «отправлены в Соловки». Уже упоминалось, что число арестованных кулаков первой категории в конце 1929 – начале 1930 года составляло 200 000 человек. (Отнюдь не только кулаки были затронуты репрессиями на тогдашнем этапе: в конце 1929 года власти объявили, что в одном районе за один-единственный день было арестовано 234 кулака, 200 середняков и 400 крестьян-бедняков.)[79]
Дальше аресты продолжались теми же темпами. Современный журнал «Вопросы истории» сообщает, к примеру: «В первой половине 1931 года органы советской власти привлекли к ответственности (то есть арестовали) 96 тысяч человек. Это были кулаки, бывшие белогвардейские офицеры, полицейские и жандармы, а также другие антисоветские элементы…»[80] В Западной Сибири во время заготовительной кампании 1931–1932 гг. были вынесены судебные приговоры 1000 кулакам и 4700 другим крестьянам, «близким к кулакам по общественно-экономическим показателям».[81]
Попавшие в тюрьму или трудовые лагеря прошли через страдания, о которых большинство наших читателей уже имеет представление. В точности установить число этих жертв невозможно (см. главу 16-ю). Однако из одного советского документа той поры известно, что численность лиц, находившихся в местах заключения только в РСФСР и на Украине, доходила в 1931–1932 гг. до двух миллионов. В тот период, вплоть до 1936–1937 гг., заключенные в массе своей были крестьянами. Общая численность заключенных, согласно общепринятым расчетам, достигала в 1935 году около 5 миллионов, из которых не менее 4 миллионов были, вероятно, крестьянами, хоть и не обязательно зарегистрированными как кулаки.
В 1929 году только в лагерях, расположенных в Коми АССР, находилось, по сообщении бывшего работника лагеря примерно 200 000 заключенных, причем почти все они являлись крестьянами.[82] В лагерях, ведших строительство Беломорско-Балтийского канала, в июне 1934 года насчитывалось 286 000 заключенных, опять-таки – преимущественно крестьян[83].
Летом 1932 года на берег в районе Магадана были высажены десятки тысяч заключенных, почти сплошь крестьяне, которым предстояло осуществить плохо продуманную программу ударной разработки только что открытых месторождений золота. Когда наступила зима с ее ужасающими морозами (район Магадана – одно из самых холодных мест северного полушария), целые лагеря вымирали поголовно, не выжили ни охранники, ни собаки. По рассказам немногих уцелевших очевидцев, в живых осталось не более одного из пятидесяти заключенных в магаданских лагерях, а следующий год оказался еще страшнее. Один из переживших эту трагедию очевидцев сказал о своих, русских товарищах: «Они умирали, снова проявив то национальное свойство, которое воспел Тютчев и которым всегда злоупотребляли их политики – терпение».[84]
* * *
В «Кратком курсе истории ВКП/б/», изданном в сталинский период, события 1930–1931 гг. описаны в духе замечаний, сделанных Сталиным в беседе с Черчиллем: «Крестьяне сгоняли кулаков с земли, раскулачивали их, отбирали скот, машины и требовали от советской власти ареста и выселения кулаков».
Этот пассаж, разумеется, представляет собой весьма неточное описание того, что действительно происходило в деревнях. Сначала, по словам советского писателя Василия Гроссмана, «область спускала план – цифру кулаков – в районы, районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял? Тройка»[85]. В современном советском исследовании подтверждается, что ответственность за списки лежала на «тройках» и сообщается их обычный состав: секретарь парткома, член сельсовета и уполномоченный сотрудник ОГПУ.[86]
Затем в дело вступали группы «активистов», укрепленные руководством сельсовета. Они действовали по заранее установленному плану, например, большую деревню, состоявшую из тысячи и более дворов, делили на одиннадцать участков, в каждом из которых были свой «штаб» и «бригада» местных коммунистов.[87]
Тогда еще находились сельские советы, сопротивлявшиеся этой системе. Так, в одной деревне (согласно отчету ОГПУ) председатель сельсовета сказал на общем собрании колхоза, что получен приказ раскулачить семь кулаков. Местный учитель (комсомолец) спросил, является ли эта цифра обязательной, и, получив утвердительный ответ, пришел в ярость. Затем было проведено голосование по вопросу о семи предполагаемых кулаках, и все они были «утверждены в правах»; председатель благодушно согласился с результатами и выпил по этому поводу с одним из «кулаков».[88]
В официальном печатном органе украинского правительства цитировались выступления четырех председателей сельсоветов, говоривших, что в их деревнях нет кулаков и поэтому они не знают, как проводить классовую борьбу. Один из этих председателей отказался от помощи присланной со стороны «бригады», а в других случаях сельсовет, руководство комбеда (комитета беднейших крестьян) и правление колхоза были расформированы за саботаж. Газета писала также, что можно привести десятки и сотни других примеров «правого оппортунизма» в деревне[89].
В декрете ЦИК от 25 января 1930 года с полной откровенностью говорилось, что сельсовет, который неудовлетворительно справляется с проведением массовой коллективизации, «будет по существу кулацким советом». Раньше или позже его членов ждали чистка и репрессии.
В среде активистов Сталину все же удалось в какой-то степени насадить идею «классовой борьбы» в деревне или, по крайней мере, борьбы между пособниками режима и его жертвами. Изо всех сил разжигалась ненависть, необходимая для создания такой «борьбы». Активисты, помогавшие ГПУ в проведении арестов и депортации, были «все свои же, люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими выблядками называют, „Кровососы!“ – кричат… И ведь в большинстве свои же. Правда, околдованные, так себя уговорили, что касаться ничего не могут: и полотенце поганое, и за стол паразитский не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачиваемых как на скотину, на свиней, и все в кулаках отвратительно – и личность, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное – враги народа и эксплуатируют чужой труд… И никакой к ним жалости: они не люди, а не разберешь что, твари».[90]
Эта цитата взята из книги Василия Гроссмана. Еврей, один из ведущих советских писателей, много писавший о фашистской политике уничтожения своих соплеменников, он проводит аналогию между истреблением евреев при Гитлере и ликвидацией кулаков при Сталине. Одна активистка у Гроссмана говорит: «И я говорила: это не люди, это кулачье… Кто слово такое придумал: кулачье? Неужели Ленин? Какую муку принял! Чтобы их убить, надо было объявить: кулаки – не люди. Вот так же, как немцы говорили: жиды – не люди. Так и Ленин, и Сталин: кулаки – не люди».[91]
Но не всем активистам удавалось подобным образом заглушить голос совести. В секретном письме ОГПУ сообщается об одной комсомолке, которая (наперекор установкам о свирепости кулаков) говорила, что именно партийные активисты своими зверствами лишают себя права на звание человека: «Мы больше не люди, мы скоты».[92]
У Шолохова мы находим драматическую сцену, иллюстрирующую этот тезис. Активист Андрей Разметнов внезапно говорит:
«– Больше не работаю.
– Как не работаешь? Где? – Нагульнов отложил счеты.
– Раскулачивать больше не пойду. Ну, чего глаза вылупил? В припадок вдариться хочешь, что ли?
– Ты пьяный? – Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. – Что с тобой? Что значит – не будешь?
От его спокойного тенорка Андрей взбесился, заикаясь в волнении закричал:
– Я не обучен! Я… Я… с детишками не обучен воевать!.. На фронте – другое дело! Там любому шашкой, чем хочешь… И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду!
Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот:
– Да разве это дело? Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилася… – И опять перешел на крик: – У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы – как они взъюжались, шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять… Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы – по-мертвому, водой отливали сноху… детей. Да ну вас в господа бога!..»
Но другой сельский активист, Нагульнов, ведет себя иначе:
«Гад! – выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. – Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я… тысячи станови зараз дедов, детишков, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Для революции надо… Я их из пулемета… всех порешу!»[93]
Но фанатизм нагульновского типа был не единственным мотивом поведения активистов. Один наблюдатель отмечает, что «легион кулаков был создан завистливыми соседями, соглядатаями и доносчиками, ищущими легкой добычи, продажными и деспотичными чиновниками»[94]. Василий Гроссман тоже говорит об этом: «А погубить легко – напиши на него, и подписи не надо, что на него батрачили, или имел трех коров – и готов кулак».[95]
Активисты носом чуяли любые «отступления от социалистической законности». Шолохов рассказывает о том, как руководитель местных активистов добился выселения середняка, обвинив его в том, что тот нанимал девочку на месяц во время жатвы, да и то лишь из-за того, что сына его призвали в Красную армию.
В более позднем советском романе («На Иртыше» Залыгина) действует персонаж, которого заклеймили кулаком, хотя он отличился при тушении пожара в колхозе, а может быть, именно поэтому. Человек этот явно выделяется чертами вожака: «Нынче Чаузов Степан шел пожар тушить, а завтра он пойдет колхоз рушить, и некоторые мужики его на этот случай берегут! Таких, как Чаузов, навсегда надо от масс изолировать, избавляться от их влияния».[96]
Одну учительницу, вдову коммуниста, убитого на гражданской войне, раскулачили (по сообщению журнала для учителей той поры) «главным образом потому, что она не раз выгоняла местных активистов – секретаря сельсовета (кандидата в члены партии), местного культработника (так же члена партии) и секретаря местного кооператива из школы, где они собирались устраивать пьянки. Поскольку у учительницы не оказалось средств производства, которые можно было бы конфисковать, они забрали ее одежду, кухонную утварь и разорвали книги»[97]. Другая учительница, которую раскулачили как дочь священника, представила документы, из которых следовало, что она – дочь крестьянина, после чего ей было объявлено, что «мать ее частенько бывала у священника, и потому весьма правдоподобно, что она все-таки дочь священника».[98]
Подобные факты иллюстрируют мысль Василия Гроссмана о том, что «самые поганые, что на крови дела свои обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог».[99] Шолохов также не оставляет сомнений в том, что активисты крали еду и одежду. Даже в официальных отчетах указывалось, что у так называемых кулаков отбирали обувь, простыни, теплую одежду и пр., и все это шло на поживу их врагам. В самой «Правде» клеймили «дележ добычи»[100], награбленной у кулаков. В Западной губернии, из которой к нам попали секретные отчеты ГПУ, с кулаков снимали верхнюю одежду и обувь, оставляя их в одном белье. Деревенская беднота растаскивала все: резиновые сапоги, женские трико, чай, кочерги, корыта…[101] В отчете ГПУ упоминается об «отдельных членах рабочих бригад и должностных лицах нижней ступени партийного и советского аппарата, которые крали одежду и обувь, иногда даже снимая их с владельцев, съедали все что могли найти в доме и выпивали все запасы спиртного. Тащили даже очки, съедали или размазывали по иконам кашу из горшков».[102] У одной кулачки хоть и конфисковали имущество, но не выслали ее, потому что она была хорошая портниха и ее услугами широко пользовались семьи активистов, чтобы подогнать награбленную у кулаков одежду.[103] Гроссман подводит итоги: «Мутные люди определяли – кому жить, кому смерть. Ну и ясно, тут уж всего было – и взятки, и из-за бабы, и за старую обиду… А теперь я вижу, не в том беда, что, случалось, списки составляли жулики. Честных в активе больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое»[104].
На местном уровне происходили и «недоразумения». Так, в одном украинском селе в то время, как некий середняк помогал захватывать кулацкую собственность в одном конце деревни, в другом шла экспроприация его собственного имущества.[105]
В ряде случаев о классовой победе сообщалось в подобных выражениях: «За период с 5 часов до 7 часов утра кулаки как класс были ликвидированы»[106]; некоторые распаленные классовой ненавистью активисты бросались раскулачивать крестьян за пределами отведенной им зоны[107]. В документах ОГПУ эти действия осуждаются как «неправомочные».
Весной 1930 года прокуратура, стремясь внести хоть какую-то законность и упорядоченность в практику арестов и судов над кулаками, выпускала инструкцию за инструкцией[108]. Но поскольку эти распоряжения издавались вновь и вновь, они явно не давали никаких результатов.[109] Лишь 8 мая 1933 года появилось секретное «Письмо Сталина–Молотова», адресованное всем партийным и советским работникам, всем органам ОГПУ, судам и прокуратурам. В нем говорится:
«В ЦК и Совнарком поступили сигналы о том, что беспорядочные массовые аресты в деревне все еще продолжаются. Такие аресты производятся председателями колхозов и членами правления, председателями сельсоветов и секретарями партячеек, районными и краевыми работниками; арестовывает любой, кому этого захочется, и кто, строго говоря, не имеет права арестовывать. Неудивительно, что в этой вакханалии арестов органы, действительно наделенные правами арестовывать, в том числе органы ОГПУ и особенно милиция, теряют всякое чувство умеренности и часто совершают необоснованные аресты, действуя по правилу: „Сперва арестуй, а потом веди расследование“.[110]
К тому времени, разумеется, кулачество как класс было давно ликвидировано. Концентрация террора в руках профессионалов – значительно разросшихся к тому времени органов безопасности – отнюдь не приносила облегчения будущим жертвам. Тем более, что в любом случае, как объяснил Вышинский, революционная законность не исключала, а включала в себя «революционную инициативу масс».[111]
Органы совместно с активистами, подчас примитивно и не без ошибок, продолжали ликвидацию последнего враждебного класса. Как мы уже говорили, обычно им удавалось довести себя до необходимого накала классовой ненависти, но вот с массой крестьян дело обстояло куда менее успешно. «Правда», конечно, доказывала, что «всякий честный колхозник, издалека завидев кулака, сворачивает в сторону»[112], но тут, как и прежде, описывалось скорее желаемое, чем действительное положение вещей. В документах, которыми мы располагаем, содержится немало упоминаний о том, как председатели сельсоветов, члены партии и просто крестьяне пытались помочь кулакам. Отчеты ОГПУ не оставляют сомнений, что многие бедняки и середняки были против раскулачивания, не голосовали за него, прятали у себя кулацкую собственность и предупреждали своих друзей-кулаков о готовящихся обысках. «Во многих случаях» они собирали подписи под петициями в защиту кулаков.[113]
Мы знаем десятки таких случаев. В одной деревне бедняк-коммунист был исключен из партии и выслан как пособник кулаков за то, что выказывал скорбь по поводу расстрела своего родственника-кулака, сопротивлявшегося выселению, и даже похоронил его.[114] Современный советский писатель Виктор Астафьев так рассказывает об общем сочувствии к кулакам, которых высылали в низовья Енисея:
«При выселении собралась на берегу вся деревня, вой стоял над Енисеем, выселенцам несли кто яичко, кто калач, кто сахару кусок, кто платок, кто рукавицы».[115]
Даже в официальных изданиях того периода можно встретить рассказ про крестьянина, который, защищая друга, сказал, что, раз того раскулачивают, его самого тоже надо раскулачить, потому что хозяйства у них были одинаковые; крестьянину велели подать свою просьбу в письменном виде, после чего – раскулачили[116]. В марте 1930 года «Правда», пытаясь оценить это дело, заключает: «Далеко не все середняки политически подготовлены и способны признать необходимость организации и развития колхозов, а также ликвидации кулака как класса»[117]. Шестой съезд Советов, состоявшийся в марте следующего, 1931 года, должен был «клеймить позором» бедняков и середняков, которые помогают кулакам бороться против колхозов. Было также признано, что страх подвергнуться раскулачиванию иногда превращает середняков в «противников коллективизации, советской власти и политики партии вообще… и тем самым до некоторой степени нарушает изоляцию кулака»[118].
В секретных письмах ОГПУ сообщается, что даже городские рабочие проявляют «отрицательное отношение» к депортации кулаков.[119] Старые связи еще держались. В секретных партийных отчетах говорится о рабочих-коммунистах на фабриках, которые сохраняли участки земли в деревнях, а заработок на промышленных предприятиях позволял им «становиться кулаками». На одной фабрике 80 процентов состава партийной ячейки было связано с сельским хозяйством, и ячейка поэтому «проводила кулацкую политику».[120]
Как и прежде, люди больше уважали крестьянина, добившегося благосостояния за счет своего труда, чем завидовали ему. Один из ведущих специалистов писал по этому поводу: «Зажиточного соседа иногда ненавидели как жадного кулака, эксплуатирующего других, но гораздо чаще он вызывал зависть и уважение как добившийся успеха крестьянин».[121] Сторонник советского режима Морис Хиндус так описывает пропагандистский фильм Эйзенштейна о коллективизации:
«Один из злодеев был кулак. Что за чудовище: толстый, ленивый, прожорливый, подлый – словом, подобное создание еще не ступало по земле. Разумеется, в действительности вам вряд ли доведется встретить такого, даже в России. Кулак мог подчас жестоко обращаться с бедными крестьянами, но он никогда не был тем толстым, ленивым, ненасытным чудовищем, каким его изображает Эйзенштейн. В реальной жизни кулак был одним из самых трудолюбивых, бережливых и прогрессивных хозяев на селе… Он трудился без устали, на удивление всем».[122]
В отчете ОГПУ от 1931 года цитируются слова деревенского счетовода: «Забрали лучших, самых прилежных работников» (а никчемные остались).[123] По Шолохову тоже выходит, что кулаки были не только самыми прилежными работниками, но и самыми передовыми хозяевами. У него главный враг колхоза начал в 1920 году с «голой хаты», добывал лучшие семена, применял химикаты, следовал советам агрономов. Не раз слышали мы о просоветски настроенных бедняках, которые, получив землю, стали кулаками. Для них даже было изобретено особое название – «красные кулаки». В трех деревнях (в Черниговской, Полтавской и Винницкой губерниях) нашлось пятеро таких, кулаков. Двое из них были некогда пастухами, двое других тоже были совершенно безземельными, а пятый владел участком в полгектара. Все они были выселены в 1930 году.[124] В деревне Рудкивцы на Подолье двенадцать крестьян, принявшие в гражданской войне сторону большевиков, в большинстве бывшие «красные партизаны», стали жертвами советского режима и погибли: двое покончили самоубийством, семеро скончались в изгнании, недалеко от Мурманска[125].
Один из бывших активистов записал в 1932 году со слов своего приятеля-агронома:
«Некоторые из них – герои Красной армии, те самые парни, которые брали Перекоп и чуть не взяли Варшаву. Они осели на земле и пустили крепкие корни. Разбогатели! Только тот, кто не вкалывал, остался бедняком. Те самые, которые и на черноземе не могли вырастить ничего, кроме сорняков, не могли надоить молока от племенной коровы. Они-то потом вопили про классового врага, жиреющего на их поте и крови».[126]
В романе Шолохова красногвардеец, сын бедного казака, раненный в гражданскую войну и получивший награду, становится кулаком. При НЭПе он «начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь». Этот бывший красногвардеец говорит своим прежним товарищам-коммунистам: «Да и советская власть не на вас… держится. Я своими руками даю ей, что жевать». Новый, только что приехавший в колхоз председатель, для которого героическое прошлое этого крестьянина никакого значения не имеет, коротко замечает: «Кулаком стал, врагом сделался – раздавить! Какие тут могут быть разговоры?»
Партия не пользовалась поддержкой крестьян и знала это. Но, согласно официальной партийной линии, середняк был на ее стороне в классовой борьбе против кулака. Эту двуликую истину надо было перевести на язык классового террора.
Шолохов описывает несколько случаев изгнания кулаков из домов. Толпа крестьян сочувствует кулаку. Когда из хаты выгоняют старика с полоумным сыном и тот опускается на колени, чтобы прочесть молитву, активисты велят ему идти дальше, но возмущенная толпа кричит – дайте ему хоть с родным домом распрощаться, а женщины начинают голосить, после чего старика обвиняют в «подстрекательстве».
Мы располагаем сотнями свидетельств непосредственных очевидцев о том, что произошло с несчастными кулаками.
Вот несколько из этих историй. Безземельный в прошлом крестьянин, служивший в Красной армии, имел к 1929 году 35 акров (приблизительно 14 га) земли, двух лошадей, корову, борова, пять овец, сорок кур – на семью из шести человек. В 1928 году он был обложен «налогом» в 2500 рублей и 7500 бушелей (примерно 188 тонн) зерна. Крестьянин не сумел выплатить этот налог, и его дом (стоимостью 1800–2000 рублей) был конфискован для уплаты штрафа, а затем «куплен» за 250 рублей местным активистом. Домашняя утварь тоже была «распродана» активистам, а сельскохозяйственный инвентарь перешел к колхозу[127]. Самого крестьянина арестовали. В тюрьме ему предъявили обвинение в принадлежности к кулакам (хотя в прошлом именовали лишь «подкулачником»), в отказе платить налоги, в подстрекательстве против коллективизации и советского правительства, в принадлежности к тайной контрреволюционной организации, во владении 500 акрами (200 га) земли, пятью парами быков, стадом в пятьдесят голов крупного рогатого скота, эксплуатации батраков и т.д. За эти преступления его приговорили к десяти годам принудительного труда.[128]
Еще одного кулака (владевшего восьмью акрами, то есть 3,2 га земли) отправили 5 февраля 1931 года вместе с другими расчищать железнодорожное полотно от снега. Вернувшись домой, он обнаружил, что все его имущество, кроме чайника, миски и ложки, было конфисковано. Вскоре после этого его арестовали и отправили на лесозаготовки в район Крайнего Севера.[129]
Украинскому кулаку, владельцу двенадцати акров (примерно 4,8 га) земли, коровы, лошади, десяти овец, одной свиньи и около двадцати кур, то есть хозяйства, которое могло прокормить четырех человек, было вначале, в 1929 году, предписано продать государству 619 бушелей (приблизительно 15,5 тонн) пшеницы, что совершенно невозможно при указанной посевной площади. Крестьянин продал часть имущества и купил по высокой цене зерно, недостававшее ему до нормы. Тем не менее 26 февраля 1930 года его арестовали и отправили в Сибирь. У другого кулака конфисковали все имущество, в том числе всю детскую одежду, кроме той, которая была на его ребятишках. Ему велели регулярно являться в районное отделение ОГПУ, находившееся за 18 километров, и предупредили, что если он скроется пострадает его семья. Дети стали просить милостыню, но всю еду, которую им подавали, забирали активисты. 14 декабря 1929 года их выбросили на улицу, а вскоре после этого выслали. Его жена, мать и все шестеро детей умерли в ссылке.[130]
Девушка из семьи середняка рассказывает очень типичную историю: они жили в селе Покровское на Украине, у них была лошадь, корова, телка, пять овец, несколько свиней и амбар. Отец ее не захотел идти в колхоз, тогда с него стали требовать зерно, которого у него не было, «ему целую неделю не давали спать, били палками и револьверами, пока он не стал весь черно-синий и опух». Наконец его отпустили. Тут пришлось зарезать свинью, чтобы оставить немного мяса для семьи, а остальное продать в городе и купить хлеба. После всего этого в дом явились уполномоченный ГПУ, председатель сельсовета и другие активисты. Они описали имущество и конфисковали все, включая оставшуюся скотину. Отца, мать, старшего сына, двух малолетних дочерей и младенца заперли на ночь в деревенской церкви, а утром погнали на станцию, погрузили в телячий вагон. Наконец, состав из многих таких вагонов тронулся в путь. Неподалеку от Харькова поезд остановился, и добрый охранник отпустил девочек попросить молока для младенца. Неподалеку, в крестьянских хатах, им дали немного еды и молока, но когда они вернулись, поезд уже ушел. Девочки долго скитались по деревням, стали опытными беспризорницами, а потом потеряли друг друга, спасаясь от гнавшегося за ними на городском рынке милиционера. Девушка, рассказавшая эту историю, нашла приют в крестьянской семье.[131]
Как показывают эти свидетельства, судьбы кулаков были разными. Те, кого отнесли к первой категории как «упорных классовых врагов», арестовали зимой 1929–1930 гг. Сообщается, что в Киевской тюрьме в это время расстреливали по 70–120 человек за ночь[132]. Бывший заключенный, арестованный за религиозную деятельность, сообщает, что в тюрьме ГПУ в Днепропетровске в камеру на 25 человек посадили 140, правда, каждую ночь одного-двух арестантов выводили на расстрел.[133]
Кулак, сидевший в полтавской тюрьме в 1930 году, рассказывает, что в камере построенной на семерых, находилось, как правило, 36 арестованных, а в камере на 20 человек содержалось 83. Суточный рацион арестантов состоял из 100–150 граммов черного непропеченного хлеба. В тюрьме, насчитывавшей примерно 2000 заключенных, каждый день умирало около 30. Доктор всегда ставил диагноз «паралич сердца»[134].
А вот история, иллюстрирующая судьбу кулацких семей. В украинском селе Великие Солонцы после того, как 52 мужчин забрали как кулаков, погрузили их жен и детей на повозки, отвезли на песчаную косу по берегу реки Ворсклы и бросили там[135].
Бывший коммунист рассказывает, что в одном селе на Полтавщине, где проживало около 200 человек, в декабре 1929 года было раскулачено 64 семьи, а еще 20 семей повыгоняли из домов и бросили их на произвол судьбы. В марте жители деревни получили приказ, запрещавший оказывать им помощь. Наконец, этих 300 несчастных, в том числе 36 детей и 20 стариков, погнали в пещеры, находившиеся от деревни на расстоянии около трех миль (приблизительно 4,5 км) и запретили возвращаться в деревню. Некоторым удалось бежать, остальных 200 отправили в апреле на Крайний Север[136].
* * *
Депортация кулаков была мероприятием столь большого масштаба, что ее часто рассматривают просто как массовую миграцию, как переселение миллионов. Но каждая частичка этой многомиллионной массы была личностью со своей собственной судьбой.
Некоторые из приговоренных к высылке не доехали до места назначения. Один кулак из села Хрушка Киевской губернии, уходя из дома, снял со стены фото своего старого дома, который он покидал. Его арестовали и расстреляли в тот же вечер.[137]
Глубоких стариков обычно бросали на произвол судьбы. В одном селе активист рассказал заезжему американцу что хотя 40 кулацких семей было выселено, «очень старых, лет под девяносто и больше, оставили, потому что они не представляют угрозы для советской власти».[138]
Вот одна из таких сцен в описании Василия Гроссмана: «А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли, – постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног сталкивала. Нехорошо было на них смотреть. Идут колонной, на избы оглядываются, от своей печки тепло еще на себе несут, что они пережили – ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, щи недоваренные остались, молоко недопитое, а из труб еще дым идет, плачут женщины, а кричать боятся. А нам хоть бы что: актив – одно слово. Подгоняем их, как гусей. А сзади тележка – на ней Пелагея слепая, старичок Дмитрий Иванович, который лет десять через ноги из хаты не выходил, и Маруся-дурочка, парализованная, кулацкая дочь, ее в детстве копытом лошадь по виску ударила – и с тех пор она обомлела».[139]
Один кулак из Сумской губернии вспоминает, что когда его привели на погрузку в поезд, увозивший высылаемых кулаков, он не увидел ни конца, ни начала очереди: всюду, насколько хватало глаза, толпились люди, и все время подходили новые группы из разных деревень. Всех их затолкали в вагоны и через восемь суток доставили в «особые поселения» на Урале[140].
26 мая 1931 года состав из 61 вагона, где находилось около 3500 членов кулацких семей, вышел с небольшой станции Янцево в Запорожской губернии и 3 июня прибыл в Сибирь.[141]
Другой поезд отправился 18 марта 1931 года со станции Росты; он состоял из 48 вагонов, в которых находилось более 2000 депортируемых.[142] Обычно в вагоне находилось от 40 до 60 человек. Вагоны запирались снаружи, в них было душно и почти не проникал свет. На десятерых выдавали обычно буханку хлеба (примерно 300 граммов на человека) и полведра чая или жидкой похлебки в сутки (хотя и не каждый день). В некоторые дни вместо чая или супа приносили только воду.[143]
Сообщалось, что до 15 и даже 20 процентов пассажиров умирали по дороге, особенно часто – маленькие дети[144]. В 40-х годах то же явление имело место при массовой депортации национальных меньшинств. Надо учесть, что привозимые таким образом люди нередко были больны, часть женщин – беременны. Одна казачка родила в поезде. Ребенок, как многие младенцы, умер; двое солдат выбросили тело из вагона прямо находу.[145] Иногда выселяемых привозили к месту назначения, а в других случаях их держали в небольших городах, как на пересыльных пунктах, пока не приходил следующий транспорт – особенно часто в Вологде и Архангельске.
Все архангельские церкви закрыли и превратили в пересыльные тюрьмы, установив там многоярусные нары. Крестьяне подолгу не мылись, и кожа их покрывалась язвами. Они скитались по городу, прося подаяния, но местным жителям было строжайше предписано не помогать им. Запрещалось даже подбирать мертвых. Архангельцы, конечно, сами дрожали от страха перед арестом.[146] В Вологде 47 церквей также были превращены в тюрьмы для ссыльных крестьян.[147]
Современный советский писатель В.Тендряков рассказывает, как однажды из северного «города Вохрова поползли ссыльные куркули, это уж не соседские мужики, хоть травкой, но кормленные. Ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождем предзимних дней, по лужам, затянутым хрустящей пленкой. Многие так и не одолевали пятнадцати километров, не добирались до сказочного села, их находили на бровках полей, в придорожных канавах. Но те, кто доползли, наводили ужас на пожарцев: оплывшие, дышащие с хрипотой и клекотом, сквозь ужас завшивевших лохмотьев – расчесанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смирнели, виновато отворачивались, бабы вытирали глаза, стыдливо совали куски хлеба, в избы не приглашали – куда таких, одного возьми из жалости, от других отбою не будет»[148].
Через подобные пересыльные пункты или как-то иначе, но в конце концов ссыльные достигали места назначения – в тайге или и тундре. Тем из них, кого везли на самый север Сибири, грозила еще одна опасность – великие реки, текущие к Северному Ледовитому океану. Виктор Астафьев в повести «Царь-рыба» описывает, как везли кулаков на плотах по Угрюм-реке и как многие из них потонули в стремнинах.[149]
Если в сибирской тайге находилась по дороге деревня, кулаков кое-как распихивали по домам, если нет, то «прямо на снег сгружали. Слабые помирали. А трудоспособные стали лес валить… и строили шалаши… Они без сна почти работали, чтобы семьи не померзли»[150].
За Надеждинском (в Сибири) колонна кулаков за четверо суток прошла пешком 43 мили (70 км) до своего нового местожительства. Подойдя, они увидели стоящего на пне офицера ГПУ, который кричал: «Вот тут и будет ваша Украина». И, указав рукой на окружающую тайгу, добавил: «Всякий, кто попытается бежать отсюда, будет сразу же расстрелян».[151]
В другом пункте назначения, под Красноярском, тоже не было крова над головой, но уже натянули колючую проволоку и поставили охранников. Из 4000 посланных туда кулаков за два месяца погибло около половины.[152]
В лагере на Енисее кулаков поселили в землянках[153]. Немецкий коммунист рассказывает, как на бескрайних просторах от Петропавловска до озера Балхаш «расселяли» кулаков: «В землю были воткнуты колышки с табличками: „Поселение №5“, №6 и т.д., а вокруг них – ничего. К этим колышкам пригоняли крестьян и говорили, что теперь они сами должны о себе позаботиться. Крестьяне начинали рыть землянки. Множество их погибло в первые годы от голода и холода».[154]
Современный советский исследователь также говорит о том, что почти весь трудоспособный состав новоприбывших семей был занят в первые месяцы на строительстве жилья.[155]
Сибирский лагерь №205, находившийся в тайге возле Копейска, к северу от городка Северное, в первое время состоял из хибар, построенных самими заключенными. Около половины мужчин послали валить лес, остальных – в шахты; незамужние и бездетные женщины также работали в шахтах. В ноябре стариков, больных и подростков, не достигших четырнадцати лет, отправили на строительство зимних квартир – лачуг из дерева и земли. Суточным рацион работников состоял из пинты (примерно 0,5 литра) жидкой похлебки и десяти полуунций (примерно 155 г.) хлеба. Почти все дети в лагере погибли.[156]
На официальном языке все эти крестьянские лагеря именовались «особыми поселениями». Они не считались формой заключения, но находились под прямым контролем ОГПУ и не были включены в систему обычного административного устройства.
16 августа 1930 года правительство издало декрет о коллективизации кулаков в районах их выселения[157], но практических последствий он не имел. Ответственный работник советского аппарата сообщает, что раскулаченные даже теоретически не имели права избирать собственных руководителей, а во главе их кооперативов стояли «уполномоченные советских органов, этими органами назначенные»[158], то есть сотрудники ОГПУ.
Жители «особых поселений» не имели почти никаких прав, оставаясь изгоями в идеологическом и гражданском отношениях. В случае брака с «особым поселенцем» человек со стороны также причислялся к этому новому классу крепостных.
Со слов одного иностранного коммуниста нам известно, что когда группы новоприбывших, строили свои глинобитные лачуги, «партийные боссы часто въезжали в поселение верхом… Они не просто оскорбляли и унижали нас, у них порой была при себе плеть, которой они угощали всякого, кто попадался им на дороге, даже играющих ребятишек норовили стегануть».[159]
В первый период ссылки ссыльные зависели от ОГПУ в отношении питания. В северных особых поселениях паек выполнившему норму выработки составлял 600 граммов хлеба в день; не выполнивший норму получал 400 граммов, а штрафной паек был 200 граммов. Это было значительно ниже, чем рацион в лагерях принудительного режима даже в худшие периоды их существования.[160]
Специальные поселения находились, разумеется, в совершенно необжитых, по существу, в безлюдных районах.[161] Значительная часть их располагалась на севере и северо-востоке страны, в частности вокруг Архангельска, Вологды, Котласа. На Крайнем Севере, между Грязовцем и Архангельском, то есть на протяжении 400 миль (640 км) было множество лагерей. Сначала они находились на расстоянии 30 миль (50 км) от железной дороги, потом их передвинули еще глубже в лес. Согласно расчетам одного из исследователей, в этом районе было сконцентрировано до двух миллионов кулаков (наибольшая по численности группа), главным образом с Украины. Около половины этого числа составляли дети, впрочем, по мере того, как младшие из них вымирали, это соотношение менялось.[162]
По официальным данным, уже в феврале 1930 года в северных районах находилось 70 000 кулацких семей[163], то есть приблизительно 400 000 душ, позднее число их намного увеличилось.
«Городское» население Карелии и Мурманска, согласно официальным данным, возросло с 1926-го по 1939 год на 325 000 человек, население северо-востока СССР – на 478 000 человек, Вятки (Кирова) – на 536 000. Увеличение это было достигнуто главным образом за счет кулацких особых поселений и трудовых лагерей. (Можно легко доказать, что такого рода труд, если он не носил сугубо сельскохозяйственного характера, относится статистикой к городскому или индустриальному.) Если же на основании данных, приведенных далее, мы будем считать численность ссыльных, занятых в «промышленности» и сельском хозяйстве, примерно равной друг другу, это будет означать, что лишь в перечисленных выше районах находилось около 2,5 миллиона ссыльных.
За 1930–1931 гг. в районе Красноярска поселилось 24 200 кулацких семей.[164]
Крупные партии кулаков направили в Нарым, находящийся на крайнем севере Сибири. Большую часть года земля здесь промерзает насквозь, а летом превращается в бесплодное болото. Солженицын так рассказывает о прибытии туда кулаков в феврале 1931 года:
«Через село Коченово (Новосибирской области) в феврале 1931-го, когда морозы перемежались буранами, – шли, и шли, и шли окруженные конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи появляясь и в снежную степь уходя… Все тянулись они в нарымские болота – и в ненасытимых этих болотах остались все. Но еще раньше, в жестоком пути, околевали дети».[165]
Крупный советский аппаратчик в официальном отчете сообщает, что к началу 1932 года 196 000 «репрессированных кулаков из центральных районов страны» было сослано в Нарым (население которого составляло тогда лишь 119 000 человек)[166]. Из другого официального источника известно, что в Нарым переселили 47 000 кулацких семей.[167] Если даже считать, что в средней крестьянской семье было только пять душ, мы все-таки получим общую их численность в 235 000 человек, из которых минимум 40 000 (то есть 17 процентов), видимо, погибли, еще не доехав до Заполярья, вероятно, прежде всего дети.
Где бы ни оказывались кулаки, от них повсюду ожидали работы. Кулакам, не способным к тяжелому физическому труду, давали иногда ссуду и обеспечивали питанием до первого урожая; работали они под надзором охранников[168]. Но рано или поздно, на прокорм у них оставалось только то, что они могли выжать из бедной северной земли.
3 февраля 1932 года партком Северного округа принял решение об улучшении снабжения ссыльных продуктами питания. В постановлении указывалось: «Необходимо обеспечить, чтобы к 1934 году новоприбывшие за счет собственного урожая снабжали себя хлебом, фуражом и овощами». Для достижения этой цели поселенцам предстояло расчистить 90 000 гектаров леса[169], то есть 900 квадратных километров.
Один из исследователей сообщает, что кулаки составляли основную рабочую силу «вновь созданных» совхозов[170] и что многие из них остались на земледельческих работах.
Остальные составили ресурсы рабочей силы для других отраслей.Около 60 процентов из более чем миллионной партии депортированных крестьян работало в начале 1935 года на «промышленных» предприятиях.[171] «Весной 1931 года было принято решение передать 10 000 кулацких семей в распоряжение предприятий цветной металлургии, а 8000 – отправились на разработку Печорского угольного бассейна».[172]
На новом промышленном комбинате Магнитогорска было занято около 50 000 рабочих. Примерно 18 000 из них были раскулаченные крестьяне (кроме них, на комбинате трудилось 20–25 тысяч лагерников, работавших под землей, которые, судя по отчетам, были преступниками – ворами, проститутками и казнокрадами).[173] Один инженер вспоминает о прибытии в 1931 году нескольких составов с кулаками. Их распределили на работу в шахты; позднее он сталкивался с группами раскулаченных на золотых приисках., медных и цинковых рудниках в других районах страны.[174] В Бакчаре, на реке Томь, около 5000 кулаков работали на строительстве порта, получая семь унций (примерно 210 г) хлеба в день, прочую еду им предоставляли добывать где угодно.[175]
Кулаки, распределенные на сельскохозяйственные работы, подчас добивались успеха благодаря сноровке и тяжелому труду. Так, у современного советского писателя Б.Можаева рассказывается о том, как в 1928 году, на ранней стадии раскулачивания, всех кулаков выселили и отправили на лесоповал. Они работали что есть мочи и так преуспели, что их пришлось вторично раскулачивать и высылать[176].
Без лошадей и плугов, вооруженные лишь несколькими топорами да лопатами, самые упорные из высланных крестьян сумели выжить и создать зажиточные поселения, из которых их снова выселили, как только власти обнаружили рост их благосостояния[177]. Рассказывают, что одна группа староверов сумела построить процветающее поселение, которое до 1950 года не имело никаких контактов с окружающим миром. Когда поселение, наконец, обнаружили, жителей его тут же обвинили в саботаже[178].
Вообще же следить за ссыльными было нелегко. По официальным данным, до четверти выселенных в Сибирь кулаков, в особенности молодежь, к середине 30-х годов сбежало.[179] Их аттестуют как самых непримиримых врагов советской власти.
О беглецах ходит много легенд. Рассказывают, к примеру, о двух украинских парнях, которые, завладев принадлежавшим начальнику станции обрезом и взяв с собой сковородку и немного еды, ушли в тайгу; с тех пор они якобы жили там, питаясь олениной и дичью.[180]
* * *
Но хотя многие сумели бежать, а другим удалось колоссальным напряжением сил выжить, следует подчеркнуть, что множество выселенных крестьян погибло.
В Емецке был огромный лагерь, куда разместили в основном семьи, лишенные отцов-кормильцев. Большинство составляли дети. 32 000 человек жило в 97 бараках. В лагере свирепствовали эпидемии кори и скарлатины, и не было никакой медицинской помощи. Дневной рацион состоял из 14 унций (430 г) черного хлеба, 3,5 унций (примерно 110 г) проса и 3,5 унций (приблизительно 110 г) рыбы. Детская смертность была страшной, детей хоронили целыми днями. Проезжая через эти места в 1935 году, один из прежних заключенных увидел, что кладбище, где некогда стояли бесчисленные кресты, сровняли с землей – видимо, по приказу сверху.[181]
Из пятидесяти арестованных в одной деревне членов семей кулаков в 1942 году вернулись с подложными документами пятеро. Они рассказали, что их выслали в Сибирь, за несколько сотен километров к югу от Свердловска, и что все, кроме них, погибли от голода и непосильной работы[182].
Одного украинского крестьянина вместе с женой, девятью детьми и престарелыми родителями отправили на Соловецкие острова. Сыну крестьянина – девятилетнему мальчику – удалось бежать, несмотря на то, что при побеге его ранили в ногу. Остальные погибли[183].
В Томском лагере-изоляторе, где содержалось 13 000 кулаков, суточный рацион состоял из 9 унций (280 г) хлеба, миски баланды. Ежедневно умирало 18–20 человек.[184] Из 4800 кулаков, прибывших в октябре 1931 года в сибирский лесной лагерь, к апрелю 1932 года скончались 2500.[185] Весной 1932 года в специальное поселение украинцев Медвежье (на Урале) перестали завозить пищу, голод собрал здесь, как и на самой Украине, обильную жатву.[186]
Солженицын рассказывает о том, как 60–70 тысяч человек завезли в верховья сибирской реки Васюган и высадили на клочках твердой земли, со всех сторон окруженных топью, безо всякой пищи и орудий труда. Некоторое время спустя был выслан транспорт с провизией, но он не пробился через сковавший реку лед, и все завезенные на Васюган крестьяне погибли. Дело, видимо, подверглось судебному разбирательству, и один из виновных был расстрелян.[187]
Приведенные в заслуживающих доверия источниках подсчеты показывают, что погибло от четверти до трети депортированных[188]. Большинство из них, как мы уже указывали, составляли дети. Один переселенный в Емецкий лагерь кулак рассказывает: «18 апреля умерла моя дочка. Трехлетняя „преступница“ заплатила за „преступления“ своих родителей и дедов».[189]
В романе Ильи Эренбурга «День второй», опубликованном в 1934 году, дается предельно откровенное обоснование всего содеянного с кулаками:
«Ни один из них не был виновен ни в чем, но они принадлежали к классу, который был виновен во всем»[190].
Глава седьмая. Крах сплошной коллективизации (январь–март 1930 года)
Я не дам тебе наследия моих отцов.
Первая Книга ЦарствКрестьянину, избежавшему раскулачивания, уготована была другая судьба. Его жизнь тоже изменилась по чужой воле. Сталин не раз говорил, что коллективизация – это «революция, проводимая сверху» (хотя ее якобы непосредственно поддерживали «снизу», то есть крестьяне).[1]
Решения о проведении коллективизации были, по существу, приняты Сталиным с группой его ближайших сподвижников еще в 1929 году. С общестратегической точки зрения решения эти уходили корнями в историю партии и марксизм в целом. В своем конкретном, тактическом выражении они были результатом маневров партийного руководства; в них тесно переплелись догматические установки и борьба за власть.
Комментируя планы и действия ВКП/б/ на этом этапе, западные ученые подчас называли их «естественными», «логичными», «разумными». Правоверный советский обозреватель одобрительно замечает об одном таком западном специалисте, что, в отличие от большинства своих коллег, тот пишет о «всесторонне подготовленной программе коллективизации».[2] Никакой подобной программы в действительности не существовало. Мы уже видели, как Сталин и его ближайшие сотрудники шаг за шагом подталкивали партию к проведению массовой коллективизации ударными темпами, не представив никакого плана, по которому могла бы развернуться дискуссия: (в то время, как они же замалчивали предложения серьезных экономистов-плановиков). На сегодня[*] официальная точка зрения такова: коллективизация сельского хозяйства была абсолютно необходимой. Объективно сложившаяся в начале 20-х годов ситуация заставила партию пойти на неизбежные уступки крестьянам-единоличникам. Тогда это выправило положение, но «устаревший способ производства в сельском хозяйстве» тормозил дальнейший прогресс. Наконец, назрела необходимость в быстром развитии промышленности и переводе сельского хозяйства на «социалистические рельсы». Главным препятствием этому была низкая продуктивность мелкого крестьянского хозяйства, а также враждебность кулаков. Только путем классовой борьбы против кулака могла партия мобилизовать и бедняков и середняков на коллективизацию и разгромить «классового врага». (Кроме того, это был способ прекращения зернового кризиса, поскольку социалистическое сельское хозяйство более производительно, чем капиталистическое и т.д. и т.п. Но на подобных аргументах не имеет смысла останавливаться.)
Вся эта картина почти не имеет ничего общего с действительностью; особенно фантастичны понятия несуществовавшей классовой борьбы и повышенной эффективности коллективного хозяйства. Но, независимо от ее сущности и ее результатов, коллективизация вдобавок вовсе не проводилась «разумно» или, тем более, по «тщательно продуманный планам».
В стране снова возродилась обстановка военного коммунизма: армейский жаргон, утопические ожидания, жестокое принуждение крестьянства, отсутствие какой бы то ни было экономической подготовки. В партии снова воцарилась атмосфера истерии. «Было ощущение, что демоны и ведьмы опять на воле», – пишет Адам Улам.
Но какой могла быть альтернатива, если встать на точку зрения тех, кто разделял концепцию однопартийной диктатуры?
Правые предвидели, что «коллективизация ударными темпами» будет означать серьезный кризис. Но, с другой стороны, их надежды на то, что крестьян привлечет постепенная коллективизация, даже если ее растягивать на десятилетия, представляется чересчур радужной. Настоящей альтернативой сталинизму был бы отбросивишй догмы коммунистический режим, который «повернулся бы лицом к своим правым», включил бывших меньшевиков из Госплана, а возможно, и другие партии (как это сделали в 1956 году в Венгрии) и образовал вместе с ними левый фронт. Такое правление не вызывало бы в народе всеобщей ненависти и могло бы создать некий общенародный «социализм с человеческим лицом». Такова была одна из возможных альтернативных позиций; однако сами правые не разделяли ее. Избегая какого бы то ни была союза с внепартийными силами, они обрекли себя на полное бессилие. Впрочем, по удачному определению Исаака Дойчера, «с того момента, как исчез мелкий собственник, у правой оппозиции была выбита почва из-под ног».[3]
Курс Сталина на коллективизацию не являлся его личным изобретением, каким-то трюком (или был им лишь в очень незначительной степени). Эту «революцию на селе» поддерживала основная масса партийных активистов, а на более высоком уровне – ядро старых революционеров-подпольщиков, людей типа Кирова. Даже основная часть левой группировки сомкнулась вокруг Сталина, как только была объявлена борьба за коллективизацию, с тою лишь разницей, что будучи людьми более культурными, они провели бы это дело, возможно, с меньшей жестокостью. Но и они были убеждены, что в таком великом деле, как революция, необходимо встать выше «мелочных соображений». С того момента, как развернулась новая революция, в партии возникла убежденность (как рассказывал об этом человек отнюдь не относившийся к сторонникам Сталина), что «любые перемены в руководстве были бы чрезвычайно опасны… страна должна была продолжать движение по избранному курсу, поскольку теперь остановка или попытка отступления означала бы потерю всего».[4]
Не было проведено не только никакой серьезной экономической подготовки к «коллективизации ударными темпами» – отсутствовала элементарная административная проработка намечавшейся кампании. Как и в 1918 году, в деревне были поспешно сформированы тройки, состоявшие из людей со стороны, и другие органы ad hos[*], действовавшие на основании полного произвола. Существовавшие ранее сельские советы, кооперативные общества, правления колхозов и пр. просто развалились. В «Истории партии», изданной в СССР в 1960 году, так трактуется вопрос о посылке в деревню активистов из города:
«Крестьяне видели, что партия и правительство, преодолевая трудности, строят заводы для производства тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Многочисленные делегации крестьян посещали новые заводы и стройки, принимали участие в рабочих собраниях и заражались энтузиазмом рабочих. Возвратившись в деревни, эти передовые представители трудового крестьянства принимались за создание новых колхозов. Организованные рабочие промышленных предприятий и строек брали шефство над сельскими районами и направляли в деревню множество рабочих бригад. Таким образом началось массовое движение за вступление а колхозы. Движение это переросло в сплошную коллективизацию»[5].
Это описание, несмотря на беспардонную идеализацию событий, отражает одно обстоятельство: уполномоченные, присланные из города, снова, как и в подготовительные кампании 1928–1929 гг., играли решающую роль. Только теперь, в отличие от упомянутых случаев, их вторжение в деревню мыслилось как более длительное, постоянное.
«Правда» отмечала, что крестьяне называли уполномоченных, отправлявшихся «осуществлять общественное влияние» в деревню в 1928–1929 гг., «гастролерами». Они объезжали несколько деревень и в каждой из них оставались ровно столько, сколько было необходимо, чтобы навязать крестьянам спущенные нормы хлебозаготовок. Никакой постоянной власти они не имели.[6]
Теперь же были предприняты концентрированные усилия. В городах происходила мобилизация «двадцатипятитысячников» (рабочих-коммунистов) в помощь деревне. В итоге этой кампании было отобрано и командировано в деревню не 25, а «более 27 тысяч коммунистов»[7]. Их задача более не ограничивалась проведением чрезвычайных мер, нет, предстояло остаться в деревне и возглавить ее. В январе 1930 года двадцатипятитысячники прошли двухнедельные курсы, а затем были разосланы по деревням. Первоначально предполагалось, что они пробудут там год, затем срок был увеличен до двух лет, и, наконец, 5 декабря 1930 года ЦК принял решение об отправке двадцатипятитысячников в деревню[8] на постоянную работу.
Сначала двадцатипятитысячникам обещали зарплату в 120 рублей в месяц. Но деньги поступали нерегулярно: имеется письмо группы двадцатипятитысячников, работавших в районе Вязьмы, с жалобой на то, что колхозы не располагают достаточными фондами, чтобы выплачивать такую зарплату, и поэтому они «вынуждены бежать домой»[9]. Официальные документы изобилуют подобными жалобами. Некоторые из них очень реалистично рисуют реакцию крестьян на появление новых руководителей. Например, приводятся высказывания такого рода: «Если заводской рабочий может управлять работой на селе, пускай нас пошлют руководить фабрикой», или: «накачали нам нового пристава на шею». («В некоторых местах кулацкая пропаганда оказалась успешной», – сказано по этому поводу в цитируемом отчете.)[10] Но даже на двадцатипятитысячников не всегда можно было положиться, некоторые из них, «стремясь к дешевой популярности, попустительствовали расточительству отсталых элементов деревни».[11] Колхозный центр с осуждением сообщал о двадцатипятитысячниках, протестовавших (вполне справедливо) против реквизиции семенного зерна, которая повлечет за собой срыв посевной; этих двадцатипятитысячников предписано было отозвать и исключить из партии.[12]
К середине февраля 18 000 рабочих-коммунистов было направлено в деревню, причем 16 000 – непосредственно в колхозы, но около трети из них впоследствии были отозваны.[13] Тем не менее в мае 1930 года в колхозах работал 19 581 двадцатипятитысячник, большинство из них являлись председателями колхозов или занимали другие ключевые посты.[14]
В дополнение к ним весной 1930 года в деревню было направлено на временную работу 72 204 «рабочих», 13 000 счетоводов-комсомольцев[15], а также 50 000 солдат и младших командиров, прошедших перед демобилизацией из армии подготовку по проведению коллективизации. На одной только Украине к концу февраля 1930 года появилось в деревнях 23 500 должностных лиц и свыше 23 000 отобранных промышленных рабочих.[16]
И снова в действительности дело шло не так гладко, как может показаться на основании голых цифр. В одном официальном отчете сообщается, что в Ельне (РСФСР) райком принял в августе 1933 года решение о мобилизации 50 коммунистов на работу в село. Мобилизовано было всего 20, и лишь четверо действительно отправились в деревню: один из них был в прошлом крестьянином, но остальные трое ничего не смыслили в сельском хозяйстве. В октябре было отдано распоряжение о мобилизации 15 комсомольцев; направилось в деревню всего четверо, причем двоих вскоре выгнали за пьянство и некомпетентность[17].
Но, несмотря на подобные неудачи, партии все же удалось послать на село значительное пополнение. О полученных двадцатипятитысячниками инструкциях и их настроениях можно судить по воспоминаниям одного из участников совещания, в котором приняло участие 80 партийных активистов. Губерния отстала в проведении коллективизации, поэтому они направлялись в деревню на месяц-полтора. Перед ними выступил М.Хатаевич:
«Местные органы на селе нуждаются в укреплении большевиками, поэтому направляющиеся в село рабочие должны осознавать огромную ответственность перед партией и выполнять свой долг без колебаний и гнилого либерализма („выбросить в окно буржуазную гуманность и вести себя как большевики, достойные товарища Сталина“). Кулаков и их прихвостней надлежит безжалостно бить повсюду, где они поднимают голову, последние остатки капиталистического земледелия надо вымести вон любой ценой.
Необходимо, далее, выполнять план хлебозаготовок. Кулаки, а также некоторые середняки и бедняки не отдают хлеб, саботируют политику партии. А местные власти порой проявляют слабость по отношению к ним. Ваша задача – взять хлеб любой ценой, выжать его отовсюду, где он спрятан – в печах, под кроватями, в погребах, в тайниках на заднем дворе.
На вашем примере… крестьяне должны понять, что такое большевистская твердость. Вы должны найти хлеб, и вы его найдете… Не бойтесь применять крайние меры, за вами стоит партия, товарищ Сталин. Борьба идет не на жизнь, а на смерть…
Третья ваша задача – завершить обмолот зерна, а также отремонтировать плуги, тракторы и другое оборудование.
Классовая борьба в деревне приняла острейшую форму. Сейчас не время для гнилой сентиментальности. Замаскированные агенты кулаков проникают в колхозы, где занимаются саботажем и убоем скота. От вас требуется большевистская бдительность, непримиримость и мужество. Я уверен, что вы выполните указания партии и нашего дорогого вождя».[18]
Другой тогдашний активист П.Г.Григоренко много лет спустя писал:
«Нас обманули потому, что мы хотели быть обманутыми. Мы так верили в коммунизм и нам так хотелось в него поскорее протиснуться, что мы готовы были оправдать любые преступления, если они хоть немного подлакировывались коммунистической фразеологией. Мы не хотели охватывать происходящие события широким взглядом. Нам больше нравилось упереться взглядом в конкретное явление, а в целом, мол, дело обстоит так, как партия его освещает, то есть так, как это положено по коммунистической теории».[19]
Но не у всех направленных в деревню была подобная твердокаменная идеологическая установка. Любимый писатель Сталина Михаил Шолохов так описывает мотивы, лежавшие в основе поведения преданных партии активистов: отчасти восторженная вера в трактора, отчасти ненависть к кулаку как к воплощению «собственности» и «другого лагеря», отчасти мстительность, порожденная гражданской войной и экономической эксплуатацией и отчасти приверженность к самому слову «революция», базировавшаяся на вычитанных из газет рассказах о классовой борьбе в Китае и в других странах. («Он думает, что он быка режет, а на самом деле он мировой революции нож в спину сажает!»). Если добавить к перечисленному привычку воспринимать указания партии в качестве эталона всех вещей, мы получим достаточно полную картину.
У Василия Гроссмана, в комитеты сельских активистов входят самые разные люди – «и такие, что верили и паразитов ненавидели и были за беднейшее крестьянство, и такие, что свои дела обделывали, а больше всего, что приказ выполняли – такие и отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции»[20]).
Ну, а что касается менее преданных идее активистов, то мы уже видели, как свирепствовали в деревне жадность и властолюбие. Один современный советский обозреватель прямо говорит, что во время коллективизации «новые идеи и лозунги стали для одних путеводной звездой, для других рычагом личной наживы и продвижения по службе, для третьих – просто демагогическими обещаниями, прикрывающими низменные мотивы и страсти»[21].
В книге Александра Малышкина «Люди из захолустья» рисуется руководитель колхоза – бесчестный и ленивый человек, сокровенная мечта которого – натопить огромную баню, поддать пару, загнать туда всех попов да капиталистов и запалить[22] – воистину тесное переплетение природной жестокости с идеологией.
В деревнях посланцы партии организовывали своих местных сторонников как могли. У Шолохова в донской станице Гремячий Лог двадцатипятитысячник собирает 32 человека – бедных казаков и активных работников – и те «постановляют» провести коллективизацию и раскулачивание, даже не спросив мнения большинства. Там, где это оказывалось возможно, члены партии занимали административные посты. В одном районе 22 из 36 партийцев являлись председателями колхозов.[23] В число этих коммунистов входили двадцатипятитысячники (следует подчеркнуть, что посланные в украинские села двадцатипятитысячники были в основном русскими.) Но коммунистов едва хватало на ключевые посты, поэтому большая часть местных активистов состояла из комсомольцев. Даже в июне 1933 года в одном из районов России не было ни одной партийной ячейки, а на 75 колхозов приходилось всего 14 коммунистов, но было 16 комсомольских ячеек, насчитывавших 157 членов, а еще 56 комсомольцев было разбросано по оставшимся колхозам[24]. Один из местных работников отмечал, что молодежь вступает в комсомол, чтобы отвертеться от работы в поле.[25] Кроме того, в деревнях был создан более широкий «беспартийный актив» выполнения политических и государственных задач на селе.[26]
При этих условиях к власти в деревне приходили обычно люди далеко не первого разбора, хотя иногда попадались среди них и ветераны партии, еще сохранявшие кое-какие иллюзии. Как бы то ни было, те, которые с самого начала не чувствовали отвращения к поставленной задаче, и те, что постепенно стали ее жертвами – все они ожесточались. У Кравченко рассказывается о закрытии церкви в одном украинском селе:
«Кобзарь, Белоусов и другие взялись за дело с удовольствием. Медленно и незаметно, как бы наслаждаясь отвращением мужиков к каким-то явлениям, именно тем наслаждались, что мужикам это отвратительно, они превратились буквально в антагонистов местных крестьян.»[27]
Но, как мы уже имели возможность убедиться, не все честные активисты и партийцы способны были вынести моральную ответственность за совершавшееся. «Радяньска Украина» с горечью писала, что комитеты бедноты, опора партии на селе, нередко саботировали коллективизацию.[28] «Правда» неоднократно осуждала коммунистов, «дезер-тировавших»[29] с фронта коллективизации. Один молодой агроном, к примеру, проведя неделю в деревне, даже вышел из партии и, мотивируя свое решение, писал: «Я не верю, в коллективизацию. Темпы ее… слишком быстрые. Партия взяла неправильный курс. Пусть мои слова послужат ей предупреждением».[30] В тогдашней Центрально-Черноземной губернии из партии было исключено 5 322 человека, а несколько райкомов было расформировано за «правый оппортунизм»[31]. В Драбовском районе Полтавской губернии на Украине 30 активистов было арестовано (включая секретаря райкома партии Бодюка); им было предъявлено обвинение в «сговоре с кулаками», и в июле 1932 года состоялся суд.
Обвиняемые были приговорены к срокам от двух до трех лет.[32]
Что же касается официальных органов местной администрации, то они просто утратили всякую эффективность, отчасти и потому, что многие сельские советы, несмотря на предшествующие чистки, сопротивлялись проведению коллективизации. Согласно отчету ОГПУ, в одной деревне заместитель председателя сельсовета первым начал резать скот, чтобы тот не достался колхозам[33]. Подобные события происходили повсюду, не случайно 31 января 1930 года было дано указание о проведении «перевыборов» в тех «сельских советах, куда просочились враждебные элементы», а также в тех районных исполкомах, которые не сумели возглавить работу сельских советов по коллективизации сельского хозяйства. В Среднем Поволжье «подавляющее большинство сельских советов… оказалось не на высоте новых задач»[34]. В одном, кажется, довольно типичном районе в период с начала 1929 года по март 1930 года было снято 300 из 370 председателей сельсоветов[35]. Всего к марту 1930 года было смешено не менее 82 процентов председателей сельсоветов и лишь 16 процентов из них оставили свой пост добровольно.[36] В Западной губернии из 616 председателей сельсоветов 306 было снято, 102 «отдано под суд»[37]. В секретном отчете указывается, что в этой губернии в течение 1929 года сельские советы так и не «повернулись к колхозам», хотя в 97 сельсоветах были проведены перевыборы. В «ряде сельсоветов» использовались все возможности для проволочек и налицо было «явное потворство кулаку».[38] Тогда стали применять «самороспуск» сельсоветов по инициативе партийных уполномоченных. Даже на более высоком уровне – в райисполкомах – встречались среди них такие, где не имелось ни одного члена, избранного согласно обычной процедуре[39]. Сельские советы теперь вообще заменялись назначенными бюро и тройками;[40] правительственное постановление от 25 января 1930 года официально узаконивало всю систему уполномоченных и троек[41] и наделяло их преимущественными по сравнению с обычными органами власти правами.
Еще в мае 1929 года, то есть когда уже принят был пятилетний план, сельская община считалась «кооперативным сектором», который должен обеспечить большую часть необходимого стране зерна, – таким образом будет якобы поощряться преобразование сел в коллективные хозяйства[42]. На деле, как замечает западный исследователь, именно этой форме деревенской организации, охватывавшей все общественные стороны жизни в деревне и глубоко укоренившейся в ней за несколько веков своего существования, не было отведено в процессе коллективизации крестьянства никакой роли.[43] Наконец, декрет от 10 июля 1930 года окончательно упразднил общину в районах сплошной коллективизации; вскоре она исчезла повсеместно.
Версия о добровольном образовании колхозов абсолютно не согласуется с тем обстоятельством, что в местные органы поступали сверху указания о том, сколько именно колхозов они должны создать и каково должно быть число колхозников в каждом из них. Один сельский коммунист из Калининской области получил распоряжение записать в колхоз сто семей, но он сумел убедить сделаться колхозниками только около дюжины семей и сообщил об этом в вышестоящие инстанции. Ему ответили, что он саботирует коллективизацию и если не выправит положение, будет исключен из партии. Вернувшись к крестьянам, коммунист пригрозил им, что если они не запишутся в колхоз, то их имущество экспроприируют, а самих вышлют. «Все они согласились», но в ту же ночь начали резать скот. Когда коммунист доложил об этом парткому, там это не произвело ни малейшего впечатления: план, спущенный парткому, был выполнен[44].
Фальсификация принципа добровольности была признана в странных двусмысленных высказываниях членов Политбюро, в том числе ближайших сотрудников Сталина. Например, Каганович заявил (в январе 1930 года), что руководство строительством и работой колхозов осуществлялось «непосредственно и исключительно» работниками партийного аппарата.[45]
Тем не менее, современные советские ученые вроде C.Трапезникова часто утверждают, что большинство крестьян добровольно избрали коллективизацию. Такая точка зрения усиленно насаждается в последнее время, и серьезные исследователи, печатавшие работы на эту тему в 50-х и 60-х годах, вынуждены были замолчать. Но, как мы не раз наблюдали, советские писатели, произведения которых печатались в Москве до 1982 года, оказались откровеннее партийных идеологов. Один из них говорит прямо: «Чем шире и тверже насаждалась коллективизация, тем чаще она наталкивалась на колебания, неуверенность, страх и сопротивление»[46].
Нередко утверждается, что бесчисленные пропагандистские собрания подняли «культурный уровень» крестьян, и они увидели преимущества колхоза. На деле собрания эти были просто средством принуждения. Обычно партийный уполномоченный просто задавал на сельском собрании вопрос: «Кто против колхоза и советского правительства?»[47] или объявлял: «Вы должны немедленно вступить в колхоз, а кто не вступит – тот враг советской власти».[48]
В недавно опубликованном официальном советском исследовании цитируется (по местным архивам) речь партийного работника с Северного Кавказа, который заявил крестьянам: «Наш дорогой вождь Карл Маркс писал, что крестьяне – как картошка в мешке. Мы вас засунули в свой мешок».[49] Даже чисто внешние формальности соблюдались в весьма ограниченной степени. В одной приволжской деревне на собрании, принявшем решение о коллективизации всей деревни, присутствовало не более 25–35 процентов крестьян. Подобных случаев было великое множество.[50]
В первое время на собраниях раздавались голоса и против активистов. В романе Шолохова «Поднятая целина» крестьянин по фамилии Банник отказывается сдать семенное зерно в общественное зернохранилище, несмотря на все гарантии:
«– Потому что у меня оно сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков нe получишь. Мы зараз тоже ученые стали, на кривой не объедешь!
Нагульнов сдвинул разлатые брови, чуть побледнел.
– Как же ты можешь сомневаться в советской власти? Не веришь, значит?!
– Ну, да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего брата!
– Это кто же брехал? И в чем? – Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал.
Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал:
– Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? Антанабили покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались? Зна-a-aeм, на что нашу пашеничку гатите! Дожилися до равенства!»
В одной деревне на Полтавщине крестьянин-бедняк заявил; «Мой дед был крепостным, но я, его внук, крепостным никогда не буду».[51] Слово «крепостной» вообще вошло в обиход. Аббревиатуру ВКП (Всесоюзная коммунистическая партия) крестьяне расшифровывали на свой лад: «Второе крепостное право».[52] В официальных отчетах содержатся упоминания о том, что крестьяне говорили: «Вы нас превратили в крепостных, даже хуже того»[53]. В «Правде» рассказывалось, как в одном украинском селе, где собрание молча проголосовало за коллективизацию, толпа женщин перегородила дорогу въезжавшим в село тракторам. Женщины кричали: «Советское правительство снова вводит крепостное право»[54]. А в недавно опубликованном в СССР исследовании приводятся такие слова крестьян: «Вы хотите нас согнать в колхозы, чтобы мы вам были крепостными», а местных партийных руководителей величали «помещиками»[55]. Подобные настроения преобладали среди крестьянства и во многих деревнях большинство все еще отказывалось идти в колхозы. Главных противников коллективизации арестовывали по одиночке, предъявляя им различные обвинения[56]. В селе Белоусовка Чернуховского района объявили общее собрание и велели крестьянам подписаться под заявлением о вступлении в колхоз. Один из крестьян призвал односельчан не подписываться, его арестовали в ту же ночь; на следующий день было арестовано еще 20 человек, после чего запись в колхоз пошла гладко[57].
По счастливой случайности нам в руки попали письма, полученные крестьянской газетой Западной губернии «Наша деревня». Большинство этих писем газетой опубликовано не было. Все авторы крестьяне – бедняки и середняки, все они протестуют против насильственной записи в колхоз, жалуются на чрезмерные требования властей, на «рабство в колхозах», на отсутствие гвоздей и т.п.[58] В Западной губернии даже значительная часть сельских коммунистов отказалась вступать в колхозы.[59] В романе Шолохова «Поднятая целина» после усиленного давления, после угроз считать противников колхоза «врагами советской власти» и высылки нескольких таких врагов, только 67 из 217 присутствующих на собрании голосуют за вступление в колхоз. Двадцатипятитысячники «не могли понять упрямого нежелания большинства середняков».
Первый секретарь украинской компартии Станислав Косиор вынужден был признать: «Административные меры и применение силы не только против середняков, но и против бедняков стали систематическим компонентом работы районных и даже губернских партийных комитетов»[60].
Советский ученый послесталинского периода (сам являвшийся активистом во время коллективизации) пишет даже, что самыми резкими противниками колхозов были как раз не зажиточные крестьяне, а бедняки, недавно получившие землю и только что ставшие середняками.[61]
Но нажим становился все более интенсивным: «Применялись все формы воздействия: угрозы, шантаж, тюремное заключение. Вокруг их домов [домов крестьян, отказавшихся вступить в колхоз] слонялись хулиганы, отравлявшие им жизнь. Почтальонам было приказано не доставлять „единоличникам“ почту, в районном медицинском пункте им отвечали, что обслуживаются только колхозники и члены их семей. Детей единоличников часто исключали из школ и с позором выгоняли из пионерской организации и комсомола. На мельницах отказывались молоть их зерно, кузнецы не выполняли из заказов. Слово „единоличник“ в употреблении властей стало таким клеймом, что по значению приближалось к понятию „преступник“.[62]
Для середняков, близких по положению к кулакам, над которыми висела угроза раскулачивания, выбор был особенно труден. Многие из них записывались в колхоз и сдавали свое зерно. Один коммунист заметил по этому поводу: «Эти люди явно предпочли голодать дома, чем обрекать себя на неизвестность в ссылке»[63].
Уничтожена была и категория сельских ремесленников. Например, за сопротивление сельскому совету в селе Кринички все кожи из дубильни были конфискованы, а все десять дубильщиков (как и в 24 соседних селах) были обложены штрафом в 300 рублей.[64]
Даже полуремесленные промыслы, издавна практиковавшиеся крестьянами, были запрещены. Например, указом наркомата торговли от 18 октября 1930 года было запрещено вырабатывать масло из семян подсолнечника с помощью ручных прессов.[65]
Во всех деревнях теперь полагалось иметь тюрьму – до революции они существовали только в уездных центрах. И эти тюрьмы предназначались не только для крестьян, высказавших недовольство или голосовавших против колхозов на деревенских собраниях, – нет, сопротивление коллективизации часто принимало более опасную форму.
В 1929–1930 гг. власти приложили значительные усилия, чтобы не допустить попадания оружия в руки крестьян. Указами 1926-го, 1928-го и 1929 гг. требовалась обязательная регистрация охотничьего оружия и были введены особые правила с тем, чтобы «преступным и социально опасным элементам» нельзя было продать оружие; контроль за продажей оружия возлагался на органы ГПУ. В августе 1930 года когда вследствие мелких бунтов и различных актов индивидуального вооруженного сопротивления стало ясно, что эти правила не выполняются, был отдан приказ о проведении массовых обысков. Впрочем, к тому времени оружия уже почти не осталось. В сотнях официальных актов об обысках можно лишь изредка встретить упоминание об «одном мелкокалиберном пистолете» (при этом в казну было конфисковано «30 рублей 75 копеек серебром и 105 рублей бумажными деньгами, обручальных кольца – 2»). То же повторялось в бесконечном числе случаев[66]. В одной деревне Харьковской губернии сотрудник ГПУ рассказывал местному активисту, что еще находятся люди, вышедшие из заключения по амнистии 1927 года, которые скрывают оружие.[67]
Оружия у крестьян было мало, но они сопротивлялись. Фиксировалось много случаев убийств должностных лиц. Партийцев предупреждали, чтобы они не стояли возле открытых окон и не выходили на улицу после наступления темноты[68]. «В первой половине 1930 года кулаки совершили более 150 убийств и поджогов на Украине».[69] Затем данные о «кулацком терроре» перестают публиковаться, видимо, потому, что цифры становятся неприемлемыми для властей. Так, в селе Бирки Полтавской губернии (население около 6000 человек) в январе 1930 года был тяжело ранен начальник местного ГПУ, в марте были сожжены постройки одного из четырех местных колхозов, а также дома раскулаченных, перешедшие к коммунистам; один из главных местных коммунистов был ранен[70].
Широкий размах приобрели антиколхозные демонстрации (в некоторых случаях «вооруженные демонстрации»), описываемые и в советских источниках. В них участвовали тысячи человек, и в продолжение этих демонстраций произведено большое число «террористических актов». Одну «демонстрацию» в районе Сальска (Северный Кавказ) удалось подавить только через «пять или шесть дней» с помощью кавалерии и броневиков[71]. Советский ученый хрущевского периода сообщал, что в некоторых районах демонстрации «носили полуповстанческий характер… Люди вооружались вилами, топорами, ножами, обрезами и охотничьими винтовками… во многих случаях во главе стояли бывшие бандиты-антоновцы»[72], то есть немногие из оставшихся в живых участников больших крестьянских восстаний начала двадцатых годов.
Вооруженных демонстраций, которые удалось подавить лишь с помощью армейских соединений, было еще больше, чем «полу»-повстанческих. Хотя и теперь, как и в 1918–1922 гг., иногда вспыхивали и настоящие большие вооруженные восстания. Только на этот раз оружия у крестьян находилось меньше, а могущество партии выросло неизмеримо.
Некоторые восстания были мелкомасштабными, например, восстание в деревне Парбинск. Отряды ГПУ подавили его, а затем расстреляли священника и четырех членов его семьи.[73] В сентябре 1930 года вспыхнул бунт в селе Рудкивцы на Подолье, подавленный через три дня силами безопасности. Двое крестьян было расстреляно и двадцать шесть выслано[74], в июне 1931 года кавалерийский полк бросили на подавление крестьянского бунта в селе Михайловка в той же губернии; в ход была пущена артиллерия, а после «восстановления порядка» все мужское население в возрасте свыше пятнадцати лет арестовали; 300 мужчин и 50 женщин отправлены в лагеря.[75]
Подчас бунт охватывал несколько сел, особенно на Украине. В Одесской губернии, в селах Храдонисти и Троицкое, расположенных в долине Днестра, началось настоящее восстание, которое удалось подавить силами вооруженной милиции[76]. Весной 1930 года в Черниговской губернии бушевало восстание, распространившееся на пять районов и подавленное армейскими частями[77].
В другой губернии, Днепропетровской, восстание также охватило более пяти районов. Пехотная дивизия, расквартированная в Павлограде, вместо того, чтобы открыть огонь по восставшим, вступила с ними в переговоры. Командир дивизии был арестован, но дивизию больше не пытались вести на восставших, на место были вызваны отряды ГПУ и милиции из других районов. Только в одной мятежной деревне Дмитровке было арестовано 100 человек, а общее число арестованных измерялось тысячами. Все они были избиты, некоторые расстреляны, некоторые отправлены в лагеря.[78]
В Молдавии восстало несколько деревень; повстанцы разгромили отряд конной милиции, разбили высланное против них соединение ГПУ, в некоторых деревнях даже провозгласили «Советскую власть без коммунистов». Восстания имели место в двух районах Херсонской губернии; в Каменец-Подольской и Винницкой губерниях; в трех районах Черниговской губернии, где брошенные против восставших местные части перешли на их сторону и понадобилось вызвать значительные контингенты регулярных войск и отрядов ГПУ; на Волыни; в трех районах Днепропетровской губернии, где находившийся в отпуске лейтенант Красной армии возглавил борьбу плохо вооруженных крестьян против армейских соединений, усиленных броневиками и самолетами. Лейтенант погиб в бою. Как всегда в подобных случаях, были казни, и многие семьи казненных были высланы.[79]
Имеется несколько сообщений о «бандах мятежников», где партизаны, воевавшие во время гражданской войны против советской власти, сражались плечом к плечу с бывшими «красными» партизанами, сформировав совместные и очень боеспособные отряды[80]. Согласно подсчетам одного исследователя, общее число повстанцев на Украине достигало в 1930 году 40 тысяч[81].
В Сибири все еще не затихла окончательно гражданская война: в советских источниках говорится о продолжении «политического бандитизма»[82]. Однако с начала 1927 года по начало 1929 года число мятежных отрядов учетверилось, и с тех пор росло все большими темпами.[83] Характерен бунт в Уч-Пристанском районе, вспыхнувший в марте 1930 года. Его возглавил начальник местной милиции Добытин, раздавший восставшим имевшееся в милиции оружие. На подавление бунта были брошены силы ГПУ. Согласно официальным данным, 38 процентов повстанцев составляли кулаки, 38 процентов – середняки и 24 процента – бедняки; их политической программой стал созыв Учредительного собрания, которое изберет «царя или президента».[84] Созыв Учредительного собрания вообще оставался популярным лозунгом во время сибирских восстаний; советское правительство при этом объявлялось низложенным[85].
В недавней работе, посвященной участию войск Сибирского военного округа в коллективизации, имеются интересные данные о правдивой информации, поступавшей к солдатам от их семей. Только в одном батальоне 16 процентов писем, полученных солдатами в октябре 1931 года, были «антисоветского характера», в ноябре – 18,7 процента, а за первые 17 дней декабря – 21,5 процента. Доносчики сообщали о разговорах между солдатами, где часто слышалось, что власти «грабят всех без разбору, а нам говорят, что ликвидируют кулака». Были разоблачены контрреволюционные солдатские группы, пытавшиеся с помощью отправлявшихся в отпуск установить связи с деревней, а в одном случае была даже выпущена листовка[86].
В некоторых районах Украины и Северного Кавказа, по сообщению офицера ОГПУ, против крестьян использовались военные самолеты. На Северном Кавказе один эскадрон отказался усмирять казачьи станицы. Эскадрон был расформирован, половину его личного состава расстреляли. В другом месте был разбит целый полк ОГПУ. Операцией руководил известный своей жестокостью тогдашний командир пограничных войск ОГПУ Фриновский. В своем докладе Политбюро он пишет о тысячах трупов, сброшенных в реки. После подавления этих восстаний несколько десятков тысяч крестьян было расстреляно, сотни тысяч отправлены в лагеря и ссылку[87].
В Крыму (где было раскулачено 35–40 тысяч татар) в декабре 1920 года вспыхнуло восстание в Алакате; тысячи его участников были приговорены к расстрелу или принудительному труду в лагерях. Председатель Президиума ЦИК Крымской АССР Мехмед Кубай попытался в 1931 году пожаловаться на ограбление республики и голод, но тут же исчез[88].
Среди горных народов Северного Кавказа бушевали мощные восстания, длившиеся месяцами, на подавление их были брошены крупные соединения регулярной армии. В марте–апреле 1930 года крестьяне Армении подняли широкое восстание, некоторые районы оставались в руках повстанцев на протяжении недель[89]. В Азербайджане коллективизация тоже вызвала бунты. «Азербайджанские крестьяне-тюрки, в том числе зажиточные, середняки и бедняки, поднялись вместе», – заявил секретарь ЦК компартии Азербайджана Караев, объясняя, что клановые отношения важнее классовых различий. После кровопролитных боев около 15 000 бунтовщиков скрылись, перейдя границу с Ираном.[90] Даже сравнительно мирное сопротивление часто подавлялось с беспощадной жестокостью. Путешествуя по России, Исаак Дойчер встретил ответственного работника ОГПУ, который со слезами на глазах рассказал ему: «Я старый большевик. Я работал в подполье при царе, а потом воевал в гражданскую войну. Неужели я делал все это для того, чтобы теперь окружать деревни пулеметами и приказывать моим бойцам без разбору косить толпы крестьян?! Нет, нет, нет!»[91]
Аресты и ссылки лиц, действительно виновных в сопротивлении, сопровождались террором против всех попадавших под подозрение. В романе советского писателя Стаднюка рассказывается о крестьянине, арестованном по ложному обвинению в том, что он пытался организовать вооруженный бунт. В тюрьме другой крестьянин советует ему подписать требуемое признание, как это уже пришлось сделать остальным. Новичок отвечает, что он невиновен, и получает ответ – что и все остальные тоже невиновны. Он протестует:
«– Но тогда меня расстреляют.
– Да, но по крайней мере тебя не будут пытать».[92]
Наиболее умные противники режима, даже из тех, кто проповедовал мирные способы борьбы, знали, что их ожидает. У Шолохова в «Поднятой целине» во время ареста врага советской власти Половцева представитель ОГПУ говорит:
«Ну, подожди, я с тобой поговорю в Ростове! Ты у меня еще попляшешь перед смертью…
– Ой, как страшно! Ой, как я испугался! Я весь дрожу, как осиновый лист, дрожу от ужаса! – иронически проговорил Половцев, останавливаясь на крыльце и закуривая дешевую папиросу. А сам исподлобья смотрел на чекиста и смеющимися, и ненавидящими глазами.
… – Чем же ты, наивный человек, думаешь меня запугать? пытками? Не выйдет, я ко всему готов».
Но самой поразительный формой сопротивления были знаменитые бабьи бунты, получившие распространение особенно на Украине.
Одной из причин того, почему именно женщины проявляли такую враждебность к колхозам, представляется тот факт, что они обычно ухаживали за домашними животными и привязывались к ним. Корова давала им молоко для ребятишек – теперь все ставилось под сомнение. Даже в центральной советской печати появились сообщения о женских бунтах.[93] В них рассказывается, как в одной деревне за другой «собирается большая толпа женщин, вооруженных дубинками или чем попало, и начинает требовать возвращения им лошадей. Они попытались побить представителей районного исполкома и райкома партии; заправляла всем этим Коняшина Настя» (описанная выше в том же сообщении как жена середняка)[94]. Во многих случаях женщинам удавалось получить назад обобществленных лошадей, а иногда и раздать крестьянам отобранное у них же зерно[95].
Женское движение, хоть и в меньшем масштабе, перекинулось на Россию. Так, сообщается о 200 бунтовщиках, «преимущественно женщинах», которые напали на колхоз в Западной губернии[96]. Но все же более всего сообщений о бабьих бунтах приходило с Украины и Северного Кавказа (то же относится и к фактам вооруженных выступлений). В трех деревнях Одесской губернии женщины в феврале 1930 года разогнали местные власти и забрали назад свое имущество. Бунт был подавлен отрядами ГПУ, после чего последовали многочисленные аресты.[97] Весной 1933 года участницам женского бунта в селе Плешки Полтавской губернии удалось ворваться в зерновой амбар и разобрать зерно. Милицейские части открыли по ним огонь, и многие женщины были убиты. Уцелевших выселили.[98]
Сообщалось об аресте тысяч женщин при сходных обстоятельствах.[99] Но в целом чаще в проигрыше оставались власти, не понимавшие, как тут действовать, особенно когда бунтовщицы протестовали более сдержанно, осторожно, а их противникам не хотелось вызывать подкрепление со стороны.
По словам очевидца-активиста, тактика восстаний обычно была такова: громить колхозы начинали женщины, а «если против них выступали коммунисты, комсомольцы, члены советов и комитетов бедноты, тогда на защиту женщин бросались мужчины!.. Это был маневр, рассчитанный на то, чтобы избежать вмешательство войск и кровопролития. Он оказался успешным. На юге Украины, на Дону и Кубани колхозный строй рухнул уже к марту 1930 года»[100].
* * *
Самой распространенной и самой сокрушительной по своим последствиям оказалась еще одна реакция крестьян на введение нового порядка: они резали скот. Сначала, пока это не было запрещено, крестьяне просто продавали коров и лошадей. В январе 1930 года «Правда» с негодованием писала о том, что в Таганроге «под влиянием кулаков идет массовая продажа скота – бедняки и середняки распродают его перед вступлением в колхозы. За последние три месяца было продано свыше 26 000 голов мясных коров и быков, 12 000 голов молочных коров и 16 000 голов овец. Покупатели приезжают на места и скупают скот по высокой цене, прежде чем он попадает на государственный рынок, находящийся сейчас в состоянии застоя. Повсюду идет незаконная распродажа коров, лошадей и овец.
Наибольшее распространение эта практика получила в районах сплошной коллективизации.
Перед вступлением в колхозы середняки и даже бедняки стараются избавиться от своего скота и припрятать вырученные деньги».[101]
«Правда» отмечала также, что «под влиянием кулацкой агитации о том, что у колхозников отбирают имущество, чтобы сделать всех равными, крестьяне режут не только мясной скот, но даже молочных коров и овец»[102].
В недавно опубликованной в Советском Союзе работе по истории говорится, что в Сибири «кулацкая агитация за убой скота оказала влияние на значительные массы крестьянства», причем с убоем бороться было еще труднее, чем с продажей.[103] Поскольку продать мясо обычно не удавалось, его съедали. Говорят, будущий народный комиссар земледелия Чернов, который в то время отвечал за сбор хлеба на Украине, якобы сказал по этому поводу, что «впервые за всю свою убогую историю русские крестьяне досыта наелись мяса.[104]
Массовый убой скота вызвал настоящую экономическую катастрофу. На Седьмом съезде ВКП/б/, состоявшемся в 1934 году, было объявлено, что потеряно 26,6 миллиона голов крупного рогатого скота (42,6 процента всего имевшеюся в стране поголовья) и 63,4 миллиона овец (65,1 процента общего поголовья). На Украине было забито 48 процентов крупного рогатого скота, 63 процента свиней, 73 процента овец и коз[105]. Но эти официальные данные, видимо, были даже заниженными.[106]
Таким образом, между январем и мартом 1930 года советская деревня оказалась в состоянии краха.
Партия внешне как будто одержала победу. К июню 1929 года в колхозы было объединено 1 003 000 крестьянских хозяйств. В январе 1930 года это число уже достигло 4 393 100, а 1 марта – 14 264 300.[107]
Однако сопротивление крестьянства, потеря скота и полное отсутствие соответствующего планирования, то есть рассмотренные нами явления вместе взятые, нанесли сельскому хозяйству сокрушительный, дорого обошедшийся удар.
В хрущевские времена в советской исторической энциклопедии (том 7-й) даже статья о коллективизации появилась, на которую сильно нападали в последующий период. Автор статьи В.П.Данилов перечисляет «ошибки», совершенные при проведении коллективизации: принудительная запись крестьян в колхозы; раскулачивание широких кругов крестьянства – в некоторых губерниях до 15 процентов, куда попадали подчас даже бедняки; создание колхозов без предварительного обсуждения с крестьянами; чрезмерное «обобществление», например, обобществление всего крестьянского скота.
Другой советский историк хрущевского периода, отмечая, что «создавалась угроза» мифическому союзу рабочих и крестьян, доходит до утверждения о том, что колхозное движение «было на грани дискредитации»[108]. Еще один советский историк отваживается констатировать, что «во второй половине февраля 1930 года недовольство масс стало очень острым».[109]
А в «Вопросах истории» в хрущевские времена писали что «по приказу Сталина в печати не сообщалось об ошибках злоупотреблениях и других трудностях, вызванных отсутствием ясных и четких инструкций»[110].
Структура и традиции коммунистической партии были таковы, что во имя «демократического централизма» поступающие сверху распоряжения полагалось выполнять, не задавая вопросов. Такие военизированные отношения внутри партии были причиной того, что в ней не возникало явлений, которые появились бы при любом другом типе политической организации: разногласий, отказов выполнять принятые центром решения, расколов, уходов в отставку. Даже правые руководители, вроде Бухарина, не предпринимали никаких попыток выйти за эти общепринятые партийные рамки. Есть нечто ироническое в том, что именно Бухарин написал последний по времени документ в защиту «коллективизации ударными темпами».[111]
Но вот 2 марта 1930 года Сталин опубликовал сокрушительную статью «Головокружение от успехов», где нападал на «искривления» принципа добровольности.[112] В будущем крестьянину следовало, оказывается, разрешить, если он того пожелает, выходить из колхоза. Подобно Ленину в 1921 году, Сталин совершил этот крутой поворот потому, что был вынужден к нему сопротивлением крестьянства.
Отчасти такое отступление, видимо, было обусловлено протестами со стороны «умеренных сталинистов» в Политбюро[113]. Как бы ни было, Сталин, что не раз случалось в его предыдущей и последующей карьере, повел наступление на «перегибы» тех, кто, по существу, проводил его политику. После статьи Сталина руководящие партийные работники, например, Микоян, часто признавали в своих выступлениях, что «ошибки» в проведении коллективизации начали «подрывать верность крестьян рабоче-крестьянскому союзу».[114]
Сталин продолжал в своих речах и газетных статьях обличать применение «принудительных мер против середняков»[115] как враждебный ленинизму шаг. Вот один из типичных образцов сталинского красноречия:
«Московская область, в лихорадочной погоне за дутыми цифрами коллективизации, стала ориентировать своих работников на окончание коллективизации весной 1930 года, хотя она имела в своем распоряжении не менее трех лет (конец 1932 г.). Центрально-Черноземная область, не желая „отстать от других“, стала ориентировать своих работников на окончание коллективизации к первой половине 1930 года, хотя она имела в своем распоряжении не менее двух лет (конец 1931 г.)».
Понятно, что при таком скоропалительном «темпе» коллективизации районы, менее подготовленные к колхозному движению, в своем рвении «перегнать» районы более подготовленные, оказались вынужденными пустить в ход усиленный административный нажим, пытаясь возместить недостающие факторы быстрого темпа колхозного движения своим собственным административным пылом. Результаты известны.
Они возникли на основе наших быстрых успехов в области колхозного движения. Успехи иногда кружат голову. Они порождают нередко чрезмерное самомнение и зазнайство. Это особенно легко может случиться с представителями партии, стоящей у власти. Особенно такой партии, как наша партия, сила и авторитет которой почти что неизмеримы. Здесь вполне возможны факты комчванства, против которого с остервенением боролся Ленин. Здесь вполне возможна вера во всемогущество декрета, революции, распоряжения. Здесь вполне реальна опасность превращения революционных мероприятий партии в пустое, чиновничье декретирование со стороны отдельных представителей партии в тех или иных уголках нашей необъятной страны. Я имею в виду не только местных работников, но и отдельных областников, но и отдельных членов ЦК».[116]
Многие коммунисты на местах были столь потрясены этим отступлением, что даже называли новую линию Сталина неверной, а в своей непосредственной работе пытались действовать вопреки ей. Кроме того, они очень неохотно принимали на себя вину за те «перегибы», которые в прошлом вполне наверху одобрялись[117]. По словам позднейшего советского историка, «Сталин перекладывал ответственность за ошибки на местных работников, огулом обвинив их в искривлениях. И содержание, и тон статьи явились полной неожиданностью для партийных работников, что вызвало известную растерянность в их среде».[118]
Рой Медведев приводит письмо одного днепропетровского коммуниста Сталину:
«Тов. Сталин! Я, рядовой рабочий и читатель газеты „Правда“, все время следил за газетными статьями. Виноват ли тот, кто не сумел послушать создавшегося шума и крика вокруг вопроса коллективизации сельского хозяйства и вокруг вопроса, кто должен руководить колхозами? Мы все, низы и пресса, проморгали этот основной вопрос о руководстве колхозами, а т.Сталин, наверное, в это время спал богатырским сном и ничего не слышал и не видел наших ошибок, поэтому и тебя тоже нужно одернуть. А теперь т.Сталин сваливает всю вину на места, а себя и верхушку защищает»[119].
Тем не менее партийное руководство утверждало, что ЦК никогда не ставил нереальных целей[120], а центральную и местную печать заполнили материалы о злодеяниях, совершенных на местах во время принудительной коллективизации, а также сообщения о снятии с постов и отдаче под суд виновных в этих преступлениях. В одном районе на Украине были, например, сняты двое руководителей райкома, заместитель председателя исполкома, секретарь комсомольской организации, школьный инспектор и 16 других должностных лиц.[121]
Главным козлом отпущения сделали секретаря Московского комитета партии К.Я.Баумана, обвиненного в проповедовании «ложной теории» и «грубых нарушениях политики партии»[122]. Впрочем, Бауман, хоть и смещенный с ответственных постов, особо не пострадал. Его перевели на должность руководителя среднеазиатского бюро партии, и он стал курировать проведение коллективизации в тюркских республиках, снискав немало аплодисментов за свои успехи (например, на состоявшемся в декабре 1933 года съезде компартии Узбекистана).
Советский историк М.И.Немаков прямо заявлял (правда, в работе, опубликованной в 1966 году, то есть до того, как полным ходом пошла постхрущевская ресталинизация), что именно Сталин был ответственен за «перегибы». Впоследствии Немакова резко критиковали за это в советской печати.[123] В послехрущевские времена советские историки утверждали, что директивы Сталина были правильными, но местные и даже некоторые центральные органы совершали серьезные ошибки в их осуществлении. Однако эти ошибки носили столь всеобщий характер, что такой тезис очень уж сложно отстаивать.
Сваливать вину на местных работников было не ново и не трудно. Даже члены Политбюро, например, C.Косиор, в узком кругу возражали против этого фарса.[124] М.Калинин и С.Орджоникидзе говорили, что «Правда» – сталинский рупор – разжигала страсти вокруг этих перегибов[125]. Хрущев заходит еще дальше, говоря:
«Центральный комитет нашел в себе смелость протестовать против того, что Сталин возложил вину за перегибы в проведении коллективизации на членов ЦК»[126].
Но огласку эти протесты не получили (а хрущевское изложение событий представляется нам несколько раздутым).
На другом фланге в ЦК ленинский принцип «демократического централизма», то есть безоговорочного подчинения решениям центра, определял действия, или точнее, бездействие лидеров правого крыла. Жизнь как будто доказала, что они были правы: насильственная коллективизация кончилась катастрофой, и другой путь существовал. Всем было ясно, насколько популярны их взгляды среди рядовых членов партии и во всей стране. При всяком другом политическом устройстве правые потребовали бы передачи им власти. Но фетишизм по отношению к партии был слишком силен у всех – кроме горстки второразрядных функционеров.
Поэтому политическая инициатива осталась в руках Сталина и он пошел в наступление на правых. В тезисах Шестнадцатого съезда партии, состоявшегося в июне–июле 1930 года, правые названы «объективными агентами кулака». На этом съезде впервые за всю историю партии никто не возвысил голоса против официальной политики ЦК. Политическая победа Сталина оказалась полной.
Были, правда, некоторые оговорки среди коммунистов весьма высокого ранга, никогда прежде не примыкавших к правым. Имеются в виду только что ставший кандидатом в члены Политбюро Сергей Сырцов и В.В.Ломинадзе. Оба они призвали вернуться к нормальному положению вещей в деревне. В ноябре оба были сняты со своих постов, в декабре исключены из Центрального Комитета. Кампания достигла апогея, когда одновременно с этим Рыков, последний из правых, удерживавшийся на высоком посту, был смещен с поста председателя Совнаркома и выведен из Политбюро.
Но ни покорность правых, ни угрызения совести у некоторых из его собственных последователей, не подействовали на Сталина, когда в марте 1930 года он столкнулся с кризисом, возникшим исключительно из-за его политики. Как Ленин в 1921 году, он, отступив, перегруппировал силы перед лицом опасности и сумел при этом не только не ослабить, а усилить партийную дисциплину. Даже невыполнение поставленных им задач – добровольной коллективизации и достижения процветания в деревне – не оказали влияния на решимость Сталина добиться его главной, подлинной цели – уничтожения свободного крестьянства.
Глава восьмая. Конец свободного крестьянства (1930–1932 гг.)
Социализм – это феодализм будущего.
Константин Леонтьев (примерно 1880 г.)Отказ партии от полной принудительной коллективизации в марте 1930 года означал, что крестьяне одержали победу, но досталась она им дорогой ценой.
В ходе своего отступления партия изменила примерный устав колхоза; согласно новому уставу, колхозникам разрешалось держать корову, овец и свиней, а также инвентарь дня обработки личных приусадебных участков.[1] В старых общинах крестьянину полагался приусадебный участок (не находившийся в ведении общины), где он мог выращивать фрукты и овощи, а также содержать домашних животных. Теперь же прежний статус был существенно пересмотрен.
На состоявшемся несколько лет спустя Всесоюзном съезде колхозников-ударников Сталин сказал, что колхозное хозяйство необходимо для удовлетворения нужд общества, а рядом с ним должно существовать малое личное хозяйство, необходимое для удовлетворения личных нужд колхозников.[2]
В действительности маленький приусадебный участок был тогда и остается по сей день наиболее производительной сельскохозяйственной единицей в СССР, так как с него кормится не только обрабатывающий его крестьянин, но и производится значительная доля продуктов, потребляемых городом.
«Приусадебный участок» был уступкой крестьянину и одновременно уступкой реальной экономической обстановке. Но кроме того, он стал еще стимулом, побуждающим крестьянина оставаться в колхозе и работать там; ведь если колхозник не отрабатывал положенного числа трудодней в колхозе, участок у него отбирался; то же самое, естественно, происходило в случае исключения из колхоза. Таким образом, низкооплачиваемый труд на колхозной земле был условием владения землей на правах арендатора – правило, вполне вписывающееся в систему феодализма, причем, в наиболее жестких его формах.
Вообще, на этот раз победу крестьян нельзя было даже сравнивать с победой, одержанной ими девять лет назад, когда они разрушили военный коммунизм. Теперь партия тоже отступила со своих нереалистических позиций, но лишь для перегруппировки сил перед новым наступлением, которое должно было начаться очень скоро – счет шел уже на месяцы, а не на годы.
Даже в статье Сталина «Головокружение от успехов» утверждалось, что коллективизация достигла «серьезных успехов», которые гарантировали поворот деревни к социализму. В апрельском номере «Правды» весьма четко намечалась линия на будущее: «Мы снова делим землю на единоличные хозяйства для тех, кто не желает обрабатывать ее коллективно, а затем мы снова обобществим землю и начнем перестройку, до тех пор, пока сопротивление кулаков не будет сломлено навсегда»[3].
* * *
Прежде всего уполномоченные партии на местах в меру своего разумения постарались затруднить крестьянину выход из колхоза, ибо эта процедура была совсем не такой простой, какой она казалась, исходя из формулировок указа. Крестьянские наделы уже были объединены в единое колхозное хозяйство, и «отступник» не мог просто потребовать землю назад, вместо этого ему выделяли якобы равный по площади надел на окраине, где земля была гораздо хуже. Например, в одной северокавказской станице 52 крестьянским семьям (в основном бедняцким) было выделено всего 110 га вместо имевшихся у них ранее 250, причем на самой плохой земле – и они от нее отказались. В другой станице 7 бедняцких и середняцких, семей, заявивших о выходе из колхоза, получили такую землю, что на ней в один день сломалось четыре плуга, и им, в конце концов, пришлось вернуться в колхоз[4].
Кроме того, выделение земли и семян крестьянам, пожелавшим выйти из колхозов, затягивали[5], а сам земельный надел мог, согласно разъяснению наркомата земледелия, находиться на плохой земле (с крестьянской точки зрения) и отстоять от деревни на 10–15 км.[6] В другом отчете наркомата земледелия отмечалось, что колхоз, состоявший всего из нескольких семей, «очень часто» получал все лучшие земли, а единоличникам – беднякам и середнякам – оставалась «лишь невозделанная земля, топи, заросшие кустарником пустоши и т.п.»[7], будто эти люди были еще не выселенными кулаками. Единоличникам также зачастую не позволяли пользоваться пастбищами и водой, лишали садов и лугов[8].
У Шолохова в «Поднятой целине» председатель колхоза двадцатипятитысячник Давыдов отказывается отдать бывшим земледельцам, выходящим из колхоза, их скот, ссылаясь при этом на инструкции райкома. А поскольку все прилегающие к деревне земли теперь принадлежат колхозу, единоличникам, как и везде, предлагают лишь неплодородные участки:
«– Яков Лукич, отводи им завтра с утра землю за Рачьим прудом.
– Эту целину? – орали выходцы.
– Залежь, какая ж это целина? Ее пахали, но давешь, лет пятнадцать назад, – объяснял Яков Лукич.
И сразу поднимался кипучий, бурный крик:
– Не желаем крепь!»
Дело заканчивается бунтом и избиением активистов, затем «зачинщиков» арестовывают и выселяют…
Ко всему прочему новый передел земли вызвал такую путаницу, что, по выражению одной сельскохозяйственной газеты, «ни единоличники, ни колхозники не знали, где сеять».[9]
При выходе из колхоза крестьянам обычно не возвращали их инвентарь, а зачастую (как у Шолохова) и скот.[10] В одной деревне активист разрешил, наконец, «отчаявшимся» крестьянам забрать назад свой скот, но при этом запретил им выходить из колхоза. Поднялся «бабий бунт», активиста выгнали из села, и когда порядок был восстановлен, крестьянам стало немного полегче.[11] В этот период, действительно, с новой силой возобновились «бабьи бунты», с помощью которых крестьянам нередко удавалось добиться возвращения сельскохозяйственного инвентаря и скота, когда местные власти пытались этого не допустить.
Но, несмотря на выделение единоличникам неплодородной земли, невозвращение им коров и сельскохозяйственного инвентаря, поток выходящих из колхозов был столь мощным, что партийные работники, стремясь как-то его ограничить, принимали особые меры. На большинство крестьянства это, правда, не подействовало, но те, у кого имелись особые причины бояться осложнений, поддавались. Зачастую в колхозе оставались как раз более зажиточные в прошлом семьи, которых непременно бы раскулачили, стань они снова единоличниками.[12]
Условия выхода из колхоза были нелегкими, но лишь изредка крестьян теперь удерживали в колхозе грубой силой. Местные активисты не чувствовали поддержки Москвы, крестьяне же непрестанно цитировали статью Сталина и с твердостью выдерживали давление властей; и когда крестьянам препятствовали выходить из колхоза, часто начинались беспорядки. Так, например, в селе Комаровка «были избиты колхозники, охранявшие амбар с сельскохозяйственным инвентарем, а инвентарь растащили по домам. В деревне Черняевка сельских активистов заперли в школьном помещении и продержали там до тех пор, пока крестьяне не разобрали колхозный инвентарь».[13]
За несколько недель марта – апреля 1930 года процент объединенных в колхозы крестьянских, хозяйств снизился с 50,3 до 23 и продолжал падать вплоть до осени. В общей сложности из колхозов вышло 9 миллионов крестьянских хозяйств, то есть 40–50 миллионов человек. В разных районах СССР этот показатель был различным. В одном белорусском селе из 70 вступивших в колхоз семей 40 осталось, а 30 вышло[14], но в украинских селах процент «отступников» был значительно выше. Более половины вышедших из колхозов крестьян приходилось на Украину и Северный Кавказ. (Теперь центр осуждал украинские власти уже не за левацкое принуждение крестьян вступать в колхозы, а за «правый уклон», проявившийся в том, что крестьян отпускали из колхозов, не делая достаточных попыток убедить их остаться).[15]
Итак, коллективизация оказалась под угрозой. Правда, колхозы еще объединяли около трех миллионов хозяйств и в главных зерновых районах лучшие земли в каждой деревне (а в других районах – в большинстве деревень) и большая часть уцелевшего скота принадлежали колхозам.
Теперь власти попытались применить экономическое давление. На два года был отменен налог на весь домашний скот колхозников, в том числе скот, находившийся в их личном распоряжении; колхозников также освободили от выплаты штрафов, наложенных до 1 апреля, но на крестьян-единоличников эти нововведения не распространялись.
К сентябрю 1930 года на единоличников снова был оказан экономический нажим: для них были установлены высокие нормы хлебозаготовок и другие подобные меры. «Правда» не оставляла сомнений в том, что самый надежный путь вынудить крестьян к вступлению в колхоз – это сделать единоличное хозяйство неприбыльным. В действительности же даже при новых неблагоприятных условиях, в 1930 году, единоличники собрали более высокий урожай, чем колхозники. Наконец, и «Правда» задала неизбежный вопрос: «Если крестьянин может успешно развивать индивидуальное хозяйство, зачем ему вступать в колхоз?»[16]
Ответ партии состоял в том, что ни в коем случае нельзя дать крестьянину развивать собственное единоличное хоэяйство. С помощью экономического давления, а также вновь начавшегося физического принуждения во второй половине 1930 года, поток крестьян, покидавших колхозы, был остановлен, и начался обратный процесс.
Тут же на деревню хлынула вторая волна раскулачивания, захватившая, в основном, тех крестьян, которые возглавили выход из колхозов. Под определение «кулак» они подходили только в том смысле, что возглавляли оппозицию коллективизации.
Вот типичная для того времени драма, разыгравшаяся в селе Борисовка. Герой гражданской войны защитил крестьян от принудительной коллективизации при поддержке партийного работника, обвинившего его гонителей в «перегибах» в духе статьи Сталина «Головокружение от успехов». (В числе «перегибов» было воздействие на несговорчивых крестьян… раскаленными сковородками.) Но, когда давление сверху снова усилилось, тот же «либеральный» партработник объявил бывшего героя «кулаком», после чего того экспроприировали, а несколько его детей умерло.[17] Подобными методами было уничтожено подавляющее большинство хуторов, в которые селились единоличники. Например, на хуторе Романчуки в Полтавской области ранней весной 1931 года были арестованы все мужчины из 104 семей[18], а земля отошла к колхозу.
За счет долговременного применения силы и экономического давления колхозы постепенно побеждали. Наконец, 2 августа 1931 года ЦК смог принять резолюцию, где отмечалось, что на Северном Кавказе, в степном и левобережном районе Украины (за исключением свекловичных зон), а также на Урале и в Нижнем и Среднем Поволжье коллективизация была в основном завершена.
* * *
Один из аргументов в защиту коллективизации состоял в том, что она должна была способствовать индустриализации, причем не только в характерном для левых понимании этого процесса (то есть обеспечивая необходимые для проведения индустриализации средства за счет эксплуатации крестьян), но так же и в том отношении, что коллективизация высвободит избыток рабочей силы для работы на промышленных предприятиях. Но этот аргумент, в сущности, касался не коллективизации, а модернизации сельского хозяйства, причем делалось допущение, будто коллективизация-то и модернизирует земледелие, – допущение, по меньшей мере, слишком поспешное.
Все партийные фракции сходились на том, что быстрая индустриализация необходима. Это решение отчасти обосновывалось чисто идеологическими посылками: «пролетарское» государство нуждается в численном росте того класса, на котором оно, в теории, базируется. Однако и экономические факторы представлялись партийцам крайне важными.
Исследование развития промышленности СССР в период первой и второй пятилеток не входит в задачу данной книги. Следует, однако, отметить, что в 1930 году в пятилетний план были включены несколько новых гигантских проектов.[19] Индустриализация превратилась сама по себе в серию не связанных друг с другом ударных программ – от тщательно распланированного роста промышленности, о котором мечтали правые, и от первоначальной пятилетки, составленной квалифицированными специалистами, осталось очень мало.
«Ударными методами» шла теперь подготовка «специалистов». Например, при Харьковском тракторном заводе были открыты «инженерные курсы». Учащиеся, отобранные за «необыкновенные способности или политическую сознательность», в кратчайшие сроки проходили программу и тут же отправлялись на предприятия. «Там они немедленно принимались „корректировать“ работу иностранных специалистов, внося во все невообразимую путаницу, в результате чего было испорчено немало ценного оборудования».[20]
Численность лиц, перешедших в промышленность, выросла сверх всякого ожидания (население многих городов увеличилось больше, «чем было предусмотрено планом» – на Днепрострое, например, она составила 64 000 вместо 38 000).[21] Как мы видели, использование «раскулаченных» на промышленных предприятиях отнюдь не поощрялось – по меньшей мере, официально. Исключением являлись сибирские новостройки; впрочем, во многих других местах, таких как лесоповал или строительство Беломорско-Балтийского канала (оказавшегося, к слову, совершенно бесполезным), использовался принудительный труд; поэтому абстрактная статистика имеет право рассматривать эти случаи как переход oт крестьянского образа жизни к рабочему. Тем не менее, подавляющее большинство новых промышленных рабочих могло прийти только из деревни. С 1929 года по 1932 год в промышленности появилось 12,5 миллиона новых рабочих, из них 8,5 миллиона происходили из сельской местности.[22]
Этот рост городского населения означал, среди всею прочего, увеличение потребности в продуктах питания. В 1930 году государство кормило 26 миллионов городских жителей; в 1931 году – 33,2 миллиона, то есть почти на 26 процентов больше.[23] Однако производство хлеба, предназначенного для продажи в городе, увеличилось за тот же период лишь на 6 процентов.[24] В 1930–1931 гг. была завершена централизация распределения хлеба при строгом нормировании[25].
Советские ученые (такие как Мошков и Немаков) указывали, что централизованное нормирование было введено не столько из-за трудностей в снабжении, сколько по теоретическим причинам – чтобы воспрепятствовать рыночному, товарному обмену[26]. Безусловно, что в тот момент контроль за хлебом по колхозным каналам считался несовместимым с какой бы то ни было формой рынка.
Нормы выдачи продуктов по карточкам были очень низки, а система заработной платы была приспособлена к нарождающемуся сталинскому иерархическому государству, где работнику ГПУ платили столько же, сколько врачу, но фактически первый получал в десять раз больше второго, а главное – врач даже не знал, что именно может получить работник ГПУ за свои деньги. Аналогично московский рабочий зарабатывал в три раза больше харьковского… Рабочие в провинции знали, сколько зарабатывал московский рабочий – столько же, сколько они, но не знали, что он может купить за свою зарплату.[27]
К 1932 году покупательная способность рубля на свободном рынке составляла примерно лишь одну пятидесятую от уровня 1927 года,[28] то есть произошла резкая инфляция. Реальная зарплата рабочих в 1933 году равнялась примерно одной десятой той, которую они получали в 1926–1927 гг.[29] Жизнь в городах отнюдь не была идиллической, но, как замечает проницательный исследователь, в начале 30-х годов невозможно было повысить уровень жизни среднего рабочего, зато можно было сделать жизнь крестьян столь невыносимой, что они предпочли даже работу на заводе.[30] Этот способ оказался настолько удачным, что вскоре сложность состояла не в том, как набрать рабочую силу для промышленности, а в том, как остановить отток населения из деревень.
Конечно, по-прежнему существовали узы, привязывавшие недавнего рабочего к земле, а следовательно, имелся и обратный поток из города в деревню. На основании современных и более давних работ советских ученых можно сделать следующий вывод: «Сезонные рабочие, покинувшие свои наделы, хотели вернуться, чтобы избежать конфискации земли, а те, чья земля отошла к колхозам, не осмеливались уйти из них, страшась утратить право на землю и родной дом…»[31] В небольших городах даже рабочие-ветераны часто сохраняли многолетние связи с деревней (в официальных документах нередко упоминается об их враждебном отношении к коллективизации).[32]
Но стремление уйти из колхоза оказывалось все же сильнее всего, и другие мотивы обычно не могли с ним соперничать. Поэтому были введены административные меры, чтобы остановить уход из колхозов.
Старый большевик Раковский писал в 1930 году: «Оказавшись в безвыходном положении, бедные крестьяне и батраки станут массами стекаться в город, оставляя деревню без рабочей силы. Неужели наше пролетарское правительство на самом деле издаст приказ, привязывающий деревенскую бедноту к колхозам?»[33]
Действительно, в декабре 1932 года был введен «внутренний паспорт». Практический смысл этого нововведения состоял в том, чтобы помешать не только кулакам, но и любому крестьянину, который желал уехать в город без разрешения властей. А закон от 17 марта 1933 года устанавливал, что колхозник не может уйти из колхоза без договора со своими будущими работодателями, утвержденного руководством колхоза. Эти меры идут вразрез со старой крестьянской привычкой: как уже отмечалось, большая часть крестьянства издавна привыкла работать в городах или ежегодно мигрировать в разные места в поисках работы (особенно распространено это было на Украине).
Введение внутренних паспортов, привязавшее крестьянина к земле, разрушало старинный обычай и закабаляло его сильнее, чем был закабален законом крепостной до отмены крепостного права. К тому же новое установление лишало крестьянина важного источника дохода, оставляя его всецело на милость местных условий. (Введение внутренних паспортов сделало крайне затруднительным изменение места жительства не только для крестьян, но и для рабочих, поскольку паспорт и «трудовая книжка», наряду с другими мерами, привязали рабочего к его предприятию или хотя бы к городу, где он проживал.)
Сталин был далек от того, чтобы считать коллективизацию фактором, способствующим обеспечению городов рабочей силой; он утверждал, что в результате коллективизации «у нас не стало больше ни бегства мужика из деревни, ни самотека рабочей силы»;[34] именно это высказывание отражает, по крайней мере, суть направления политики партии в первые годы после коллективизации.
* * *
Часто полагали, что коллективизация как способ изъятия хлеба и других продуктов у крестьянства была источником необходимых для проведения индустриализации средств. Именно таков был тезис партийных теоретиков со времен Преображенского.
Не подлежит сомнению, что крестьянство может быть использовано с целью накопления капиталов для развития промышленности, как произошло, например, в Японии. Хотя сталинский способ был явно менее эффективным для достижения этой цели и гораздо более бесчеловечным, долгое время все же считалось, что он хотя бы позволил выжать из сельскохозяйственного сектора деньги на индустриализацию. Однако недавние исследования советского ученого А.А.Барсова, мастерски проанализированные западным его коллегой Джеймсом Милларом, показывают, что, против всякого ожидания, в 1928–1932 гг. имело место определенное, хотя, возможно, и незначительное вложение средств из индустриального сектора в аграрный, а не наоборот. Даже беспощадное вытягивание всех соков из колхозников оказалось недостаточным для уравновешивания ущерба и неэффективности, принесенных самой коллективизацией.[35]
Из-за экономической депрессии на Западе в 1932 году цены на зерно на мировом рынке оказались низкими относительно цен на промышленные товары. Тем не менее, Советский Союз экспортировал сельскохозяйственную продукцию, чтобы получить иностранную валюту, и он получил ее.
В период первой пятилетки среднегодовой экспорт зерна составлял 2,7 миллиона тонн в год (в 1926–1927 гг. он составлял 2,6 миллиона тонн), но экспорт остальной сельскохозяйственной продукции сократился за истекшие годы примерно на 65 процентов.[36]
Сказанное, разумеется, не означает, что сельскохозяйственной продукцией не расплачивались за индустриализацию, но инвестиции в сельскохозяйственную технику, не говоря о чудовищно возросших расходах на сельскую администрацию, с лихвой перевешивали эту выручку. Таким образом, хотя весьма значительная часть иностранной валюты, которая требовалась для закупки современного промышленного оборудования, была получена все-таки за счет экспорта зерна, в конечном итоге эксплуатация крестьян не явилась источником субсидирования индустриального сектора.
* * *
Существовало множество причин продолжавшейся слабости сельского хозяйства. Прежде всего следует рассмотреть сами методы его ведении. В начале 1930 года Раковский поразительно четко предсказал результаты коллективизации:
«За фасадом слов о колхознике, якобы владеющим землей, и якобы выборных председателях, создается система принуждения, далеко превосходящая все существующее в совхозах. На деле колхозники не будут работать на себя, а единственное, что будет расти, цвести и шириться – это новая колхозная бюрократия, бюрократия всякого рода, бюрократический кошмар… Колхозники будут испытывать недостаток во всем, но зато масса должностных лиц будут жить в довольстве…»[37]
Колхозы непрерывно осуждались за непроизводительность, но, пытаясь избавиться от этого зла, их ставили под все более жесткий контроль райкомов и других партийных органов, совершенно невежественных в сельском хозяйстве, и это лишь усугубляло положение. В отчете британского посольства из Советского Союза с полным основанием говорится: «Вряд ли продуктивность советского сельского хозяйства отреагирует на новую серию пространных постановлений более положительно, чем на открытый террор».[38]
На каждой ступеньке иерархической лестницы пытались свалить вину за неудачи на нижестоящую: «Некоторые председатели колхозов преступно отнеслись к поставкам зерна, проявили потребительское отношение, особенно Качанов и Бабанский – председатели колхозов из сел Степановка и Новоселовка… а исполняющий обязанности председателя сельсовета села Николаевка Коломиец вел себя преступно и безответственно в отношении укрепления колхозов, обеспечения своевременной уборки урожая и хлебозаготовок…»[39]
В 1930–1932 гг. по всему Советскому Союзу ходили рассказы о «полной дезорганизации и непроизводительности труда»[40] в колхозах. Уровень того, как теперь, в результате коллективизации, работали на селе, хорошо иллюстрируется рассказом П.Г.Григоренко о встрече с его дядей Александром, трудившимся тогда в животноводческом совхозе Енакиево. Показывая племяннику, своему другу и члену партии, примеры царящего повсюду невежества и бестолковости, он сказал: «Ведь это же чудо, что свиньи еще не дохнут. Но они обязательно начнут болеть и дохнуть. И директор, который один ответственен за такое состояние, не будет привлечен к ответственности. Отыграются на „подкулачниках“, на мне и других свинарях. Обзовут нас врагами, и ничего не докажешь, не оправдаешься».
Когда Григоренко посоветовал дяде уйти из села, тот ответил, что его просто арестуют пораньше, а оставшись в совхозе, он сумеет «хоть свиней своих спасать и с директором воевать». Несколько месяцев спустя этот крестьянин был арестован и впоследствии умер в тюрьме.[41]
Мы приведем выдержки отчета ОГПУ от 1932 года. «В колхозе „Сталин“ Марковского сельсовета Красного района, в который вошли более 40 крестьянских дворов, царит полный развал. Часть членов правления систематически устраивают пьяные кутежи… Председатель… в прошлом середняк, почти постоянно пьян и совсем не ведет колхозные дела… около двадцати гектаров овса скошено, но не убрано, и урожай почти полностью сгнил… На полутора гектарах овес так и не был сжат и полностью сгнил на корню. Озимую пшеницу сжали вовремя, но оставили на полях, и она сгнила. Почти весь лен тоже до сих пор лежит на полях и гниет, а льняное семя почти все испорчено. В колхозе около 100 гектаров нескошенных лугов, но для колхозного скота не заготовлены корма на зиму, по расчетам нехватка кормов составляет около 4000 пудов. На средства колхоза были куплены четыре дома бывших кулаков, с тем, чтобы построить скотный двор, в котором колхоз очень нуждается, но колхозники потихоньку растаскивают купленные постройки на дрова. Колхозный сельскохозяйственный инвентарь своевременно не чинится, вследствие чего в будущем им невозможно будет пользоваться… До сих пор колхоз не получил никакого дохода. В настоящее время по причине халатности и злоупотреблений членов правления некоторые колхозники поговаривают об уходе из колхоза…»[42]
Документы, которыми мы располагаем, показывают, что вокруг колхозов возник огромный бюрократический аппарат, каждое звеню которого мешало функционировать другому, и в результате постоянных реорганизаций ни у кого не оставалось времени для основного дела.[43] С другой стороны, отмечает один исследователь, «именно неэффективность, государственной машины» помогала людям сносить ее гнет.[44]
Как мог работать такой аппарат? Постышев приводил разительные примеры несообразных в него назначений. Быть может, самый невероятный – тот, когда Одесский обком партии направил в колхоз парторга-перса, совсем не знавшего украинского языка и едва говорившего по-русски. Причиной столь странного назначения была отметка в партбилете этого человека, что некогда он охранял зерновой склад.[45]
В подобных условиях могли процветать только колхозы, где имелись исключительно хорошие природные условия и очень способные председатели. Вдобавок руководитель каждого района и области следил за тем, чтобы под его началом был «хотя бы один образцовый колхоз (получавший львиную доли удобрений и техники, а впоследствии также наград и премий за рекордный урожай)»,[46] – это хозяйство лежало дополнительным бременем на обычных колхозах района.
Но за исключением таких «показательных» хозяйств, колхозы, где дела шли успешно, становились жертвами бюрократов. Крестьянин из одного такого колхоза рассказывал, что, поскольку остальные колхозы почти не давали хлеба, «местное начальство выполняло план за счет нашего урожая, а мы оставалась ни с чем».[47] Одним из немногих процветающих колхозов был основанный в 1924 году колхоз села Борисовка Запорожской губернии. Но когда началась массовая коллективизация, выдача продуктов питания по трудодням прекратилась и мужчины стали изо всех сил искать отхожие промыслы, посылая женщин и подростков работать в поле.[48]
Большей частью в Сибири, а также в некоторых других районах существовали религиозные общины евангелистов, баптистов, меннонитов и пр.: из них-то и состояли подлинные, успешно работавшие коммуны. В 1920 году наркомат признал социалистический характер их уклада, но в период коллективизации эти общины обвинили в том, что общинное устройство – лишь «фасад, прикрывающий кулацкую эксплуатацию». Когда религиозные группы попытались добиться признания себя на правах колхозов, им ответили резким отказом, после чего реорганизовали, подогнав под советский стандарт, а наиболее активных в религиозном отношении людей исключали и, как правило, ссылали.[49]
Как и прежде, много бессмысленного ущерба причинял зуд укрупнения хозяйств. В одной области был (на бумаге), в числе прочих, создан гигантский колхоз площадью 45 000 акров (примерно 18 000 га). Из этого начинания ничего не вышло, тогда площадь колхоза-гиганта искусственно поделили на квадраты площадью 2500 акров (1000 га) каждый. Этот план, не учитывавший «инициативы» крестьян, донельзя «напугал их»[50]. Нечто подобное происходило повсюду, пока в 1933 году партия, наконец, не исправила положение, расформировав колхоз имени Красина в Чубарове (Днепропетровская область), занимавший 5873 гектара и объединявший 818 крестьянских хозяйств; колхоз имени Ворошилова в Покровском (Донецкая область), площадь которого составляла 3800 гектаров и другие.[51]
Отсутствие подлинного планирования и полная безответственность отличали не только работу колхозов, но и дальнейшую судьбу изъятого у крестьян хлеба. Мы располагаем такими достоверными данными[52] о потерях зерна: в одних только заготовительных организациях в период с 1928–1929-го по 1932–1933 год они составляли ежегодно около миллиона тонн, а в общей сложности достигли пяти миллионов тонн (в 4–5 раз больше, чем соответственные цифры за период с 1926–1927-го по 1927–1928 год). Эти колоссальные потери сравнимы с экспортом зерна за тот же период (1928–1929-го по 1932–1933 год), составившим 13,5 миллиона тонн. Когда же мы сравним данные о потерях зерна с тем, что оставалось в деревне на прокорм крестьянам, они покажутся еще более чудовищными. На 1 января 1928 года количество «транспортируемого зерна» (размещенного, главным образом в неподвижных железнодорожных вагонах на путях или судах, также стоящих на приколе в портах – то есть в помещениях (без отопления и почти без защиты от набегов крыс) равнялось 255 000 тонн, а на 1 января 1930 года достигло 3 692 500 тонн[53].
* * *
Но главная беда состояла все же в том, что новая аграрная бюрократия работала неэффективно и обходилась дорого. Сама система, строившаяся на принципе, будто в приказном порядке можно собрать столько же зерна, сколько при рыночной торговле, оказывалась в корне порочной, когда ее стали применять в течение длительного периода времени.
Вначале, несмотря на огромные потери, удавалось все же заготовлять довольно много хлеба. Согласно официальным данным, количество собранного правительством хлеба возросло с 10,8 млн.тонн в 1928–1929 гг. до 16,1 млн.тонн в 1929–1930 гг., в 1930–1931 гг. – до 22,1 млн. тонн, а в 1932–1933 гг. оно достигло 22,8 млн. тонн. Таким образом, за три первых года массовой коллективизации правительство более чем удвоило объем полученного из деревни зерна[54].
Но в результате этих повышенных поставок крестьянину оставалось очень мало хлеба. Тут, кроме возражений гуманного характера, можно, безусловно, выдвинуть очень серьезные экономические возражения, связанные с проблемами стимулов производства. В советской исторической энциклопедии указывается, что в тот период у колхозов часто отбирали «все зерно», включая то, которое было предназначено для оплаты труда колхозников[55].
Рой и Жорес Медведевы так пишут об идее Сталина: «Он считал, что если в колхозе заранее узнают о высоких требованиях правительства, тогда колхозники поработают вдвое упорнее, чтобы им самим осталось что-нибудь от урожая».[56]
Поэтому основной принцип состоял в том, что государству требуется поставить определенное количество зерна, и это требование главнее нужд крестьянства и должно быть исполнено прежде, чем мужицкие нужды вообще будут учтены.
Закон от 16 октября 1931 года запрещал создавать запасы зерна для внутриколхозного употребления до тех пор, пока план госпоставок не будет выполнен.[57] Такое положение вещей не устраивало даже местные власти. В 1931 году несколько «работников низшего звена, отличавшихся ограниченным политическим горизонтом, пытались поставить интересы своего сельсовета или колхоза на первое место, а общегосударственные нужды отодвинуть на задний план».[58]
Во второй половине 1931 года к поставкам мяса стали применять те же методы, которые использовались при хлебозаготовках; но, несмотря на сильнейшее давление, результаты были неудовлетворительными – мяса было заготовлено меньше, чем в 1929 году[59].
Государство не только требовало от крестьян поставлять чрезмерное количество хлеба, но и платило за него (на сновании «договоров» с колхозами) произвольно низкие цены. Указ от 6 мая 1932 года позволял «колхозам и колхозникам» вести частную торговли зерном лишь после того, как нормы госпоставок были выполнены. (Указы от 22 августа 1932 года и 2 декабря 1932 года предусматривали меру наказания вплоть до десяти лет лагерей для тех, кто занимался торговлей до выполнения госпоставок.) Степень эксплуатации крестьян правительством становится очевидна, если учесть, что цены на свободном рынке (официальные статистические данные за 1933 год) были в 20–25 раз выше, чем те, которые государство установило на обязательные госпоставки[60]. Советский ученый хрущевского периода приводит более низкие, но тоже поразительно несправедливые цифры и заключает: «Цены на зерно и ряд других продуктов были символическими (в 10–12 раз ниже рыночных). Эта система подрывала заинтересованность колхозников в развитии общественного производства».[61]
Государство изымало у колхозников зерно не только в форме обязательных госпоставок, но и в форме платежей машинно-тракторным станциям за обработку колхозных полей. Указ от 5 февраля 1935 года устанавливал, что МТС получает 20 процентов урожая зерновых за выполнение «всех основных сельскохозяйственных работ на полях данного колхоза». Согласно указу от 25 июня 1933 года, колхоз, пытающийся увильнуть от этих платежей, подлежал судебному преследованию. Как указывают Рой и Жорес Медведевы, «расценки за использование тракторов, комбайнов и другой техники были очень высокие, а цены, по которым государство платило колхозу за зерно, – очень низкие, настолько низкие, что подчас не покрывали даже затрат на выращивание урожая!»[62]
Другим каналом изъятия хлеба у колхозов были непомерные отчисления за помол зерна (лишь в 1954 году вместо натуральной оплаты были введены денежные расчеты).
Указ от 19 января 1933 года заменил до тех пор достаточно произвольные нормы госпоставок (производившихся под покровом «договоров») новой системой обязательных поставок, «имеющих силу налога», который исчислялся, исходя из запланированных посевных площадей, и выплачивался на основе установленных государством крайне низких цен. Согласно указу, выполнение этих поставок есть «первостепенный долг каждого колхоза и единоличного крестьянского хозяйства, и первое же смолоченное зерно должно пойти в счет их выполнения». Новый указ разрешал колхозам продавать зерно только после того, как будет выполнен план госпоставок целой республики, области, края, а также полностью укомплектован зерновой фонд. Хозяйства, не выполнившие заранее установленной доли плана заготовок, приходившейся на каждый месяц жатвы, облагались пропорционально денежными штрафами и обязаны были выполнить план поставок сразу за весь год досрочно (статьи 15, 16).
Н.С.Хрущев, вспоминая о своем участии в выколачивании из колхозов нормы госпоставок, писал, что, мол, мы вернулись к системе реквизиций, но называли это налогом. Существовало еще то, что называлось «перевыполнением нормы». Секретарь парткома обычно ехал в колхоз и прикидывал, сколько зерна понадобится колхозникам для их собственных нужд, а сколько они смогут сверх того поставить государству. Часто этим занималась даже не местная парторганизация, а просто государство спускало норму таких дополнительных поставок на целый район. В результате крестьянам зачастую приходилось отдавать все, что они произвели – буквально все. Естественно, что, не получая никакой компенсации за свой труд, они утратили всякий интерес к колхозу и сосредоточились на обработке личных приусадебных участков, что бы прокормить семьи.[63]
Указами от 23 сентября и 19 декабря 1932 года была аналогичным образом изменена система обязательных госпоставок мяса, молока, масла, сыра, шерсти и т.д. – в основу расчета было положено предполагаемое поголовье скота в хозяйстве в данное время.
Сельскохозяйственные декреты 1932–1933 гг. означали, что после выполнения госпоставок колхозы должны были:
1. Расплатиться с машинно-тракторной станцией за технику;
2. Возвратить государству семенной фонд и другие займы;
3. Создать семенные запасы приблизительно в 10–15 процентов от годовой потребности в зерне, а также запасы кормов в соответствии с годичными потребностями общественного скота.
Только после этого колхоз имел право распределять урожай между колхозниками.
* * *
Теперь мы подошли к последнему и наименее важному (для администрации) потребителю колхозного добра – к колхознику. Колхоз расплачивался с ним на основе отработанных трудодней, но это НЕ означало, что колхозник получал нечто определенное за свой дневной труд. Напротив, определение «трудодня» было таково, что порой крестьянину приходилось отработать в поле несколько дней, прежде чем ему начисляли один трудодень.
В 20-х годах идея трудодня обсуждалась в кругах партийных специалистов. Но, видимо, только после того, как Сталин принял эту форму, к ней впервые стали относиться всерьез. Идея трудодня сводилась к тому, чтобы заставить каждого крестьянина вложить максимум усилий в работу если он не хотел кончить трудовой день с пустыми руками и пустым желудком.
Трудодень был формально определен в указе от 17 марта 1931 года. 28 февраля 1933 года была установлена специальная сетка норм дневной выработки, согласно которой начислялись два трудодня за один день работы председателям колхозов, старшим трактористам и т.д., но зато половину трудодня за тот же день всей низшей категории «тружеников деревни». На практике дифференциация между этими категориями была еще сильнее. В ноябре 1933 года Постышев вынужден был признать, что на членов правления и вообще на накладные управленческие расходы приходилось 30 процентов всех начисленных в колхозах трудодней.[64]
Рядовому колхознику трудодень начислялся за вспашку гектара земли или за обмолот тонны зерна – эти разнарядки были приведены в Примерном уставе сельхозартели, опубликованном в феврале 1935 года, но, несомненно, принимались за норму еще раньше. Человек, знакомый с сельским трудом, знает, что для выполнения такого объема работы нужно несколько дней. В 1930–1931 гг. за трудодень в одних колхозах выплачивалось 300 граммов хлеба, в других 100, в третьих – вообще ничего; понятно, что с такой «оплатой» крестьянину оставалось только голодать[65].
Каждую неделю бригадиры рассчитывали количество трудодней, выработанное каждым колхозником, а также могли выдавать им соответствующий аванс деньгами или хлебом. Но в принципе денежные выплаты производились только в конце года, и именно так обычно поступали. В официальных документах упоминается, что у 80 процентов колхозников выплата по трудодням была «отложена» на полтора-два года.[66] Но даже когда этого не происходило, колхозу почти нечего было дать своим членам после того, как те выполнили работу.
В одном украинском колхозе («типичном», согласно официальным данным) крестьянам оплатили только по 150 трудодней за год; на каждый трудодень пришлось два фунта (800 г) хлеба и 56 копеек деньгами. За все заработанные за год деньги можно было едва-едва купить одну пару обуви. На среднего жителя колхоза приходилось меньше чем полфунта (200 г) хлеба в день. Что же до приусадебных участков и находящегося в личном пользовании скота, то каждый участок был обложен налогом в 122 рубля, а каждый владелец коровы обязан был внести 64 кварты (около 73 литров) молока и 64 фунта (примерно 25,5 кг) масла.[67] Как заметил некий наблюдатель, когда после сбора первого колхозного урожая колхозники получали за целый год тяжкого труда какую-нибудь пару спортивных ботинок вместо необходимых им сапог, да низкосортную хлопчатобумажную одежду, они просто переставали работать.[68]
Получив смехотворно низкую плату за первый год, колхозники потеряли всякую заинтересованность в развитии производства, что нашло выражение в сокращении посевных площадей на следующий год. На Украине, к примеру, несмотря на все возрастающий нажим, посевные площади сократились в 1931 году на 4–5 процентов. Таким образом, партия имела возможность убедиться в справедливости старой истины: чрезмерное налогообложение подрывает источники дохода.
Поскольку речь зашла о налогах, следует сказать, что осенью 1930 года на несчастных колхозников была наложена новая дань – «государственный заем». Заем этот был отнюдь не добровольный, общая его сумма определялась в центре. Так, в октябре «по приказу Совета Народных Комиссаров с Крынковского района потребовали вместо указанных ранее 111 620 рублей сумму в 173 000 рублей»[69]. Некоторые села были заклеймены позором за отставание в подписке на заем. От местных властей потребовали больших усилий: «Председатели сельсоветов несут личную ответственность за сбор денег с зажиточных колхозников, если деньги не будут внесены в течение 48 часов, их соберут силой»[70].
* * *
Колхоз не являлся единственной формой «социалистического переустройства деревни». Сравнительно небольшая часть земли обрабатывалась совхозами. Эта форма получила меньшее распространение, хотя более соответствовала марксистским установкам. Совхозы воплощали идею «зерновых фабрик», их работники получали зарплату. В соответствии с «фабричным» характером, совхозы специализировались в какой-либо одной отрасли, например, на выращивании пшеницы, животноводстве, свиноводстве и т.п. (в значительной степени эта структура сохраняется до настоящего времени).
В 1921 году совхозы занимали лишь 3,3 миллиона гектаров. Предпринимались разные попытки увеличить долю совхозов в сельском хозяйстве, но все они провалились, хотя в период между 1924-м и 1933 годом площадь (но не продукция) совхозов возросла с 1,5 процента до 10,8 процента от всей обрабатываемой площади. К 1932 году в официальных постановлениях говорилось о «разбазаривании средств и полной дезорганизации производственного процесса в совхозах»[71]. В официальных источниках так описывается типичный совхоз – Камышинский зерносовхоз на Нижней Волге: «Ни в одной из квартир не было умывальников, не было бань, в мастерских руки примерзали к железу, там не было умывальников и даже воды для питья. В правлении нет уборной, нет сарая для дров, нет кладовки для продуктов. Столовая холодная, грязная, с однообразной и некачественной пищей. Несколько семей до сих пор живут в землянках»[72].
Совхозы давали лишь треть предусмотренного планом зерна, а остальных сельскохозяйственных продуктов и того меньше. На Семнадцатом съезде партии Сталин говорил о роли совхозов весьма разочарованно; он отметил их чересчур крупные масштабы (характерные и для настоящего времени).
Работники совхозов меньше страдали от эксцессов партийной активности. Туда стекались крестьяне с сомнительным прошлым, а поскольку совхозы всегда испытывали потребность в рабочих руках, там проявляли известную терпимость. Тем не менее в 1933–1934 гг. представители ОГПУ проявили себя, выявив и здесь 100 000 врагов народа к апрелю 1935 года. В одном совхозе из 577 работников 49 оказались белогвардейцами, 69 – кулаками, четверо – белыми офицерами, шестеро – сыновьями атаманов и священников. В другом совхозе директор был сыном доверенного конюха Великого князя Михаила, зоотехник – сыном кулака, агроном – исключенным из партии «троцкистом с кулацким прошлым», десяток бригадиров тоже имели «сомнительное происхождение».[73]
* * *
Идея, что трактор, заменив лошадь, преобразует сельское хозяйство в современную процветающую отрасль производства, глубоко укоренилась в партийной верхушке.
Советские ученые приводили фантастические мотивы для обоснования коллективизации, и один из самых распространенных сводился к тому, что «успешная индустриализация страны проложила путь для успешного развертывания колхозного строительства».[74] В партийных кругах обычно считалось, что тракторы, полученные в результате индустриализации, обеспечат успех коллективизации; тракторы рассматривались как техническая база модернизации деревни.
Как мы видели, Сталин понимал, что заводы не успеют вовремя – к началу первого этапа коллективизации – выпустить тракторы. Он неустанно повторял свой оптимистический тезис о том, что колхозы могут вначале «опираться на крестьянский инвентарь», добавляя: «…простое сложение крестьянских орудий в недрах колхозов дало такой эффект, о котором и не мечтали наши практики».[75] Нарком земледелия даже призвал в январе 1930 года «удвоить производительность лошади и плуга».[76]
Однако и этот призыв базировался на необоснованных предпосылках, в частности на том, что лошади и плуги будут в наличии. Но лошади, увы, разделили судьбу коров: в рассматриваемый период число лошадей резко сократилось, с 32 до 17 миллионов, или на 47 процентов.[77]
Причины падежа лошадей были не совсем те же, что причины забоя крупного рогатого скота. Лошадей ели редко. Когда не хватало кормов, крестьяне часто из жалости отпускали лошадей на волю, так что по всей Украине «носились табуны оголодавших лошадей».[78] Иногда крестьяне продавали лошадей – это было легче сделать, чем продать коров, так как в партийных инстанциях довольно долго бытовала иллюзия, что колхозы не будут нуждаться в лошадях. «Правда» с осуждением писала, что в одной только Белоруссии намеревались забить 150 000 голов лошадей для поставок шкур и мяса кожевенному синдикату и мясо-молочному кооперативу, хотя 30 процентов лошадей, предназначенных на убой, еще годилось для работы.[79]
Кроме того, лошади просто дохли в колхозах. Когда в марте 1930 года многие крестьяне вышли из колхозов, лошадей им не вернули, а в колхозах за ними плохо ухаживали. Характерен рассказ побывавшего в России американского путешественника. В одном из колхозов он увидел «такую неухоженную и оголодавшую лошадь», какой ему никогда не доводилось видеть. Колхозник, показывавший американцу лошадь, сказал, что прежде она принадлежала ему и тогда он ее холил и лелеял.[80]
Работник местного аппарата, сопровождавший секретаря обкома комсомола в поездке по колхозам, рассказал, что еженощно в каждом из этих колхозов умирало от двух до семи лошадей.[81] К зиме кормов для лошадей совсем не осталось. (В некоторых районах, обнаружив нехватку овса и сена, ввели «рационализацию» типа, столь популярного в Советском Союзе: срочно убедившись в питательности сосновых веток, их засилосовали, но лошади не стали есть эту «силосную массу».)[82] Повсюду валялись мертвые лошади, а живую можно было купить очень дешево – всего за полтора рубля.
Зато падеж лошадей положительно повлиял на плановые показатели: мертвые лошади не нуждались в фураже, поэтому так возросли цифры, отражающие объем всего проданного с 1928-го по 1933 гг. зерна (хотя урожай в 1930-м и 1931 годах действительно был высокий).
Были на самом деле предприняты большие усилия с тем, чтобы заменить лошадей достаточным число тракторов. К 1931 году на производство сельскохозяйственной техники шло 53,9 процента всего выпускаемого в СССР высококачественного проката. Но тракторов все-таки еще не хватало для того, чтобы возместить потерю лошадей, не говоря уже о том, чтобы начинать с ними новую эру. К концу 1930 года 88,5 процента колхозов еще не имели своих тракторов, а машинно-тракторные станции обслуживали лишь 13,6 процента колхозов.[83]
Нехватка тракторов усугублялась и более серьезной проблемой – недостатком навыков обращения с техникой, а главное, тем обстоятельством, что за общественной собственностью никто не хотел смотреть как полагается. Эти проблемы не решены в Советском Союзе до сих пор, и советский тракторный парк приходится обновлять почти полностью каждые пять лет (в Англии на маленькой ферме трактор служит в среднем десять лет и к концу этою срока все еще находится в столь пригодном для работы состоянии, что под него можно получить кредит для покупки нового). Нетрудно поэтому представить, что в начале 30-х годов (частично из-за некомпетентности инженерных кадров) у среднего трактора советского производства была «очень короткая жизнь».[84] Один американец, заметив, что те же самые тракторы выдерживают в Советском Союзе лишь треть того срока, в течение которого они служат в США до того, как их отправляют в капитальный ремонт, объяснил это низким качеством смазочного масла.[85] К тому же отсутствовало нужное техническое обслуживание. Еще один иностранец как-то увидел в Советском Союзе «брошенный комбайн марки „Джон Дир“ последней модели. Комбайн покрылся ржавчиной и не работал, еще несколько дождливых дней – и его уже не починишь».[86] Подобных случаев было очень и очень много.
* * *
Теперь следует описать характер и значение системы машинно-тракторных станций, которая, наряду с колхозами и совхозами, составляла третий основной элемент социалистического переустройства деревни. Судя по их названию, МТС были предназначены для обеспечения колхозов тракторами, однако они в короткий срок превратились в средство политического контроля за крестьянством.
Машинно-тракторные станции представляли собой централизованные парки сельскохозяйственной техники, причем сосредоточивали в своих руках подавляющее большинство имевшихся в стране тракторов, комбайнов и другого оборудования – хотя вплоть до 1934 года МТС не владели сельскохозяйственной техникой монопольно, часть тракторов принадлежала непосредственно колхозам.
Уже в 1928 году в СССР существовали тракторные парки наподобие МТС, например, один такой парк имелся в Одесской губернии. Но в крупном масштабе организация МТС началась после соответствующего указа от 5 июня 1929 года. Машинно-тракторные станции заработали полным ходом с февраля 1930 года, хотя еще до этого срока было создано значительное число МТС (например, восемь в Днепропетровской губернии).[87] Всего за период с 1929-го по 1932 год было организовано почти 2500 МТС. Это были крупные станции – слишком крупные, чтобы работать эффективно. Так, в Харьковской губернии организовали МТС с 68 тракторами, обслуживавшую 61 колхоз, некоторые из них находились от нее на расстоянии 40 километров. В сентябре 1933 года было израсходовано впустую – на доставку тракторов к месту работы – 7300 часов.[88]
Трудности работы МТС можно проследить по двум параллельным отчетам, один из которых написан эмигрантом, а другой – ответственным советским работником.
В первом отчете рассказывается, как в феврале 1933 года был арестован и отдан под суд за саботаж весь административный аппарат машинно-тракторной станции Поливянка, поскольку тракторы и другая сельскохозяйственная техника находились в таком же плохом состоянии, как волы и лошади. Причина последнего явления очевидна, что же касается ухода за техникой, то его трудно было обеспечить: не хватало запчастей, а для кузницы невозможно было достать ни угля, ни железа, ни даже дров.[89]
Во втором, официальном, отчете не упоминается о мерах наказания виновных, но рассказывается о трудностях в работе Красновершской МТС Одесский области. В 1933 году МТС должна была провести средний ремонт 25 тракторов и 25 молотилок, но на станции было всего трое рабочих, а все ее оборудование состояло из кузнечного горна и наковальни, взятых взаймы из соседнего колхоза, к тому же запчасти совершенно отсутствовали.[90]
МТС являлись не только технической базой колхозов, но прежде всего орудием общественно-политического контроля над селом. МТС рассматривалась как «очаг пролетарского сознания на селе», ибо там трудились рабочие, возглавляемые партработниками; поэтому она получала значительную власть над колхозами, которые она обслуживала. В июне 1931 года вышло даже постановление о том, что МТС должна не только организовывать работу колхозов, но также поставлять их продукцию государству. Эта функция была признана «первостепенной принципиальной задачей», стоящей перед МТС.
Ведущую роль МТС в деревне формально закрепили указом от 11 января 1933 года, вводившим в МТС «политотделы» (менее значительные политотделы были введены также в совхозах).
Сотрудники ОГПУ, повсеместно назначавшиеся заместителями начальников политотделов, подчинялись последним во всем, кроме «агентурно-оперативной работы»[91]. С тех пор политотделы МТС стали решающей силой на селе, могущество их часто перевешивало полномочия официальных органов власти; все это вносило путаницу в работу и без того неповоротливой бюрократической системы.
* * *
К концу 1934 года девять десятых посевной площади СССР было сконцентрировано в 240 000 колхозов, заменивших 20 миллионов мелких крестьянских хозяйств, существовавших в 1929 году. Основные черты новой системы отражены в «Примерном уставе сельскохозяйственной артели», пересмотренном и одобренном в феврале 1935 года:
1. Колхоз должен вести коллективное хозяйство «в соответствии с планом», строго соблюдать предписания «органов рабоче-крестьянской власти» и выполнять «обязательства перед государством». (Статья 6.)
2. Прежде всего колхозу надлежало выполнять обязательства по госпоставкам, возвращению семенного фондам также по расчетам с МТС (статья 11-а); в последнюю очередь, после создания запасов семенного зерна и фуража, колхозу следовало «распределить оставшийся урожай и продукты животноводства между членами колхоза» (статья 11-д).
3. Каждая колхозная семья имела право на небольшой приусадебный участок площадью от четверти до половины гектара, а в некоторых районах – в виде исключения – до одного гектара; кроме того, ей можно было содержать для личных нужд небольшое количество домашнего скота; обычно разрешалось иметь одну корову, до двух телят, одну свиноматку с приплодом, до десяти овец и/или коз, а также неограниченное количество домашней птицы и кроликов и до двадцати пчелиных ульев (статьи 2, 5).
4. Распределение колхозного дохода между членами колхоза осуществляется исключительно в соответствии с количеством заработанных трудодней (статья 15).
5. «Высшим органом» колхоза объявлялось общее собрание колхозников, избиравшее председателя и правление колхоза, в составе 5–9 человек для ведения колхозных дел между общими собраниями (статьи 20, 21).
6. Колхоз обязывался рассматривать кражу колхозной собственности и недобросовестное отношение к работе как «измену общеколхозному делу и пособничество врагам народа» и передавать виновных в этих преступлениях, подрывающих основы колхозной системы, в суд для наказания «по всей строгости законов рабоче-крестьянской власти» (статья 18).
Все приведенные выше пункты подтверждают, что суть колхозной системы состояла в том, чтобы крестьянин по-прежнему производил сельскохозяйственную продукцию, но не имел даже временного контроля над распределением продуктов своего труда. Возможно, это вело к понижению урожая, но, по мнению сталинистов, такой недостаток вознаграждался с лихвой установлением государственного контроля над мужиком. К тому же любую нехватку можно было хотя бы до известной степени компенсировать за счет сокращения доли урожая, предназначенной для крестьянина.
С этих пор Сталин и его ближайшие помощники «неустанно предупреждают об опасности идеализации колхоза и колхозника». Шеболдаев прямо заявил, что колхозники слишком мало думают «об интересах государства», а Каганович сказал, что «пробным камнем, на котором проверяются наша сила и слабость, а также сила и слабость врага», является не коллективизация, а госпоставки.[92] «Врага» приходилось теперь искать в колхозах, и именно там среди прежних бедняков и середняков надо было бороться с «кулацким саботажем».
Коллективизация не решила никаких крестьянских проблем, за исключением тех, что исчезли вместе с утратой мужиком земли. Колхозы были, по существу, механизмом для изъятия у крестьян зерна и других продуктов. Практически весь колхозный урожай хлопка, сахарной свеклы, большая часть произведенной колхозом шерсти, кожи и, конечно, зерна шли государству.[93]
Современный советский литературный критик, отдав дань якобы несомненным преимуществам коллективизации и механизации, все же замечает: «Но до некоторой степени они ослабили глубокие узы, связывавшие крестьянина с землей, ослабили чувство ответственности человека, являющегося хозяином своей земли, за ежедневный труд на этой земле».[94]
Партработник, направленный в 1930 году в большое степное украинское село Архангелка (более 200 дворов), обнаружил, что в горячую уборочную пору работало всего восемь человек. Остальные вообще ничего не делали, и когда приезжий (П.Г.Григоренко) сказал, что так погибнет урожай, с ним согласились. Григоренко пишет: «Я не верю, чтобы крестьянину была безразлична гибель хлеба. Значит, какая же сила протеста взросла в людях, что они пошли на то, чтобы оставить хлеб. Я абсолютно уверен, что этим протестом никто не управлял». И хотя ему самому удалось немного поправить дело, у Григоренко осталось ощущение, что он никого не переубедил.[95]
Подобное поведение крестьян, как и любые попытки пустить зерно на их собственные нужды, считалось саботажем. В указе от 7 августа 1932 года «Об охране государственной собственности» (написан вчерне лично Сталиным) указывалось, что под категорию «государственной» подпадает также вся колхозная собственность, как то: скот, несобранный урожай, а также другая сельскохозяйственная продукция.[96] Лица, наносящие ущерб государственной собственности, рассматривались как враги народа и подлежали либо расстрелу, либо, при смягчающих обстоятельствах, тюремному заключению сроком не менее десяти лет с полной конфискацией имущества. Впоследствии в сферу действия этого декрета включили также тех, кто фальсифицировал колхозные счета, саботировал сельскохозяйственные работы, «наносил ущерб урожаю» и т.п.
В течение 1932 года 20 процентов всех вынесенных в СССР судебных приговоров базировалось на этом декрете, который сам Сталин назвал «основой революционной законности в настоящий момент».[97] За один месяц (октябрь 1932 г.) только в Западной Сибири были обвинены в саботаже владельцы 2000 крестьянских хозяйств.[98]
Карающий меч закона обрушился не только на простых крестьян. В постановлении ЦК партии от 11 января 1933 года указывается: антисоветские элементы, проникающие в колхозы в качестве счетоводов, управляющих фермами, кладовщиков, бригадиров и т.п., а часто и в качестве членов правления, пытаются организовать акты вредительства, выводя из строя сельхозтехнику, плохо проводя сев, разбазаривая колхозную собственность, подрывая трудовую дисциплину, организуя кражу семян, создавая тайные хлебные запасы и саботируя сбор урожая; им иногда удается развалить колхозы.
Постановление требовало исключать такие антисоветские элементы из колхозов и совхозов. Выполнение этой задачи возлагалось на политотделы МТС и совхозов, в частности, на замначальников политотделов, которые являлись сотрудниками ОГПУ. В 24 республиках, краях и областях СССР в 1933 году 30 процентов всех агрономов, 34 процента кладовщиков и аналогичное количество других работников были обвинены во вредительстве.[99]
Даже на более высоком уровне нашли козлов отпущения – среди плановиков и номенклатуры. Лучшие сельскохозяйственные специалисты были, естественно, люди с многолетним опытом и профессиональной подготовкой, часто полученной еще до революции, большевиков среди них было мало. Как уже отмечалось, самым известным среди крупных советских ученых в этой области был Чаянов. Главой группы с более выраженной идеологической окраской, называвшей себя «аграрниками-марксистами» являлся Л.Н.Крицман. В течение нескольких лет две эти школы вели работы в несколько отличных друг от друга направлениях, но никакого ожесточения между ними не было. Естественным следствием «культурной революции» было смещение в 1929 году Чаянова и его последователей с занимаемых ими постов, а в 1932 году за ними последовала группа Крицмана, развивавшая идеи слишком уж постепенной эволюции крестьянства. К этому времени во главе сельскохозяйственных академий оказались угодные партии недоучки, правоверные марксисты, ничего не смыслившие в сельском хозяйстве.
Само собой разумеется, что «кулаки» и «кулацкие подпевалы» просочились и в народный комиссариат земледелия, в Госплан, сельскохозяйственные научно-исследовательские центры, Сельхозбанк, лесную промышленность и т.д. В марте 1930 года на Украине ГПУ арестовало 21 человека по обвинениям такого рода.[100]
22 сентября 1930 года 48 работников народного комиссариата торговли, в том числе зампредседателя научно-технического совета пищевой и сельскохозяйственной промышленности, были обвинены в саботаже поставок продуктов питания, и «Правда» напечатала на двух полосах их признания. Они были названы «организаторами голода и агентами империализма» – империализм в данном случае олицетворяла английская холодильная компания, замышлявшая дезорганизовать холодильную промышленность СССР с тем, чтобы получить выгодный контракт. Через три дня после вынесения приговора все обвиняемые были расстреляны.
3 сентября 1930 года было объявлено об аресте ведущих экономистов, в том числе Громана, Чаянова, Макарова и Кондратьева за контрреволюционную деятельность Все они исчезли, хотя имена некоторых и упоминали потом в печати среди обвиняемых на процессе меньшевиков 1931 года (главным среди них был Громан). Все они признались в саботаже, а также в пособничестве иностранной интервенции (мы располагаем достаточными документальными материалами о том, как были добыты эти «признания»). Экономическая сторона выдвинутых против них обвинений была прямо-таки абсурдной.
Подсудимых, многие из которых играли важную роль в разработке пятилетнего плана, обвиняли в том, что они пытались занизить рубежи пятилетки. Данные советской статистики действительно подтверждают, что проходившие по этому процессу специалисты проявили незаурядное предвидение, предугадав истинные показатели выполнения пятилетнего плана. Правда, почти во всех случаях их прогнозы были все же слишком оптимистическими. Например, они предсказали, что в 1932 году будет произведено 5,8 млн. тонн стали (это входило в число инкриминированных им преступлений), а планом предусматривалось произвести 10,3 млн. тонн. На суде обвиняемые покаялись и признали, что «следовало наметить значительно более высокие показатели». Реальное производство стали составило 5,9 млн. тонн. Для чугуна в чушках «преступники» предсказали цифру в 7 млн. тонн. По плану было намечено произвести 17 млн. тонн, фактически в 1933 году было произведено 6,1 млн. тонн[101].
Бывший тогда наркомом продовольствия Кондратьев проходил на процессе меньшевиков в качестве свидетеля. Затем его самого отдали под суд как главаря некоей Трудовой крестьянской партии, которая якобы состояла из девяти подпольных групп, работавших в Москве и занимавшихся саботажем в кредитных и кооперативных объединениях, наркоматах земледелия и финансов, в органах печати по сельскому хозяйству, в сельскохозяйственных НИИ и Тимирязевской академии, а также имевшей разветвленную сеть в деревне, насчитывавшую от 100 000 да 200 000 участников.[102] Эти процессы плотно закрыли рты всем оппонентам генеральной линии, доказав, что любое несогласие с ней или даже неспособность осуществить невыполнимые планы являются государственным преступлением и караются смертной казнью.
* * *
В некоторых отношениях сталинская тактика подачи для публики его действий очень помогала и соответствовала его же целям. Сталин никогда не говорил о наступлении на крестьянство, а лишь о наступлении на классового врага – кулака. Когда в деревнях совершались зверства, вытекавшие из его политики, он время от времени наказывал отдельных работников тех или иных органов. А мир пропаганды, в которой вращались партийцы, а также большинство горожан, был таковым, что позволял им считать, будто «искривления» имеют сугубо местный характер, а все неудачи обусловлены саботажем.
Одновременно с этим сознательно затемнялось истинное положение дел в деревне. Зарубежные простаки и активисты долго тешились нелепыми предсказаниями небывалого изобилия, которое вот-вот наступит. По потреблению масла СССР должен был вскоре перегнать Данию, поскольку поголовье молочных коров должно было вырасти в 2–2,5 раза, а удой – в 3–4 раза[103]. (В действительности производство масла в Восточной Сибири, о которой мы имеем данные, снизилось с 35 964 тонн в 1928 году до 20 901 тонны в 1932 году.)[104] В 1929 году было даже официально заявлено, что к 1932 году урожай зерновых возрастет ни больше ни меньше, как на 50 процентов, а впоследствии объем товарного зерна в результате применения тракторов увеличится еще на 25 процентов.[105]
Всем было очевидно, что эти «рубежи» достигнуты не были, но вину за это можно было списать на саботажников, кулаков, неумелых низовых работников. Правда, масштабы провалов были пока неясны. Одна из причин невозможности определить их состояла в том, что советская статистика постепенно утратила всякую связь с фактами.
Сначала был введен новый метод определения урожая зерновых – по «биологическому уровню», то есть на корню – урожай подсчитывался не на основе собранного в хозяйстве зерна, а по тому, какой урожай выращен на полях. В 1953 году Хрущев объявил, что этот способ давал завышение более чем на 40 процентов. Главное преимущество метода «биологического урожая» заключалось в том, что он позволял «декретировать урожай» заранее, основываясь на максимальной теоретической урожайности и максимальной посевной площади, игнорируя в то же время потери при уборке, в результате отсыревания и т.п. Затем, вычтя минимальное количество зерна на потребление крестьян, получали долю государства. Было даже издано особое постановление, запрещающее сбор статистических данных на основе реально обмолоченного зерна, «как искажающий картину действительного положения на полях».[106]
С апреля 1930 года прекратилась публикация индексов цен. В «Социалистическом строительстве в СССР за 1933–1935 гг.», последнем статистическом справочнике за указанный период, не приводится никаких данных о ценах. А в справочнике «Социалистическое строительство в СССР за 1936г.» само слово «цены» не упоминается даже в предметном указателе и ни в какой-либо иной вразумительной форме. Публикация статистических данных о рождаемости и смертности прекратилась еще раньше.[107]
Так каковы же были реальные результаты?
Не было ни повышения продуктивности сельского хозяйства, ни процветающего крестьянства. Напротив, продукция сельского хозяйства резко сократилась, миллионы крестьян были истреблены и выселены, а оставшихся в деревнях низвели до положения крепостных, по их собственному определению. Но теперь государство контролировало все производство хлеба, пусть даже количественно снизившееся. Коллективизация победила.
В наши цели не входит выяснение того, кто был более праведным марксистам и ленинцем – Сталин или его противники. В этом вопросе существуют разные и спорные точки зрения. Но, видимо, идея правых о постепенной коллективизации под воздействием положительных примеров была хитрой. Если бы между частным и общественным секторами в сельском хозяйстве было возможно нечто вроде свободного соревнования, частный сектор всегда оказывался бы более привлекательным для своих традиционных носителей. Идея создания ограниченного числа колхозов, дабы привлечь крестьян-единоличников, была нежизнеспособной. Повсюду, где такие хозяйства существовали, они, несмотря на все дарованные режимом преимущества, оказывались менее преуспевающими, чем единоличные хозяйства. Даже впоследствии, при всех преимуществах первоклассной модернизации, колхозы никогда не процветали. В сентябре 1953 года и в феврале 1954 года Хрущев докладывал Пленуму ЦК, что механизированное советское сельское хозяйство производит меньше зерна per capita[*] и меньше крупного рогатого скота в абсолютном исчислении, чем производил мужик со своим деревянным плугом при царизме, сорок лет назад.
Плоды коллективизации не ограничивались одной только экономикой. Весь строй жизни крестьянства был разрушен и заменен новым, который сами крестьяне ощущали как значительно худший. Со строго партийной точки зрения можно считать, что Сталин был прав. Крестьянин не пошел бы в колхоз добровольно. Если коллективные хозяйства были необходимы, крестьянина надо было загнать туда силой. А что касается сроков, то, поскольку никакой период времени не был бы достаточным, чтобы убедить крестьян, то не имелось абсолютно никакого резона «растягивать удовольствие».
Как бы то ни было, решения Сталина находились в полном соответствии с марксистско-ленинским тезисом о том, что пролетарская власть, стремящаяся к построению «социализма», должна подчинить себе класс единоличных крестьян. Сталинская стратегическая линия победила, и перечисленные выше доводы имели решающее значение при выработке позиции партии.
Но, кроме позиции партии, разумеется, возможны и другие точки зрения.
Глава девятая. Средняя Азия и трагедия казахов
Старое правительство, помещики и капиталисты оставили нам е наследство такие забитые народы… эти народы были обречены на неописуемые страдания.
И.СталинСоветская Средняя Азия, состоящая из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии и Казахстана, – это мусульманская земля, присоединенная к России царскими армиями в 18-м и 19-м веках, а затем повторно завоеванная большевиками, сбросившими местные революционные и другие правительства. Коллективизация происходила здесь, в основном, так же как в европейской части СССР, однако с некоторыми специфическими особенностями.
В Узбекистане политика «ликвидации кулака» была провозглашена в хлопкосеющих зонах, а в скотоводческих районах – только политика «ограничения кулака».
По данным опубликованной недавно в СССР работы, в 1930–1933 гг. здесь было раскулачено 40 000 крестьянских хозяйств, то есть пять процентов от их общего числа.[1]
В Туркменистане (по официальным данным) было выселено 2211 кулацких семей только за 1930–1931 гг.[2]
В Казахстане было раскулачено 40 000 семей, а еще 15 000, если не больше, «самораскулачились», то есть скрылись.[3]
Можно считать, что в целом по Средней Азии раскулачивание коснулось около полумиллиона человек – сопротивление было ожесточенным.[4]
В недавно опубликованном советском исследовании отмечается, что в 1929–1931 гг. снова поднялось национальное повстанческое движение – басмачество. Чаще всего басмачи нападали на колхозы. Из Афганистана в Таджикистан проникали «банды» численностью до 500 человек, они разрастались по пути. В Туркмении, где басмачи «уже были почти ликвидированы в предшествующий период», они снова усиливались, «в республике сложилась сложная политическая обстановка».[5] В число повстанцев «входили не только явно контрреволюционные элементы», но и известная часть «трудящегося населения»[6], а их политическими целями была борьба с советами и коллективизацией.[7]
По словам Икрамова, секретаря компартии Узбекистана, даже в 1931–1932 гг. в республике насчитывалось 350 банд басмачей, было 164 попытки организовать массовые восстания, в которых участвовало около 13 000 человек, и 77 000 «антиколхозных инцидентов». Одно такое восстание в районе Сыр-Дарьи продолжалось три недели[8]. Бауман, присланный Москвой в качестве правителя всей Средней Азии (известно о покушении на Баумана, в процессе покушения была ранена его жена), говорил на Пленуме компартии Узбекистана, состоявшемся в сентябре 1934 года, что в 1931 году восстания имели место также в туркменских степях, в скотоводческом районе Киргизии и в Таджикистане.
Как и повсюду, в Средней Азии сопротивление крестьян проявлялось также в массовом забое скота. На сентябрьском Пленуме компартии Узбекистана Бауман признал, что в Средней Азии (не считая Казахстана) поголовье лошадей сократились на треть, крупного рогатого скота наполовину, а овец и коз – на две трети.
В Киргизии сопротивление приняло форму «массового уничтожения скота», а также «миграции за границу», причем часть пограничного населения ушла в Китай, «уведя с собой 30 000 овец и 15 000 голов крупного рогатого скота»[9].
Но все эти факты, достаточно печальные сами по себе, блекнут перед колоссальной человеческой трагедией казахов.
По переписи 1926 года в СССР насчитывалось 3 963 000 казахов; а по данным переписи 1939 года (весьма раздутым) – лишь 3 100 900. Если учесть естественный прирост населения, то можно определить, что убыль населения вследствие голода и репрессий составила около полутора миллионов. При исходной численности населения в 1930 году значительно более 4 миллионов, так что реальная смертность (за вычетом неродившихся и бежавших в Китай) должна была составить не менее миллиона человек. Данные недавно опубликованного исследования говорят о том, что потери были даже больше. Число крестьянских хозяйств в Казахстане снизилось с 1 233 000 в 1929 году до 565 000 в 1936 году.[10] Этим жутким цифрам соответствовало катастрофическое сокращение поголовья скота (во многом вызвавшее людскую смертность). В 1929 году поголовье крупного рогатого скота исчисляюсь в 7 442 000, а в 1933 году упало до 1 600 000; поголовье овец снизилось соответственно с 2 194 3000 до 1 727 000.[11]
Причины и обстоятельства этой небывалой человеческой и экономической катастрофы, не находящей себе равных в истории какой-либо другой колониальной державы, заслуживают большего внимания со стороны западных специалистов, чем уделялось этой проблеме до сих пор.
* * *
Во время Октябрьской революции в Казахстане, завоеванном русскими в продолжении 18-го и 19-го веков, возникло собственное правительство, сформированное националистической партией Алаш-Орда. Правительство не устояло перед натиском Красной армии, однако база коммунистического движения в этом регионе была столь ограниченной, что многие ветераны партии Алаш-Орда принимались в новую администрацию.
Поскольку земли казахов лежали на самом севере Средней Азии, присоединенной к России в царские времена, они оказались на пути русской колонизации Сибири и Дальнего Востока. Поэтому территория Казахстана делилась грубо на две части: в северной его части, где осело много русских (более миллиона семей между 1896-м и 1916 гг.), развивалось преимущественно земледелие; на юге же все еще простирались невозделанные степи, где большинство казахов пасло свои стада и табуны.
Вследствие именно этих особенностей Казахстана большевики столкнулись здесь со специфическими трудностями. В 1926 году лишь менее четверти населения Казахстана занималось исключительно земледелием; 38,5 процента занималось только скотоводством, 33,2 процента – животноводством и земледелием вместе. Менее 10 процентов населения республики вело полностью кочевой образ жизни, но две трети его являлось «полукочевниками» – кочевало только летом вместе со своими стадами[12].
Советское правительство решило за несколько лет превратить этих кочевников и полукочевников, с их особыми культурными традициями, уходящими в глубь столетий, в оседлых земледельцев (да еще коллективизированных); нечего и говорить, что такое решение шло вразрез с исконными устремлениями населения.
Эти вопросы уже обсуждались за несколько лет до начала кампании коллективизации. Практически все специалисты были того мнения, что казахи абсолютно неподготовлены для какой бы то ни было коллективизации. Большинство агрономов подчеркивали, что казахское скотоводческое хозяйство регулируется клановыми отношениями, и поэтому разрушение клановых рамок опасно с экономической точки зрения. Знатоки местных условий объясняли также, что скотоводческие районы страны непригодны для выращивания зерна.
И хотя вышедшая после смерти Сталина работа советского историка[13], где утверждалось, что казахи были совершенно не готовы к коллективизации, подверглась в СССР резкой критике, в настоящее время большинство советских исследователей признает по крайней мере, что казахи не были подготовлены к массовой принудительной коллективизации или (что почти то же самое) к «коллективизации ударными темпами».
Трудность состояла в том, что требовалось перевести кочевников на оседлый образ жизни – именно такой переход предусматривался партийной доктриной в целях, «искоренения экономической и культурной отсталости» кочевых народов. Более конкретно эта же задача формулировалась так: «Переход к оседлости означает ликвидацию байского полуфеодализма, разрушение племенных отношений…»[14]
В пересмотренный вариант пятилетнего плана была включена задача перехода кочевых народов к оседлому образу жизни, и в Алма-Ате была создана специальная «комиссия по оседлости».
С экономической точки зрения территория Казахстана представлялась, потенциальным источником продовольственных резервов для всей советской Сибири и Дальнего Востока, а перевод кочевников к оседлости был задуман с целью получения огромного количества хлеба с земель Южного Казахстана.
На состоявшемся в ноябре 1929 года пленуме ЦК ВКП/б/ было принято постановление о конфискации земель казахских кочевников и создании на этих землях гигантских зерновых хозяйств. В 1932 году эти «зерногиганты» должны были дать 1,6 миллиона тонн зерна[15]. Экономист не мог бы назвать такую идею иначе как сумасбродством: данная территория не годилась для производства зерна. Даже сегодня валовая продукция животноводства в этих районах в четыре раза выше валовой продукции здешнего земледелия.[16]
* * *
При НЭПе казахи жили своим традиционным укладом и под руководством традиционных лидеров, но советская власть была этим недовольна. Кампания «советизации казахского аула», проводившаяся в 1925–1928 гг., провалилась, так как сформированные в аулах советы спокойно и без шума возглавили местные главы кланов – баи. И клановая организация казахского общества, и мусульманский кодекс верности мешали какому-либо проникновению в их жизнь влияния партийных работников. Троцкий отмечал, что руководитель компартии Казахстана Голощекин «проповедует гражданский мир в русской деревне и гражданскую войну в ауле». На Пятнадцатом съезде партии Молотов заявил, что баи очень мощно сумели «лишить государство» казахского хлеба.
В январе 1929 года численность коммунистов в Казахстане составляла всего 16 551 человек, а к 1931 году во всех сельских, районах Казахстана было 17 500 коммунистов, русских и казахов, причем лишь четверть из них проживала в районах с преимущественно казахским населением[17].
Указ от 27 августа 1928 года, принятый по «предложению» ЦК ВКП/б/, предписывал конфискацию земельной собственности у тех «богатых скотовладельцев из местного населения, которые своим влиянием препятствуют советизации аулов», а также выселение «байских и полуфеодальных» семейств (на этом этапе их число ограничивалось 696-ю) с конфискацией принадлежавшего им полумиллионного поголовья крупного рогатого скота.[18] Но даже это мероприятие оказало на казахское общество незначительное воздействие. Когда в 1930 году дело дошло до полного раскулачивания, «байскими» было объявлено 55 000–60 000 хозяйств; 40 000 из них было раскулачено, владельцы остальных скрылись, бросив свое имущество.
* * *
С 11 по 16 декабря 1929 года проходил Пленум ЦК компартии Казахстана. Он обсудил пути выполнения решений пленума ЦК ВКП/б/, состоявшегося месяцем раньше, и постановил, что необходимым условием проведения генеральной линии на коллективизацию является переход кочевников к оседлому образу жизни (хотя официальный указ, предписывающий постоянное расселение всех кочевых племен на территории РСФСР[*], был принят лишь 6 сентября 1930 года). Решив начать подготовку к переходу на оседлый образ жизни, ЦК компартии Казахстана постановил в январе 1930 года, что к концу первой пятилетки 544 000 кочевых и полукочевых семем (из общего числа 566 000) должны перейти к оседлости.[19]
В отношении перехода кочевников к оседлой жизни партия не пыталась соблюдать даже видимость «добровольности», в отличие от якобы добровольного решения крестьянства о вступлении в колхозы. Руководящие партийные работники Казахстана постановили, что насильно проводить коллективизацию – неверно, но насильно переводить население на оседлый образ жизни – правильно.[20] Разумеется, коллективизацию тоже проводили изо всех сил и невзирая на соблюдение принципа добровольности. Указом от 5 января 1930 года скотоводческие районы Казахстана были включены в категорию, где предусматривалось провести полную коллективизацию к концу 1933 года. Что же касается скота, то в отношении его обобществления, видимо, не было принято каких-либо определенных решений. В некоторых колхозах скот сперва конфисковали, а потом вернули владельцам. Часто отдавали приказ о конфискации, а когда казахи резали скот, лишь бы не отдавать его властям, последние, в свою очередь, извинялись и приказ отменяли.[21]
К 10 марта 1930 года 56,6 процента населения Казахстана было коллективизировано, но в кочевых районах республики процент коллективизации был куда ниже – 20 процентов или менее. Раздавшийся 2 марта 1930 года призыв Сталина ослабить давление на крестьян возымел некоторое воздействие во многих местах не раньше конца апреля – начала мая.[22]
Все советские отчеты не оставляют сомнения в том, что в колхозах, созданных весной 1930 года, царил полный хаос. Не хватало домов, амбаров, сельскохозяйственного инвентаря, и что еще хуже – мало было пригодных для земледелия земель: многие колхозы находились в пустынных и полупустынных районах, без достаточных источников воды, так что нельзя было заниматься стойловым животноводством тоже. К тому же кормов для скота не завезли, а отгон его на пастбища «был запрещен».[23] У некоторых колхозов не было ни семян, ни скота – то есть никакой материальной базы для трудовом деятельности. По плану предусматривалось построить 1915 жилых домов и 70 амбаров, но построено было лишь 15 процентов запланированного жилья и только 32 процента амбаров! Для 320 000 человек, переведенных в 1930–1932 гг. на оседлый образ жизни, было выстроено всего лишь 24 106 домов и 108 бань.[24]
Созданные в этот период колхозы обычно охватывали по 10–20 аулов, в каждом из которых проживало 10–15 семей; аулы находились на расстоянии в несколько километров друг от друга, и территория одного колхоза доходила порой до 200 квадратных километров[25]. Теперь об организационной стороне вопроса: в некоторых районах один счетовод обслуживал в среднем 12 колхозов, один техник – 50. В июне 1930 года во всей республике имелось лишь 416 агрономов и других специалистов сельского хозяйства, четверо из них – казахи[26]. У большинства колхозов не было никакого плана, вся их задача состояла в том, чтобы как-то выжить.
В отличие от большинства советских работ, в одном исследовании казахского историка[27] содержатся данные о широком сопротивлении казахов коллективизации. Партработники сталкивались с вооруженным сопротивлением, многие из них были убиты (вообще же из 1200 направленных в Казахстан весной 1930 года двадцатипятитысячников только 400 было послано в скотоводческие районы).[28] По республике носились «банды разбойников», они нападали на колхозы, уводили или резали скот. Целые группы аулов сговаривались между собой и согласованно выступали против властей. Особые гонцы разъезжали по аулам и предупреждали казахов, чтобы те не вступали в колхозы. Банды басмачей заметно усилились, они вступали в бои с отрядами ОГПУ. Множество казахов бежало в другие республики или в Китай. 44 000 семей ушло в Туркмению, где многие примкнули к басмачам[29].
Вину за трудности проведения коллективизации в Казахстане свалили на местную националистическую партию Алаш-Орда. В начале 1930 года был открыт «заговор», в котором якобы участвовали виднейшие националистические лидеры, в тех аулах, где коллективизация столкнулась с ожесточенным сопротивлением, были «вскрыты центры» бунтовщиков.
Официальное отношение к повстанческому движению в Казахстане не изменилось за истекшие пятьдесят с лишним лет. Недавно появилась статья, где восхваляется участие покойного Константина Черненко в пограничных отрядах ОГПУ Восточного пограничного округа Казахстана и Киргизии, ведших в 1930–1933 гг. «самоотверженную борьбу» с басмачами (это боевое прошлое, вероятно, особенно актуально в свете войны с мусульманскими повстанцами в Афганистане). В статье указывается, что к 1933 году басмачи были разгромлены, но небольшие их банды действовали вплоть до 1936 года.[30]
Сопротивляясь коллективизации, казахи резали скот, как это делали крестьяне в других республиках СССР. Уже за первые недели коллективизации во многих районах Казахстана было истреблено 50 процентов поголовья скота. В исследовании советского ученого говорится о потере за 1930 год 2,3 миллиона голов крупного рогатого скота и 10 миллионов овец, в другой работе упоминается, что в 1929–1930 гг. погибло 35 процентов всего скота.[31]
Большая часть уцелевшего обобществленного скота попала в огромные совхозы, где скоту не были обеспечены надлежащие зимние помещения, и, согласно одному отчету, из 117 000 голов скота, находившегося в таком гигантском совхозе, выжило за зиму только 13 000.[32]
Если не человеческая, то экономическая сторона этой катастрофы была встречена в Москве с гневом. Последовали крупномасштабные чистки местных кадров: к середине 1930 года только в двух областях Казахстана было распущено пять райкомов партии и арестована сотня партработников[33]. К концу 1932 года чистка захватила большинство республиканского руководства.
В начале коллективизации кочевников обычно загоняли в колхозы артельного типа, но на Шестнадцатом съезде ВКП/б/, состоявшемся в июне–июле 1930 года, было принято запоздалое решение о том, что для полукочевых районов более приемлема относительно либеральная форма ТОЗов[34]. К 1 апреля в Казахстане было коллективизировано 52,1 процента сельского населения. К 1 августа эта цифра понизилась до 29,1 процента, но к 1 сентября 1931 года снова возросла до 60,8 процента[35]; эта динамика приблизительно соответствует общесоюзному процессу.
В июне 1930 года местное руководство решило в кочевых и полукочевых районах возвратить сельскохозяйственный инвентарь и скот их бывшим владельцам; но в ноябре 1930 года весь инвентарь снова был обобществлен, а в июне 1931 года дано указание о повторном обобществлении скота – после чего по республике опять прокатилась волна истребления коров и овец.[36]
Зимой 1931 года было признано, что грандиозные планы 1928 года по превращению Казахстана в хлебную житницу провалились. Обрабатывалась лишь четверть запланированных, площадей, причем крайне неэффективно[37]. Официальные документы свидетельствуют о дефиците скота, семян, инвентаря, стройматериалов. Людей переводили из колхоза в колхоз обычно в тщетной надежде, что на новом месте их удастся лучше обеспечить скотом или зерном. К февралю 1932 года около 87 процентов всех колхозов Казахстана и 51,5 процента единоличных хозяйств (последние почти поголовно состояли из пастухов-кочевников) остались без скота. В 1926 году почти 80 процентов казахского населения республики жило скотоводством; к лету 1930 года его доля понизилась до 27,4 процента. Однако земледелие не могло стать альтернативой животноводству, так как площадь обрабатываемых земель возросла за тот же период всего лишь на 17 процентов.[38] Эти цифры дают некоторое представление о масштабах искусственно созданной катастрофы.
Насколько им разрешалось, в середине 1930 года казахи забрали свой скот из колхозов, а когда в 1931 году началась новая волна коллективизации, отогнали скот на отдаленные пастбища и в леса. Зимой пришлось резать скот, морозить и прятать мясо так, чтобы хватило еды, пока не наступит оттепель. Но к весне 1932 года голод уже свирепствовал в Казахстане.[39] В конце 1932 года ограниченное восстановление стад лишь немного смягчило голод: оно коснулось 123 600 голов крупного рогатого скота, а также 211 400 овец и коз[40] – жалкие остатки обширных стад, существовавших до 1930 года.
* * *
Проживавшее в аулах население, питавшееся раньше молоком и мясом, теперь осталось ни с чем. Многие сдались и вступили в колхозы и совхозы. Но и там есть было почти нечего. В одном совхозе «в течение шести месяцев не было никакого мяса, кроме верблюжьего вымени».[41]
Другие попытались откочевать в новые места, но и среди них голодная смерть косила множество жертв. Во время хрущевской оттепели советский историк писал, что в республике были «страшно подорваны производительные силы, и в аулах умерло много людей»[42].
Катастрофа разразилась из-за экономических и политических просчетов в узком смысле, но корни ее уходили в непонимание человеческих культур в широчайшем смысле слова. В Казахстане с предельной наглядностью проявилась поразительная механистичность и поверхностность партийного мышления. (Не удивительно, что, по сообщениям официальных источников, ислам окреп за эти годы в Южном Казахстане, как никогда).[43]
Голод, в Казахстане в эти годы был вызван искусственно, тем же способом, как и в 1921 году, то есть он возник в результате безрассудного проведения политики, продиктованной чисто идеологическими соображениями. Но, в отличие от голода на Украине, голод в Казахстане не был организован преднамеренно. В конце 1932 года для оказания помощи Казахстану выделили два миллиона фунтов зерна[44] – меньше, чем полфунта (200 г) на человека, но больше, чем впоследствии получила Украина.
Высказывалось, однако, предположение, что, увидев, как эффективно не запланированный никем казахстанский голод подавил сопротивление местного населения политике советской власти, Сталин воспользовался этим средством, чтобы расправиться потом с Украиной.
* * *
В официальном отчете компартии и правительства Казахстана (в то время не опубликованном), направленном ЦК ВКП/б/ 19 ноября 1934 года, говорится: «Голод в скотоводческих районах, принявший большие размеры в 1932-м и в начале 1933 года, в настоящее время ликвидирован», а также указывается, что миграция за границу и «бродяжничество казахов-скотоводов» прекратились[45].
Что касается «бродяжничества», то лишь 30 процентов полумиллионного населения, которое было насильно переведено на оседлый образ жизни в 1930–1932 гг., считалось полностью оседлым, имеющим землю, амбары, орудия труда. Около 25 процентов тех, кого заставили осесть в 1930–1932 гг., снова стали кочевать, правда, теперь уже без скота, уже к концу 1932 года[46]. Эта миграция была обусловлена отчаянием, полным разрушением общественных и экономических основ жизни. В конце 1933 года новые, не имеющие собственности кочевники все еще составляли 22 процента казахского населения[47]. Согласно расчетам, в 1930–1931 гг. 15–20 процентов казахского населения покинуло республику: 300 000 ушло в Узбекистан, остальные – в другие республики советской Средней Азии или в Китай. В официальных источниках говорится о «массовой миграции»[48]. Тех, кто ушел в соседние среднеазиатские республики, ждала та же судьба, что и тех, кто остался дома; многие из них, отчаявшись, действительно вернулись на старые места[49].
На Семнадцатой партконференции, состоявшейся в феврале 1934 года, трудности коллективизации в Казахстане были объяснены в основном тем, что не удалось, мол, как следует перевести кочевников на оседлый образ жизни. Но тем или иным способом, а к 1936 году 400 000 семейств все же «осели» (хотя для них было выстроено всего 38 000 новых жилищ!).[50]
После этой победы уступка местным условиям была отменена, и в 1935 году ТОЗы превратили в обычные артели. К 1938 году в Казахстане была завершена коллективизация в своей классической форме.
* * *
Голод, вызванный переходом кочевников к оседлости, собрал обильную дань также в Киргизии (из общего числа сельских хозяйств в 167 000 кочевыми там было 82 000; на оседлый образ жизни перешло 44 000 хозяйств, для них было выстроено 7 895 домов и три бани)[51] и среди татарского и башкирского населения Западной Сибири. Крупный челябинский партработник[52] рассказывал иностранному коммунисту: «Голод сослужил нам хорошую службу на Урале, в Западной Сибири и в Заволжье. В этих районах потери в результате голода коснулись в основном враждебных нам народностей. Их место заняли русские, бежавшие из центральных областей. Мы, конечно, не националисты, но не стоит недооценивать этого благоприятного факта». (Следующий год показал, что Сталин разделял эту точку зрения, причем не только по отношению к данным национальным меньшинствам, но и по отношению – и еще в большей степени – к украинцам.) Высокую смертность башкир и других мусульманских азиатских народов челябинский партработник объяснял в значительной степени их неспособностью перейти от кочевой жизни к оседлой, согласно установкам пятилетки.
Хрущев рассказывает в своих мемуарах, как в 1930 году он поехал в колхоз возле Самары, где жили в основном чуваши: там царил голод.[53] Еще восточнее не менее 50 тысяч бурятов и хакасцев бежало в Китай и Монголию[54]. В Калмыкии, обладавшей сходной с Казахстаном структурой экономики, погибло (по расчетам) около 20 000 человек, то есть примерно 10 процентов населения, причем между 1926-м и 1939 годом количество калмыков-кочевников возросло на один процент (даже по сомнительным данным «переписи» 1939 года). В апреле 1933 года калмыцкий коммунист Араш Чапчаев с болью говорил на съезде местных советов, что процветавшие прежде деревни опустели, а оставшиеся в них жители голодают. Он призвал к роспуску колхозов[55] и вскоре исчез. Сообщается о большом числе калмыцких «кулаков», например, в лагере «Северный» на Урале в начале 30-х годов, но к середине лета 1933 года большинство их погибло.[56] Бывшие кочевники, «не совершившие особых преступлений», были выселены и отправлены на работу в шахты и на лесозаготовки. Им было очень тяжело привыкать к новой немясной пище и еще труднее, чем русским крестьянам, осваивать непривычные орудия труда[57].
В Монголии, являвшейся формально независимым государством – не «социалистической», а «народной» республикой, – но фактически находившейся под полным контролем Москвы, тоже была объявлена коллективизация. К началу 1932 года монголы потеряли 8 миллионов голов скота, то есть треть всего поголовья. В мае 1932 года им дали команду изменить курс и прекратить коллективизацию.[58]
Рассматривая советские азиатские территории, стоит остановиться на замечательной истории казаков, издавна поселившихся вдоль пограничных рек Амура и Уссури, подобно тому, как еще раньше они расселились по Кубани и Дону. В 1932 году посланный в казачьи деревни партработник нашел их дома брошенными буквально накануне, причем жители явно уходили впопыхах, кое-где остались домашние животные и вещи. Было выдвинуто объяснение, что все казачье население en masse[*] перешло замерзшие пограничные реки вместе с большей частью собственности, спасаясь от раскулачивания и надвигающегося голода. По другому берегу реки были поселения казаков, бежавших раньше за границу, и казаки, ушедшие с советской территории, теперь присоединились к их, как им казалось, привлекательной жизни[59].
Судьба азиатского населения СССР в период проведения коллективизации и раскулачивания частично совпадает с судьбой крестьян европейской части. Однако здесь имеется ряд особых черт, обусловленных географическими и культурными различиями. В сфере экономики применение теоретических построений партии к казахскому народу, а в меньшей степени к другим кочевым народам, привело к навязыванию нормально функционирующему социальному организму новых, чуждых ему стереотипов и имело катастрофические последствия. С чисто человеческой точки зрения оно принесло гибель и чудовищные страдания пропорционально большей части народа, чем на Украине.
Глава десятая. Церкви и люди
Но конец еще не настал.
Св. МатфейЦерковь была, несомненно, одной из существенных составляющих деревенской жизни. К тому же церковь олицетворяла собою иное, нежели насаждаемое режимом, понимание жизни.
Официальной доктриной советской власти являлся атеизм; коммунистическая партия считала религию своим врагом – факты эти известны почти всем и провозглашались коммунистическими лидерами бесчисленное количество раз. Процитируем одно такое заявление, отличающееся особой решительностью и (учитывая имя автора и беспрестанное печатание данного отрывка во всех собраниях его сочинений) авторитетностью.
В письме Ленина Максиму Горькому от 13/14 ноября 1913 года содержится знаменитый пассаж, откровенно выражающий отношение партии к религии:
«…всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость… самая опасная мерзость, самая гнусная „зараза“. Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки».
В другом письме Горькому, написанном несколько дней спустя, Ленин резюмирует:
«…всякая, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции».
При таком отношении возможны различные способы борьбы с враждебными верованиями. За все время существования советской власти генеральная линия режима заключалась в том, что религия отомрет по мере исчезновения породившего ее классового общества; в теории считалось, что бороться с религией следует методами убеждения, а не силой, однако на практике применялись оба эти подхода. Различные этапы антирелигиозной кампании, которую постоянно вела партия, отличались друг от друга по степени и средствам давления, избираемым ею в каждый конкретный момент.
Ведь для партии желательно создать видимость гибкости внутри страны и еще важнее добиться поддержки или хотя бы не вызывать враждебности за рубежом, где часть потенциональных[*] сторонников Советской России отдавала дань «религиозным предрассудкам». Отсюда обычное лицемерие, характерное и для других областей жизни, а также (в зависимости от политических требований момента) и видимость веротерпимости, и унижение церкви или контроль над ней, хотя, как правило, не переходившие в откровенное удушение.
Существуют разные точки зрения на силу и природу религиозных верований российского крестьянства. Некоторые исследователи полагают, что крестьяне сильнее всего держались за древние, полуязыческие предрассудки. Однако это справедливо также и для западноевропейского крестьянства; к тому же эти представления, хоть и являющиеся формально нехристианскими, на практике все же не оказывались несовместимыми с верностью христианству – такова вообще эклектическая природа человека.
Другие ученые находят, что среди крестьян России, привязанных к церковным ритуалам, были распространены антиклерикальные настроения во всем, что касалось служителей культа. Даже если это и так, крестьяне все же с возмущением относились к попыткам закрыть церкви, которые они считали своими и воспринимали как центр деревенской жизни. Когда же священники превратились в преследуемое меньшинство, а наиболее слабые из них подчинялись диктату властей или вообще отреклись от религии, крестьянские массы почти повсеместно сплотились вокруг большинства священников, пытавшихся защитить свою веру и образ жизни.
Наконец, если даже марксистский взгляд на религию верен и она представляет собой не более чем мнимое утешение в эпоху, когда реального облегчения ждать не приходится, – то и тогда, начиная с 1929 года, в стране возникли весьма благоприятные именно для такой религии условия. Известно высказывание одного крестьянина-скептика: «Сейчас слишком рано отменять религию… если бы жизнь была другая, если бы кто-нибудь по справедливости воздавал тебе за все, что с тобой происходит, тогда ты бы чувствовал себя лучше и не нуждался в вере»[1].
В настоящей главе проблема религии в СССР рассматривается не во всей широте и сложности, а лишь в тех ее аспектах, которые, с одной стороны, связаны с раскулачиванием и коллективизацией, а с другой – с кампанией против украинского национализма.
* * *
Перед Октябрьской революцией православная церковь охватывала номинально около 100 миллионов членов, имела 67 епархий и 54 457 церквей, где отправляли богослужение 57 105 священников и дьяконов, а также 1 498 монастырей, насчитывавших 94 629 монахов, монахинь и послушников обоего пола.
Первая советская конституция, принятая 10 июля 1918 года, гарантировала «свободу религии и антирелигиозной пропаганды».
Таким образом, религия и атеизм имели на этом этапе теоретически равные «права», хотя очевидно, что сторона, пользующаяся поддержкой государственной машины, прессы и прочими вытекающими отсюда преимуществами, находилась в лучшем, нежели ее противники, положении.
Деятельность церквей подверглась также некоторым формальным юридическим ограничениям. Собственность, принадлежавшая религиозным учреждениям, была национализирована без всякой компенсации, а местным органам власти было дано право предоставлять церквам «здания и предметы, необходимые для церковной службы», однако эти помещения могли использоваться также другими группами граждан в светских целях. Церкви были подчинены тем же правовым нормам, что и другие организации, но им было запрещено «взимать обязательные сборы и пошлины», а также «принуждать или наказывать» своих членов (формулировки, допускающие различные интерпретации).
Согласно 65-й статье конституции 1918 года, священники и духовные лица объявлялись «прислужниками буржуазии» и лишались избирательных прав. По этой причине они либо вовсе не получали продовольственных карточек, либо получали карточки самой низшей категории, их детей не принимали в учебные заведения, кроме начальных школ, и т.д.
Декрет от 28 января 1918 года запрещал преподавание религии в школах, хотя разрешалось «изучать и преподавать религиозные предметы в частном порядке». Последний пункт подвергся дальнейшим ограничениям: в указе от 13 июня 1921 года запрещалось любое групповое религиозное обучение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
Церковные земли были конфискованы вместе с помещичьими, и поскольку эти земли принадлежали центральной церкви и высшей духовной иерархии, крестьяне приветствовали это решение. Однако большая часть церковных владений фактически принадлежала отдельным приходам, и приходские священники либо сами обрабатывали землю, либо нанимали работников, либо сдавали ее в аренду крестьянам.
Почти все монастыри были закрыты, а их имущество конфисковано. Сообщалось о том, что крестьяне крайне неохотно выгоняли из монастырей монахинь[2] (а монахинь в России было в три раза больше, чем монахов).
Борьба с церковью, разумеется, не ограничивалась юридическими и конституционными мерами; к 1923 году было убито 28 епископов и более 1000 священников, а многие церкви были закрыты или разрушены.
В феврале 1922 года был издан указ об обязательной сдаче всех религиозных предметов из золота, серебра или драгоценных камней в целях борьбы с голодом. Позднее Сталин с похвалой отзывался о мудрой тактике Ленина, использовавшего голод для конфискации церковных ценностей – во имя голодающих масс, ибо иначе такое постановление было бы весьма сложно провести[3]. Но крестьяне оказали на сей раз активное сопротивление, сообщалось примерно о 1400 схватках вокруг церквей[4]. В апреле–мае 1922 года за контрреволюционную деятельность, связанную с этими бунтами, было отдано под суд 54 человека (православные священники и ряд мирян), и пятеро из них были казнены. Три месяца спустя за сходные «преступления» были казнены митрополит Петроградский и трое других подсудимых.
Патриарха Тихона арестовали, и была основана новая «Живая церковь», взявшая на себя управление церковными делами. 84 епископа и более 1000 священников были изгнаны из своих епархий и приходов. Однако у «Живой церкви» нашлось слишком мало сторонников, поэтому в следующем году партийное руководство, успевшее обвинить патриарха Тихона в «сношениях с иностранными державами и контрреволюционной деятельности», освободило его из заключения и пришло с ним к соглашению.
С эпохой НЭПа наступило ослабление нападок на церковь, что представляется логичным или, по меньшей мере, понятным. Здесь, как и в других сферах, период до 1928 года был сравнительно безмятежным. По переписи 1926 года в деревне все еще имелось более 60 000 рукоположенных священников и других духовных лиц, отправлявших различные религиозные культы, то есть священник был почти в каждой деревне; к концу 1929 года только в РСФСР существовало еще около 65 000 церквей всех толков.
С другой стороны, в период НЭПа появились новые, мирные формы нажима на церковь. В 1925 году был образован Союз воинствующих безбожников, ставивший своей целью помочь партии «в объединении всей антирелигиозной пропагандистской работы под общим руководством партии». Союз издавал несколько журналов, организовал 40 антирелигиозных музеев, 68 антирелигиозных семинаров и т.п. Одновременно таким организациям, как профсоюзам и Красной армии, также было предписано развернуть в их среде антирелигиозную пропаганду.
После смерти патриарха Тихона в апреле 1925 года временный глава церкви митрополит Петр был арестован и отправлен в Сибирь. Его преемника митрополита Сергия тоже арестовали, затем выпустили и снова арестовали. Из 11 церковных иерархов, назначенных местоблюстителями патриаршего престола, 10 вскоре оказались в тюрьме. Но это упорное сопротивление показало правительству необходимость компромисса, и в 1927 году с митрополитом Сергием был достигнут новый «модус вивенди»[*] после чего его выпустили на свободу.
* * *
С началом этапа новой борьбы с крестьянством было, видимо, принято решение возобновить атаку на церковь, особенно в деревне.
В течение лета 1928 года антирелигиозная кампания усилилась, и в следующем году немногие еще действовавшие монастыри были почти все закрыты, а монахи – отправлены а ссылку.
Постановление от 8 апреля 1929 года запрещало религиозным организациям учреждать фонды взаимопомощи, оказывать материальную помощь своим членам, «организовывать особые богослужения или другие встречи для детей, юношества, женщин или общие религиозные собрания с целью изучения Библии, литературы, ремесел и пр., а также любые другие группы, филиалы или кружки; организовывать экскурсии или детские площадки, открывать библиотеки, читальные комнаты, санатории или оказывать медицинскую помощь». Фактически деятельность церкви была сведена к отправлению богослужений[5].
22 мая 1929 года была внесена поправка в 18-ю статью конституции: вместо «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» она теперь провозглашала «свободу богослужения и антирелигиозной пропаганды»; одновременно народный комиссариат просвещения вместо нерелигиозного обучения приказал проводить в школах резко антирелигиозное обучение.
И все же религия процветала. В отчетах ОГПУ за 1929 год указывается, что религиозные чувства усилились даже среди промышленных рабочих: «Даже те рабочие которые не признавали священников в прошлом году, в этом году признали их».[6]
Летом 1929 года ЦК ВКП/б/ созвал конференцию по антирелигиозным вопросам[7]. В июне 1929 года состоялся Всесоюзный съезд воинствующих безбожников. На протяжении последующего года нападки на религию усиливались из месяца в месяц по всему Советскому Союзу.
Продиктованная тактическими соображениями сдержанность сменилась у партийных активистов открытым проявлением подлинно ленинских антирелигиозных инстинктов. Общий согласованный штурм церквей начался в конце 1929 года и достиг своего апогея в первые три месяца 1930 года.
* * *
Кампания раскулачивания послужила сигналом к нападкам на церковь и отдельных священников. Распространенный тогда партийный лозунг гласил: «Церковь – это кулацкий агитпроп».[8] Власти клеймили позором крестьян, которые «поют припев 'Все мы дети божьи' и утверждают, что среди них нет кулаков»[9].
Священников обычно выселяли в первую волну выселения кулаков.[10] Определение кулацкого хозяйства, опубликованное правительством в мае 1929 года, включало в себя хозяйства, члены которых имеют нетрудовые доходы, а священники относились к таковым. (Партийные агитаторы, занимавшиеся сравнимой деятельностью, напротив, считались «рабочими».)
Особенно сурово относились власти к тем якобы существовавшим «кулацким организациям», которые имели связи со священниками. «Это имело особо опасные последствия, поскольку наряду с открытыми врагами советской власти в этих заговорах часто было замешано значительное число религиозных крестьян – середняков и бедняков, которых одурачили священники».[11] Имеется официальный отчет об одном казусе 1929 года, когда священник, несколько кулаков и группа середняков обвинялись в срыве хлебозаготовок; расстрелян был лишь священник, кулаков приговорили только к тюремному заключению[12].
Один арестованный священник, которому пришлось пройти пешком 35–40 миль (70 км) от его села Подвойское до города Умани (в обществе других арестантов, из которых один убил свою жену, а другой украл корову), рассказывает, как поносил его конвойный: «Послушать его, так священники были большими преступниками, чем грабители и убийцы».[13] А вот другая характерная для того времени история (из Запорожской области): 73-летний священник был арестован и скончался в мелитопольской тюрьме; церковь, в которой он служил, превратили в клуб. Сельский учитель, сын другого арестованного священника, тоже был арестован и исчез.[14]
В 1931 году мариупольская духовная семинария была закрыта, а в ее помещении организовали общежитие для рабочих. Неподалеку от него оцепили колючей проволокой обширный участок, куда согнали 4000 священников и небольшое количество других заключенных. Они занимались тяжелым физическим трудом, получая скудный паек, и ежедневно несколько человек умирало[15].
Опасность грозила не только священникам, но всем, кто имел прежде глубокую связь с церковью. Когда в 1929 году в селе Михайловка на Полтавщине разрушили церковь, глава церковного совета и шестеро его членов были приговорены к десятилетнему тюремному заключению[16].
Крестьянина могли лишить избирательных прав, а потом и раскулачить только за то, что его отец был некогда церковным старостой[17]. Дети одного председателя церковного совета, приговоренного в 1928 году к десяти годам заключения, подвергались разного рода преследованиям. Им отказывали в документах, необходимых для ухода из села; в колхозе им редко давали работу, да и то, в основном, самую низкооплачиваемую. В конце концов они тоже попали в тюрьму.[18]
* * *
Местные органы ГПУ сообщали, что в одном из сел Западной губернии «священник… открыто выступил против закрытия церкви»(!)[19]. Но не только священники пытались спасти церкви. «Многие крестьяне, далеко не самые зажиточные в деревне, пытались помешать разрушению церквей, их тоже арестовывали и выселяли. Сотни тысяч людей пострадали в период коллективизации не из-за своего социального положения, а из-за своих религиозных верований»[20].
Крестьяне, как правило, выступали не только против закрытия церкви, но также поднимались на защиту преследуемого священника. В советской печати рассказывалось о таком, например, случае в деревне Маркыча: сельского священника обязали внести штраф – 200 бушелей (50 центнеров) зерна – крестьяне принесли ему все это зерно в течение получаса.[21]
Здесь мы сталкиваемся с практикой удушения церкви (так же как и зажиточных крестьян) с помощью нарастающих налогов; едва священник успевал с огромными трудностями внести налог, как с него требовали новый.[22] Атеистический журнал с удовлетворением отмечал, что «налоговая политика советской власти особенно больно бьет по карману религиозных культов»[23].
В селе Пески (Старобельский район) сначала обложили церковь огромным налогом. Крестьяне выплатили его. После этого районное начальство велело сельскому руководству ликвидировать церковь. Теперь священнику было предписано выполнить очень высокую норму по мясозаготовкам.
Село снова выполнило за него это предписание. Районные власти потребовали, чтобы священнику вторично спустили повышенную норму мясозаготовок. На сей раз село не справилось. Тогда священника обвинили в подрывной деятельности, в сопротивлении советской налоговой системе и приговорили к пяти годам принудительного труда; наказание он отбывал на шахтах Кузбасса и оттуда уже не вернулся. Церковь закрыли[24].
Часто сельскую церковь, которую успели закрыть во время первых коммунистических атак 1918–1921 гг., уже больше не открывали. В одном селе крестьяне почитали такую закрытую церковь и не давали разрушить ее, когда в 1929 году возобновилась антирелигиозная кампания. Но в феврале 1930 года с помощью пожарников из соседнего города церковь все же сломали.[25]
Коллективизация обычно сопровождалась закрытием церкви. Иконы конфисковывали и сжигали вместе с другими предметами религиозного культа.[26] В секретном письме губкома Западной губернии от 20 февраля 1930 года говорится о пьяных солдатах и комсомольцах, которые, «не подготовив массы, самовольно закрывали деревенские церкви, ломали иконы и угрожали крестьянам».[27]
Кампания закрытия церквей касалась всех религий. Украинский журнал того времени писал:
«В Харькове было решено закрыть церковь Св. Димитрия и передать ее в распоряжение общества мотористов.
В Запорожье решено закрыть синагогу на Московской улице и превратить лютеранскую кирху в клуб немецких рабочих.
В Винницком районе решено закрыть Немировский монастырь и примыкающие к нему церкви.
В Сталинском районе решено закрыть римско-католическую церковь и превратить армяно-григорианскую церковь города Сталино в Клуб рабочих Востока.
В Луганске закрыт собор Св.Михаила, церковь Св.Петра и Св.Павла, а также церковь Спасителя. Все освободившиеся здания использованы для культурно-просветительских целей».[28]
Когда церкви закрывались, это, конечно, не означало что разрешалось вести какую-либо религиозную работу в других местах. Закрытие в Харькове девяти главных церквей сопровождалось решением «предпринять надлежащие шаги с тем, чтобы предотвратить молитвенные собрания в частных домах после закрытия церквей».[29]
Вот еще один характерный пример: «В селе Вильшана Сумской губернии было две церкви: одна каменная, другая деревянная. Каменную церковь разрушили, а камень использовали для мощения дороги. Деревянную церковь сожгли».[30]
Иногда церкви закрывали по принятому под большим нажимом решению сельсовета. Но часто такая тактика давала осечку, даже вопреки арестам и другим «мерам». Как при обсуждении вопроса о коллективизации, решения «сельских сходов» были нередко фальсифицированными, ибо на них присутствовали одни местные активисты. Подчас те же активисты шли на штурм религиозных твердынь безо всякого прикрытия какими-либо законно принятыми решениями. Так, в одном селе сперва арестовали старост, затем активисты сняли с церкви крест и колокола, и, наконец, в антирелигиозном угаре ворвались внутрь церкви, сожгли иконы, книги и архивы, а кольца и церковные облачения тем временем украли. Здание церкви приспособили под зернохранилище.[31]
В другом селе партийный уполномоченный просто получил приказ в течение 48 часов превратить церковь в зернохранилище. Новость разнеслась по селу как лесной пожар, вспоминал партиец много лет спустя. Десятки крестьян, бросив работу в поле, кинулись в поселение. Видя, как из церкви выносят предметы богослужения, они плакали, умоляли, ругались. Их задевало не только святотатство, во всем происходящем они чувствовали прямое оскорбление своего человеческого достоинства.
«– Они отняли у нас все, – произнес один старик. – Ничего нам не оставили, а теперь забирают наше последнее утешение. Где мы будем крестить своих детей и хоронить мертвых? Куда обратимся в беде за утешением? Разбойники! Безбожники!
В следующее воскресенье на улице появился секретарь комсомольской ячейки, глупый прыщеватый парень по прозвищу Чиж. Он играл на балалайке, распевая антирелигиозные частушки, его подружка подпевала. Это не выглядело так уж необычно, но на обоих были надеты ярко-красные шелковые рубахи, подпоясанные золочеными шнурами. Крестьяне сразу распознали ризы и церковные украшения. Возмущение их не знало предела. Спасаясь от грозящего им самосуда, двое комсомольцев со всех ног кинулись бежать. Только то, что они сумели добежать до кооперативного магазина быстрее гнавшихся за ними крестьян, спасло их от самосуда разъяренной толпы»[32].
Сопротивление крестьян нередко принимала решительный характер. Партия, разумеется, связывала это с кулацкой борьбой.
Вокруг антирелигиозной работы, пишет украинская газета, кипит ожесточенная классовая борьба. «Кулаки и их попутчики используют все возможные средства, чтобы затормозить антирелигиозную пропаганду, остановить массовое движение за закрытие церквей и снятие колоколов… Попы и их защитники-кулаки пользуются любой возможностью, чтобы остановить антирелигиозный поток, они надеются с помощью отсталых элементов и особенно женщин разжечь борьбу против массового антирелигиозного движения».
Так, например, в селе Бирюха, «когда комсомольцы, бедняки и местные активисты начали, не подготовив предварительно массы, снимать церковные колокола», кулаки, успевшие принять меры, стали избивать молодежь, а потом с криками и улюлюканьем двинулись к помещению сельсовета и подожгли его.
В настоящее время в Бирюхе ведется судебное расследование этого инцидента…»[33]
«Бабьи бунты» тоже были тесно связаны с борьбой вокруг религии. «Правда» писала о «нелегальных собраниях и демонстрациях крестьянок, проводившихся под религиозными лозунгами». Одна из таких демонстраций в Татарской АССР силой вернула на место церковные колокола, снятые до этого властями!»[34]
А украинская печать сообщала в 1930 году о «вспышках религиозной истерии среди колхозниц», последовавшей за религиозными шествиями. В селе Синюшин Брод «утром 6 ноября, когда было решено снимать колокола, несколько сот женщин, подговоренных кулаками и их прихвостнями, собрались возле церкви и сорвали запланированную работу. Тридцать женщин заперлись в колокольне и в течение целого дня и двух ночей били в набат, наводя страх на все село.
Женщины никого не подпускали к церкви, угрожая каждому подходящему забросать его камнями. Когда на место прибыли глава сельсовета с сотрудниками милиции и приказали женщинам прекратить звонить в колокола и разойтись по домам, те стали бросать в них камни. Позже к распоясавшимся женщинам присоединилась группа подвыпивших мужчин.
Впоследствии выяснилось, что регент церковного хора, несколько кулаков и их друзья ходили накануне этого события по домам и подговаривали людей прийти к церкви, чтобы не допустить снятия колоколов. Эта агитация повлияла на некоторых простодушных женщин»[35].
* * *
Вопрос о церковных колоколах, который так часто фигурирует в этих отчетах, представляет собой интересный тактический момент. Партийное руководство иногда требовало выдать колокола, якобы необходимые для проведения индустриализации, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Рассчитывали, что такие действия не вызовут очень уж серьезного сопротивления; часто эти расчеты оказывались ошибочными.
Впрочем, иногда снятие колоколов и закрытие церкви происходили одновременно. Местные газеты приводят десятки резолюций сельских сходов о закрытии всех церквей и передаче колоколов в фонд индустриализации.[36] «Рабочие и крестьяне одного из районов Одесской губернии отправили на завод два вагона церковных колоколов». Кампания (или, как именует ее «Правда» – «движение») за «снятие церковных колоколов в целях индустриализации», действительно «ширилась»[37]. 67 деревень уже выполнили «акцию», а общее число «атеистических сел», по подсчетам, превысило сотню.[38] К 1 января 1930 года колокола были сняты со 148 церквей в одном только Первомайском районе.[39]
11 января 1930 года «Правда» поместила «рапорт» гигантского колхоза с Урала, где торжественно заявлялось, что все колокола на его территории пущены на лом, а также, что во время праздника Рождества сожжено значительное число икон[40].
2 марта 1930 года Сталин в своей статье «Головокружение от успехов» критиковал снятие колоколов, относя его к числу «перегибов». Таким образом, эта статья означала изменение курса партии не только в отношении принудительной коллективизации, но и на «религиозном фронте».
К середине марта 1930 года, через несколько недель после опубликования сталинской статьи, ЦК ВКП/б/принял резолюцию, где осуждались не только «искривления» в борьбе за создание колхозов, но и «административное закрытие церквей без согласия большинства населения деревни, что обычно ведет к усилению религиозных предрассудков». Местные партийные комитеты получили указание приостановить закрытие церквей, замаскированное под добровольное волеизъявление населения.[41]
Затем, как и с коллективизацией, наступила короткая передышка, а потом давление снова усилилось, став только более организованным и жестоким. К концу 1930 года было закрыто 80 процентов всех сельских церквей страны.
* * *
Разрушая церкви, часто уничтожали уникальные художественно-культурные памятники.
Монастырь Святой Троицы в селе Демидовка (на Полтавщине) был основан в 1755 году. В 1928 году его превратили в библиотеку, а в 1930 году – снесли, использовав камень для строительства амбаров и табачного склада в соседнем колхозе «Петровский». Колокола, иконы и другие ценности монастыря растащили активисты. Крестьян, возражавших против закрытия монастыря, арестовали и отправили в новый исправительный лагерь Яйва, созданный на Урале в 1930 году.[42] В сельской церкви села Товкачевка (Черниговской губернии) вместе с другими старинными реликвиями были уничтожены церковные архивы, восходящие к 16-му веку.[43] Подобные примеры можно множить и множить.
Академия Наук СССР была вынуждена лишить статуса охраняемого государством исторического объекта почти все исторические памятники, связанные с религией. Даже в Кремле сносили церкви и монастыри. Рассказывают, что все архитекторы возражали против сноса Иверских ворот и часовни на Красной площади, но тогдашний руководитель Московской парторганизации Каганович заявил: «Мое эстетическое чувство требует, чтобы колонны демонстрантов из шести московских районов вступали на Красную площадь одновременно».[44]
До революции в Москве было 460 православных церквей. К первому января 1930 года число их снизилось до 224, а к первому января 1933 года – примерно до 100.
Казанский собор в Ленинграде превратили в антирелигиозный музей. В Киеве снесли Десятинную церковь 10-го века, древние Михайловский и Братский монастырь, а заодно и десяток других зданий 12-го – 18-го веков. Подобное варварство творилось повсюду. Но даже если древние соборы сохраняли, превратив их в музеи, никто за ними не следил и они разрушались, а древние росписи забеливали известкой.
В Софийском соборе и других киевских церквах открыли музеи или антирелигиозные центры. (Желающим получить представление о разрушениях, причиненных памятникам, мы рекомендуем ознакомиться с фотографиями в книге «The lost architecture of Kiev» Д. Геврика, изданной в Нью-Йорке в 1982 году). В Харькове церковь Св. Андрея была превращена в кинотеатр, другая церковь – в радиостанцию, третья – в склад запчастей. В Полтаве две церкви приспособили под зернохранилище, третью – под механические мастерские.
В повести В.Распутина «Прощание с Матерой» с болью рассказано об уничтожении кладбищ, разрушавшем связь между живыми и мертвыми, что, по мнению автора, является одним из самых страшных проявлений бездумной модернизации.[45] К примеру, многие евангелисты из поволжских немцев писали о том, как им трудно умирать без пастора, кирхи, христианского обряда похорон.
Немалое замешательство вызвала гарантия свободы вероисповедания в новой советской конституции 1936 года. Многие крестьянские старосты, особенно из староверов и евангелистов, обращались в сельсоветы с просьбой зарегистрировать их, им отвечали, что необходимо собрать под прошением 50 подписей. Подписи собирали, а потом всех подписавшихся арестовывали как членов тайной контрреволюционной организации.[46]
* * *
Сходные методы применялись по отношению ко всем религиям. В европейской части СССР официальные постановления обычно включали одновременно «церкви и синагоги», в мусульманских республиках преследовали ислам, в Бурятии наступление на буддизм тоже совпало с коллективизацией.[47]
Власти сначала до некоторой степени покровительствовали протестантам, поскольку их религия шла как бы вразрез с более традиционными культами, но вскоре выяснилось, что и они опасны. В 1928 году в стране насчитывалось 3219 евангелических конгрегаций, в которых было 4 миллиона членов. В следующем году правительство начало против них длительную кампанию. Их теологическое училище (основанное в декабре 1927 года) было закрыто. В феврале 1929 года в Минске была разоблачена «банда баптистских шпионов» из 25 человек, работавших якобы на Польшу; почти одновременно другая аналогичная группа была арестована на Украине. Во время коллективизации руководителей евангелических общин исключали из колхозов, объявляли кулаками и в большинстве случаев выселяли.[48]
В 1931 году вся евангелическая церковь как таковая была осуждена как «замаскированная контрреволюционная кулацкая организация, получающая финансовую поддержку из-за границы»[49].
Но хотя правительство преследовало все без исключения церковные организации и все они потеряли большую часть своих приверженцев, но объявлены вне закона и полностью разрушены были лишь две – Украинская автокефальная православная церковь и Украинская греко-католическая церковь (униаты восточного обряда); впрочем, последняя, наибольшее количество сторонников которой проживало в Западной Украине, относившейся тогда к Польше, объявлена вне закона была уже после захвата Западной Украины.
* * *
Украинскую православную церковь, возглавлявшуюся митрополитом Киевским и всея Руси, связанную традиционными узами с патриархом Константинопольским, безо всяких консультаций и согласия с ее стороны передали в 1685–1686 гг. в подчинение московскому патриарху. Однако она сохранила автономию и право избирать собственного митрополита. В 1721 году ранг главы церкви был понижен с митрополита до архиепископа. Позднее, в 18-м веке, украинская обрядность была русифицирована, церковно-славянскую литургию повелели произносить на русский лад, ввели русские церковные облачения.
На протяжении всего последующего периода на Украине бродило недовольство этими нововведениями, а с подъемом украинского национального движения украинские православные семинарии в Киеве и Полтаве стали перед самой революцией рассадниками национальной агитации.
В 1917–1918 гг. значительная часть православных священников Украины отложилась[*] при поддержке Украинской Центральной Рады от московского патриарха и восстановила Украинскую автокефальную церковь с богослужением на украинском языке.
В октябре 1921 года Украинская автокефальная церковь провела в Киеве свой первый собор, делегатами которого были как духовные, так и светские лица, среди последних было немало известнейших украинских ученых, писателей, композиторов и других видных деятелей. В первое время советское правительство преследовало Украинскую православную церковь не более других религиозных течений и даже несколько покровительствовало ей, стремясь ослабить русскую православную церковь. Но скоро положение стало меняться.
В секретной инструкции ОГПУ от октября 1924 года обращается внимание на «постоянно растущее влияние» Украинской автокефальной церкви и говорится, что ее митрополит Василий Липковский и его помощники «давно известны» как тайные распространители украинского сепаратизма. Сотрудников ГПУ на Украине предупреждали, что это представляет «особую опасность для советской власти» и следует поэтому принять неотложные меры, в том числе «увеличить число секретных осведомителей среди верующих, а также привлечь самих священников для секретной работы в ОГПУ».[50]
Предпринимались попытки расколоть Украинскую автокефальную церковь, но все они провалились, а к 1926 году она насчитывала 32 епископа, более 3000 священников и около 6 миллионов верующих.
В 1926 году Украинской автокефальной церкви был нанесен первый удар – в начале августа был арестован митрополит Липковский. Чтобы добиться формального смещения митрополита, его под стражей отправили на церковный собор, состоявшийся в октябре 1927 года. После того, как он отказался добровольно оставить свой пост, а большинство делегатов отказались сместить его, многих из них арестовали. Даже после этого не смогли добиться проведения голосования за уход митрополита, но в протоколы собора было включено фальсифицированное решение об «освобождении митрополита от занимаемого поста ввиду его преклонного возраста».
Преемника Липковского Николая Борецкого на специальном съезде, созванном по инициативе ГПУ 28–29 января 1930 года, заставили подписать документ о роспуске автокефальной церкви. Однако под влиянием протестов из-за рубежа осуществление этого решения было отложено; и на соборе, состоявшемся 9–12 декабря 1930 года, митрополитом Украинской автокефальной православной церкви стал Иван Павловский. Но с тех пор организованная работа церкви стала невозможной. Впоследствии осколкам ее, составлявшим 300 приходов, позволили переформироваться в Украинскую православную церковь, но к 1936 году был уничтожен последний из ее приходов.
На процессе «Союза вызволення Украины», который проходил в 1930 году, подсудимым было предъявлено особое обвинение в организации ячеек внутри Украинской автокефальной православной церкви, а ее высших иерархов обвинили в сотрудничестве с Союзом.[51] Из 45 обвиняемых на этом процессе свыше двадцати являлись священниками или сыновьями священников, а одной из самых заметных фигур был Владимир Чехивский, в прошлом член центрального комитета украинской социал-демократической партии, глава правительства Украинской республики, оставивший политику ради богословия и ставший видным деятелем автокефальной церкви, хотя он отказывался замять пост епископа.
«Труппа церковников», участвовавшая в заговоре, якобы давала указания священникам вести среди крестьян агитацию против советской власти, утверждалось также, что участники группы втянули церковь в планы организации вооруженного мятежа, поскольку многие священники в прошлом являлись офицерами петлюровских войск.
Стиль проведения кампании становится ясен по одному из многочисленных отчетов из деревни: «В селе Кислоомут Ржишевского района органы ГПУ вскрыли контрреволюционную организацию прихожан церкви и кулаков. Работа организации направлялась представителями Украинской автокефальной церкви. Все главари группы арестованы».[52]
Сообщалось также об аресте примерно 2400 приходских священников. Согласно весьма характерному для той поры отчету, за период с октября 1929-го по февраль 1930 года в полтавских тюрьмах находилось 28 священников, пятерых из них расстреляли, один сошел с ума, остальных отправили в лагеря.[53]
В 1934–1936 гг. последние очаги деятельности Украинской церкви были окончательно задушены. Все последовательно сменявшие друг друга митрополиты скончались в застенках НКВД. Митрополит Липковский был повторно арестован и исчез в феврале 1938 года в возрасте 74 лет; митрополит Борецкий был арестован в 1930 году, отправлен в тюремный изолятор в Ярославле, затем печально известный Соловецкий лагерь на Белом море, а в 1935 году доставлен в психбольницу тюремного типа в Ленинграде, где и умер в 1936-м или 1937 году. Митрополит Павловский был арестован в мае 1936 года и исчез.
Между 1928-м и 1938 гг. в советских тюрьмах погибло 13 архиепископов и епископов Украинской автокефальной церкви[54], а в общей сложности за этот и последующие периоды в лагерях погибло 1150 священников и около 20 000 членов приходских и районных церковных советов. Из всех епископов автокефальной церкви выжило только двое, один из них стал впоследствии митрополитом Украинской автокефальной церкви в США, другой – епископом чикагским.
Но переход украинской церкви в подчинение Москвы означал не только замену кадров священников. Он сопровождался практически полным разрушением сельских церквей на Украине – как автокефальных, так и «русских».
В 1918 году под давлением национальных настроений на Украине российская православная церковь предоставила своему украинскому отделению значительную автономию, во главе его был поставлен экзарх. Русская православная церковь оставалась численно самой большой на Украине, поскольку в республике проживало значительное русское меньшинство, а кроме того, эта церковь имела много традиционных приходов в селах; общее их число равнялось в 1928 году 4900. Русскую православную церковь на Украине постигла общая судьба. В 1937 году был арестован экзарх Константин, а к 1941 году уцелело всего пять приходов.
В общем итоге к концу 1932 года на Украине было закрыто более тысячи церквей. Но решительное наступление было еще впереди – оно произошло в 1933–1934 гг., и в 1934–1936 гг. на Украине разрушили примерно 75–80 процентов еще остававшихся церквей.[55] В Киеве с сотнями его церквей в 1935 году действовали лишь две маленькие церкви.
Что же касается украинских католиков-униатов, то их неустанно преследовали еще при царизме (несмотря на подписание многочисленных гарантий). К 1839 году униатская церковь в Российской империи была разгромлена, хотя закон о веротерпимости, принятый в 1905 году, вновь разрешил деятельность католиков-неуниатов. На первом этапе существования советской власти к ним относились с особой подозрительностью, и в 1926 году на нескольких процессах католические священники были осуждены как «польские шпионы». Тем временем униаты процветали в той части Украины, которая находилась под управлением Австрии, а когда в 1918 году эти территории отошли к Польской республике, они также продолжали свободно исповедовать свою религию. Установление в этих районах советской власти в ходе Второй мировой войны повлекло за собой насильственное «возвращение» украинских униатов в лоно православной церкви.
Архиепископ и епископы были арестованы, а в апреле 1945 года их участь разделили около 500 священников. В марте 1946 года несколько епископов были преданы суду за «сотрудничество с нацистами». Суд проходил при закрытых дверях, а после него обвиняемых отправили в трудовые лагеря.
Профессора трех униатских семинарий и члены орденов (в том числе и монахини) были почти поголовно арестованы. Семинарии, а также 9900 начальных и 380 средних униатских школ было закрыто, а выпуск 73 униатских печатных изданий запрещен.[56]
Затем состоялся сфабрикованный церковный съезд, на котором кучка продажных священников провозгласила отложение от Рима и принятие православия. Католики ушли в подполье и все еще влачат жалкое существование «в катакомбах». В советской печати не раз появлялись рассказы о продолжении подпольной деятельности католической церкви, возглавляемой тайными священниками. В ноябре 1963 года сообщалось даже о существовании во Львове подпольного женского монастыря[57], а число протестов, поддельных публикаций и арестов скорее растет вплоть до сегодняшнего дня, нежели идет на убыль.
Во всех русско-польских войнах православные на Украине всегда резали католиков и наоборот. Одна из поразительных особенностей 19-го и в еще более сильной степени 20-го столетия – это терпимость в отношениях между двумя украинскими церквами – автокефальной православной церковью Восточной Украины и католической униатской церковью Западной Украины. Обе они были уничтожены коммунистическим режимом, но не погибли окончательно и могут, даже весьма вероятно, когда-нибудь воскреснуть.
Установление советской власти и коллективизация деревни сопровождались репрессиями против церквей, служивших крестьянину в течение тысячи лет; там, где церковь являлась непосредственным выражением самостоятельного существования нации, режим, поскольку это было в его власти, полностью уничтожал церковь. Страдания, причиненные советской властью крестьянину, а также (и в частности) украинскому народу, не исчерпывались лишь физическими мучениями.
Часть III. Террор голодом
В мире есть царь.
Этот царь беспощаден.
Голод – названье ему.
Н.НекрасовГлава одиннадцатая. Штурм Украины (1930–1932 гг.)
Земля эта наша, что не наша.
Т. ШевченкоКогда в 1929–1930 гг. Сталин начал наступление на крестьянство, он возобновил нападки на Украину и ее национальную структуру, дискриминация которой была временно приостановлена в 20-е годы.
Академик Сахаров пишет о «характерной для Сталина украинофобии»; однако с коммунистической точки зрения это украинофобия не выглядит иррациональной. Огромная страна оказалась под коммунистическим контролем. Но не только ее народ не примирился с системой – представители национальной культуры, даже многие коммунисты, признали власть Москвы весьма условно. С точки зрения партии, это было предосудительно и чревато будущей опасностью.
В 1929–1930 гг., сокрушив правых и развязав политику коллективизации и раскулачивания, которая приняла особенно жестокие формы на Украине и вызвала там самое сильное сопротивление, Сталин был почти готов к тому, чтобы открыть клапаны своей враждебности ко всем аналогичным центробежным тенденциям.
Уже в апреле 1929 года ОГПУ организовало процессы над украинскими националистами, направленные против небольших групп. В течение того же года имели место публичные нападки на самых выдающиеся украинских академиков. В июле были арестованы 5 тысяч членов мнимой подпольной организации, «Союза вызволения Украины» (СВУ), о котором говорилось выше.
С 9 марта по 20 апреля 1930 года проходил цикл сфабрикованных процессов против известных украинцев с показательными публичными заседаниями суда в Харьковской опере. Судили 45 мнимых членов СВУ. Это в большинстве своем были бывшие политические деятели распавшихся партий, ставшие теперь учеными, критиками, писателями, лингвистами, возглавлявшими научные школы, адвокатами и особенно священниками.
Главной фигурой среди них был академик Сергей Ефремов, ученый-лингвист и лексикограф, один из тех, кто сохранил самосознание украинца в последние годы царизма. Он был вице-президентом Всеукраинского конгресса, созванного Радой в апреле 1917 года, и главой социалистов-федералистов.
Другим бывшим социалистом-федералистом был Зиновий Марголис, еврей-адвокат и член Украинской академии наук. Большинство остальных ведущих участников этих процессов были академиками или писателями того же толка, либо бывшими членами социал-демократических и социал-революционных партий или беспартийными, сторонниками независимой украинской республики, подобными, например, историку Осипу Гермейзу, писателям Михайле Ивченко и Людмиле Старицкой-Черняховской, лингвисту Григорию Голоскевичу и другим.
Признаний добивались обычными методами, и обвиняемые приговаривались к длительным срокам заключения. В связи с процессом было объявлено, что лингвистические институты Украинской академии наук закрыты и некоторые ученые арестованы[1]. Аресты для процессов СВУ производились по обвинению не только в заговоре с целью захвата власти, но и в работе над чистотой украинского языка и сохранением его от засорения русизмами. Такова и на самом деле была лингвистическая задача, поставленная этим ученым Скрыпником и другими украинскими коммунистами. Примечательно, что в своих вынужденных «обличениях» Скрыпник обвинял лингвистов из СВУ в том, что их профессиональная работа являлась якобы «прикрытием» для подрывных действий – никак не увязывая ее с мнимым лингвистическим саботажем[2].
Размах чистки был очень широк. Студенты из Киева и других городов Украины после окончания процессов, где их обвиняли в причастности к сфабрикованному заговору, оказывались в Соловецких лагерях[3]. Заслуживает внимания тот факт, что многие «ячейки» заговора были обнаружены в селах; известно также, что в марте 1930 года украинцы, служившие в Первом сибирском кавалерийском корпусе, были арестованы по обвинению в измене или антисоветской пропаганде.[4]
В феврале 1931 года последовали новые аресты интеллектуалов – в основном взяты были известные люди, вернувшиеся из ссылки в 1924–1925 гг. Им инкриминировалось образование «Украинского национального центра» во главе с наиболее выдающимся в республике человеком – историком Грушевским, а также бывшим премьером независимой Украины Голубовичем – ныне одним из главных заговорщиков. Грушевского подвергали нападкам больше года. Мы располагаем сведениями, что в середине 20-х годов, когда его книга «История Руси – Украины» еще только намечалась к запрету, циркуляр ОГПУ инструктировал своих сотрудников брать на заметку всех, кто проявлял интерес к этой книге.[5]
Большинство членов «Украинского национального центра» были в прошлом социал-революционерами. Им приписывали высокие звания, к ним пристегивали сообщников. На этот раз, однако, не было публичных (открытых) процессов. Большинство обвиняемых были отправлены в лагеря, а сам Грушевский просто выслан с Украины и взят под домашний арест.
Все эти меры стали решающими в походе на украинизацию. Они свелись к уничтожению всей старой интеллигенции, которая примирилась с советским режимом в рамках программы сохранения самобытной украинской культуры.
В 1931 году настала очередь новой коммунистической интеллигенции Украины, и началась очередная фаза разрушения всего того, что было в расцвете в конце 20-х годов (к разговору об этом мы вернемся в 13-й главе).
* * *
Первое нападение на украинскую интеллигенцию предшествовало общему наступлению на крестьянство. Сталин отчетливо понимал, что если средоточием и голосом украинского национального существования являлась интеллигенция, то опорой было крестьянство, которое поддерживало его веками. «Обезглавливание» нации путем лишения ее выразителей чаяний и устремлений – в этом была суть вопроса, и позднее оно безусловно служило мотивом и для Катыни[*], и для выборочной депортации из балтийских стран в 1940 году. Но, похоже, Сталин понимал, что лишь массовый террор против самого тела нации – то есть против крестьянства – сможет привести к покорности Украины. Его идеи относительно связи между национальностью и крестьянством сформулированы совершенно четко: «Национальная проблема есть прежде всего проблема крестьянская».[6]
И действительно, одной из официально объявленных задач коллективизации на Украине было «уничтожение социальной базы украинского национализма – частного землевладения».[7]
Как мы видели, «заговор» СВУ распространили на деревню. Известно, что многие сельские учителя были в связи с этим расстреляны[8]. В одном из районов расстреляли как заговорщиков СВУ председателя райисполкома, главврача района и др., включая крестьян[9]. Имеется множество сведений о подобных случаях.
После проведенной кампании Косиор подвел итоги: «Националистический уклон в компартии Украины… сыграл исключительную роль в создании и углублении кризиса в сельском хозяйстве».[10] Как сказал в одном из своих выступлений всеукраинский глава органов Балицкий, «в 1933 году рука ОГПУ ударила по двум направлениям. Сначала по кулаку и петлюровским элементам на селе, а затем по ведущим центрам национализма».[11]
Таким образом, кулака обличили как носителя националистических идей, а националиста, в свою очередь, как вдохновителя кулацких настроений. Но в каком бы качестве не рассматривали украинского крестьянина, он, безусловно, был режиму особо неугоден. Как известно, и сопротивление коллективизации тоже было сильнее или, по крайней мере, более активным на Украине, чем в собственно России[12]. Генерал Григоренко считает, что поскольку неудача первой попытки коллективизации была в значительной степени результатом массового сопротивления ей на Украине и Северном Кавказе, то Сталин пришел к выводу, что именно они являются наиболее упорствующими, непокорными районами и подлежат уничтожению.[13] (Один из наблюдателей полагает, что среди многих иных причин особой враждебности украинцев коллективизации значится и тот факт, что украинские колхозы были большими по размеру и поэтому еще более обезличенными и бюрократизированными, чем в России.)[14]
Тем более, что на Украине коллективизация была проведена полнее, чем в РСФСР: к середине 1932 года 70 процентов украинских крестьян были охвачены колхозами по сравнению с 59,3 процента в России.
Сталин поэтому несколько раз предостерегал от «идеализации коллективных хозяйств»: само их существование, утверждал он, не означает исчезновения классового врага. Напротив, классовая борьба теперь будет происходить внутри колхозов.
К этому времени каждого, кто так или иначе, при любом логическом анализе, подпадал под понятие «кулак», уже изъяли. Теперь террор голодом должен был целиком направляться против тех рядовых середняков, которых уже коллективизировали, и еще на уцелевших единоличников, еще более бедных. Иными словами, новый террор не был составной частью процесса коллективизации, которая к тому времени была практически завершена. Тем не менее, как ни парадоксально, но еще сохранялись кулаки, хотя и не были они больше в открытой оппозиции к коллективным хозяйствам: «Сегодня, – объяснял Сталин, – антисоветские элементы – это люди „тихие“, „добрые“, почти „святые“. И добавлял при этом, что „кулак побежден, но не уничтожен целиком“.[15]
* * *
Но не только крестьян недостаточно подчинили. Украинские коммунисты тоже являлись для Сталина камнем преткновения. Даже в 1929 году украинские партийные и советские организации с особым упорством оспаривали нереалистические посевные планы и были очень уж нерадивы в выявлении кулаков. В Кагарлицком районе Киевского округа «все руководители, вплоть до секретаря райкома, поддерживали линию кулаков: „У нас нет кулаков, у нас только крестьяне“[16]. Не только районные власти, но вся украинская компартия подвергалась нападкам в «Правде» в сентябре 1929 года за сопротивление плану на будущий год, «особенно по сельскохозяйственным культурам»; в течение всей осени газеты публиковали протесты различных местных организаций, мотивирующих свое несогласие тем, что ничего не останется на потребление. Запорожское бюро жаловалось, что 70–75 процентов всех поставок падает на середняков и бедняков, не оставляя им «ни единого килограмма» для продажи местному населению. В результате подобных заявлений был снят секретарь обкома.[17]
Однако замещение должностных лиц, уволенных в периоды чисток, наталкивалось на аналогичные трудности. Те или иные революционные перемены в сельской местности достигались лишь с помощью строжайших мер партийной дисциплины. А когда дело доходило до размеров реквизиции зерна, то само Политбюро Украины и ее Центральный Комитет только и делали, что пытались сократить поставки. Но проблема состояла в том, что при коммунистической системе управления и в соответствии с правилами «демократического централизма» (согласно которым расправились с правыми), если на чем-то настаивала Москва, украинские лидеры вынуждены были подчиняться.
Как мы уже видели, планы госпоставок составлялись на основе учета общего числа теоретически возможных посевных площадей, помноженных на максимально высокий урожай с каждого гектара. Уже в отставке Хрущев обрушивался на эту систему, при которой партийный функционер или само государство «устанавливало норму для всего района».[18]
Методы дезавуирования подобных возражений уже тогда были разработаны, и потому в партии преобладала точка зрения, что стратегия крестьян сводилась к утайке зерна с целью обрушить на города голод; или (позднее) – к тому, чтобы сорвать жатву или посев, надеясь на собственные запасы продовольствия. Правильной классовой реакцией, как и в 1918–1921 гг., казалось отобрать у крестьян зерно и тем самым заставить их самих голодать. Уже летом 1930 года один из деятелей ЦК Украины рассказывает о заседании, на котором Косиор сказал им:
«…крестьянин прибегает к новой тактике. Он отказывается снимать урожай. Он добивается гибели хлебного злака, чтобы задушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача остановить кулацкий саботаж сбора урожая. Вы должны заставить кулака собрать все до последнего зернышка и немедленно отправить все собранное на пункты сдачи. Крестьяне отказываются работать. Они рассчитывают на зерно прошлых сборов, которое они припрятали в своих погребах. Мы должны заставить их открыть их ямы».[19]
Этот деятель, выходец из села, знал очень хорошо, что ямы, полные зерна, – это миф. Они действительно существовали в начале 20-х годов, но с тех пор давно исчезли[20]. В более общем смысле угроза Косиора уже являет собой образец мышления сталиниста и будущую сталинскую программу в ее окостенелой перспективе.
В обычных обстоятельствах Украина и Северный Кавказ поставляли половину всего рыночного зерна. В 1926 году, в год лучшего перед коллективизацией урожая, 3,3 миллиона тонн зерна (21 процент от общего урожая) было получено государством с Украины. При хорошим урожае 1930 года на Украине взяли 7,7 миллиона тонн госпоставок (то есть 33 процента урожая); и хотя на долю Украины приходилось только 27 процентов от всего советского урожая зерна, ее заставили сдать 38 процентов всех зерновых поставок.
В 1931 году те же 7,7 миллиона тонн с Украины потребовали уже при урожае только в 18,3 миллиона тонн, то есть 42 процента (около 30 процента зерна было потеряно в силу неэффективности коллективной жатвы). Известно, что украинское руководство пыталось убедить Москву снизить размеры поставок, но безуспешно.[21] Обращались и к отдельным московским лидерам; в 1931 году Микоян посетил Южную Украину, ему было сказано, что собрать с крестьян больше зерна уже невозможно[22].
Практически было собрано только 7 миллионов тонн. Но это уже означало, что, исходя из прежних стандартов, на Украину в конце весны 1932 года надвигался голод: в среднем приближении 250 фунтов зерна оставалось на душу сельского населения Украины.
Нет нужды говорить, что все отклонения от принятого курса вели к дальнейшим чисткам в партии: они проводились в ряде районов в январе 1932 года, неизменно по поводу плохой работы в области сельского хозяйства или правого оппортунизма. Жалобы на то, что положение Украины «позорно отсталое» и тому подобное, постоянно присутствовали в центральной московской прессе. С января по июль 1932 года я нашел 15 таких замечаний в одной только «Правде».
В июле были приняты жизненно важные решения, которые неизбежно повели к катастрофе последующих восьми месяцев. Сталин опять потребовал внести в план поставок 7,7 миллиона тонн зерна – при урожае, который условия коллективизации свели к двум третям урожая 1930 года (14,7 миллиона тонн), хотя в некоторых районах падению урожайности способствовала плохая погода. В каких-то районах была засуха, однако ведущий советский специалист по проблемам засухи[23] отмечает, что она не была такой страшной, как в 1936-м, неголодном году, да и центр ее лежал вне Украины. Но даже урожай 1932 года обычно изображается как сам по себе достаточно хороший (например, он был выше, чем урожай 1928 года), если бы его произвольно и насильственно не конфисковали. Украинским лидерам было совершенно ясно, что предлагаемые размеры реквизиций непросто завышены, а совершенно невыполнимы. После долгого препирательства украинцы сумели добиться снижения цифры поставок до 6,6 миллиона тонн – но и это количество собрать тоже было далеко за пределами возможного.
Происходило это с 6 по 9 июля 1932 года на Третьей Всеукраинской конференции компартии Украины, где Молотов и Каганович представляли Москву. Открыл конференцию Косиор. Некоторые районы, сказал он, «испытывают серьезную нехватку продовольствия». И он отметил, что «некоторые товарищи склонны объяснять имеющиеся трудности в весенней посевной кампании завышенными планами зерновых поставок государству, которые они считают нереальными… Другие говорят, что наш темп и наши планы чересчур напряженные». И он многозначительно добавил, что подобная критика планов поставок исходит не только с периферии, но и из ЦК Украины.[24] Более того, всем должно быть ясно, что если государству действительно нужно зерно, то его можно получить путем более справедливого распределения тягости поставок, поскольку производство зерна, в целом по Союзу выше, чем в прошлом году (см., например: «Народное хозяйство СССР, 1958 г.» Москва, 1959).
Скрыпник сказал на конференции открыто, что крестьяне жаловались ему: «У нас отобрали все»[25]. Косиор, Чубарь и другие также утверждали, что цифры поставок зерна завышены.[26] По словам «Правды», глава советского правительства Украины Чубарь считал, что частично затруднения объяснялись согласием колхозов на нереалистические планы. Он добавил, явно обращаясь к более высоким кругам: «Порочно соглашаться с приказом, не взирая на его осуществимость, а потом искажать политику партии, нарушать революционную законность и порядок, разорять хозяйство колхозов, оправдывая все это приказами сверху».[27]
Тем не менее, Молотов назвал попытки свалить на нереалистичность планов «антибольшевистскими» и заключил свое выступление словами: «Не будет никаких уступок или колебаний в вопросе выполнения задачи, поставленной партией и советским правительством».[28]
В действительности 6,6 миллиона тонн зерна так никогда и не были собраны, несмотря на любые меры, как это и предвидел Чубарь. Единственным, хотя и малым утешением явилось снижение норм поставок масла с Украины с 16 400 до 11 214 тонн (на 14 июля 1932 года) – решением Экономического совета Украины, без сомнения, принятым односторонне.[29]
* * *
Итак, по настоянию Сталина, вышел указ, который, войдя в силу, мог привести только к одному исходу – к голоду крестьянства Украины. Об этом ясно заявили Москве сами коммунистические власти Украины. Но, вопреки всему, Кремль требовал в следующие месяцы неукоснительного его исполнения, и любые попытки местных властей обойти или смягчить указ рано или поздно оказывались сломлены.
Уже в июле 1932 года дело обстояло плохо. Позднее стало еще хуже. Время от времени украинские власти предпринимали попытки добиться каких-то улучшений: например, чтобы сохранить трудоспособность рабочей силы, ЦК компартии Украины приказал в районах, уже страдавших от голода, выдавать хлеб и рыбу только работающим на полях. О представителях сельской власти, которые раздавали пищу всем голодающим, в официальном отчете было сказано, что они «разбазаривают хлеб и рыбу».[30]
Чтобы добиться выполнения указа об охране социалистической собственности, на полях были установлены сторожевые вышки.[31] «Если поле было ровным и гладким, то вышка ставилась на четырех высоких столбах, покрытых небольшим деревянным или соломенным настилом. На настил взбирались по высокой лестнице. Если на поле росло высокое дерево, то под ним вбивали в землю два столба, чтобы на них установить настил прямо на ветки дерева. Такие вышки ставились на опушках леса. Старый дуб или другое высокое дерево служили основанием для настила без всяких подпорок. На вышки ставили охранников, вооруженных, как правило, дробовиками».[32]
Первые госпоставки были сданы в августе, при этом во многих районах нормы выполнялись с огромным трудом. Это привело к полному истощению деревни. С этого времени население 20 тысяч сел Украины жило в ожидании неведомого, но все более грозного будущего. В советском романе хрущевского времени описаны его первые внешние признаки:
«Ранняя осень 1932 года в Кохановке была не похожа на все другие. Не было тыкв, тяжелые головы которых свисали бы по плетню до самой земли. Паданки груш и яблок не катились по дорожкам. На стернях не лежали оставленные для кур колосья пшеницы или кукурузы. Печи изб не изрыгали вонючий дым, самогона не варили. Не было никаких иных видимых признаков, привычно знаменующих мирное течение крестьянской жизни и спокойное ожидание зимы, которая принесет достаток».[33]
12 октября 1932 года два ответственных русских аппаратчика были присланы сюда для укрепления местной партии из Москвы: А.Акулов, заместитель начальника ОГПУ, и М.М.Хатаевич, известный своими успехами в сталинской коллективизации на Волге, – предвестники грядущей беды.
В это же время было объявлено о вторых госпоставках, хотя собирать было уже практически нечего. К 1 ноября план поставок был выполнен только на 41 процент.
Люди уже мерли. Но Москва, далекая от того, чтобы сократить свои требования, достигла теперь подлинного крещендо в своей кампании террора голодом.
Глава двенадцатая. Буйство голода
Указ требовал того, чтобы крестьяне Украины, Дона и Кубани вымерли вместе со своими малыми детьми.
Василий ГроссманУкраинские крестьяне, видевшие депортацию кулаков, говорили: «И мы, дураки, думали, что нет худшей судьбы, чем судьба кулаков»[1]. Теперь, спустя два года, они оказались перед лицом самого смертельного из всех когда-либо наносимых ударов режима.
Июльский указ, установивший цифры госпоставок зерна для Украины и Северного Кавказа, теперь был подкреплен новым указом от 7 августа 1932 года, который обеспечивал законность санкций в поддержку конфискации зерна у крестьян.
Как уже отмечалось в главе восьмой, указ постановлял, что колхозная собственность, такая как скот и зерно, отныне приравнивалась к государственной собственности, «священной и неприкосновенной». Виновные в посягательстве на нее будут рассматриваться как враги народа и приговариваться к расстрелу, который при наличии смягчающих вину обстоятельств может быть заменен тюремным заключением сроком не менее десяти лет с конфискацией имущества. Крестьянки, подобравшие несколько зерен пшеницы на колхозном поле, получали меньшие сроки. Декрет постановлял также, что кулаки, которые пытались «заставить» крестьян выйти из колхозов, должны приговариваться к заключению в «концентрационные лагеря» на срок от пяти до десяти лет. Как мы уже видели, в январе 1933 года Сталин назвал этот декрет «основой революционной законности на текущий момент» и сам его сформулировал[2].
Как всегда, активисты, сначала поощряемые к максимальному террору, задним числом потом обвинялись в «перегибах», и Вышинский с возмущением заявлял, что «некоторые представители местной власти» восприняли этот указ как сигнал к тому, «чтобы убивать или загонять в концентрационные лагеря как можно больше народу». Он упомянул случаи, когда за кражу двух снопов кукурузы приговаривали к смертной казни, и развлек аудиторию рассказом о молодом человеке, приговоренном к десяти годам заключения за «то, что резвился с девочками ночью в хлеву, нарушая покой колхозных свиней».[3]
Но и до опубликования августовского указа в украинской прессе можно было прочесть такие сообщения: «Недремлющее око ГПУ обнаружило и приговорило к суду фашистского саботажника, который прятал хлеб в яме под стогом клевера»[4]. После же указа мы видим, как постоянно возрастает степень применения закона, его суровость и сфера приложения. За один только месяц в харьковском городском суде было вынесено 1500 смертных приговоров[5].
Украинская пресса постоянно помещала статьи о смертной казни «кулакам», которые «систематически похищают зерно». В Харьковской области в пяти судах слушалось 50 таких дел, и в Одесской области происходило нечто подобное: в прессе подробно описывались три случая кражи снопов пшеницы; одна супружеская пара была приговорена к расстрелу просто за никак не расшифрованное «хищение». В селе Копань Днепропетровской области банда кулаков и подкулачников просверлила дырку в полу амбара и похитила много пшеницы: два человека были расстреляны, остальных приговорили к заключению. В селе Вербки той же области перед судом предстали председатель сельсовета и его заместитель, а также председатели двух колхозов с группой из восьми кулаков. К расстрелу приговорили только трех кулаков[6]. В селе Новосельская (Житомирская область) один крестьянин был расстрелян за то, что у него обнаружили 25 фунтом пшеницы, собранной на полях его десятилетней дочерью.[7]
К десяти годам заключения приговорили за «кражу картофеля.[8] Женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что она срезала сто початков зреющей кукурузы со своей же собственной делянки; за две недели до этого ее муж умер от голода. За такое же преступление к 10 годам приговорили отца четырех детей.[9] Другую женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что она собрала десять луковиц на колхозной земле[10]. Советский ученый упоминает случай приговора к 10 годам принудительных работ без права на помилование и с конфискацией всего имущества за сбор 70 фунтов колосьев пшеницы, чтобы накормить семью.[11]
Тех, кто совершал меньшие нарушения, отправляли в «отряды заключенных» при государственных хозяйствах, где им выдавали небольшую норму хлеба. Но там они могли воровать продукты, такие как помидоры, и поэтому обычно не стремились из этих отрядов бежать.[12] В целом только случайная неразбериха, некомпетентность или намеренное попустительство могли защитить от жестокости нового закона. Так, в одном из районов Черниговской области арестовывали за утайку пяти или более килограммов зерна. Колхозник из колхоза «Третий решающий год» в селе Пушкарево Днепропетровской области был приговорен только к пяти годам заключения (очевидно, ему было предъявлено обвинение в нарушении другого закона) после того, как у него дома нашли бутыль с его собственным зерном[13].
Женщина, арестованная вместе с одним из сыновей за попытку срезать немного ржи у себя на участке, смогла убежать из тюрьмы. Забрала второго сына, взяла несколько простыней, спички и кастрюли и жила почти полтора месяца в соседнем лесу, воруя по ночам с полей картофель и зерно. Когда она вернулась домой, то обнаружилось, что в суматохе предстоящей жатвы о ее преступлении забыли.[14]
Рассказывают о случаях, когда людей судили на основании других, хотя и не менее жестоких указов: в селе Малая Лепетиха, около Запорожья, расстреляли несколько крестьян за то, что они съели труп лошади. Видимо, так поступили потому, что лошадь была больна сапом, и ГПУ опасалось эпидемии.[15] Известно несколько подобных сообщений.
* * *
Чтобы привести в исполнение эти указы, были снова задействованы местные активисты и снова в поддержку им мобилизовали членов партии и комсомола, присланных из городов.
Как и в деле высылки кулаков, активисты с недостаточно взнузданной совестью оказались перед отталкивающей необходимостью навязывать волю партии невинным мужчинам, женщинам и детям. Но в 1930 году в той мере, в какой это зависело от активистов, вопрос стоял о лишении имущества или о выселении. Сейчас речь шла о смерти.
Некоторые активисты, даже те, у которых раньше была дурная слава, старались добиться справедливого отношения к крестьянству.[16] Иногда порядочный партийный активист, особенно из тех, кто утратил иллюзии относительно намерений партии, как-то мог помочь селу – для этого ему приходилось изворачиваться, чтобы, с одной стороны, не возбудить подозрений начальства, а с другой – не дать повода наиболее яростным из своих подчиненных выступить против него. Иногда кто-нибудь из таких «яростных» чрезмерно превышал отпущенный властями уровень жестокости (или коррупции) и мог быть смещен. Немного чаще мог пройти незамеченным незаконный возврат продуктов крестьянам, особенно если последующий хороший урожай побуждал губернские власти оставлять такой проступок без внимания.
Некоторые активисты доводились всем происходящим до вызывающего неповиновения. Один молодой коммунист, посланный в деревню Мерефа Харьковской области, доложил по телефону, что он может выполнить госпоставки мяса, но только человеческими трупами. Затем он исчез из этих мест[17].В другом селе (где во время революции сочувствовали большевикам и на базе которого были созданы «Красные партизаны» Струка) группа молодых активистов пережила разочарование и в 1933 году отрубила голову ведущему сельскому коммунисту.[18]
* * *
В 1932 году, уже после серии чисток прошлых лет, доведенные до крайности некоторые председатели колхозов и местные партийные деятели решили больше не отступать ни на шаг. В августе 1932 года, когда стало очевидно, что выполнить план по зерну невозможно, в селе Михайловка Сумской губернии произошли беспорядки. Председатель колхоза, член партии и бывший партизан по фамилии Чуенко, объявил односельчанам о спущенном плане и сказал, что не намерен отдавать зерно без согласия членов колхоза. В ту же ночь он покинул деревню, но был схвачен ОГПУ и арестован вместе с председателем сельсовета. На следующий день в деревне вспыхнул «бабий бунт». Женщины потребовали освобождения обоих председателей, снижения налогов, выплаты недоплаченных трудодней и снижения зернопоставок. 60 человек было осуждено, включая Чуенко, который был приговорен к расстрелу.[19]
Всю вторую половину этого года пресса постоянно обрушивалась на председателей колхозов и местных коммунистов, которые «примкнули к кулакам и петлюровцам и из борцов за зерно превратились в агентов классового врага»[20]. Среди прочего, их обвинили в раздаче зерна в уплату за рабочие дни.[21] Современный советский ученый рассказывает о таком факте: в 1932 году «некоторые колхозы Северного Кавказа и Украины сумели избежать организованного давления партии и государства».[22]
Той же осенью украинская компартия опять жаловалась на колхозы, которые распределили «все зерно… весь урожай» среди местных крестьян[23]. Такого рода поступки были расценены Хатаевичем как акция, «направленная против государства».[24] Печатный орган украинской компартии обрушился в ноябре на секретарей местных партячеек в селах Катериновцы и Ушаковцы, отказавшихся выполнять приказы о сборе зерна; подобные акции не были единичными.[25]
Пресса обличала колхозных председателей и в других проступках: многие не открыто противостояли приказам сверху, но прибегали к различным ухищрениям, чтобы обойти эти распоряжения. Некоторые, например, пытались укрывать зерно, списав его по всевозможным статьям[26]. Центральные партийные органы продолжали разоблачать «пассивно-лицемерные связи между некоторыми парторганизациями и кулацкими оппортунистами» на Украине[27]. В целом это сопротивление связывалось теперь с последней внутрипартийной попыткой противостоять Сталину, так называемой «контрреволюционной группировкой Рютина»[*]: «Правые агенты кулачества до сих пор еще не разоблачены и не изгнаны из партии».[28]
В украинском декрете говорилось о «группе сельских коммунистов, которые возглавляли саботаж:»[29]. Печатный орган комсомола обличал «коммунистов и комсомольцев», которые «крали зерно…и действовали как организаторы саботажа…»[30] Харьковский областной комитет разослал строго секретные циркуляры, предупреждавшие, что если показатели поставок зерна не увеличатся, то все, кто за это отвечает, будут «вызваны для дачи показаний непосредственно в районный отдел ОГПУ».[31]
За пягь месяцев 1932 года 25–30 процентов среднего управленческого аппарата в сельском хозяйстве было арестовано[32]. Зимой 1932–1933 гг. коммунистическая пресса Украины объявила о многих случаях исключения из партии, а иногда и арестах как рядовых членов компартии Украины, так и официальных лиц районного масштаба.[33] Вот типичный случай пассивного сопротивления и типичный же путь расправы: один председатель колхоза произвел массовые обыски, ничего не нашел и объявил: «Зерна нет. Никто не скрыл его, никто не получал его незаконно. Поэтому план поставок выполнять нечем». В результате его самого обвинили в организации преступной кражи зерна»[34].
* * *
Несмотря на все «отклонения», кампания продолжалась. Неудовлетворительных коммунистов ликвидировали, заменив более подходящими.
К тому времени на более низком, рядовом уровне активисты «бригад», называвшихся на Украине «буксирными бригадами», мало чем отличались от обычных головорезов. Их техника работы сводилась к избиению людей и к поиску зерна с помощью специально выпущенного для этого инструмента, «щупа» – стального прута толщиной в пять восьмых дюйма в диаметре, длиной от трех до десяти футов, с рукояткой на одном конце и острием или подобием сверла – на другом[35].
Описание, приводимое одним из жителей деревни, дает общую картину: «Бригады эти имели следующий состав: член правления сельсовета или просто депутат, два-три комсомольца, один коммунист и местный учитель. Иногда в них включали председателя или члена правления сельпо, а во время летних каникул и нескольких студентов.
В каждой бригаде был так называемый «специалист» по поиску зерна. Он был вооружен вышеупомянутым щупом, с помощью которого прощупывал и прокалывал все в поисках спрятанного зерна.
Бригада переходила из дома в дом. Сначала они входили в дом и спрашивали: «Сколько зерна у вас есть для правительства?» «Нет нисколько. Не верите, ищите сами», – следовал обычный короткий ответ.
Так начинался обыск. Искали в доме, на чердаке, погребе, кладовке и в сарае. Потом переходили во двор, в коровник, свинарник, амбар, на сеновал. Они измеряли печь и прикидывали, достаточна ли она велика, чтобы вместить зерно за кирпичной кладкой. Они ломали балки чердака, поднимали пол в доме, перекапывали весь двор и сад. Если какое-то место казалось им подозрительным, то в ход шел лом.
В 1931 году еще были случаи утайки зерна, которое находили при обыске, обычно 100 фунтов, иногда 200. Но уже в 1932 году такого не было ни разу. Большее, что могли найти, – это 10–20 фунтов, отложенных для кур. Но даже этот «излишек» отбирался[36].
Один из активистов рассказывал физику Александру Вайсбергу: «…борьба с кулаками была очень трудным временем. В меня дважды стреляли в деревне, один раз ранили. Скольку буду жить, не забуду 1932 год. Крестьяне с опухшими конечностями лежали в своих землянках без всякой помощи. Каждый день выносили новые трупы. И все-таки нам приходилось как-то добывать хлеб в деревнях, чтобы выполнить план. Со мной был мой друг. Его нервы были недостаточно крепкими, чтобы вынести все это. „Петя, – сказал он однажды, – если таков результат сталинской политики, разве она может быть правильной?“ Я строго отчитал его за это, и на следующий день он пришел ко мне извиняться…»[37]
Даже здесь нашлись такие, что были хуже всех прочих. Один активист так описал «акции» в украинском селе: «В некоторых случаях они были милосердными и оставляли немного картофеля, гороха, зерна для прокорма семьи. Но те, педантичные исполнители, мели все подчистую. Такие забирали не только продукты и живность, но „все ценное и излишки одежды“, включая иконы в окладах, самовары, расписные ковры и даже металлическую кухонную посуду, которая могла ведь оказаться серебряной. И все деньги, которые обнаруживали в заначке».[38]
* * *
Разумеется, агенты государства и партии не страдали от голода, они получали хороший паек. Лучшие из них иногда отдавали продукты крестьянам, но общая установка была такая: «От тебя будет мало проку, если ты с кнутом в руке испытываешь жалость. Нужно научиться есть самому, когда вокруг мрут от голода. Иначе некому будет собирать урожай. Всякий раз, когда у тебя чувства преобладают над разумом, надо сказать себе: „Единственный путь покончить с голодом – обеспечить следующий урожай“.[39] Результат был всегда таков (как описывала его жена мужу в армию)): «Почти все в деревни опухли от голода, кроме председателя, бригадиров и активистов»[40].
Сельские учителя могли получать 18 килограммов муки, два килограмма круп и килограмм жира в месяц. После школы они обязаны были поработать «активистами», чтобы дети из их классов видели учителей врывающимися по ночам в их дома вместе с остальной бандой[41].
На ранних стадиях голода в больших селах, где подобные факты легче скрывать, женщины ради еды соглашались на сожительство с партийными чиновниками[42]. А в районных центрах партийные чиновники просто роскошествовали. Вот описание столовой для них в Погребищах:
«День и ночь ее охраняла милиция, отгоняя голодных крестьян и их детей от ресторана… В этой столовой по очень низким ценам районному начальству подавали белый хлеб, мясо, птицу, консервированные фрукты (компоты) и сладости, вина и деликатесы. В то же время работники столовой получали так называемый „микояновский паек“, состоявший из двадцати различных наименований продуктов. А вокруг этого оазиса свирепствовали голод и смерть».[43]
Что касается городов, то в мае 1933 года двое местных партийных секретарей устраивали в Запорожье пышные оргии для правящей городской верхушки – это стало известно позднее, когда в период ежовщины все они были арестованы и во всех этих злоупотреблениях обвинены[44].
* * *
Как в городе, так и в деревне официально поощрялась и идеологизировалась жестокость. Наблюдатель (сторож) на Харьковском тракторном заводе видел, как старика бросившего работу, прогнали со словами: «Пошел вон, старик… катись помирать в поле!»[45]
В селе Харсин Полтавской области женщину на седьмом месяце беременности избили доской за то, что она рвала в поле озимую пшеницу. Вскоре после этого она умерла[46]. В Бильске той же области вооруженный часовой застрелил Настю Слипенко, мать троих детей, жену арестованного, за то, что она ночью выкапывала колхозную картошку[47]. Трое ее детей умерли с голоду. В другой деревне этой же области сын крестьянина, у которого экспроприировали все имущество, был забит до смерти сторожем-активистом за то, что собирал кукурузные початки на колхозном поле[48].
В Малой Бережанке Киевской области председатель сельсовета расстрелял семь человек, из них троих детей четырнадцати и пятнадцати лет (двух мальчиков и девочку), застав их за сбором зерна в поле. Правда, он был посажен в тюрьму и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых работ[49].
Теперь бригады производили официальные обыски каждые две недели.[50] Уже забирали картофель, горох, свеклу[51]. Если ты не выглядел голодающим, это вызывало подозрение. В этих случаях активисты вели обыск особенно тщательно, уверенные в том, что в доме есть спрятанные продукты. Однажды активист после такого обыска в хате крестьянина, который как-то сумел не опухнуть от голода, в конце концов нашел мешок муки, смешанной с корой и листьями, и высыпал ее в деревенский пруд.[52]
Есть несколько свидетельств тому, как жестокие члены бригад настаивали на том, чтобы умирающих свозили на кладбище вместе с трупами, чтобы сократить число ездок. В течение нескольких дней дети и старики лежали живыми в общих могилах.[53] Председатель сельсовета в Германовке Киевской области увидел в общей могиле труп крестьянина-единоличника и приказал выбросить его из могилы. Прошла неделя, пока он позволил захоронить его[54]. Методы террора и унижения были повсеместными – это явствует из письма Михаила Шолохова Сталину от 16 апреля 1933 года, сообщавшего о дикой жестокости на Дону.
Примеры эти можно бесконечно умножить. Это – не отдельные случаи перегибов, это – узаконенный в районном масштабе «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».
Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над советской властью, но и дела тех, чья рука их направляла.
Если все описанное мной заслуживает внимания ЦК – пошлите в Вешенский район дополнительно коммунистов, у которых хватит смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только тех, кто применял к колхозникам смертельные «методы» пыток, избиений и надругательства, но и тех, кто вдохновлял их.»[55].
Сталин ответил Шолохову, что сказанное им создает «несколько одностороннее впечатление», но тем не менее вскрывает «…болячку нашей партийно-советской работы, вскрывает то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Вашего района) проводили «итальянку» (саботаж) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию – без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови) – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой товарищ Шолохов…
Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как утверждаете Вы, нашими работниками… И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали».[56]
* * *
Один из активистов вспоминает:
«Я слышал, как, вторя им, кричат дети, заходятся, захлебываются криком. И видел взгляды мужчин: испуганные, умоляющие, ненавидящие, тупо равнодушные, погашенные отчаянием или взблескивающие полубезумною злою лихостью.
– Берите. Забирайте. Все берите. От еще в печи горшок борща. Хотя пустой, без мяса. И все ж таки: бураки, картопля, капуста… И посоленный! Забирайте, товарищи-граждане! Вот почекайте, я разуюсь… Чоботы, хоть и латанные-перелатанные, а может, еще сгодятся для пролетариата, для дорогой советской власти…
Было мучительно трудно все это видеть и слышать. И, тем более, самому участвовать. Хотя нет, бездеятельно присутствовать было еще труднее, чем когда пытался кого-то уговаривать, что-то объяснять… И уговаривал себя, объяснял себе. Нельзя поддаваться расслабляющей: жалости. Мы вершим историческую необходимость. Исполняем революционный долг. Добываем хлеб для социалистического отечества. Для пятилетки».[57]
И он добавляет:
«Как и все мое поколение, я твердо верил в то, что цель оправдывает средства. Нашей великой целью был небывалый триумф коммунизма, и во имя этой цели все было дозволено – лгать, красть, уничтожать сотни тысяч и даже миллионы людей, – всех, кто мешал нашей работе или мог помешать ей, всех, кто стоял у нас на пути. И все колебания или сомнения по этому поводу были проявлением „гнилой интеллигентности“ и „глупого либерализма“, свойствами людей, которые не способны „из-за деревьев увидеть леса“.
Так я рассуждал и так думали все мне подобные, даже когда… я увидел, что означала «всеобщая коллективизация», увидел, как они «кулачили» и «раскулачивали», как безжалостно они грабили крестьян зимой 1932–1933 годов. Я сам принимал в этом участие, прочесывая деревни в поисках укрытого зерна, прощупывая землю с помощью железного стержня, чтобы обнаруживать пустоты, куда могло быть спрятано зерно. Вместе с другими я обшаривал сундуки стариков, не желая слышать плач детей и вопли женщин… Просто я был убежден, что выполняю великое и необходимое преобразование деревни; что благодаря этому люди, живущие в ней, станут жить лучше в будущем, что их отчаяние и страдание были результатом их собственной отсталости или происками классового врага; что те, кто послал меня – как и я сам, – знали лучше крестьян, как им следует жить, что они должны сеять и когда жать.
Страшной весной 1933 года я видел, как люди мерли с голода. Я видел женщин и детей с раздутыми животами, посиневших, еще дышащих, но уже с пустыми мертвыми глазами. И трупы… трупы в порванных тулупах и дешевых валенках, трупы в крестьянских хатах, на тающем снегу старой Вологды, под мостами Харькова… Я все это видел и не свихнулся, не покончил с собой. Я не проклял тех, кто послал меня отбирать у крестьян хлеб зимой, а весной убеждать людей, которые едва волочили ноги, были до предела истощены, походили больше на скелеты, отечных и больных, заставлять их работать на полях, чтобы «выполнить большевистский посевной план в ударные сроки».
Не утратил я и своей веры. Как и прежде я верил потому, что хотел верить»[58].
Другой активист рассказывает о том, что он мысленно был способен, следуя сталинскому курсу, обвинять в злоупотреблениях отдельных «плохих» коммунистов, но «подозрение, что все ужасы были не случайными, а запланированными и санкционированными верховной властью, уже закрадывалось в мое сознание. В ту ночь я убедился, что так оно несомненно и есть, и это лишило меня всякой надежды. Мне легче было переживать стыд за все происходящее, пока я мог винить в этом отдельных людей…»[59]
Но даже коммунисты получше, наподобие того, которого мы цитировали выше, постепенно ко всему привыкали.
«Я уже привык к атмосфере ужаса; я развивал в себе внутреннее сопротивление действительности, которая еще вчера ломала меня», – писал он позднее о себе.[60]
Такие люди либо сумели заставить свою совесть замолчать, либо кончали жизнь в лагерях. Как предвидел Бухарин, это привело к «дегуманизации» партии, для членов которой «террор отныне стал нормой управлениям безоговорочное выполнение всякого приказа сверху – высокой добродетелью».[61]
Взгляд Ленина на голод раннего периода – 1891–1892 гг. на Волге, где он тогда жил, – может служить, нам показателем отношения всей партии к отдельным или массовым смертям и страданиям, если расценивать их с позиций революционных целей. В то время как все классы, включая либеральную интеллигенцию, спешили принять участие в работе благотворительных групп, Ленин отказался это делать, утверждая, что голод будет способствовать революционизации масс, и добавил: «Психологически вся эта болтовня о том, чтобы накормить голодающих, есть ничто иное, как проявление сахаринно-сладкой сентиментальности, столь характерной для нашей интеллигенции».[62]
Пока в последние месяцы 1932 года бригады бандитов и идеалистов переворачивали вверх дном дома и дворы крестьян в поисках зерна, мужчины всеми силами старались уберечь последнее или найти какую-то еду. Утайка зерна в соломе путем неполного ее обмолота во многих колхозах подвергалась критическим нападкам в прессе как порочная практика, но там, где председатели закрывали на это глаза, она была действенным, хотя и недостаточным способом как-то прокормиться.[63] Один крестьянин приводит несколько других способов утайки малого количества зерна – в бутылках, запечатанных смолой, например, и спущенных в колодец или пруд.[64]
Если крестьянин нес молоть утаенное зерно на местную национализированную мельницу, государство все отбирало. Поэтому местные ремесленники конструировали «ручные мельницы». Когда это обнаруживалось, «конструктора» и «пользователей» сажали[65]. Такие «домашние жернова» были предметом критики в украинской партийной прессе; 200 ручных мельниц были найдены в одном районе и 755 (всего лишь за месяц) в другом[66].
С помощью подобных орудий труда, или без них, изготовлялся необычный «хлеб» – лепешка, замешанная на подсолнечном масле с водой из просяной и гречичной мякины с небольшим добавлением ржаной муки, чтобы не распадалась. Советский романист приводит рассказ о том, как крестьянин измельчал доски от бочки, в которой прежде хранили масло, и варил дерево, чтобы извлечь из него остатки жира. В результате такого процесса семья получала лучшую на ее памяти пищу[67].
Другой романист говорит о том, что игра в кости – «бабки», – в которую с незапамятных времен всегда играли дети, теперь начисто исчезла, поскольку все старые кости съеденных животных «выпаривались в котлах, измельчались и съедались»[68].
Третий писатель рассказывает о деревне (не на Украине), в которой «стадо вымерло от недостатка соломы. Люди там ели хлеб из крапивы, печенье из одного сорняка, а кашу – из другого».[69] Ели и конский навоз, отчасти потому, что в нем иногда сохранялись целые зерна пшеницы[70]. Зимой съели всех кур и животных, после этого принялись за собак, потом – за кошек. «Но их еще и трудно стало поймать. Животные теперь боялись людей, и глаза у них были как у диких зверей. Люди собак и кошек варили. Да и было только что жилы и мышцы. А из голов варили мясной студень»[71].
В другой деревне из-под снега вырывали желуди и пекли из них некое подобие хлеба, иногда добавляя немного картофельных очисток или отрубей. Один партработник сказал в сельсовете: «Посмотрите на этих паразитов! Они отправились голыми руками откапывать желуди из-под снега – они готовы делать что угодно, только бы не работать».[72]
* * *
Даже в ноябре 1932 года еще было несколько случаев восстания украинских крестьян и временного роспуска колхозов[73]. Дед Леонида Плюща[*] видел в одной деревне груду трупов: его начальник сказал ему, что «это была кулацкая демонстрация»[74].
Обычно крестьян доводили до восстаний тем, что в нескольких милях от них был хлеб, а их обрекали на голод. В царское время, когда случался куда меньший по размерам голод, делали все возможное, чтобы помочь голодающим. Советский писатель пишет о 1932–1933 гг.: «Старики вспоминали голод при царе Николае. Тогда им помогали. Им выдавали еду. Крестьяне шли в города христарадничать. Открывались кухни, где варили суп, чтобы накормить их, а студенты собирали пожертвования. А тут под властью рабочих и крестьян им не дали и зернышка».[75]
Далеко не все зерно экспортировалось или отправлялось в города и армию. Местные амбары были полны «государственными резервами». Это зерно хранили на всякий пожарный случай, такой как война, например – голод не был достаточно веским поводом для использования этих ресурсов[76]. Так, зернохранилище в Полтавской области, по имеющимся сведениям, «почти трещало» от зерна»[77].
Молоко, отобранное у крестьян, тоже часто перерабатывалось на масло на заводах, расположенных неподалеку от голодающих деревень. Туда допускались только партработники и представители власти. Очевидец рассказывает, что хмурый завхоз завода показал ему нарезанное на бруски масло. Бруски были завернуты в бумагу с надписью на английском: «СССР. МАСЛО НА ЭКСПОРТ».[78]
Когда продукты питания имелись, а голодающим в них отказывали, это выглядело непереносимым уродством и провокацией. Особенно если зерно хранилось открытым способом и гнило. Груды зерна лежали на станции Решетиловка Полтавской области. Зерно гнило, но охранялось сотрудниками ОГПУ[79]. Американский корреспондент видел из окна поезда «огромные пирамиды зерна, которые курились от происходящих внутри них процессов гниения»[80].
Картофель тоже был свален в кучи и гнил. Как рассказывают, несколько тысяч тонн картофеля было собрано в поле возле Люботино и окружено колючей проволокой. Он уже начал портиться, тогда его передали из картофельно-овощного треста в трест спирто-водочных изделий, но и там его держали в поле до тех пор, пока он стал непригоден даже для производства алкоголя.[81]
Естественно, что в официальных отчетах подобные факты сваливали на «саботаж»: де, мол, урожай саботируют не только в степи, но и на элеваторах и в зернохранилищах.[82] Бухгалтер на зерноэлеваторе был приговорен к смертном казни за то, что платил рабочим за их труд мукой, и когда через два месяца его все-таки выпустили (сам он тоже голодал), он умер на следующий день.[83]
Имеется много описаний крестьянских восстаний, единственной целью которых было получить зерно из зернохранилищ или картофель на спирто-водочных заводах. Многим не удалось даже этого, но вот в деревне Пустоваровка убили секретаря партячейки и забрали картофель, после чего было расстреляно 100 крестьян[84]. В Хмелево участницы бабьего бунта атаковали зернохранилище, трое из них были осуждены. Как пишет один из очевидцев этих событий, «они происходили в то время, когда люди были голодными, но еще имели силы»[85].
Были и другие акты отчаяния. В некоторых местах крестьяне поджигали урожай.[86] Но в противовес тому, что происходило в 1930 году, такие акты стали теперь спонтанными и некоординированными, отчасти из-за физической слабости людей. Более того, ОГПУ сумело к этому времени создать в больших деревнях сеть сексотов (тайных помощников) – и все теми же средствами – шантажа и угроз, в чем оно приобрело большой навык и умение.[87]
Бунты происходили даже в 1933 году, в самый пик голода. К концу апреля крестьяне Ново-Вознесенска Николаевской области пытались силой взять зерно из кучи (оно уже начало гнить на открытом воздухе) и были расстреляны охранниками ОГПУ из пулеметов. В мае 1933 года голодные сельчане захватили склад зерна в Сагайдаках Полтавской области, но многие умерли от истощения, так и не донеся его домой, остальных на следующий день арестовали – многих расстреляли, другим же дали от пяти до десяти лет. Весной 1933 года крестьяне из нескольких окрестных, деревень напали на зерновой склад станции Гоголево Полтавской области и наполнили свои мешки кукурузой, которая там хранилась. Как ни удивительно, арестовано было всего пятеро из них.[88] Такие акции были следствием крайнего отчаяния. Уже осенью и зимой, не дожидаясь, пока голод схватит их за горло, многие крестьяне начали покидать деревни, как два года назад это сделали кулаки.
Пограничники не пропускали украинских крестьян на территорию собственно России; и если кому-то удавалось пробраться и он возвращался с хлебом, который еще можно было там достать, то на границе хлеб отнимали, а его, крестьянина, нередко сажали. (Подробно об этом мы расскажем в главе 18-й.)
ГПУ пыталось не пускать голодающих и в зоны, пограничные с Польшей и Румынией;[89] есть сведения, что сотни крестьян из пограничных районов были убиты при попытке перехода Днестра, чтобы попасть в Румынию[90]. (С другой стороны, похоже, что в эти годы украинским крестьянам не мешали ездить на Северный Кавказ, где в отдаленных районах Дагестана и Каспия можно было раздобыть еду.)[91]
По некоторым подсчетам, к середине 1932 года три миллиона крестьян покинули деревню и толпились на станциях, устремляясь в более благополучные районы[92]. 0дин из иностранных коммунистов вспоминает такую сцену:
«Грязные толпы заполняют станции; кучи мужчин, женщин и детей дожидаются Бог знает каких поездов. Их разгоняют, но они возвращаются уже без денег или билетов. Садятся в любой поезд, если им это удается, и едут в нем, пока их не высадят. Они молчаливы и пассивны. Куда они едут? Просто ищут хлеб, картофель, работу на заводах, где рабочих кормят чуть получше. Хлеб – великий двигатель этих толп».[93]
И тем не менее, до самой весны, когда голод достиг своей высшей точки, большинство все еще пыталось продержаться на всевозможных суррогатах, надеясь дотянуть до следующего урожая и на то, что правительство как-то поможет – чего так никогда и не произошло.
А пока они продавали все, что имели, в обмен на хлеб.
Как мы видели, крестьянину совсем не легко было легально переехать в город, даже в пределах Украины. Однако на этой стадии голода запрет соблюдался уже не так тщательно (действительно, трудно было навязать этот запрет даже в более позднюю и отчаянную пору голода). Многим удалось добраться до Киева и других больших городов. Жены высоких чиновников, у которых были большие пайки, продавали излишки на киевском базаре, беря у крестьян по дешевке их немудреные ценности. Богато расшитая скатерть шла за буханку хлеба в четыре фунта, хороший ковер – за несколько буханок. А «красиво вышитые кофты из шерсти или полотна… обменивались на одну или две буханки хлеба».[94]
Однако государство предусмотрело и другие, гораздо более систематические пути выкачивания из семьи крестьянина ее ценностей. Даже в малых райцентрах или больших селах имелись магазины торгсина («торговля с иностранцами»), которыми крестьянам позволяли пользоваться. В них торговали только на валюту или на драгоценные металлы и камни; и купить можно было любые товары, в том числе продукты питания.
У многих крестьян имелись отдельные золотые украшения или монеты, за которые они могли купить немного хлеба (хотя ходить в торгсины было опасно: ГПУ, в противовес самому смыслу существования таких магазинов, часто пыталось изъять потом ценности, которые посетители торгсина не успели там потратить). Создание торгсинов диктовалось стремлением советского правительства изыскать все возможные ресурсы для использования их на мировом рынке. В торгсинах золотые кресты или серьги шли за несколько килограммов муки или жира.[95] За серебряный рубль некий учитель получал «50 граммов сахара или кусок мыла и 200 граммов риса».[96]
В одном из сел Житомирской области местные помещики и другие богатые жители были католиками. На католическом кладбище до революции их хоронили с кольцами или другими драгоценностями. В 1932–1933 гг. жители этой деревни тайно вскрыли могилы и на добытые украшения покупали еду в торгсинах. Относительная смертность здесь была ниже, чем во всей округе.[97]
* * *
С наступлением зимы дела шли все хуже и хуже. 20-го ноября 1932 года постановлением Совнаркома Украины была приостановлена оплата зерном трудодней колхозным крестьянам до выполнения ими нормы госпоставок.
6 декабря 1932 года вышел еще один декрет Укрсовнаркома и ЦК компартии Украины, в котором шесть сел (по два в каждой из трех областей: Днепропетровской, Харьковской и Одесской) были объявлены «саботирующими поставки зерна». На них налагались следующие санкции:
«Приостановить немедленно поставку продуктов, прекратить местную кооперативную и государственную торговлю. Изъять все имеющиеся товары из государственных и кооперативных магазинов.
Запретить продажу сельхозпродуктов всем колхозам, их членам и единоличникам.
Прекратить выплату авансов, наложить запрет на все кредиты и иные финансовые обязательства.
Проверить и вычистить все иностранные и враждебные элементы из аппарата кооперативов и государственных предприятий, что должны осуществить органы рабоче-крестьянской инспекции.
Проверить и провести чистку в поименованных выше селах всех контрреволюционных элементов…»[98]
Последовали еще и другие указы, и те украинские села, которые не могли выполнить норму, были буквально блокированы от проникновения в них продуктов из городов.[99]
15 декабря 1932 года был опубликован список районов, «в которые поставка коммерческих продуктов запрещалась до тех пор, пока они не достигнут решительного улучшения в выполнении коллективных планов по зерну». Таких районов было 88 (из 358 во всей Украине) – в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Одесской и Харьковской областях. Жителей этих «блокированных» районов массами депортировали на север.[100]
Несмотря на все усилия партии, к концу 1932 года было поставлено только 4,7 миллиона тонн зерна, то есть только 71,8 плана.
В официальном «Списке крестьян с высоким установленным налогом в натуре и выполнением зернопоставок на 1 января 1933 года» в Криницком районе значились 11 сел и 70 имен. Из них только 9 выполнили установленную норму. Большинство же сумело поставить только половину или четверть обязательных поставок. Единственный случай перевыполнения ее единоличником объяснили тем, что «все поставленное зерно было выкопано им из ям. Приговорен». Кроме него, «приговорили» еще шестерых (в их числе жену и сына двух отсутствующих «виновных» крестьян); у 39 конфисковали и распродали имущество, 21 «исчез из деревни»[101]. Так было по всей Украине.
В начале 1933 года была объявлена третья принудительная поставка зерна, и в самых страшных условиях продолжалось наступление на уже несуществующие резервы зерна украинского крестьянства.[102]
* * *
Сталин и его помощники не забыли Украине неудачу с поставкой зерна (которого не существовало). Они вновь стали оказывать жестокое давление на украинские власти.
На совместном заседании Политбюро и Центрального Исполнительного Комитета в Москве 27 ноября 1932 года Сталин сказал, что прошлогодние трудности в поставке хлеба объясняются, во-первых, «проникновением в колхозы и совхозы антисоветских элементов, которые организовали саботаж и срывы», и, во-вторых, «неверным, антимарксистским подходом значительной части сельских коммунистов к проблеме колхозов и совхозов…» И добавил, что эти «сельские и районные коммунисты слишком идеализируют колхозы», полагая, что раз они уже организованы, то в них не может возникнуть никакого саботажа или чего-то антисоветского. «А если они сталкиваются с реальными фактами саботажа или явлениями антисоветского характера, то проходят мимо них… и не понимают, что такой взгляд на колхозы не имеет ничего общего с ленинизмом!»[103]
«Правда» от 4-го и 8 декабря 1932 года призывала к решительной борьбе с кулаками, особенно на Украине; а в номере от 7 января 1933 года в редакционной статье она писала, что Украина оказалась в хвосте в деле выполнения поставок по зерну, потому что украинская компартия допустила ситуацию, когда «классовый враг на Украине сумел сорганизоваться».
На пленуме Всесоюзного Центрального Комитета и Центрального Исполнительного Комитета в январе 1933 года Сталин сказал, что «причины трудностей, связанных со сбором зерна» следует искать в самой партии. Первый секретарь харьковского горкома Терехов заявил прямо, что на Украине свирепствует голод. Сталин усмехнулся и назвал его фантазером. Все дальнейшие попытки обсудить вопрос пресекались простым взмахом руки.[104]
С докладом выступил Каганович, снова утверждая, что «в деревне все еще есть представители кулачества… кулаки, которых не депортировали, зажиточные крестьяне, тяготеющие к кулачеству, и кулаки, избежавшие ссылки, спрятанные родственниками, а иногда и „мягкосердечными“ членами партии… на деле оказавшимися предателями интересов трудящихся». И наконец, есть еще «представители буржуа-белогвардейцев, петлюровцев, казаков, социально-революционной интеллигенции».[105] Сельская интеллигенция в это время состояла из учителей, агрономов, врачей, и поэтому перечисление всех этих групп в качестве объектов чистки от антисоветских элементов выглядело угрожающе.
Снова прозвучал призыв к борьбе с «классовым врагом». «Каковы же, – спрашивал Каганович, – проявления классовой борьбы в деревне? Прежде всего, организующая роль кулака в саботировании сбора зерна для госпоставок и сева». Он обличал саботаж на каждой стадии сельскохозяйственных работ, а также и в «центральных сельскохозяйственных организациях», критиковал нарушения трудовой дисциплины; говорил, что кулак использует мелкобуржуазные тенденции «вчерашних единоличников» и обвинил все эти элементы в «терроризировании» честных колхозников[106].
24 января 1933 года союзный ЦК принял специальную резолюцию относительно парторганизации Украины (позднее названную «поворотным моментом в истории КП/б/У, открывающим новую главу в победной битве большевиков Украины»).[107] Она обвиняла украинскую компартию в провале сбора зерна, особенно в «ключевых областях»: Харьковской (во главе с Тереховым), Одесской и Днепропетровской, которым инкриминировали «недостаток классовой бдительности». Пленум постановил назначить секретаря ЦК ВКП/б/ Павла Постышева вторым секретарем ЦК Украины и первым секретарем Харьковского обкома (Хатаевич, оставаясь секретарем ЦК Украины, был назначен первым секретарем в Днепропетровск, а Вегер – первым секретарем в Одессу). Три прежних секретаря этих обкомов были сняты.
Отставание в сельском хозяйстве, как потом объявил Постышев, в значительной степени объясняется «Притуплением большевистской бдительности» и является «одним из самых серьезных обвинений, выдвинутых ЦК ВКП/б/ против украинских большевиков».[108]
* * *
Постышев практически стал полномочным представителем Сталина в деле «большевизации» украинской компартии и последующего изъятия зерна у голодающих селян.
Прибыв на Украину, он сразу заговорил об остатках кулаков и националистов, которые проникли в партию и колхозы и саботируют производство.[109] Он немедленно отказал в отправке продуктов в села, одновременно заявив, что не может быть и речи о государственной помощи посевным зерном: его крестьяне должны изыскать сами.[110] (В московском указе «О помощи в севе колхозам Украины и Северного Кавказа», изданном 25 февраля 1933 года, отпускалось 325 000 тонн посевного зерна Украине и 230 000 – Северному Кавказу».[111] Даже Постышев, даже Москва знали, что в противном случае не будет никакого нового урожая. Но реальной эта помощь стала позднее.)
В партии все еще чувствовалось сопротивление. Сельскую администрацию вообще обвиняли в попытке «укрыть» или «свести на нет» запланированные ЦК Союза поставки зерна, а Харьковский горком «пытался изобразить» замещение Терехова Постышевым как чисто кадровый вопрос, и на тамошнем пленуме даже не упомянули основные положения решения пленума ЦК Союза.[112]
Только на февральском пленуме ЦК Украины была намечена новая, более жесткая линия. Косиор, все еще первый секретарь, хотя и затененный Постышевым, произнес речь по поводу зерновых поставок, которая ясно обозначила пропасть между требованиями партии и действительностью.
«Сейчас мы столкнулись с новой формой классовой борьбы, связанной с поставками зерна… Когда приезжаешь в район говорить о поставках зерна, то партработники показывают тебе статистику и таблицы низкого урожая, которые везде составляются враждебными элементами: в колхозах, сельскохозяйственных отделах и МТС. Но эта статистика не учитывает зерно на полях или то, что было украдено и спрятано. Наши товарищи, включая различных уполномоченных, не понимая, что цифры эти ложны, доверяют им и часто становятся защитниками кулаков и тех, кто стоит за этими цифрами. В бесчисленных случаях уже было доказано, что такая арифметика – это арифметика кулака. В соответствии с ней мы не получим даже половины намеченного количества зерна. Ложные цифры и раздутые формулировки служат в руках враждебных элементов также для покрытия воров и массовой кражи хлеба».[113]
Он подверг критике многие районы в Одесской и Днепропетровской областях, которые представили различные оправдания дня отсрочки зернопоставок и «непрерывно говорят о необходимости пересмотреть план». В некоторых районах этих областей и в других местах, жаловался Косиор, были случаи «организованного саботажа, допущенные на самом высоком уровне» местными парторганизациями.[114]
* * *
Постышев вместе с новым начальником ОГПУ Украины В.А.Балицким вскоре сместил 237 секретарей райкомов и 249 председателей райисполкомов.[115] Некоторые районы сделались публичными козлами отпущения – в частности Ореховский район Днепропетровской области, «руководство которого, как выяснилось, состоит из предателей рабочего класса и колхозного крестьянства».[116]
ОГПУ занималось также жестокой чисткой среди ветеринаров, обвиняемых в падеже скота[117] – то был своеобразный способ справляться со смертностью животных, который сделался традиционным: как стало известно, только в одной Винницкой области из-за грибка в кормовом ячмене с 1933-го по 1937 год было расстреляно около 100 ветеринаров.[118]
Другим козлом отпущения стало метеорологическое управление, весь штат которого был арестован по обвинению в фальсификации прогнозов погоды с целью нанести ущерб урожаю[119]. В марте 1933 года были расстреляны 35 служащих двух наркоматов – земледелия и совхозов – за различные виды саботажа – такие, например, как порча тракторов, намеренное допущение сорняков и поджоги. Еще 40 из них получили лагерные сроки.[120] Как было сообщено, они пользовались своим положением для «организации голода в стране»[121] – редкий случай признания, что таковой вообще имел место.
Одновременно в деревню было послано 10 000 новых активистов, включая 3000 назначенных председателей колхозов, партсекретарей или организаторов.[122] В 1933 году в Одесской области сменили «49,2 процента всех председателей колхозов», а в Донецкой – 44,1 процента (соответственно 32,3 и 33,8 процента бригадиров и примерно столько же других колхозных должностных лиц).[123] Председатели двух коммунистических колхозов дважды добились снижения нормы поставок, но ни разу не сумели выполнить даже пониженных планов. Теперь их обвинили в саботаже и в том, что они сошлись с «кулацко-петлюровскими отщепенцами», и предали суду.[124] В большинстве деревень, сведениями о которых мы располагаем, ведущие партработники к 1933 года были русские.
17 000 рабочих были посланы в политотделы МТС и 8000 – в политотделы совхозов. В целом от 40 до 50 тысяч человек было послано для укрепления партии на селе. В один только Павлоградский район Днепропетровской области, насчитывавший 37 сел и 87 колхозов, в 1933 году было послано 200 специальных сборщиков из областного комитета партии и почти столько же из областного комитета комсомола.[125]
Эта сильно подчищенная партия снова была брошена на борьбу с голодающим крестьянством.
Вот что искренне (или почти искренне) заявил А.Яковлев, народный комиссар земледелия СССР, выступая на съезде колхозников-ударников в феврале 1933 года: украинские колхозники потерпели неудачу в посевной кампании в 1932 году, «нанеся ущерб правительству и себе самим». Плохо управившись с урожаем, они «заняли последнее место среди всех районов страны по взятым перед правительством обязательствам… Своей плохой работой они наказали себя и правительство. Давайте, товарищи украинские колхозники, сделаем из этого надлежащие выводы: пришло время подвести итоги плохой работы прошлых лет».[126]
Истерическая жестокость, сопровождавшая вмешательство Постышева, принесла очень мало зерна. Уже истощились последние запасы и есть стало нечего.
* * *
Люди умирали всю зиму. Но, по данным всех источников, становится очевидно, что массовые масштабы голодная смерть приняла только в начале марта 1933 года.[127]
«Когда снег стаял, начался настоящий голод. Люди ходили с отекшими лицами, ногами и вздутыми животами. Им нечем было мочиться… Теперь они ели все подряд. Они ловили мышей, крыс, воробьев, муравьев, земляных червей. Они перемалывали в муку кости, а также кожу и подметки; они нарезали старую кожу и мех и делали из них макароны, варили клей. Когда выросла трава, они стали выкапывать корни, ели листья и почки. В ход шло все, что можно: одуванчики, лопухи, колокольчики, ивняк, крапива…»[128]
Липа, акация, шавель и крапива, которые теперь составляли основу питания, не содержали протеин. В тех районах, где водились улитки, их варили и пили отвар, а хрящи перемалывали, смешивали с листьями и «съедали или, скорее, заглатывали». Это помогало от отеков и продлевало жизнь.[129] В южных районах Украины и на Кубани иногда можно было спастись от голода ловлей сурков и других мелких животных[130], в других районах можно было ловить рыбу, хотя за ловлю рыбы в реке, прилежащей к деревне, можно было получить срок.[131] В Мельниках отбросы с местного спирто-водочного завода, признанные непригодными для корма скоту, были съедены окрестными крестьянами.[132]
Даже в конце следующего года иностранные корреспонденты приводили ужасающие свидетельства. Один американский журналист видел, что в двадцати километрах от Киева все кошки и собаки в деревне были съедены: «В одной хате варили месиво, которое не подается определению. В нем были кости, сорняки, кожи и что-то, похожее на голенище. По тому, как радостно смотрели на это варево полдюжины жителей (из сорока прежних), можно было судить о степени их голода».[133]
Учитель украинской школы сообщает, что, кроме эрзац-борща из крапивы, свекольной ботвы, щавеля и соли (когда ее можно было достать), детям иногда выдавали немного бобов – кроме детей «кулаков».[134] Агроном из села в Винницкой области вспоминает, что, когда в апреле поднимались сорняки, крестьяне «начинали есть вареные лебеду, щавель, крапиву… Но после потребления этих растений люди заболевали водянкой и во множестве умирали от голода. Во второй половине мая уровень смертности был таким высоким, что специально был выделен колхозный фургон, чтобы возить трупы на кладбище (тела бросали в общую могилу без всякой церемонии).[135] Другой активист рассказывает, как ездил на пару вместе с возницей салазок, они должны объезжать все жилые дома и забирать оттуда мертвых.[136] У нас есть свидетельские показания разных людей, включая самих жертв этого голода, бывших активистов и советских писателей, которые наблюдали эти события в раннем возрасте, а затем, много лет спустя, когда это стало возможным, описали их. Мы уже цитировали одного такого очевидца, который при Хрущеве смог написать: «В 1933 году был страшный голод. Вымирали целые семьи, дома разваливались, улицы деревни пустели».[137]
Другой очевидец того же периода пишет: «Голод – холодящее душу мрачное слово. Те, кто никогда не переживал его, не может представить себе, какие страдания приносит голод. Нет ничего страшнее для мужчины – главы семьи, – чем чувство собственной беспомощности. Нет ничего ужаснее для матери, чем вид ее истощенных, изможденных детей, за время голода разучившихся улыбаться.
Если бы это длилось неделю или месяц, а это длилось месяцами, когда семье нечего было ставить на стол. Все сараи были чисто выметены, в деревне не осталось ни единой курицы; даже семена для корневой свеклы были съедены… Первыми от голода умирали мужчины. Потом дети. И позднее всех – женщины. Но прежде чем умереть, люди часто теряли рассудок, переставали быть человеческими существами».[138]
Заметки бывшего активиста:
«На фронте мужчины умирают быстро, они сражаются с врагом, их поддерживает чувство товарищества и долга. Здесь я видел людей, умирающих в одиночестве, медленно, страшно, бесцельно. Их загнали в угол и оставили подыхать от голода, каждого в своем доме, политическим решением, принятым в далекой столице за круглым столом совещаний и банкетов. Им не было оставлено даже утешения неизбежной необходимости того, что происходит, чтобы уменьшить ужас. Самый страшный вид имели маленькие дети, с конечностями, как у скелета, растущими из вздутых, как шары, животов. Голод согнал с их лиц все следы детства, превратив их в замученных горгулий; только в глазах у них еще сохранилось что-то от детства. Везде мы видели мужчин и женщин, лежащих ничком, с опухшими лицами, вздутыми животами и с пустыми, ничего не выражавшими глазами».[139]
В мае 1933 года один из туристов увидел шесть трупов на участке между двумя деревнями Днепропетровской области протяженностью 12 километров.[140] Иностранный журналист, прогуливавшийся днем по деревне, наткнулся на девять трупов, в том числе двух мальчиков примерно восьми лет и десятилетней девочки.[141]
Солдат рассказывает, что когда поезд, в котором он ехал со своими товарищами, проходил по территории Украины, все пришли в ужас. Они все стали раздавать пищу просящим крестьянам, и об этом доложили их начальству. Однако командир корпуса Тимошенко прибег к очень мягкому наказанию. Когда подразделения развернулись на местности, «мужчины, женщины и дети вышли на дорогу, которая вела в лагерь. Они стояли молча. Стояли, страдая от голода. Их прогнали, но они собрались в другом месте. И снова – стояли, страдая от голода». Политинструкторам пришлось провести большую работу среди солдат, чтобы вывести их из состояния подавленности. Когда начались маневры, за полевыми кухнями потянулись изморенные голодом крестьяне. Когда солдатам раздавали пищу, они отдавали ее голодающим. Офицеры и политкомиссары уходили, делая вид, что они ничего не заметили.[142]
Пока что в деревне «бедные просили подаяния у бедных, голодающие – у голодающих», имевшие детей просили у бездетных[143]. В начале 1933 года в центре одной из больших украинских деревень, «около развалин церкви, которая была взорвана динамитом, расположился деревенский базар. У всех опухшие лица. Все молчат, а если хотят сказать что-нибудь, то едва шепчут. Движения их медленны и слабы из-за опухших рук и ног. Они продают корни кукурузы, кочерыжки початков, сушеные корни, кору деревьев и корни водорослей»[144].
Девушка из деревни Полтавской области, меньше пострадавшей от голода, чем большинство, так описывает Пасху 1933 года. Отец ее пошел продавать «последнюю рубашку (полотно и вышивки все уже были проданы), чтобы купить еду на праздник». На обратном пути его арестовали за спекуляцию, найдя у него десять фунтов зерна и четыре – отрубей. Через две недели выпустили, но продукты конфисковали. Не дождавшись отца в тот вечер, «мать сварила нам суп из высушенных и перемолотых картофельных очисток и восьми небольших картофелин». Потом явился бригадир и приказал им выходить на работу в поле[145].
Женщина из деревни Фадеевка Полтавской области, мужу которой дали пять лет лагерей за членство в СВУ, как-то сумела прокормить семью до апреля 1933 года. Потом умер ее четырехлетний сын. Но и тут не оставили ее в покое и заподозрили, что могила, которую она выкопала для своего сына, на самом деле была ямой для зерна. Они раскопали ее, нашли труп и разрешили захоронить его заново[146].
Жизнь замирала.
«Старшие классы ходили в школу до начала весны. Но младшие перестали ходить уже зимой. Весной школы закрылись совсем. Учитель уехал в город. Фельдшер тоже уехал. Ему нечего было делать. Нельзя лечить голод лекарствами. Всякие представители тоже перестали приезжать из города. Зачем? С голодающих взять нечего… Раз дело дошло до того, что государству нечего больше выжать из человека, он бесполезен государству. Зачем учить его? Зачем лечить?»[147]
* * *
Постановление, запрещавшее передвижение по дорогам без специальных документов, стали применять с особой строгостью весной. Приказ от 15 марта по Северодонецкой дороге диктует всем железнодорожникам не пропускать крестьян без командировочного предписания от председателя колхоза.[148]
Запрет принимать их на работу на промышленные предприятия относился, по крайней мере в теории, в равной степени к сельской промышленности и к городской. Кирпичному заводу, например, приказали в 1933 году не брать на работу местных жителей.[149] Иногда можно было получить работу по перестройке железнодорожного полотна, идущего к сахарному заводу, где люди, не видевшие хлеба уже шесть месяцев, получали 500 граммов в день плюс 30 граммов сахара. Но чтобы получить паек, нужно было выполнить норму – выкопать восемь кубометров земли в день, а это лежало за пределами их физических возможностей. Кроме того, хлеб выдавали только на следующий день после выполнения нормы; люди умирали на работе или ночью.[150] В совхозе около Винницы овощеводческому хозяйству, где выращивали помидоры, огурцы и сельдерей, требовались тысячи рабочих. По окрестным деревням были разосланы объявления, предлагавшие работу за килограмм хлеба, горячую пищу и два рубля в день. Откликнулись многие, но больше половины из них уже были нетрудоспособны. Каждый день кто-нибудь умирал после первой же еды – это всегда самый опасный момент после длительной голодовки.[151]
Когда в апреле отменили карточки на хлеб и жители смогли во вновь открывшихся городских булочных покупать по килограмму на человека в день (хотя и по высокой цене), на крестьян это положение не распространили.
Но теперь множество из тех, кто был еще в состоянии передвигаться, совсем отчаявшись, покидали села. Если им не удавалось добраться до города, они слонялись вокруг железнодорожных станций. К этим маленьким украинским станциям обычно примыкали небольшие садики. Туда-то «железнодорожники, сами уже качавшиеся от голода, сносили трупы».[152] В окрестностях Полтавы, около семафора, трупы, найденные вдоль путей, сваливали в вырытые глубокие рвы[153]. Когда крестьяне не могли добраться до станций или их туда не пускали, они стояли вдоль путей и просипи хлеб у пассажиров проходящих поездов. Иногда им бросали корки. Но позднее у многих уже не было сил даже на нищенство.[154]
В маленьком городке Харцизск в Донбассе, по рассказам железнодорожника, крестьяне попрошайничали целыми семьями. Их ловили. Весной число нищих возрастало ежедневно, они «жили и умирали на улицах и площадях», в апреле 1933 года они наводнили весь город[155].
Труднее было в больших городах. В Киеве те, кто имел работу и продовольственные карточки, не голодали. Но можно было купить только килограмм хлеба в день, и снабжение было плохое.[156] Один из авторов пишет: «Товаров в магазинах хватало только на нужды привилегированных классов»[157]. Для них существовали и закрытые распределители, которыми пользовались государственные служащие, члены солидных парткомов, офицеры ОГПУ, старшие армейские офицеры, директора заводов, некоторые инженеры и т.д. (Подобные распределители существуют до сих пор.)
Номинально размеры доходов в городах были как бы уравнены, однако система привилегированных пайков и привилегированного снабжения товарами сводила формальное равенство к абсурду. Так, учитель получал половину зарплаты сотрудника ОГПУ примерно такого же ранга, но особая карточная система на товары потребления, покупаемые по низким ценам в специальных магазинах, делала реальный доход сотрудника ОГПУ в двенадцать раз выше реального дохода учителя.[158]
Даже квалифицированный рабочий в городах Украины зарабатывал не больше 250–300 рублей в месяц и жил на черном хлебе, картошке, соленой рыбе. Ему всегда не хватало одежды и обуви[159]. В начале лета 1932 года пайки служащих были в Киеве урезаны с одного до полуфунта хлеба в день, а промышленных рабочих – с двух до полутора фунтов.[160] Студенты Киевского института животноводства получали 200 граммов эрзац-хлеба, тарелку рыбного супа, немного каши, капусты и 50 граммов конины в день.[161]
У магазинов Киева стояли очереди на полкилометра. Люди в них едва держались на ногах, цепляясь за ремень впереди стоящего[162]. Выдавали 200–400 граммов хлеба, но последним нескольким сотням уже ничего не доставалось, кроме талончиков или номера на завтрашний день, записанного на ладони[163].
Крестьяне стекались в города, чтобы встать в такую очередь или купить хлеб у тех, кому посчастливилось отовариться, или просто движимые непонятными им самим побуждениями. Несмотря на блокированные дороги и строгий контроль, многим удавалось пробраться в город, но, как правило, результат был минимален. Днепропетровск был переполнен голодающими крестьянами[164]. По подсчетам одного железнодорожника, больше половины крестьян, которым удавалось добраться до Донбасса в поисках пропитания, «доживали свои последние дни, часы, минуты».[165]
Чтобы доехать до Киева в обход заслонов на дорогах, «крестьяне продирались через болота и леса… Удавалось это лишь самым удачливым, одному из десяти тысяч. Но даже добравшись туда, они не находили спасения. Они лежали на земле, умирая от голода…».[166]
Жуткие, внушающие суеверный страх картины можно было видеть в городах. Люди как обычно спешили по делам, «а между ними, на четвереньках, ползли голодные дети, старики, девушки», у которых уже не было сил просить, и никто не замечал их.[167]
Но так было не всегда. Есть много свидетельств того, что жители Киева прятали крестьян от милиции[168]. В Харькове крестьянам тоже давали хлеб.[169] В Харькове же «я видел на Конском рынке (Киний площ)[*] женщину, опухшую от голода. Черви буквально ели ее заживо. Прохожие клали рядом с ней кусочки хлеба, но женщина уже слишком была близка к смерти, чтобы есть их. Она плакала и просила медицинской помощи, но никто не оказал ее».[170] (Один из врачей рассказывает, что на собрании медперсонала Киева был зачитан приказ, строжайше запрещающий медицинскую помощь всем крестьянам, нелегально проживающим в городе.)[171]
В Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе стало уже рутиной по утрам объезжать, улицы города и собирать трупы. В 1933 году на улицах Полтавы подбирали в день по 150 трупов.[172] Тоже происходило и в Киеве.
«Утром лошади тащили по городу повозки, в которые собирали трупы умерших за ночь. Я видел одну такую повозку с детьми. Они выглядели именно так, как я описал их выше: тощие, вытянутые, как мертвые птицы с острыми клювами. Эти малые птицы прилетели в Киев, и что это дало им? Некоторые из них все еще бормотали что-то и вертели головами. Я спросил о них возницу, но он только развел руками и сказал: „Пока доедем до места, и эти замолчат“.[173]
Живых тоже время от времени собирали и выгоняли из города. В Харькове еженедельно производились специальные операции по сгону голодных крестьян, которые осуществляла милиция с помощью специально мобилизованных для этого отрядов коммунистов.[174] Делалось это часто самым безжалостным способом, как вообще все операции, направленные против крестьян. Один из очевидцев, рабочий, так описывает милицейский рейд в Харькове 27 мая 1933 года по вылавливанию тысяч крестьян из очередей за хлебом: их посадили в вагоны, свезли в ров около станции Лизово[*] и бросили умирать от голода. Нескольким крестьянам удалось выбраться и сообщить умирающему крестьянину в соседней деревне Жидки, жена которого уехала с ребенком в город за хлебом, что они лежат в Лизово во рву. Но отец этого семейства умер дома, а мать с ребенком умерли во рву на следующий день[175].
Эти жертвы голода, доведенные до отчаяния, не выигрывали ничего – в лучшем случае у них было несколько дней передышки по сравнению с теми, кто умирал дома. Но потребность двигаться была сильна. Голодающий, говорит Гроссман, «испытывает муки и отчаяние сжигаемого заживо, у него одинаково болят и живот и душа». Поначалу он бежит из дома и бродит, но в конце концов «приползает обратно домой. И это означает уже, что голод и смерть победили».
* * *
Возвращались ли они обратно в свои деревни, или никогда не покидали их, но большинство жертв голода встретили свою смерть дома.
Из сельского населения Украины, составлявшего 20–25 миллионов, умерло около 5 миллионов, то есть почти одна пятая. Процент поражения существенно менялся от района к району и даже от деревни к деревне, от 10 и до 100 процентов.
Наибольшего коэффициента смертность достигала в зерновых областях: Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской, в среднем составляя там 20–25 процентов, но во многих селах процент был еще выше. В Каменец-Подольской, Винницкой, Житомирской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях он был ниже – около 15–20 процентов. На самом севере Украины, в районах, где выращивали сахарную свеклу, процент смертности был самым низким – отчасти благодаря тому, что в лесах, реках и озерах водилась живность и были растения, которые можно было использовать в пищу.
Врачи, находящиеся на государственной службе, фиксировали смерть от разных заболеваний, как, например, «внезапная болезнь» и т.п. С зимы 1932–1933 гг. свидетельства о смерти больше не выдавались. В селе Романково, например, удачно расположенном в шести километрах от больших металлургических заводов Каменска, где работали многие селяне, получая за работу продукты, за пять месяцев 1933 года умерло 588 человек из обшего числа в 4–5 тысяч. Сохранились свидетельства о смерти за август, сентябрь и середину октября, включающие большой процент рабочих. Почти во всех из них в графе причина смерти стояло: «истощение» или «дизентерия», и только в свидетельствах пожилых людей значилось: «старческая слабость».[176]
Хотя позднее отменили свидетельства о смерти, многие продолжали вести списки умерших односельчан; в отдельных селах даже официальные лица вели тщательный учет.
Сохранились короткие записи событий, которые велись теми, кто выжил: «Судьба села Ярески», «Гурск потерял 44 процента своего населения», «Голод опустошил село Плешкань», « 430 смертей от голода в селе Черноклови», «Опустошение голодом села Стрижевка» и т.д. На окраинах деревень и даже маленьких городов Киевской и Винницкой областей на мерзлой земле лежали груды человеческих тел, и не было никого, кто был бы в силах выкопать могилы.[177]
В деревне Маткивцы Винницкой области стояло 312 домов и население достигало 1293 человека. Трое мужчин и две женщины были расстреляны за сбор колосьев зерна на своих собственных участках, а 24 семьи были депортированы в Сибирь. Весной 1933 года многие умерли. Остальные бежали. Вокруг пустой деревни был поставлен кордон и повешен черный флаг, оповещавший об эпидемии. В документаx была зарегистрирована эпидемия тифа.[178] Русский друг автора этой книги рассказывает подобную историю со слов своего отца, бывшего комсомольца, состоявшего в отряде, посланном в такие села, где все население умерло, как им было сказано, от болезни, чтобы расставить там знаки: «Вход воспрещен» – якобы как санитарный кордон. На самом деле просто не хватало физической возможности захоронить все трупы. Эту часть происходящего они видели собственными глазами, остальное же им «объяснялось».
Официальные представители нередко сообщали, что при посещении деревень, где никого не осталось в живых или жило всего несколько человек, они находили в домах сплошные трупы. В деревнях с населением в 3–4 тысячи человек (Орловка, Смолянка, Грабовка) в живых осталось только от 45 до 80 человек[179]. Деревня Мачюки Полтавской области с двумя тысячами домов потеряла половину своего населения. Хутора и села той же области, скорее всего состоявшие из развитых единоличных хозяйств, были стерты с лица земли. К таким относятся: Сороки (50 семей), Лебеди (5 семей), Твердохлебы (5 семей), Малолитка (7 семей).[180] Для другой группы этих дотянувших до последнего хуторов агроном приводит цифру смертности приблизительно в 75 процентов.[181]
В некоторых селах уровень смертности был низким. «Весной 1933 года в селе Харьковцы умерло только 138 человек. По сравнению с другими местами это было хорошо».[182] В целом имеющиеся у нас сведения дают картину, начинающуюся с полного вымирания, и до сравнительно малой степени поражения.
За общее правило можно принять сообщение американского коммуниста, работавшего на советском заводе. Он утверждает, что ни в одном из 15 совхозов и колхозов, которые он посетил в сентябре 1933 года, процент смертности от голода для работавших там крестьян не составлял ниже 10 процентов.[183] В Орджердово ему показали книги записей. Население там снизилось с 527 человек в сентябре 1932 года до 420 – в апреле 1934-го (число коров снизилось с 353 до 177, свиней с 156 до 103).[184]
В селе Ярески благодаря его прекрасному виду на берегу Ворсклы часто проходили съемки советских фильмов. Население села снизилось с 1500 до 700 человек.[185] В одном селе Житомирской области с населением в 1532 человека 813 умерло от голода[186]. В другом селе с населением в 3500 человек только в одном 1933 году от голода умерло 800, зато родился одни ребенок – сын активиста.[187] Бывший советский журналист показал, что в его родном селе из 2011 человек 700 умерло в 1932–1933 гг. (Председатель: «Сколько лет было вашей дочери, когда она умерла от голода?» Г-н Деревянко: «Пять лет».)[188] В селе Ряжском Полтавской области тщательный подсчет показал, что из населения примерно в 9000 человек 3441 умерли от голода.[189] В селе Вербки Днепропетровской области в сентябре 1933 года больше половины домов опустели.[190]
После отмены запрета на въезд иностранных журналистов осенью 1933 года корреспондент «Кристчен сайенс монитор» поехал на Украину. Он посетил два района: один под Полтавой, другой – под Киевом. Как и американский коммунист, которого мы ранее цитировали, люди там говорили ему, что нигде коэффициент смертности не был ниже 10 процентов. Один секретарь сельсовета сказал ему, что из 2072 жителей умерло 634. В предыдущем году только одна пара поженилась. Родилось шестеро детей, из которых выжил только один. В четырех упомянутых им семьях остались 7 детей и одна женщина; 8 взрослых и 11 детей умерло.[191]
Еще более выразительно этот корреспондент описывает события в селе Черкассы в семи-восьми милях к югу от Белой Церкви, где смертность была значительно выше 10-процентной «нормы». «Иконы, висевшие на столбах и деревьях по дороге в село, были сняты, а терновый венок разрешили оставить – весьма подходящий символ того, что произошло в этом селе. Войдя в него, мы видели опустевшие дома с провалившимися оконными рамами. Сорняки и пшеница росли вперемежку, и некому было их собрать. На пыльной деревенской улице мальчик выкликал имена крестьян, умерших во время катастрофы прошлых зимы и весны».[192]
В Шиловке, которая очень пострадала в кампанию раскулачивания, смертность от голода была такой, что фургон забирал трупы дважды в день. Однажды возле кооператива нашли 16 трупов сразу.[193]
Коростышев, что неподалеку от Киева, был еврейским местечком. Бывший его житеть, побывавший там в 1933 году, пишет: «Я нашел буквально труп того местечка, какое я знал когда-то». Синагогу превратили в веревочный завод. Дети умерли от голода. (Заселение «обезлюдевших еврейских колхозов Украины» позднее стало предметом специально принятых мер.)[194]
В Каменец-Подольской области было протестантское село Озаренц. Большая часть его жителей вымерла.[195] Деревня немецких протестантов Хальбштадт Запорожской области была заселена меноннитами еще во времена Екатерины Великой. Небольшая помощь поступала меноннитам от их единоверцев в Германии, и потому они не умирали в таком массовом масштабе в 1933 ходу, но с 1937-го по 1938 год они все были сосланы как шпионы, имевшие эту самую связь с внешним миром.[196]
Для села Буденновка Полтавской области проведен анализ социального статуса 92 человек, умерших от голода. 57 из них были колхозниками и 33 – единоличниками. В соответствии с классовой схемой – 31 – бедняки, 53 – середняки и 8 – «зажиточные», включая двух, исключенных из колхоза.[197]
На практике в общем итоге именно те, кого коммунисты считали «бедняками» или, во всяком случае, те из них, кто не мог или не захотел примкнуть к новой сельской элите, стали основными жертвами голода.[198]
Один из отчетов о конфискации кукурузы в городе Запорожец-Каменск и окрестных деревнях фиксирует 9 случаев «сокрытия» зерна. Все укрыватели обозначены как «рабочие» (2) или «середняки» (7).[199]
Мы располагаем цифрами смертности для целых районов, которые частично были урбанизированы. В Чернухском районе, как показывают официальные, хотя и секретные отчеты, с января 1932-го по январь 1934 года из населения в 53 672 человека погибло 7387, почти половина из них – дети.[200] В другом районе Украины, из общей цифры населения в 60 000 человек, 11 680 человек умерло в 1932–1933 гг. (то есть около одной пятой), и было зарегистрировано только 20 новорожденных.[201]
* * *
До сих пор мы в значительной степени говорили о селах и цифрах. Но нельзя пройти мимо самих людей, которые страдали и умирали. Один из тех, кто выжил, дает ясную картину физических признаков голодания:
«Клиническая картина голода хорошо известна. Он разрушает ресурсы организма, создающие энергию, и разрушение прогрессирует по мере исчезновения из организма необходимых жиров и сахара. Кожа приобретает пыльно-серый оттенок и сморщивается. Человек заметно старится. Даже дети и младенцы выглядят стариками. Глаза их становятся огромными, выпученными и неподвижными. Процесс дистрофии иногда захватывает все ткани, и голодающий напоминает скелет, обтянутый тонкой кожей. Но чаще имеет место отек тканей, особенно рук, ног и лица. Кожа лопается, и появляются гноящиеся болячки. Утрачивается двигательная сила, и малейшее движение вызывает сильную усталость. Жизненно важные функции, такие как дыхание и кровообращение, поглощают саму ткань и альбумин (белковое вещество), то есть организм съедает сам себя. Улучшается дыхание и сердцебиение. Зрачки расширяются. Начинается голодный понос. Положение становится уже опасным, поскольку малейшее физическое напряжение может привести к остановке сердца. Часто это и происходит на ходу, во время подъема по лестнице или при попытке побежать. Появляется общая слабость. Теперь человек уже не может встать, повернуться на кровати. В таком полубессознательном состоянии голодающий может протянуть почти неделю, пока не остановится сердце».[202] Кроме того, прогрессируют цинга и фурункулез.
Менее клиническое описание страдающего от голода крестьянина дает его бывший сосед: «Под глазами у него были два вздутых мешка, обтянутых странного оттенка блестящей кожей. Руки тоже вспухли. На пальцах кожа прорвалась, и из ран сочилась прозрачная жидкость с каким-то резким отвратительным запахом».[203] На ступнях и лодыжках тоже были волдыри. Крестьяне садились на землю, чтобы проколоть пузыри, потом поднимались и, едва волоча ноги, шли побираться.[204] Или еще одно описание: «Ноги у нее страшно опухли. Она села и принялась прокалывать их острой палкой, чтобы выпустить воду из огромных пузырей. На верхней части одной ступни зияла огромная дыра – результат постоянного прокалывания кожи».[205]
«Смерть от голода – однообразное дело. Однообразное и повторяющееся», – замечает один из очевидцев.[206] Хотя мы приводим здесь лишь несколько частных случаев, следует помнить, что такова была судьба миллионов.
Пережившие голод говорят о смерти своих соседей простыми, лишенными эмоций словами. В селе Фадеевка в начале 1932 года жило 550 человек.
«Первыми умерли Рафалики –отец, мать и ребенок. Потом семья Фадеев из пяти человек умерла от голода. За ними последовали семьи Прохора Литвина (четыре человека), Федора Гонтова (трое), Самсона Фадея (трое). Второй ребенок этой семьи был забит до смерти за то, что пробовал рвать лук на чужом огороде. Потом умерли Микола и Ларион Фадей, после них Андрей Фадей и его жена; Стефан Фадей, Антон Фадей, его жена и четверо детей (две маленькие дочери выжили). Борис Фадей, его жена и трое детей. Оланвий Фадей и его жена. Тарас Фадей и его жена. Федор Фесенко, Константин Фесенко, Маланья Фадей, Лаврентий Фадей, Петр Фадей и его брат Фред, Исидор Фадей, его жена и двое детей. Иван Готов, жена и двое детей, Василий Перч, жена и ребенок. Макар Фадей, Прокоп Фесенко, Абрам Фадей, Иван Сказка, жена и восемь детей.
Только некоторые были похоронены на кладбище, остальных оставили лежать там, где умерли. Так, Елизавета Лукашенко умерла на лугу, и труп ее съели вороны. Других просто закапывали где попало. Труп Лаврентия Фадея пролежал на пороге его хаты, пока его не съели крысы».[207]
И еще:
«В деревне Лисняки Яхотинского района Полтавской области жила семья Двирко, родители и четверо детей, двое взрослых и два подростка. Семью раскулачили, выгнали из дому, а дом сломали. Во время голода 1932–1933 гг. вся семья, кроме матери, погибла от голода.
Однажды председатель колхоза Самокиш пришел к этой старухе и «мобилизовал» ее на работу в колхозном поле. Тоненькая старая женщина, собрав последние силы, пошла в колхозный центр, но не дошла. Силы ее иссякли, и она упала замертво у двери правления».[208]
Судьба двух семей в другом селе;
«Антон Самченко, его жена и сестра умерли, осталось трое детей… В семье Никиты Самченко остались отец и двое детей… Сидор Однорог умер с женой и двумя детьми, одна девочка осталась… Юра Однорог, его жена и трое детей умерли, одна дочь выжила».[209]
В маленькой деревне Орехово под Житомиром в 1933 году только 10 из 30 домов были еще обитаемы. Вымирали семьями. Характерным примером является семья Вивтовичей: «Их младший сын шестнадцати лет умер по дороге из школы в Шахворовке… Старшая дочь, Палашка, умерла на колхозном поле. Старая мать – на улице по дороге на работу… Тело отца нашли в Коростоховском лесу, наполовину съеденным зверями». Выжил только старший сын, служивший в ОГПУ на Дальнем Востоке.[210]
Еще один из переживших голод вспоминает, что несколько трагических эпизодов в деревне Вихнино, расположенной на границе Киевской, Винницкой и Одесской областей, произвели на него неизгладимое впечатление.
«Среди первых жертв голода в конце 1932 года была семья Таранюк: отец, мать и трое сыновей. Двое сыновей были комсомольцами и активно помогали в „сборе зерна“. Родители умерли дома, а сыновья под соседними заборами.
В это же время умерло шесть человек в семье Зверкановских. Чудом уцелели сын Владимир и дочь Татьяна.
Опухшего от голода кузнеца Иллариона Шевчука, который в 1933 году пришел в сельсовет просить помощи, заманили в кузницу и забили железными палками. Убийцами были: председатель сельсовета Я.Коновальский, его помощник И.Антонюк и секретарь В.Любомский.
Несчастную вдову Данилулу и ее сыновей ждал трагический конец. Труп ее съели черви, а два сына, Павло и Олеска, умерли, прося милостыню. Выжил только третий сын Трофим, сумевший раздобыть еду в городе.
Порфир Нетеребчук, один из самых старательных мужиков, ставший хромым от тяжелой работы, был найден мертвым у церковного забора.
Старый Иван Антонюк умер после того, как его дочь Ганна накормила его «хлебом», приготовленным из зеленых хлебных колосков, срезанных, вопреки бдительности сельских властей, на полях.
Олеска Войцеховский спас жизнь себе и своей семье (жене и двум маленьким детям), кормя их мясом колхозных лошадей, павших от сапа и других болезней. Он выкапывал их по ночам и приносил мясо домой. Его старший брат Яков и невестка до этого умерли от голода».[211]
Рабочий, посетивший свою старую деревню, узнал, как умер его тесть Павло Гусар, опухший от голода. «Он отправился в Россию в поисках хлеба и умер в зарослях возле села Лиман, в трех с половиной милях от дома. Жители Лимана помогли похоронить его. Они-то и рассказали мне, как сестра жены наелась мякины и корней и померла на следующий день; как вдова моего старшего брата поехала за хлебом в Россию: ее несколько раз хватали, она меняла одежду на еду, чтобы накормить трех своих детей и мою старую мать, и в конце концов сама умерла от голода. Потом умерло двое детей – шестилетний Яков и восьмилетний Петро».[212]
Двое американцев, родом из этих мест, посетили родную деревню в конце 1934 года. Их родители умерли, лицо сестры изменилось неузнаваемо.[213] В одной украинской хате кто-то еще дышал, другие уже нет, «дочь хозяина, которого я знал, лежала на полу в состоянии какого(-то) безумия и глодала ножку стула… Когда она услышала, что кто-то вошел, она не повернула головы, а зарычала, как рычит собака, когда она гложет кость и кто-нибудь подходит близко».[214]
Репортер агентства Ассошиэйтед Пресс пишет о том, как сотрудник газеты «Правда», журналист, набивший руку на передовицах о том, как лгут капиталисты, показывал ему письмо своего отца, еврея с Украины:
«Любимый сын мой!
Пишу тебе, чтобы сообщить о смерти твоей матери. Она умерла от голода после многих месяцев страданий. Я тоже близок к смерти, как и многие другие в нашем городе. Иногда нам удается перехватить кое-какие крохи, но слишком мало, чтобы продлить нам жизнь, если из центра не пришлют каких-нибудь продуктов. На сотни верст вокруг есть совершенно нечего. Последним желанием твоей матери перед смертью было лишь одно – чтобы ты, наш единственный сын, прочел по ней Кадиш. Как и твоя мать, я тоже надеюсь и молюсь о том, чтобы ты забыл о своем атеизме теперь, когда безбожники обрушили на Россию гнев Божий. Надеюсь, я не перейду границ дозволенного, если попрошу тебя написать мне, что ты прочел Кадиш по матери, хотя бы единожды, и что ты сделаешь то же и для меня? Ведь это очень облегчило бы мне смерть.»[215]
Американский корреспондент был в деревне Жук Полтавской области в сопровождении председателя местного колхоза и агронома. Они водили его по домам довольных жизнью бригадиров и коммунистов. Потом он захотел войти в хату по собственному выбору, сопровождавшие последовали за ним. Единственной обитательницей ее оказалась пятнадцатилетняя девочка, с которой он и побеседовал:
«– Где твоя мать?
– Умерла от голода прошлой зимой.
– У тебя есть братья и сестры?
– Было четверо, но все умерли.
– Когда?
– Прошлой зимой и весной.
– А твой отец?
– Он работает в поле».
Когда они вышли, «власти» не произнесли ни слова.[216]
В лагере для переношенных лиц в Германии в 1947–1948 гг. была опрошена группа лиц, 41 человек (большей частью горожане, родственники которых остались в деревне). На вопрос, умер ли кто-нибудь в их семье от голода, 15 ответили отрицательно, 26 – положительно.[217]
Крестьянские семьи, постепенно вымиравшие от голода в своих пустых хатах, смерть встречали по-разному:
«В одной из хат шла постоянная война. Все напряженно следили друг за другом. Отнимали друг у друга крошки. Жена набрасывалась на мужа, а муж на жену. Мать ненавидела детей. В другой хате до самого конца царила любовь. У одной моей знакомой было четверо детей. Она рассказывала им все время сказки и притчи, чтобы заставить их забыть о голоде. Язык ее едва ворочался и, хотя у нее не было сил поднять руку, она все время брала в свои руки ладошки детей. Любовь не умирала в ней. Люди замечали, что там, где царила ненависть, умирали значительно быстрее. Но, увы, и любовь никого не спасла от голодной смерти. Погибла вся деревня, все как один. Не выжил никто».[218]
Помимо физических симптомов, голод порождал симптомы и психические. Было много доносов, обличающих того или иного крестьянина в утайке зерна, иногда и нефальшивых.[219] Убийство стало делом привычным, вот некоторые такие случаи:
«В селе Белка Денис Ищенко убил сестру, ее мужа и их шестнадцатилетнюю дочь, чтобы забрать тридцать фунтов муки. Он же убил своего друга Петро Коробейника, когда тот нес четыре буханки хлеба, раздобытые им как-то в городе. За несколько фунтов муки и несколько буханок хлеба голодные люди лишали других жизни».[220]
Имеется множество сведений о самоубийствах, почти всегда через повешение. Нередко матери таким образом избавляли детей от страданий. Однако самым страшным симптомом, порождаемым голодом, был следующий:
«Многие сходили с ума… Были люди, которые разрезали и варили трупы, убивали своих детей и съедали их. Я видел одну такую. Ее привели в районный центр под конвоем. Лицо у нее было нормальным, но глаза волчьи. Это людоеды, их надо расстреливать, говорили о них. Но доведшие матерей до такого сумасшествия, что они поедали своих детей, – эти, по-видимому, не виновны ни в чем!.. Пойдите, спросите у них, и они ответят вам, что делали это во имя добра, во имя всеобщего блага. Вот, оказывается, во имя чего они доводили матерей до людоедства».[221]
Не существовало закона против каннибализма (его, наверное, нет и на Западе). Секретная инструкция от 22 мая 1932 года, подписанная заместителем начальника ГПУ Украины К.М.Карлсоном и спущенная всем ГПУ и главным прокурорам областей Украины, гласит: «Поскольку в уголовном кодексе нет статьи о каннибализме, все обвиняемые в этом должны быть немедленно доставлены в местные отделения ГПУ». И дальше: если людоедству предшествовало убийство, наказуемое по статье 142-й Уголовного кодекса, то и эти случаи должны быть переданы судами в ведение Госбезопасности.[222] Не все людоеды были расстреляны.По имеющимся данным, 75 мужчин и 250 женщин еще в конце 30-х годов отбывали сроки наказания – пожизненные – в лагерях на Беломорско-Балтийском канале.[223]
Известны страшные случаи людоедства: некоторые ели собственных детей, другие ловили детей или подстерегали в засаде чужаков. Например, в селе Калмозорка Одесской области, где вели следствие в связи с кражей свиньи, обыск в деревне кончился обнаружением сваренных трупов детей.[224]
Людоедство и готовность к нему не всегда были следствием приступа внезапного отчаяния. Один из активистов, мобилизованный во время кампании коллективизации на работу в Сибири, в 1933 году вернулся на Украину. Население его деревни «почти вымерло». Его младший брат рассказал ему, что они питаются только корой, травой и зайцами, но что если этого не станет, то «мать говорит, чтобы мы съели ее, когда она умрет».[225]
Примеры такого поведения людей, доведенных голодом до полной утраты человеческих норм, вполне сопоставимы, хотя и в ином плане, с так называемым некоммунистическим поведением, которое представляется нам еще менее понятным нарушением привычных норм и ценностей. Мы имеем в виду обращение, которому подверглись многие лояльные местные активисты.
Настоящая местная элита – партработники, сотрудники ГПУ и пр. – легко пережили голод, их прекрасно кормили. Но это не распространялось на рядовых активистов.
«Комитеты бедняков беспощадно противостояли всем усилиям кулаков и контрреволюционных элементов сорвать поставки зерна».[226]
В финале такой кампании активистов как бы переводили в другие села, а все продукты, которые они сами попрятали, конфисковывались в их отсутствие.[227] И когда 8 марта 1933 года их миссия завершилась, комбеды были распущены, а их членов оставили голодать вместе с прочими односельчанами.[228]
Их, конечно же, не любили. Вот типичный пример их обращения с людьми. В одной из деревень комитет бедноты приказал крестьянам отвезти зерно в соседний город именно в канун Рождества. Им пришлось стоять там два-три дня в очереди, чтобы сдать свое собственное зерно.[229]
Поэтому, когда активистам тоже выпало на долю умирать от голода, то жалости это ни у кого не вызывало. В селе Степановка Винницкой области местный активист, член отряда по конфискации зерна, всегда распевал «Интернационал», начинающийся словом «Вставай!..» Весной сельчане нашли его лежащим на дороге и издевательски закричали ему: «Эй, Матвей, вставай!» Но он почти тут же умер.[230] По имеющимся данным, почти во всех деревнях активисты мерли от голода весной 1933 года.[231] В Киевской области половина из них умерла от голода, один впал в людоедство.[232]
* * *
Еще более поразительный или, по крайней мере, куда более важный аспект психопатии сталинизма проявился в том, что ни прессе, ни какому-либо иному источнику информации не позволено было даже упоминать о голоде. Люди, обмолвившиеся хоть словом, арестовывались по обвинению в антисоветской пропаганде, получая, как правило, пять или более лет трудовых лагерей.
Преподавательница сельскохозяйственной школы в Молочанске под Мелитополем вспоминает, как ей запретили произносить слово «голод», хотя еды не хватало даже в городе, а в одном из соседних сел в живых не осталось ни одного человека.[233]
В Нежинском лицее (Черниговской области), где учился Гоголь, школьников, которым не хватало еды, строго-настрого предупредили не жаловаться на голод, иначе их обвинят в «распространении гитлеровской пропаганды». Когда умерли старая библиотекарша и девушки-уборщицы и кто-то произнес слово «голод», партийный активист закричал: «Контрреволюция!»[234]
Солдат, служивший в 1933 году в Феодосии в Крыму, получил письмо от жены, в котором она писала о смерти соседей и бедственном положении ее и ее ребенка. Офицер политотдела перехватил письмо, и назавтра солдат объявил его фальшивкой. Жена и сын его погибли[235].
Рассказывают о докторе, который был приговорен к 10 годам заключения «без права переписки» (обычный эвфемизм при смертном приговоре) за то, что рассказал кому-то, как его сестра умерла от голода после конфискации у нее всех продуктов питания[236].
Даже официальным лицам, которые везде видели вокруг себя смерть, запрещалось – они запрещали себе сами – видеть «смерть от голода». Агроном послал старика с отчетом в местную МТС, тот по дороге умер. Агронома обвинили в том, что он послал больного, на что он возразил, что вся деревня голодает. В ответ ему заявили: «В Советском Союзе нет голода, ты слушаешь сплетни, которые распускают кулаки», а потом добавили: «Заткни пасть!»[237]
Это нежелание признать правду и отказ допустить какое-либо упоминание о реальной действительности, несомненно, были составной частью генерального сталинского плана. Как мы увидим в главе 17-й, такое умолчание в будущем достигнет мирового масштаба.
Глава тринадцатая. Земля была пуста…
И было это на Украине не так давно.
Т.ШевченкоРанней весной 1933 года Малькольм Магридж писал:
«Побывав недавно на Северном Кавказе и Украине, я видел некое подобие битвы между правительством и крестьянами. Поле этой битвы имеет здесь такой же разоренный, опустошенный вид, как на любой войне, и ширится все больше, захватив уже значительную часть России. По одну сторону линии фронта – миллионы голодающих крестьян, часто опухших от голода, по другую – солдаты войск ГПУ, выполняющие указания диктатуры пролетариата. Они заполонили всю страну, как стая саранчи, и отобрали все съедобное. Они расстреляли или сослали тысячи крестьян, иногда целые деревни, они превратили самые плодородные в мире земли в печальную пустыню»[1].
Другой англичанин увидел:
«Плодородные поля Советской Украины – на каждом из них невывезенное зерно, оставленное гнить. Были районы, где можно было в течение целого дня проезжать мимо таких полей с чернеющей пшеницей. И только изредка попадался крошечный оазис, где урожай был благополучно собран»[2].
Очевидец-горожанин приводит описание наихудшей из таких земель:
«Мы шли по невозделанной земле милю за милей. Максим сказал, что ее не возделывали больше двух лет… После часа такой ходьбы мы подошли к пшеничному полю, или вернее сказать, к полю сорняков вперемежку с пшеницей. Максим сорвал колос пшеницы и показал мне несозревшие зерна»[3].
Вопрос о сорняках в том году рассматривался даже на уровне Политбюро, обвинили в этом крестьян. «В целом ряде мест выросли различные сорняки, мы выдираем и сжигаем их. Но почему они поднялись? Из-за плохой обработки почвы», – так сказал Каганович на съезде ударников села в феврале 1933 года[4].
Если в 1921 году отчаянные крестьяне Украины одержали победу, то в 1930-м они потерпели неудачу, а в 1932–1933-м – страшное поражение.
По сравнению с 1921 годом режим в 1930–1931 и в 1932–1933 гг. стал куда более организованным и централизованным. Еще в 1860-х годах Герцен говорил, что больше остального пугает его «Чингиз-хан с телеграфом». Это определение прекрасно приложимо к тому, что происходило теперь на землях, опустошавшихся монголами много веков назад; сейчас они переживали ужас второго «монгольского нашествия».
Один из персонажей романа «Москва» прославленного немецкого писателя-коммуниста Теодора Плевье, долго жившего в СССР, – это образ «одного человека», способного «сделать голод своим союзником, чтобы достичь поставленной им цели: заставить крестьянина ползать у него в ногах как червь». В это же время, анализируя все происходившее с позиции коммуниста, М.М.Хатаевич говорил одному из активистов: «Между нашим режимом и крестьянством идет беспощадная война. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Этот год был испытанием нашей силы и их выносливости. Пришлось прибегнуть к голоду, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но система колхозов устояла. Мы выиграли войну»[5]. Во всех «трудностях», как обозначил Каганович зарастание полей сорняками, виноваты были сами крестьяне. В июне на съезде колхозников Калинин сказал: «Каждый хозяин знает, что люди, попавшие в беду из-за недостатка хлеба, оказались в этом затруднительном положении не из-за плохого урожая, а потому, что ленились и не хотели честно трудиться каждый день».[6] Этой линии по сей день держатся некоторые советские ученые, один из которых, например, отмечает, что «события 1932 года послужили хорошим уроком колхозникам», добавляя, что кулацкий саботаж урожая привел к нехватке пищи».[7]
Однако теперь, когда «победу» одержали, нельзя было допустить, чтобы прежнее катастрофическое положение в сельском хозяйстве продолжало сохраняться, и в Москве это понимали.
* * *
В действительности власти, как мы уже видели, готовились восстановить нормальные методы хозяйствования даже в то время, когда голодающей Украине на словах отказывали в помощи.
19 января 1933 года новый закон установил простой зерновой налог («с практически обрабатываемой земли») вместо зернопоставок, хотя он вошел в силу лишь позднее. 18 февраля Совет Народных Комиссаров позволил ввести торговлю зерном в Киевской и Винницкой областях и некоторых других районах Советского Союза (к тому времени в обеих названных областях уже не осталось зерна на продажу). И наконец, 25 февраля, как мы видели, власти распорядились «субсидировать посевное зерно» для следующего урожая – из них 325 000 тонн было выделено Украине. 15 марта 1933 года поставки зерна на Украине были наконец официально прекращены.[8] Реквизиции зерна, правда, поощрялись до самого конца – якобы с целью вернуть необходимое «посевное зерно, украденное или незаконно распределенное»[9], как сформулировал Постышев. Однако уже в апреле Микоян отдает в Киеве приказ отпустить крестьянам часть зерна из армейских запасов.[10] Известны многие случаи раздачи хлеба крестьянам в конце весны 1933 года. При этом тех из них, которые поторопились съесть сразу слишком много, часто ждал летальньй исход. В мае предприняли дальнейшие попытки спасти тех, кто оставался в живых: в некоторых районах открыли больницы, заняв под них опустевшие крестьянские дома; голодающих кормили там молоком и гречневой кашей, чтобы вернуть им здоровье. Многие из них были в таком состоянии что лечение не спасло их, а некоторые все же выжили; женщинам и девочкам это удавалось лучше, чем мужчинам и мальчикам.[11] Однако сотрудник одной из таких, «больниц скорой помощи» своими глазами видел отца семейства, еще молодого человека, лежавшего в очень тяжелом состоянии и смотревшего, как его жену и двух сыновей – шести и восьми лет – отнесли в сарай, где складывали трупы, и, против ожидания, этот человек выжил.[12]
В конце мая, по имеющимся сведениям, смерть от голода в массовом масштабе практически прекратились, хотя коэффициент смертности по-прежнему оставался выше обычного.[13]
* * *
Истощенное крестьянство было теперь брошено на новую посевную кампанию. Но ни крестьяне, ни их лошади после пережитого голода к тяжелой работе оказались неспособны. Рассказы о смерти и истощенности лошадей теперь широко печатались в украинской прессе. Было принято решение использовать в помощь лошадям молочных коров.[14] Нет надобности говорить, что за состояние лошадей в ответе были опять же «кулаки» (одно из критических замечаний, направленных против бедняков и середняков, носило странный характер. В нем говорилось, что они показали «кулацкую некомпетентность в обращении и использовании рабочего скота»).[15] Студент, направленный на работу в деревню, описывает колхоз, где большую часть лошадей «держали на ногах с помощью веревок; если бы они легли, то уже бы никогда не встали». Их кормили тростниковой соломой, нарезанной и распаренной. Только 4 из 39 лошадей, отправленных на поля, дошли до них – и только 14 из 30 колхозников. Лошади были слишком слабы, чтобы тащить борону, им надо было помогать. Люди же очень недолго оказывались в состоянии тащить мешки с зерном, а потом были вынуждены снимать их. Те и другие едва дотягивали до четырех часов дня; лошади дальше не шли. Тогда председатель колхоза давал отбой, но все-таки «что-то было сделано».[16]
Украинское правительство призывало к более упорному труду, укоризненно упоминая колхоз, где крестьяне работали практически только семь с половиной часов вместо шестнадцати, которые сами себе записывают[17].
В июне 1933 года Затонский приехал в село. К нему обратилась толпа изнуренных крестьян, которых секретарь райкома представил ему как «уклонистов». Затонский заметил: «Если они умрут, это послужит уроком для других»[18].
Из-за физической неспособности крестьян выполнить всю работу и из-за огромной истощенности всей рабочей силы, сев 1933 года удалось закончить лишь с помощью разных дополнительных мер. В конце концов для колхозных лошадей выделили фураж, при этом вышло указание, что за использование фуража для иных целей будут привлекать к судебной ответственности по закону от 7 августа 1932 года.[19] Начиная с мая, в помощь селу была брошена масса рабочих рук, включая крестьянок. В свекловодческом колхозе, например, бригада из 25–30 женщин начала засевать ряды свеклы; когда они закончили их, половина лежала без сил. Тем не менее, даже теперь уполномоченный политотдела МТС (то есть офицер местного ГПУ), пришедший в поле во время раздачи пайка – ячменной и овсяной каши, – набросился на женщин, крича, что они ленивые «барыни»; те раскричались в ответ, побросали в него тарелки с кашей и горячим супом и избили его. Зачинщица баталии на следующий день спряталась в лесу, однако уполномоченный предпочел не докладывать об этом эпизоде[20].
Нехватка рабочей силы в деревне была возмещена также извне. На сбор урожая мобилизовали студентов и других горожан[21]. На помощь были брошены отряды солдат. В селах, где все население либо вымерло, либо бежало, солдат поселили в палатках вдали от поселений и сказали им, как и всем остальным, что там была эпидемия[22].
Более важным и постоянным явлением стало переселение крестьян из России в пустые или полупустые деревни Украины.[23] Неопубликованный указ, подписанный Молотовым, гласил, что, идя навстречу пожеланиям жителей центральных районов СССР, им разрешалось селиться на «свободных землях Украины и Северного Кавказа».[24] Около 100 русских семей было отправлено в Днепропетровскую область, другие – в различные места Запорожской, Полтавской и других областей – хотя многие из них так и не смогли жить в домах, где все пахло смертью, и «вернулись в Орел».[25] Обезлюдевшие деревни Ворошиловградской области, в первой половине 1933 года заросшие сорняком и неубранной яровой пшеницей, теперь были заселены русскими.[26] Имеющиеся во многих наших источниках сведения подтверждаются сообщениями официальной прессы[27]. Переселенные сюда крестьяне получали специальный паек – 50 фунтов пшеницы в месяц.[28]
В селе Мерефа Харьковской области дети жили одни, сиротами, на попечении выживших активистов. Когда приехавшие в 1933 году русские заняли бывшие дома этих детей, сироты били русских детей, называя их ворами и грабителями. В результате объявленного виновным сельского учителя приговорили к двенадцати годам трудовых лагерей.[29]
Разумеется, как и прежде, ругали за «ошибки» не только крестьян, но и менее активных партийцев. 17 июня 1933 года была выпушена инструкция, подписанная Сталиным и адресованная Косиору (копии были направлены секретарям обкомов, горкомов и райкомов), в которой говорилось:
«Напоминаю вам в последний раз, что любое повторение ошибок прошлого года вынудит ЦК прибегнуть к более решительным мерам. И тогда даже, простите за выражение, партийные бороды не спасут этих товарищей».[30]
Это, безусловно, звучало угрозой старым кадрам, руководству Украины – хотя сам-то ЦК Украины обрушивался на подчиненные ему организации. Особенно доставалось от него Одесскому обкому. Газета компартии Украины ругала его за «решение отдавать пшеницу первого гектара на нужды местного или, точнее, общественного питания. Это ложно и ошибочно, поскольку подобное решение отодвигает на второй план снабжение хлебом государства, а проблему общественного питания выпячивает – на первый. Это доказывает, что некоторые из наших областных комитетов подпали под влияние интересов колхозников и тем самым служат интересам врагов нашего пролетарасого государства».[31] Удивительно искренняя формулировка!
Подобным же образом газета нападала и на председателя колхоза, который три раза выпек хлеб для крестьян из их собственной колхозной пшеницы. Его вместе с председателем сельсовета судили за раздачу зерна крестьянам.[32] К 15 октября 1933 года 120 000 членов украинской компартии были проверены на политическую благонадежность, и 27 500 «классовых врагов, неустойчивых и разложившихся элементов» были исключены из партии[33].
В резолюции Третьей украинской партконференции в январе 1934 года очень тонко объяснялись «недостатки». Установление плановых норм на зерно осуществлялось, оказывается, «механически», без учета местных условий, и поэтому «целый ряд районов» не обязательно в результате плохого урожая оказался в «очень тяжелых продовольственных условиях и экономика некоторых колхозов в этих районах понесла ущерб»[34].
В некотором смысле эта критика в адрес местных властей, как обычно, была не лишена оснований. Но все это относилось к малозначимым деталям общей кампании. Центральный же ее момент состоял в том, что валовой урожай зерна СССР в 1932 году был не хуже, чем урожай 1931 года, и только на 12 процентов ниже среднего урожая 1926–1930 гг., и уж ему-то было совсем далеко до уровня, с которого начинался голод. Зато госпоставки зерна оказались на 44 процента выше прежнего, и никакой «учет местных условий» не мог предотвратить кризиса и голода. И в этом совершенно однозначно можно винить Сталина и московское руководство.
* * *
Косиор обнажил истинную ситуацию с госпоставками, когда на февральском пленуме 1933 года сказал, что если бы партия в своих расчетах исходила только из количества посевных площадей, она не смогла бы получить и половины того зерна, что было ей поставлено, Подсчитано, что валовой сбор, то есть практически снятый урожай, включал по меньшей мере два миллиона тонн зерна, первоначально предназначенного на прокорм крестьянства.[35]
Истинность таких цифр, как и большинство цифр в сфере советского сельского хозяйства, зависит от уровня квалификации западных аналитиков, ибо официальные советские данные либо извращены, либо их вовсе не существует. До 1928 года районы определяли свой урожай по результатам пробной молотьбы, и этот метод был надежным. Но в 1933 году было обнаружено, что опубликованные цифры «собранного урожая» получаются теперь после вычитания 10 процентов из общего количества зерна, какое могло быть получено, если бы было собрано в зернохранилища без потерь. Поскольку, добавляет автор одной из статей в «Известиях», в большинстве случаев обмолот всегда был на 30, 40 или 50 процентов ниже установленного таким образом «биологического урожая»,[36] то мошенничество было очевидным, И поскольку первыми должны были быть удовлетворены требования государства, то отсюда, естественно, следует, что остаток, выделенный крестьянству, был в основном воображаемым.
Ведущий западный специалист по советскому сельскому хозяйству подсчитал, что подлинная цифра урожая 1933 года в СССР составляла 68,2 миллиона тонн, из которых только 0,8 миллиона было экспортировано.[37] (по официальным данным цифра экспорта равнялась 1,75 миллиона тонн). В 1930–1931 гг. экспортировалось 5 миллионов тонн в год. Ни одна из этих цифр не могла сама по себе привести к голоду. Главным виновником голода поэтому был не экспорт, а отправка зерна в «резерв». Сам Сталин в циркуляре, который цитировался выше в этой главе, подчеркнул важность резервов, обвиняя «наивных товарищей», позволивших «выбросить на ветер» в прошедшем году «десятки тысяч пудов ценного зерна» на Украине, ибо они недооценили значение Проекта запасов зерна. Эти «резервы», добавил Сталин, нельзя сокращать никогда.[38]
Больше того, значительная часть зерна, отобранная такой ценой у крестьянства, так никогда и не попала даже в резервы. Как прежде (это является обычным для Советского Союза и сегодня), потери его оказались колоссальными. В ноябре 1933 года Постышев отметил, что «значительное количество зерна было потеряно из-за небрежного о6ращения».[39] В прессе осталось множество сообщений о том, как это происходило. Так, на станции Киев-Петровка огромная куча зерна была просто брошена гнить[40]. На сборочном пункте в Тракторском двадцать железнодорожных вагонов с зерном были затоплены.[41] В Краснодаре пшеница гнила в мешках[42]. В Бахмаче зерно было свалено в кучи на землю и сгнило.[43] Просоветский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Уолтер Дюранти отметил (но не опубликовал в своей газете), что «очень много зерна можно было видеть на железнодорожных станциях, большая часть его хранилась на открытом воздухе»[44]. Осенью 1933 года товарный поезд, груженный зерном, потерпел крушение около Челябинска. Зерно лежало на открытом месте целый месяц. Его почти сразу же огородили колючей проволокой и поставили часовых. Каждую ночь делались попытки похитить зерно. Нескольких застрелили, раненых отправили в больницу, потом судили. Когда, наконец, зерно перевезли, то выяснилось, что оно целиком сгнило под дождем и было уже непригодно даже для технического использования в промышленности[45]. В данном случае это произошло в результате аварии, но аналогичные случаи имели место в условиях обычного хранения. В целом, по данным немецкого специалиста в сельском хозяйстве, приведенным в отчетах британского посольства, «до 30 процентов урожая (1933 года) было потеряно»[46]. Даже существенно меньшей цифры было достаточно, чтобы кардинально изменить крестьянскую долю.
В это же время снизили жизненный уровень тех, кто сумел выжить. Июньским циркуляром Сталин указал, что только 10 процентов обмолоченного зерна можно оставлять в колхозах «для пропитания после выполнения госпоставок, оплаты машинно-тракторным станциям, закладки посевных и фуражных фондов».[47] Голод был все-таки чрезвычайным методом борьбы, а теперь украинского крестьянина поставили в условия постоянных лишений и эксплуатации.
Параллельно продолжалась атака на его национальное наследие. Популярная в народе национальная культура на протяжении веков поддерживалась в украинской деревне слепыми бардами, воспетыми Шевченко кобзарями, которые странствовали из деревни в деревню, зарабатывая на жизнь исполнением старинных народных песен и пересказом народных баллад.
Они постоянно напоминали крестьянам об их свободном и героическом прошлом. Это «нежелательное явление» теперь было подавлено. Всех кобзарей созвали на съезд и, собрав там всех вместе, арестовали. По имеющимся сведениям, многие из них были расстреляны[48] – в этом имелась своя логика, ибо от них было мало толка в лагерях принудительного труда.
* * *
Кампания против защитников украинизации неослабно продолжалась в городах. В момент пика голода было разоблачено большинство «вредителей» в официальных учреждениях, связанных с аграрной катастрофой. 75 старших сельскохозяйственных специалистов, осужденных 5 марта, прошли по делу «саботажа на Украине, Северном Кавказе и в Белоруссии»[49].
Но на Украине удары скоро переросли в специфически антинациональную кампанию. Старая интеллигенция, воплощавшая всю широту культуры страны, уже была сокрушена. Настала очередь националистических элементов в самой партии коммунистов.
Была установлена, конечно, связь между заговорщиками из коммунистов-«националистов» и жертвами предыдущих лет – некоммунистами. Матвей Яворский, главный идеологический сторожевой пес партии, приставленный в двадцатых годах к украинским историкам, был разоблачен еще в 1930 году за свою до тех пор считавшуюся ортодоксальной «националистическо-кулацкую» систему идей[50]. Теперь (в марте 1933 года) его арестовали по обвинению в принадлежности к «Украинской военной организации» (УВО). Похоже, что он был отправлен в лагерь и потом расстрелян там в 1937 году. Среди соучастников заговора, якобы финансируемого «польскими помещиками и немецкими фашистами»[51], были Шумский, первый лидер «национал-уклонистов» в украинской компартии, и несколько других лиц, в том числе секретарь Скрыпника Эрстенюк. Вскоре была выявлена «Польская военная организация», во главе которой стоял бывший секретарь Черниговского обкома. Она обвинялась в связях с националистическими и польскими ассоциациями. А чуть позднее был раскрыт «Союз Кубани и Украины», членов которого судили закрытым судом[52].
1 марта 1933 года было объявлено об изменениях в правительстве Украины. Наиболее значительным было смещение Скрыпника с поста народного комиссара просвещения, который он так долго занимал (его назначили на пост председателя республиканского Госплана – пост менее влиятельный).[53]
Институт языкознания Украинской академии наук был основным центром национального возрождения при Шуйском и Скрыпнике. 27 апреля 1933 года «Правда» назвала его сборищем буржуазных националистов, которые замышляли противопоставить украинский язык «братскому русскому языку». Вскоре после этого семь ведущих украинских филологов и множество менее значительных фигур были арестованы[54].
12 мая был арестован Михайло Яловый, руководитель политического отдела Укргосиздата. 13 мая его ближайший коллега Микола Хвылевой, «наиболее яркая фигура в украинской литературной жизни», застрелился, оставив ЦК Украины письмо с критикой нового террора[55]. В течение следующих недель и месяцев было еще несколько самоубийств и множество арестов среди литературной интеллигенции.
10 июня 1933 года Постышев выступил на заседании ЦК Украины с речью о деятелях культуры, которые оказались агентами врага и которые «прятались за широкой спиной большевика Скрыпника». В области философии, литературы, экономики, лингвистики, агрономии и политической теории они насаждали идеи, направленные на свержение советского правительства, и были также ответственны за трудности в поставках зерна. Скрыпник, добавил Постышев, иногда открыто защищал их.[56]
Есть сведения, что Скрыпник дерзко критиковал Постышева на заседании ЦК, обвиняя его в предательстве принципов интернационализма. Кажется, он повторил это и на заседании Политбюро Украины. В течение июня и июля Постышев и другие руководители постоянно критиковали его, и 7 июля он защищался на Политбюро. Там требовали его безоговорочной капитуляции. Вместо этого он в тот же день застрелился.
Официальный некролог еще характеризовал его не как преступника, а скорее как «жертву буржуазно-националистических элементов… завоевавших его доверие», после этого он совершил «ряд политических ошибок», которые ему не хватило мужества пережить, и потому он покончил с собой – «акт малодушия, в особенности недостойный для члена ЦК компартии Союза».[57]
Но уже в ноябре он стал «националистом-дегенератом… близким с контрреволюционерами, стремившимися к интервенции»[58]. К его преступлениям относились упорные попытки помешать русификации украинского языка. В последний год своей деятельности он продолжал борьбу и даже слегка критиковал Кагановича во время его визита в Киев, когда тот в согласии с новой линией Сталина заявил, что нужно бы приблизить синтаксис украинского языка к русскому[59]. Теперь Скрыпника обвиняли и в стремлении «максимально отделить украинский язык от русского»[60], и самым серьезным из предъявляемых обвинений стало его участие и помощь при введении в украинскую орфографии мягкого «л» и новой буквы для обозначения твердого «г». В 1932 году это еще называли буржуазным деянием, а в 1933 году уже классифицировали как контрреволюцию. Постышев заявил, что твердое «г» помогло «националистическим злоумышленникам». Кроме того, оно «объективно» способствовало планам аннексии со стороны польских помещиков.[61]
Когда в 1933 году Косиор предавал Скрыпника анафеме, он с позиций сталиниста не так уж неверно обобщил взгляды, сложившиеся у Скрыпника в последние годы его жизни. «Скрыпник чрезвычайно переоценил и преувеличил национальный вопрос. Он сделал его краеугольным камнем, говорил о нем, как о чем-то самодовлеющем. Он пошел даже так далеко, что отрицал второстепенную роль национального вопроса в классовой борьбе и установлении диктатуры пролетариата». Действительно, Скрыпник писал: «Неверно утверждать, что национальный вопрос второстепенен в общей теории классовой борьбы»[62].
* * *
Массированную атаку на культурные институты Украины еще раньше предвещало июньское выступление прихвостня Сталина Мануильского (Троцкий назвал его «самым отвратительным ренегатом украинского коммунизма») на собрании киевской парторганизации по проблемам культуры: «На Украине есть целый ряд учреждений, имеющих высокий статус академий, институтов, ученых обществ, которые часто являются прибежищем не социалистической науки, а классово враждебной идеологии. Национальный вопрос был отдан на откуп бывшим членам националистических партий, которые не сумели органически влиться в компартию»[63]. Потом их квалифицировали (Косиор) уже как «многих членов мелкобуржуазных националистических партий и примиренческих организаций, которые позднее вступили в ряды нашей партии… украинских социал-демократов, боротьбистов и др.»[64]
Теперь чистке подверглись все имевшиеся культурные, академические и научные организации. Как сказал Косиор, «контрреволюционные гнезда были созданы в народных комиссариатах образования, сельского хозяйства, юстиции, в Украинском институте марксизма-ленинизма, Сельскохозяйственной академии, в Институте Шевченко и других».[65]
Конечно, Сельскохозяйственная академия подверглась чистке. Директор, его заместитель и другие ведущие ученые погибли в лагерях. Еще больше пострадал научно-исследовательский институт литературоведения имени Шевченко. 14 его научных сотрудников получили долгие сроки заключения, а директор и пять других ведущих ученых были расстреляны[66].
Жертвами пала большая часть сотрудников Украинского института востоковедения, редколлегии Украинской советской энциклопедии, Украинской палаты мер и весов, Украинской киностудии (ВУФКУ), Украинской ассоциации по созданию новой украинской орфографии[67]. Весь Харьковский государственный институт имени Карла Маркса был разоблачен как «практически находящийся в руках контрреволюционеров»[68].
Однако «враги народа» были везде – они издавали ведущий литературный журнал «Червонный Шлях», сидели на транспорте, в геодезическом совете, в издательствах (четыре из которых были распущены)[69]. Чистка прошла и в Украинском институте философии; его ведущие деятели, профессора Юринец и Нирчук, были потом арестованы, последний – в качестве главы выдуманного «троцкистско-националистического террористического блока»[70].
На пленуме ЦК Украины в июне 1933 года Косиор уже смог зачитать несколько признаний профессоров-«националистов» в том, что они планировали раздел Украины между Германией и Польшей. С этого момента в Академии наук ежедневно вывешивали списки уволенных, причем с объяснением причин увольнения, обычно – «подрывная деятельность», или «вражеская идеология», или «связь с врагами народа». В последующие месяцы исчезли почти все.
До сих пор репрессии не обрушивались на украинский театр, на него смотрели как на монумент национального существования. Но в октябре 1933 года ведущий режиссер Украины Лесь Курбас, основатель театра «Березиль», был объявлен националистом и уволен. Говорят, Постышев пытался заставить его покаяться, но получил решительный отпор. В ноябре Курбас был арестован и умер в лагере, а его театр стал ристалищем «социалистического реализма»[71]. Пять художников, писавших фрески в Червоно-Заводском театре в Харькове, тоже были арестованы; трое из них – расстреляны, фрески сразу же после открытия[72] – уничтожены, как имеющие «националистическое» содержание.
Расправляясь с «националистическим» уклоном и со всеми независимыми элементами национальной культуры, режим Постышева не делал, однако, попыток уничтожить формальную сторону украинизации, как хотели раньше русские коммунистические самозванцы. 24 июня 1933 года столица была перенесена из Харькова в традиционное ее место – Киев. Готовилась лишь частичная русификация языка, а не ликвидация его: критике подвергалась «механическая» украинизация.[73] Под этим подразумевали всякое самостоятельное развитие на Украине.
19 ноября Постышев подвел итоги культурной чистки, сказав: «Раскрытие националистического уклона Скрыпника дало нам возможность избавить социалистическую формацию и, в частности, украинскую социалистическую формацию, от всех петлюровских, махновских и прочих, националистических элементов. Была проделана огромная работа. Достаточно сказать, что в этот период мы выявили 2000 националистических элементов, 300 из них – ученые и писатели из Народного комиссариата просвещения. Из восьми центральных советских организаций было уволено 200 националистов, занимавших должности начальников отделов и аналогичные им. В системе кооперации и зерновых резервов было выявлено, насколько мне известно, более 2000 националистов и белогвардейцев»[74].
* * *
Однако чистка украинского национализма не завершилась – она никогда вообще не завершится, пока существует советский режим. Начальник ГПУ Украины Балицкий объявил на Двенадцатом съезде компартии Украины (в январе 1934 года) о раскрытии еще одного заговора – «Блока украинских националистических партий»[75]. (Позднее Постышев сказал, что группа Скрыпника тоже входила в него.)[76] На этом же съезде он назвал 26 профессоров из Всеукраинской ассоциации марксистско-ленинских институтов врагами государства.[77] Сама ассоциация была потом распущена как гнездо «контрреволюционеров, троцкистов и националистов».[78]
Спустя месяц Постышев хвастался на Семнадцатом Всесоюзном съезде партии: «За прошлый год мы подавили националистическую контрреволюцию, мы вскрыли и уничтожили националистический уклон». Пользуясь советской исторической терминологией, такое заявление следовало бы назвать скороспелым, поскольку как по всей Украине, так и в самой партии чистки украинских националистов продолжаются до самого последнего времени. В той же речи Косиор пояснил, что по-прежнему «классовый враг пытается вести разрушительную работу под флагом украинизации».[79]
Когда в декабре 1934 года после убийства Кирова большие группы мнимых подпольных террористов были расстреляны в Москве, Ленинграде и на Украине, то имена их в двух русских городах принадлежали никому не известным, случайным жертвам. В Киеве же были расстреляны 28 членов «Белогвардейского террористического центра», обвиненных в ввозе из-за границы револьверов и ручных гранат для террористических целей[80]. В действительности только двое из них когда-то были за границей, хотя семеро являлись выходцами из Западной Украины, давно осевшими в СССР. Некоторые считались известными фигурами в период Рады, но большинство были литераторами: Дмитро Фальковский, Григорий Косынка и молодой глухонемой поэт Алекса Влизько, «признание» которого Постышев зачитал в следующем году: он в 1929 году «вступил в Украинскую фашистско-националистическую организацию… Я целиком разделял все террористические предписания фашистской платформы».[81]
«Боротьбистский заговор» был раскрыт в 1935 году. Его руководителями объявили таких известных писателей, как ведущий украинский драматург Микола Кулиш – он тоже признал свою причастность к «терроризму», хотя лишь с апреля 1933 года[82]. Потом, в январе 1936 года, в Киеве тайно судили группу, возглавляемую прославленным литератором, критиком, поэтом и профессором Миколой Зеровым, по обвинению в шпионаже и терроризме. Зеров, под эгидой которого практически проходило литературное возрождение 20-х годов, по рассказам, был на панихиде по тем, кого расстреляли в 1934 году, и решил отомстить за них. Он и его «банда» в большинстве своем были поэтами-неоклассицистами, студентами филологических вузов и членами Высшего литературного семинара в Киевском университете.[83]
Среди предъявляемых обвинений был и троцкизм; по мере развития чистки связь с ним стала более смертоносной, чем даже связь с национализмом, с которым его часто ассоциировали. Начиная с 1935 года, троцкистов находили в Киевском, Харьковском и Днепропетровском университетах, в уже подвергавшемся ранее чисткам издательстве «Украинская советская энциклопедия», в Институте народного образования в Луганске. В 1937 году было заявлено, что троцкистские группы существуют во всех украинских городах[84].
Размеры ущерба, нанесенного украинской культуре, можно определить, судя по таким цифрам. По некоторым подсчетам исчезло приблизительно 200 из 240 украинских писателей, по другим – 204 из 246. Имена их всем известны и составляют панораму украинской культуры (в их числе один бежал за границу, семеро умерли своей смертью, тридцать два или тридцать четыре стали сталинистами или замолкли). Из восьмидесяти четырех ведущих ученых в области языкознания шестьдесят два было ликвидировано.[85]
Украина была раздавлена: ее церкви разрушены, интеллектуалы расстреляны или умирали в лагерях, ее крестьянство – основа нации – погублено или подавлено. Даже Троцкий отметил, что «нигде репрессии, чистки, подавление и все прочие виды бюрократического хулиганства в целом не достигали таких страшных размеров, как на Украине, в борьбе с могущественными скрытыми силами в украинских массах, стремившихся к большей свободе и независимости»[86].
Средства, к которым прибегал Сталин, видимо, казались ему равновеликими его целям. Если он просчитался, то только потому, что недооценил силу национального чувства, готового принять эти удары и после всего – сохраниться.
* * *
В наше время термином «геноцид» часто пользуются риторически. Возможно, есть смысл напомнить текст Декларации ООН о предотвращении и наказании геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1948 года, которая вошла в силу в 1950 году и была ратифицирована СССР в 1954-м.
Статья I.
Подписавшие стороны согласились, что геноцид, совершаемый в мирное время или в период войны, является преступлением перед международным законом, который они принимают, чтобы предупредить геноцид и карать за него.
Статья II.
В данной Декларации геноцидом признаются следующие акты, предпринимаемые с намерением уничтожить, целиком или частично, национальные, этнические, расовые или религиозные группы как таковые:
а) убийство членов группы;
б) нанесение тяжелого телесного или духовного вреда членам группы;
в) намеренное создание для этой группы условий жизни, имеющих целью привести ее целиком или частично к физическому истреблению;
г) принятие мер, нацеленное на предупреждение рождаемости внутри группы;
д) насильственное перемещение детей данной группы в другую группу.
Отсюда, безусловно, следует, что Советскому Союзу может быть предъявлено обвинение в геноциде за его действия на Украине. Таково, во всяком случае, было мнение профессора Рафаэля Лемкина, который составлял текст этой Декларации[87].
Не имеет особого значения, подпадают ли формально вышеописанные события под тот или иной точный пункт данного определения. Ибо невозможно отрицать, что против украинского народа было совершено преступление. В пыточных ли подвалах, в лагерях ли принудительного труда или в голодающих деревнях совершалось одно преступление за другим против миллионов людей, образующих эту нацию.
В Большой Советской Энциклопедии есть статья «Геноцид», которая характеризует его как «пережиток загнивающего империализма».
Глава четырнадцатая. Кубань, Дон и Волга
Для чего погибать нам перед глазами твоими, нам и нашей земле.
Бытие, 47:19К востоку от границ Украины, в нижнем течении Дона, по другую сторону Азовского моря на низменностях, простирающихся до самых калмыцких земель, лежали территории, в значительной части своей заселенные казаками и украинскими крестьянами. В прошлом казаки Дона – люди русского происхождения, но говорят они на своем диалекте. Был даже создан специальный «Донской словарь», подготовленный Северо-Кавказским отделением Академии Наук в Ростове специально дня двадцатипятитысячников, которых в этих местах просто не понимали.[1]
Кубанские казаки, однако, имеют происхождение украинское, являясь прямыми потомками запорожских казаков, бежавших с Украины в Турцию после русского нападения на Сечь в 1775 году, но позже вернувшихся и поселившихся на Кубани, став ядром Кубанского казачьего войска. Таким образом, они были законными наследниками старой республики с порогов Днепра.
Кубанские казаки и украинское крестьянство, которое последовало за ними в эти места вместе с другими жителями Северного Кавказа, по переписи на начало 20-го столетия составляли в целом 1 305 000 человек.[2] Перед самой революцией население Кубани составляло уже 2 890 000, из которых 1 370 000 были казаками[3].
На Западе существует неверное представление о казаках. Как бойцы казачьих войск они находились в распоряжении дореволюционных правительств – и на фронтах, и при подавлении восстаний и революционных демонстраций. Хорошо известна их роль в событиях еще менее пристойных, например, в погромах. Хотя слово «казак» часто использовалось в этих случаях для обозначения без разбора всех солдат, всех конных войск и полиции, подлинные казаки тоже были часто активным орудием в руках режима или его местных инстанций.
Казаки, как отмечают наблюдатели, имели свои достоинства и свои недостатки, присущие относительно привилегированной и относительно свободной военной и сельскохозяйственной общине. Их предреволюционный уровень образования считается (см. статью князя Кропоткина в Энциклопедии «Британика» 11-е издание) более высоким, чем у среднего русского человека.
В хаосе 1917–1918 гг. казаки провозгласили у себя независимые государства. Обычно они тяготели к белым армиям, к которым принадлежали многие их лидеры. Однако это ни в малой мере не являлось единодушным настроем, как показал, исходя из своего опыта, Михаил Шолохов в «Тихом Доне». Он ясно изобразил, что казаки, сочувствовавшие поначалу красным или нейтрально относившиеся к ним, оказались спровоцированы к сопротивлению тактикой советского террора, без которой большевики на пути к победе встречали бы намного меньшую оппозицию.
На Кубани и на Дону коммунисты были еще слабее, чем на Украине. Более того, казаки явились для них даже более сложной проблемой – по другим причинам. В отличие от украинского крестьянства, казаки по традиции и в силу своей организации были людьми военными. Их станицы были, как правило, не маленькими деревеньками, которые можно было подавить кучкой милиционеров, а большими поселениями до 40 000 жителей и даже более.
Казацкие восстания происходили в 1922–1923-м и в 1928 гг. Борьба за коллективизацию здесь была очень напряженной, и власти предприняли все меры загодя, чтобы предотвратить беду.
Уже в ноябре 1929 года армия была развернута так, чтобы контролировать наиболее опасные районы. Помимо отрядов милиции, на Дону расположили 14-ю Московскую стрелковую дивизию, а две другие дивизии были посланы для укрепления Северо-Кавказского военного округа.[4]
Мы не станем возвращаться здесь к проблеме раскулачивания и коллективизации в этих областях, заметим только, что сопротивление им было гораздо более упорным, а число единоличных хозяйств сохранялось несоразмерно высоким вплоть до 1933 года, несмотря на предпринятые особо жесткие меры. Много взрослых было выслано, молодежь, мобилизованная на строительство дорог, гибла.[5] На Кубани и на Дону не прекращалась борьба вокруг коллективизации, пока в 1932–1933 гг. она не перешла в фазу террора голодом.
* * *
Сопротивление казаков делало применение голода неэффективным орудием вплоть до самого последнего момента. Как сформулировал это первый секретарь здешнего крайкома Шеболдаев, «кулаки в 1932 году снова, на этот раз на базе колхозов, пытались одолеть нас в связи с поставками хлеба… Однако мы этого не поняли»; поэтому ЦК вынужден был послать сюда «группу членов ЦК под председательством товарища Кагановича, чтобы помочь нам справиться с ситуацией».[6]
Эта специальная комиссия ЦК прибыла в Ростов в начале ноября 1932 года. 2 ноября состоялось совместное заседание этой комиссии с Северо-Кавказским краевым комитетом, и были назначены специальные полномочные представители для каждого района.[7] 4 ноября прославившийся своей жестокостью проводник сталинского террора Шкирятов был утвержден председателем Комиссии по чистке партии на Северном Кавказе и особенно на Кубани от «врагов коммунизма, проводящих кулацкую политику»; спустя два дня было приказано провести аналогичную чистку «организаторов кулацкого сопротивления» в комсомоле.[8]
12 ноября Шеболдаев объявил, что колхозами управляют кулацкие банды. Так, например, бывший красный партизан, награжденный орденом Красной Звезды, теперь, став председателем колхоза, скрыл половину собранного хлеба. В самом деле, можно привести десятки и сотни случаев, когда колхозы, возглавляемые коммунистами, «крали» хлеб. Он сказал также, что подобное преступление «наиболее широко распространено на Кубани», где, по его мнению, сохранилось множество белогвардейских кадров, и критиковал некоторые станицы, в особенности прославленную Полтавскую, где две трети крестьян все еще оставались единоличниками и которая в свое время была известна «активным сопротивлением советским властям».[9]
Срыв плана привел к «постыдным провалам» в десяти районах и серьезным ошибкам еще в одиннадцати. 24 ноября были осуждены 9 секретарей райкомов; судебный приговор был вынесен также директору совхоза и другим. Один колхоз был раскритикован за раздачу всего-навсего двух килограммов зерна на человека нуждающимся членам колхоза. За подобные же нарушения была уволена треть рабочих и руководителей «Кубани» – крупного совхоза с 35 000 акров земли, который в течение многих лет считался образцовым коммунистическим совхозом; около ста из приблизительно 150 членов местной партячейки были исключены из партии.[10]
Сэр Джон Мейнард, который посетил эти места и вообще отрицал наличие там голода, рассказывает о депортации с Северного Кавказа и особенно с Кубани коммунистов и чиновников высокого ранга, которые были в сговоре с крестьянами, и добавляет, что смертность в этих районах была «очень высокой».[11]
Было объявлено, что Кубань и Дон требуют особого военного надзора под предлогом вспышки холеры (традиционный метод, к которому прибегли и в Новочеркасске, когда в 1962 году там были беспорядки).[12] По сведениям наблюдателя, сочувствующего режиму, в январе 1933 года на Северном Кавказе была создана специальная комиссия, уполномоченная «добиваться принудительного труда и выселять, ссылать и наказывать, даже смертью, всех сопротивляющихся».[13] В каждой тюремной камере Ростова теперь содержалось по 50 задержанных.[14]
* * *
Критика, с какой Шеболдаев обрушился 12 ноября на станицу Полтавскую, оказалась не просто словесной угрозой. 17 декабря был объявлен приказ председателя исполкома Северо-Кавказского края о депортации всех 27 000 жителей этой станицы.
До 1925 года в Полтавской шло партизанское движение, и отдельные отряды сохранялись еще долго. В 1929–1930 гг. 300 из 5600 семейств было выслано и 250 человек осуждено за невыполнение зерновых поставок, из них 40 было расстреляно. Женский бунт возглавляли вдовы красных партизан. В 1930–1931 гг. было арестовано несколько мнимых членов «Союза вызволения Украины».[15]
Теперь, в декабре 1932 года, здесь возникло настоящее восстание, убивали агентов НКВД и активистов; станица перешла в руки восставших, которые рассылали эскадроны, чтобы поднять соседние хутора. Однако они замешкались, правительство сумело сконцентрировать превосходящие силы и после тяжелой схватки отвоевать Полтавскую обратно.
Начальник НКВД Кубаев отдал приказ выслать все население станицы, поскольку она была захвачена кулаками – за исключением нескольких лояльных граждан. В связи с этим объявили «военное положение», и все жители станицы были оповещены развешенными везде объявлениями о том, что любое нарушение приказов будет караться «высшей мерой социальной защиты, РАССТРЕЛОМ». Это касалось тех, кто «вел агитацию, распространял провокационные слухи, вызывал панику или грабил имущество и товары»[16]. В станицу переселили русских и переименовали ее в Красноармейскую.
О событиях в Полтавской в назидательных целях писали очень широко. Однако подобные же эпизоды имели место и в Уманской (с населением в 30 000 человек), Урюпинской, Мишатовской, Медведковской и в других станицах.[17] В Армавире судили повстанцев из станицы Лабинск, им вынесли множество смертных приговоров, хотя полностью население станицы депортировано не было.[18] Рой Медведев пишет, что в общем 16 станиц депортировали на Крайний Север, а население их составляло около 200 000 человек.[19] Некоторые станицы, как Ивановская, потеряли только половину своего населения, отправившегося в ссылку, однако эта половина учтена в общем числе высланных.[20]
Солдат рассказывает о том, что он увидел в казачьей станице Брюховецкая Армавирского района, в которой прежде жило 20 000 жителей. Здесь, как и в других местах, за несколько месяцев до его приезда была жестоко подавлена попытка к восстанию, и все, кто остался в живых – мужчины, женщины, дети и инвалиды, – были депортированы, кроме нескольких стариков и старух. Сорняки на улицах росли, как в джунглях, за ними почти не видно было разрушенных и опустевших домов.[21]
В один из домов он вошел:
«За полминуты, что я пробыл там, я увидел два человеческих трупа. На полу сидела старуха, седая, растрепанная голова ее свисала на грудь. Она оперлась о кровать и широко расставила ноги. Руки ее были скрещены на груди. Она так и умерла, отдала Богу душу со скрещенными руками. Старческая желтая рука протянулась с кровати и покоилась на ее седой голове. На кровати лежал старик в домотканной сорочке и кальсонах. Голые ступни, свисавшие с края кровати, говорили о том, что ногам этим пришлось немало потопать по земле. Мне не было видно лицо старика, повернутое к стене. К стыду своему должен признаться, мне было очень страшно. Особенно потрясла меня почему-то эта рука, лежащая на голове у старой женщины. Возможно, последним усилием старик опустил руку на голову своей мертвой жены и так и ушел в мир иной. Когда они умерли – неделю назад, а может быть, и две?»
И все-таки в этой станице был один живой человек. Голый мужчина с длинными волосами и бородой сражался под акацией с кошками за обладание дохлым голубем. Он сошел с ума, но солдат сумел по кусочкам, фразам воссоздать его жизнь. Он был коммунистом, председателем местного сельсовета. Но когда началась коллективизация, он порвал свой партийный билет и присоединился к восставшим. Большинство было убито, но ему удалось спрятаться в малярийных болотах в тучах кубанских комаров. Жена и дети его были депортированы вместе с остальными. Он же каким-го чудом пережил зиму и потом вернулся в свой старый дом – последний обитатель когда-то большого, цветущего поселения.[22]
* * *
Так же как на самой Украине и, пожалуй, еще шире украинские национальность и культура подвергались здесь жестокому преследованию.
На одной только Кубани в 1926 году жило 1 412 276 украинцев, а на всем Северном Кавказе их было 3 107 900. В 20-х годах было создано много украинских школ, находившихся под эгидой Скрыпника, народного комиссара просвещения Украины. В Краснодаре был Украинский педагогический институт, а в Полтавской – Украинский педагогический техникум.
В декабре 1929 года несколько украинских академиков кубанского происхождения в ходе общей чистки украинской культуры были арестованы[23].
В 1932–1933 гг. в здешней газете «Молот», как и на Украине, постоянно печатались статьи о «местном национализме».[24] В начале 1933 года несколько культурных и политических деятелей на Кубани были арестованы, в том числе большая часть профессуры в обоих украинских учебных заведениях. Вся учебная работа теперь велась не на украинском, а на русском языке. Между 1933-м и 1937 гг. все 746 украинских начальных школ были превращены на Кубани в русские школы[25].
Разрушенная и истребленная – более чем истребленная – депортацией и денационализацией, эта область, возможно, пострадала более всех остальных. Советы одержали полную победу над ее населением.
* * *
Тех же, кто не был депортирован, одолевал голод. Методы здесь были те же, какие мы уже описывали ранее. Мы цитировали свидетельство Михаила Шолохова, преданного приверженца режима, которое относится к области донских казаков, где он сам жил.
Один из жителей Кубани писал: «На Кубани такой голод, что мертвых уже не хоронят»[26]. Другой записал: «Дети сидят кучкой в углу, дрожа от голода, и холода».[27] В письмах читаем: «Дорогой мой муж, мы с детьми работали тяжко прошлым летом. У нас был хлеб на весь год… но они взяли все, оставив нас без помощи и средств».[28] «В декабре мы вынуждены были сдать государству все свое зерно и другие продукты вплоть до овощей»[29]. «Пойдешь в степь или на поля и видишь, как целые семьи лежат там».[30] Два крестьянина в возрасте за шестьдесят лет получили по десять лет заключения за два килограмма незрелой пшеничной шелухи[31].
Однажды в фургоне, который вез на кладбище трупы детей, обнаружили двоих детей еще живыми. На этот раз расстреляли врача.[32]
Инженер-железнодорожник с Северного Кавказа рассказывает следующее:
«В начале 1933 года со станции Кавказская на Северном Кавказе ежедневно в один и тот же час на рассвете в сторону Минвод и Ростова отправлялись два таинственных поезда. Поезда были пустыми и составлены из 5–10 товарных вагонов каждый. Через два или четыре часа они возвращались, останавливались на какое-то время на маленькой промежуточной станции и затем двигались по тупиковому пути в сторону карьера, где раньше добывали щебень. Когда поезд останавливался на Кавказской или на боковых путях, все вагоны были закрыты, оказывались нагруженными и тщательно охранялись НКВД. Никто не обращал внимания на эти таинственные поезда. И я тоже, так как работал там временно, будучи студентом Московского института транспорта. Но однажды кондуктор X., который был коммунистом, тихо окликнул меня и повел к поездам, сказав: „Я хочу показать тебе, что там в вагонах“. Он тихонько открыл дверь одного из вагонов. Я заглянул в него и чуть не грохнулся в обморок от того, что увидел. Вагон был полон трупов, брошенных как попало. Потом кондуктор рассказал мне следующее: „Станционный мастер получил секретный приказ от своего начальства помочь местному и железнодорожному НКВД и каждое утро на рассвете иметь наготове два поезда с пустыми товарными вагонами. Поездные бригады работали под надзором НКВД. Поезда отправлялись собирать трупы крестьян, умерших от голода. Трупы закапывали в отдаленных местах за карьером. Вся эта местность охранялась НКВД и никого не допускали близко“.[33]
Как мы уже говорили, в больших станицах, которые не были целиком депортированы, потери от голода были огромными. В Лабинске, например, из 24 000 оставшихся жителей вымерло 14 000. То же происходило в других местах.[34] Очень часто, как явствует из источников, станицы стояли почти пустыми, остались только старики и больные.
В станице Старокорсунской конное подразделение ГПУ, располагавшееся там с 1930 года, находилось в боевой готовности. Прошло несколько массовых арестов: от 50 до 100 человек одновременно. После голода из 14-тысячного населения в ней осталась только тысяча. Аналогичная ситуация имела место в соседних двух станицах – Воронежской и Динской.[35]
К концу 1933 года в депеше британского посольства был подведен итог происшедшему: «Казацкий элемент в значительной степени здесь истреблен, казаки либо вымерли, либо депортированы»[36].
Украинские села, где не было казацкого населения, тоже пережили тяжелое опустошение: в Пашковском Краснодарского района из 7000 осталось 3500.[37]
В отличие от Украины, города Северного Кавказа не избежали общей участи, и коэффициент смертности в них был тоже очень велик: в Ставрополе из 140 000 жителей погибло 50 000, в Краснодаре из 140 000 – 40 000 умерло.[38] Есть отдельные случаи более благополучного исхода. В Сальском районе на Дону тысячи выжили благодаря тому, что переселились в степь и ловили там сурков. Село Заветное в тысячу домов так жило шесть месяцев и даже создало запасы жира.[39]
Но в целом можно сказать, что на Кубани и Дону террор голодом был доведен до последней крайности.
Иностранец, посетивший эти места, сообщает: «Первое, что поразило меня, когда я пошел прогуляться по казачьей станице, расположенной в районе Кропоткина, это небывалое физическое запустение местности, когда-то бывшей исключительно плодородным районом. Огромные сорняки какой-то поразительной высоты и густоты заполнили сады, поля пшеницы, кукурузы, подсолнухов. Исчезли пшеничные караваи, сочные куски баранины, продававшиеся повсюду в 1924 году, когда я посещал Кубанскую долину.»[40]
Более того, на Кубани не осталось тягловых животных, так что обработка земли стала почти невозможной.[41]
Партийный чиновник, посетивший свою станицу на Северном Кавказе в первый раз после революции, замечает: «Я знал эту землю цветущей и богатой… Теперь я был в селе, доведенном до полного запустения и нищеты. Заборы, изгороди и ворота пошли на топливо. Улицы заросли бурьяном и орляком, дома разваливались… Даже партийные активисты-энтузиасты утратили веру…»[42]
Английский посетитель региона передал британскому посольству, что регион этот был похож на «вооруженный лагерь в пустыне – нет работы, нет зерна, нет скота, нет рабочих лошадей, только бездельничающие крестьяне и солдаты.»[43] Другой посетитель описал «полуразрушенный регион, который почти что надо заселять снова.»[44]
Дальше на север и запад голод разразился на Нижней Волге, в районах, частично населенных русскими и украинцами, но больше всего поражены были им немецкие поселения на Волге. Мы приводили выдержки из произведений современных советских русских писателей, где они описывают голодные годы своего детства. Некоторые из этих писателей – выходцы как раз из тех мест на Волге. У одного из них читаем: «В этот ужасный год наша семья снесла четыре гроба на сельское кладбище». При этом он добавляет, что, в отличие от Украины, какие-то минимальные количества продовольствия выдавались «в огромных очередях». Этого хватало, чтобы не умереть до следующей выдачи.[45] Другой писатель пишет: «Умирали целыми семьями. В нашей деревне Монастырской, из 600 семейств осталось 150, хотя здесь, не проходили никакие войны!»[46]
Но большая часть информации, которой мы располагаем, поступила из республики немцев Поволжья, которая, видимо, и была главной мишенью террора голодом. Немецкие евангелические церкви на Западе получили около 100 000 писем от русских немцев с описанием голода. В большинстве из них люди просили о помощи.[47] Эти письма к единоверцам, с которыми поддерживалась постоянная связь, почти все по тону своему очень религиозны.
Несколько таких писем пришли с Северного Кавказа или с Украины и написаны они об одном и том же. Но большая часть писем получена из республики немцев Поволжья, они тоже в основном повествуют о голоде, который наступил на Волге по той же причине: «Мы были вынуждены все сдать государству» (февраль 1933 г.)[48] Письмо за письмом повествует об отсутствии хлеба в течение четырех, пяти, шести месяцев. В совхозах на самом деле «тем, кто работает на государство, выдают 150 граммов хлеба в день. Не умрешь, но и не проживешь».[49]
Однако в обычных деревнях: «Четверо детей брата Мартина умерли от голода, остальные же недалеки от этого» (март 1933 г.); «Большая деревня (около 8000 жителей) наполовину опустела» (март 1933 г.); «Уже в течение пяти месяцев у нас не было ни хлеба, ни мяса или жира… Многие умирают»; «Нельзя больше найти ни одной собаки или кошки» (апрель 1933 г.); «Умирает столько, что не успеваем рыть могилы» (апрель 1933 г.); «В деревне все умерли. По нескольку дней не увидишь ни души… Мы закрылись в домах, чтобы подготовиться к смерти» (февраль 1933 г.)[50]. Один голодающий евангелист пишет: «Когда я заглядываю в будущее, то вижу перед собой всегда гору, на которую не могу взобраться.»[51]
Лишь в отдельных письмах говорится о посылках с запада.[52] По этой и, возможно, по другим причинам уровень смертности не был здесь таким высоким, как на Кубани. Тем не менее, известно, что 140 000 немцев умерло от голода.[53] По подсчетам, в это время еще 60 000 немцев находились в лагерях[54].
Разумеется, все, кто пережил голод, будут потом высланы в 1941 году и уже после реабилитации не получат права вернуться на родную землю.
Мы привели здесь выдержки из писем немецких крестьян (поселившихся в этом районе еще в 18-м веке), потому что, нам казалось, это имеет особый смысл. Ведь они фактически единственное современное той эпохе прямое свидетельство из первых рук от тех, кто сам мучался от голода в момент, когда эти письма писались. Но на самом деле они мало чем отличаются от того, что позже стало известно от очевидцев голода на Украине и на Кубани, или от того, что много лет спустя рассказали о своих переживаниях те, кто пережил этот голод.
Глава пятнадцатая. Дети
Еще зарею заалело небо,
когда детей послышался мне плач,
которые во сне просили хлеба…
ДантеЦелое поколение сельских детей во всем Советском Союзе, и в особенности на Украине, было уничтожено либо искалечено. Ясно, что значение этого факта для будущего Советской России нельзя преувеличить. С гуманитарной точки зрения, судьба детей потрясает больше всего в этом страшном бедствии, это вряд ли требует специальной оговорки. Но верно и то, что в перспективе будущего страны такая усеченность поколения и ужасы пережитого для тех, кто в нем выжил, сказываются по сей день.
Как всегда в таких случаях, фотографии детей и даже младенцев с палкообразными конечностями и черепообразными головами раздирают душу. На этот раз, в отличие от голода 1921 года, нет фотографий, которые свидетельствовали бы о том, что группы спасения использовали все возможности, чтобы сохранить и уберечь их.
Один из обозревателей пишет о выжившем мальчике: «Бедный ребенок видел так много смертей и столько страданий, что считал их естественной частью жизни… Дети всегда воспринимают ужасы окружающего как само собой разумеющееся, как данность»[1].
* * *
Война против детей оправдывалась тоже исторической необходимостью, а отсутствие буржуазной сентиментальности в деле проведения в жизнь решения партии явилось испытанием на верность коммунизму.
В 1929 году учительская газета писала, «как некоторые товарищи, уполномоченные обеспечить поставки зерна, советуют прибегать к любым средствам для поощрения всевозможных преследований детей кулаков в школе, используя такие преследования как способ оказать давление на кулаков-родителей, которые злостно удерживают зерно. Выполняя указания, следует следить за тем, как напрягаются „классовые“ отношения между детьми в классе, начиная с издевательств над малышами и кончая открытыми драками»[2].
Когда секретарь райкома сказал, что кулаку надо оставить столько зерна, чтобы его хватило на посев и прокорм его детей, на него обрушились с критикой: «Нечего думать о голодных детях кулаков; в классовой борьбе филантропия – это зло»[3]. В Архангельске в 1932–1933 гг. лишенным всего детям высланных туда «кулаков» не давали завтраков и талонов на одежду, которые получали остальные дети[4].
В таком отношении к ним была своя логика. Экономический класс, например кулаки, которых режим намерен был уничтожить, состоял не только из взрослых, но и из детей. Более того, идея Маркса о том, что бытие определяет сознание, осуществлялась здесь самым прямым образом – например, выжившие дети кулаков, даже изолированные от семей, сохраняли клеймо своего происхождения в документах гражданского состояния и на этом основании лишались права на образование и работу, находясь постоянно под угрозой ареста в периоды повышения бдительности.
Ответственность детей за прегрешения родителей являлась традицией. Начиная с расстрела четырнадцатилетнего цесаревича в 1918 году и до расстрела четырнадцатилетнего сына большевика Лакобы в 1937 году, подобные акции были по-своему обоснованы. В 30-е годы дети (как и жены) нередко осуждались по статье «ЧСИР» («Член семьи изменника родины») – обвинение, которое невозможно ведь было опровергнуть.
Дети кулаков часто оставались беспризорными, если были арестованы оба родителя. Как писала вдова Ленина Крупская в педагогическом журнале: «Родители малого ребенка арестованы. Он бредет один по улице и плачет… Все жалеют его, но никто не решается усыновить его, взять его к себе в дом: все-таки он сын кулака… Последствия могут оказаться очень неприятными».[5] Крупская умоляла не делать этого, утверждая, что классовая борьба ведется между взрослыми, но к ее голосу никто давно не прислушивался.
Однако часто бывало, что взрослые оказывались храбрее и порядочнее, чем того опасалась Крупская. Мы знаем много случаев, например, когда в семье, где отец был ликвидирован, а мать падала от усталости и практически умирала от работы в поле, односельчане брали ребенка к себе.[6] Типичным случаем подобной доброты является известная история, как бедный украинский крестьянин, отказавшийся вступить в колхоз, был арестован, избит и выслан; жена его повесилась в сарае. Их маленького мальчика взяла к себе бездетная семья. Мальчик целыми днями слонялся по своему опустевшему дому и только по ночам, чтобы переспать на печи, приходил к своим новым родителям. Он никогда не разговаривал.[7] То и дело слышишь рассказы об этих «сиротах коллективизации», усыновленных крестьянами.
Иногда мужская смекалка и изобретательность спасала семью, по крайней мере на время. Один из выживших рассказывает, как в возрасте десяти лет, вернувшись однажды из школы, он нашел свой дом пустым и запертым. Отец его был арестован, а мать и младших детей приютила семья бедного крестьянина. Чтобы спасти младших детей, мать велела старшему и его двенадцатилетнему брату куда-нибудь исчезнуть. Отцу же удалось сбежать из тюрьмы и бродяжничать. Он работал сапожником, брал плату продуктами и просил своих заказчиков отправлять их его семье. Кроме того, он сообразил прятать продукты на участках у местных активистов, где обычно не было обысков. Мальчики таким образом спаслись от голода, кроме того, они рыбачили, если удавалось избежать патрулей, которые мешали рыбалке где только возможно[8].
Но такая поддержка, как и любая другая, удавалась по очевидным причинам чрезвычайно редко. Мальчик, который сумел сбежать из поезда, везшего их в ссылку, через несколько месяцев вернулся на родной хутор. Он был пуст, крыша дома сорвана, сорняки высились в человеческий рост, в разрушенных хатах жили хорьки.[9]
Как мы уже отмечали, немалую долю из тех 15–20 процентов людей, что погибли в поездах по дороге в ссылку, составляли маленькие дети. Очень много их погибло потом – уже в ссылке.[10] За март, апрель и май 1930 года по имеющимся данным 25 тысяч детей умерло в пересыльных пунктах – церквах Вологды[11], которая лежала на пути в ссылку, о чем мы уже говорили в главе шестой.
Дети тех, кто был просто изгнан из домов или бежавших из ссылки, жили на грани жизни и смерти, и многие из них умирали. Здесь та же ситуация, что и со взрослыми: невозможно точно указать, сколько детей стало жертвами депортации, а сколько – голода; но многое свидетельствует о том, что именно голод был большим убийцей.
Когда он разразился в 1932 году, дети украинских крестьян вели страшную жизнь. Дело было не только во все возрастающем голодании, а и в огромном нравственном напряжении в семьях, которое приводило иногда к гибели прежней взаимной любви друг к другу. Мы уже цитировали Василия Гроссмана, рассказавшего о том, как матери начинали иногда ненавидеть своих детей, хотя в других семьях «любовь оставалась нерушимой…» В одной семье отец запретил жене кормить детей, а когда увидел, что сосед дал им немного молока, донес на него за «сокрытие продуктов» (хотя и без последствий). Все-таки он умер, а дети выжили…[12]
В других случаях помешательство на почве голодания, как мы наблюдали, вело к людоедству, и у нас есть много свидетельств, как родители съедали своих детей.
Но в большинстве случаев люди просто голодали. Иногда возникали жуткие случаи неизбежного выбора. Одна женщина, которую в 1934 году кто-то похвалил за ее троих прекрасных детей, ответила, что их было у нее шестеро, но она решила спасти «трех самых здоровых и умных», а другим дала умереть, похоронив их за домом[13].
В записках агронома читаем, как, обходя с другим чиновником села, он между двумя деревнями наткнулся на молодую женщину с ребенком. Она была мертва, а ребенок жив и сосал грудь. В ее паспорте он прочел, что ей 22 года и что она прошла тринадцать миль от своей деревни. Они сдали ребенка – девочку – в ближайший дом младенца и думали, кто же и как когда-нибудь расскажет о том, что сталось с ее матерью[14].
Артур Кестлер видел из окна поезда голодающих детей, которые «выглядели как зародыши в сосудах со спиртом»[15]. Или, как он пишет об этом в другом месте: «…на станциях, вытянувшись в ряд, стояли просящие милостыню крестьяне, с отекшими руками и ногами, женщины протягивали в окна вагонов жутких младенцев с огромными качающимися головами, палкообразными конечностями и раздутыми торчащими животами…»[16] А ведь это были семьи, у которых все-таки хватило сил добраться до железной дороги.
Таких рассказов о физическом состоянии детей очень много. Гроссман дает самое насыщенное описание вида этих детей, который становился все страшнее по мере нарастания голода: «А крестьянские дети! Видел ты, в газете печатали – дети в немецких лагерях? Одинаковы: головы, как ядра тяжелые, шеи тонкие, как у аистов, а на ногах и руках видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются, и весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лица у детей замученные, старенькие, словно младенцы семьдесят лет на свете уже прожили. Уже не лица стали: то птичья головка с клювиком, то лягушачья мордочка – губы тонкие, широкие, третий, как пескарик – рот открыл. Не человеческие лица». Гроссман сравнивает этих детей с еврейскими в газовых камерах и отвечает: «Но это были советские дети, и те, кто обрек их на смерть, были советскими людьми.»[17]
Во многих случаях дети просто умирали дома вместе со своими семьями. Бывало и так, что дети переживали взрослых и не знали, что им делать дальше. Иностранный журналист рассказывает, как в одной деревенской хижине под Харьковом он видел двух детей, девочку 14 лети ее брата двух с половиной лет, оставшихся в живых из всей семьи. «Младший ребенок ползал по полу, как лягушка, и его бедное маленькое тельце было таким уродливым, что его трудно было принять за человеческое существо… существо это никогда не пробовало молока или масла и только один раз ело мясо. Черный хлеб и картошка, изредка перепадавшие ему, были единственным питанием этого ребенка, который прошлой зимой не раз уже был на пороге смерти». Когда этот журналист побывал у них, дети уже два дня ничего не ели[18]. Другие дети бродили без какой-либо надежды: «На обочине дороги между Крижевкой и Будищей в зарослях лебеды около Будищевского пруда нашли в конце июня тела двух детей – семи и десяти лет. Кто знает, чьи это дети? Никто не потерял их, никто о них не спрашивал, они погибли, как котята…»[19]
* * *
Отчаявшись, родители отсылали своих детей куда глаза глядят, в надежде, что попрошайничая и подворовывая, они, может быть, и спасутся, а оставшись в семье наверняка пропадут.
Бывщий красный партизан и активист в Чернуках Полтавской области вступил в колхоз в 1930 году с женой и пятью детьми и был лояльным колхозником. Когда настал момент неминуемой смерти от голода, он взял четверых детей (один умер еще раньше от побоев, когда воровал овощи) и пошел с ними к районному начальнику просить помощи, но не получил определенных обещаний. Тогда он оставил детей у этого чиновника, потом отдавшего их в детдом – двое из них вскоре умерли. Через несколько дней после этого отец повесился на дереве около здания райсовета[20].
Семилетний мальчик рассказал, что когда отец его умер, а мать так опухла, что не могла подняться, она сказала ему: «Иди, ищи сам, что поесть». Другой восьмилетний мальчик ушел бродяжничать, когда его родители умерли; девятилетний мальчик, мать которого умерла, ушел из дому, испугавшись странного поведения отца. Другому девятилетнему мальчику мать сама велела уходить, чтобы спастись от голодной смерти; оба плакали, расставаясь. Восьмилетний мальчик, видя беспомощно лежащих опухших родителей, ушел сам.[21]
Иногда мать шла бродяжничать с последним оставшимся в живых ребенком. Известно много случаев, когда на дорогах или улицах города находили трупы матери и ребенка. Иногда ребенок еще был жив и сосал грудь мертвой матери[22]. Некоторые матери бросали маленьких детей у чужой двери или просто где-нибудь, в надежде, что кто-нибудь их спасет, если она сама не может. «Крестьянка, одетая во что-то похожее на залатанные мешки, появилась на тропинке. Она тащила за воротник порванного пальто ребенка трех-четырех лет, как тащат тяжелую дорожную сумку. Мать вытащила ребенка на большую дорогу и бросила его здесь прямо в грязь… Маленькое личико ребенка было распухшим и синим. Из крошечного рта шла пена. Руки и худенькое тельце распухли. Это была какая-то связка частей человеческого тела, смертельно больного, в котором, однако, еще теплилось дыхание жизни. Мать оставила ребенка лежать на дороге, в надежде, что кто-нибудь сумеет спасти его. Мой сопровождающий всеми силами старался приободрить меня. В этом году, говорил он мне, многие тысячи детей Украины разделили эту судьбу»[23].
В другом сообщении рассказано: «В Харькове я видел лежащего посреди улицы мальчика, превратившегося в скелет. Второй мальчик сидел возле мусорного ведра и вытаскивал из него яичную скорлупу… Когда голод достиг огромных размеров, родители обычно приводили своих детей из деревень в города, оставляя их там в надежде, что кто-нибудь над ними сжалится»[24]. Они часто умирали в первые же день-два – обычно они уже находились в самом жалком состоянии. Одного такого ребенка нашли умиравшим в сточной канаве в Харькове. По рассказам, «кожа его была покрыта каким-то нездоровым белесым наростом, похожим на грибковый.»[25]
Были и другие опасности для детей. Так, в Полтаве преступники устроили специальную бойню, где убивали и разделывали их; преступников в конце концов обнаружило ГПУ. И это не было единичным случаем: известно, по крайней мере, о существовании еще двух таких боен.[26]
Дети выживали только если могли войти в какие-нибудь группы. Так, на Харьковском тракторном заводе все недостроенные здания были заняты бездомными детьми. Они ловили птиц, выискивали в мусоре рыбные головы или картофельные очистки, вылавливали и варили кошек и попрошайничали.[27]
Банды детей-уголовников, как отмечают почти все источники, часто состояли из 12–14-летних подростков, а иногда даже из 5–6-летних детей.[28] В большинстве своем эти компании занимались мелкими кражами. В опросном списке приемного центра бездомных мальчишек в Ленинграде в графе о «хулиганах» – то есть мелких воришках – 75 процентов из всех опрошенных в возрасте от 12 до 15 лет дали следующие характерные ответы:
«Хулиган – это бездомный мальчик, который из-за голода стал хулиганом».
«Хулиган – это вор, который бежал из детдома».
«Была семья, у них был сын. Когда мать и отец умерли, мальчик стал бездомным и поэтому стал хулиганом».
«Хулиганами становятся, когда родителем умирают, а дети остаются одни…»
«Мать и отец умерли, сын остался, его отдали в детдом, но он сбежал и стал хулиганом»[29].
И действительно, для очень многих это был единственный доступный им образ жизни.
Но бывали другие судьбы: дети находили дальних родственников или же дети более старшего возраста получали хоть какую-то работу. Многие, однако, кончили тем, что осели в мире старого преступного элемента – в мире «урок», который, начиная с 17-го века, жил своей отдельной жизнью, имел особую культуру, законы, даже свой жаргон.
Собственно урок насчитывали в 40-е годы от полумиллиона до миллиона. Так называемый «молодой элемент», то есть мальчиков-подростков, личность которых никогда не «социализировалась», единодушно во всех отзывах из трудовых лагерей и тюрем признавали самыми ужасными среди представителей преступного мира: они убивали из-за малости, не испытывая никогда никаких угрызений совести.
Эти данные относятся, однако, к более поздним годам, а в описываемый период большинство детей еще оставались в границах своих социальных групп и представляли особую проблему для властей.
* * *
Огромный поток сирот, «беспризорных», наводнил страну после голода 1921–1922 гг. Организации, занимавшиеся помощью голодающим, фиксировали тогда «банды бродяг из дюжины или более человек, предводительствуемые 10–12-летним мальчишкой, зачастую с младенцем на руках.»[30] Эти факты признавались самими властями. Даже советские романисты посвящали теме «беспризорных» свои романы – например, «Странники» В.Шишкова, в котором изображена колония детей, живущих на берегу реки в большой заброшенной лодке. Они занимались грабежом, сексом, глотали наркотики и доходили, наконец, до убийств.
Нынешнее (третье) издание Большой Советской Энциклопедии помещает данные о том, что число детей, нуждавшихся в непосредственной помощи государства, составляло в 1921 году от 4 до 6 миллионов, в 1923-м – от 2,5 до 4 миллионов. В 1921–1922 гг. только в одном Поволжье 5 миллионов человек получили эту помощь, а в 1923-м – больше одного миллиона. В 1921 году в детских домах было 940 000 детей, в 1924-м – 280 000, в 1926-м – 250 000, а в 1927–1928 гг. – 159 000; никакой информации или статистики о последующих годах не имеется, кроме простого заявления, что «проблема была в основном ликвидирована» в середине 30-х годов.
Хотя энциклопедия утверждает, что беспризорные дети – явление лишь 20-х годов и что в последующие годы оно было незначительным и потому не получило никакого отражения в литературе, тем не менее есть множество официальных отчетов о нем, относящихся к исследуемому нами периоду голода.
Одним из излюбленных пропагандистских приемов было сваливать и эту проблему тоже на кулаков. «Некоторые затруднения в снабжении продовольствием в определенных районах страны были намеренно использованы для увеличения числа бездомных детей в городах. „Отправляйте детей в города и пусть государство позаботится о них в детских домах…“ Местные руководители народного образования не всегда и не везде понимали, что это ничто иное как трюк кулаков. Вместо того, чтобы противостоять ему, сельские работники испытывали к детям сострадание. Для них самым простым и легким было отделаться от этих детей и отправить их в город. А кулаки пользуются этим. Часто сами райисполкомы и в особенности сельсоветы выписывали ребенку сопроводительные документы и отправляли его в городские учреждения защиты детства. Город принимал их. В результате все подобные учреждения были переполнены; создавались новые, а уличных сирот не только не становилось меньше, они все продолжали прибывать… Беспризорность росла, в особенности на Северном Кавказе»[31].
В 1935 году было объявлено: «Благодаря тому, что прямая, непосредственная ответственность за заботу о детях была возложена на сельсоветы и колхозы, удалось положить конец существованию беспризорных и необеспеченных детей».
Эта мера создала, наконец, возможность прекратить поток уличных детей из сельской местности в города для определения их в детские дома.[32] В этот период по официальным данным 75 процентов беспризорных детей происходило из сельской местности[33].
Один из советских авторов заявил, что, благодаря успехам индустриализации и коллективизации, проблема беспризорных детей была полностью разрешена: «Это одно из наиболее замечательных свидетельств того, что только социалистическая система может спасти подрастающее поколение от голода, нищеты и бездомности – неизбежных спутников буржуазного общества.»[34]
Наверное, имеет смысл поместить здесь и другое замечание по поводу «превосходства» советского отношения к этим сиротам. На совещании наркомата просвещения заместитель народного комиссара М.С.Эпштейн «сравнивал заботу нашей партии и ее вождей с ужасающим положением детей в капиталистических странах. Резкое сокращение числа школ, громадный рост беспризорности – вот характерные черты всех капиталистических стран. В США в настоящий момент насчитывается 200 000 бездомных детей и подростков. Суды для юношества, исправительные колонии для юношества и приюты калечат детей; вся система мер буржуазных государств направлена на то, чтобы убрать бездомных детей из поля зрения путем их физического истребления»[35].
Профессор Роберт К.Такер придерживается теории, что советская пресса обычно обвиняет своих врагов именно в том, что само советское правительство делает. Эта теория приложима к заявлению официального журнала, что на Северном Кавказе, где проблема беспризорных детей стояла тогда особенно остро, ее «ликвидировали» в течение двух месяцев предпринятыми для этой цели мерами (которые все-таки не называются)[36]. Как мы увидим позже, способы решения этой проблемы не ограничивались одними гуманитарными методами.
* * *
Существовали «детские трудовые лагеря», иными словами, тюремные лагеря, к заключению в которые можно формально приговаривать ребенка. Так, после ареста и депортация кулака в дом к нему явилась бригада искать зерно и попыталась арестовать его жену. Но их юный сын, у которого рука была перевязана из-за нарыва, вступился за мать. Один из членов бригады ударил его по больной руке, и мальчик потерял сознание. В суматохе мать сбежала и спряталась в лесу. Тогда вместо нее арестовали мальчика и через две недели судили за нападение с ножом на начальника бригады. Хотя один из членов бригады к неудовольствию суда рассказал, как все было на самом деле, мальчика тем не менее приговорили к пяти годам заключения в детской трудовой колонии.[37]
Дети, прошедшие через подобное обращение, не хотели сотрудничать с властями. Недавно опубликованные записки начальника трудовой колонии НКВД повествуют, что юные уголовники открыто выражали свое презрение ко всему советскому. Однажды взбунтовавшись, они забаррикадировались в конторе колонии и кричали, что сожгут «тюрьму народов», пародируя ленинское определение царизма; и, действительно, сожгли там все документы и личные дела.[38]
Многие дети, однако, попадали в обычные тюрьмы и лагеря для взрослых. Один из узников вспоминает девятилетнего мальчика, который сидел в харьковской тюрьме в одной камере со взрослыми.[39]
Но даже беспризорники, которые уголовниками не стали, подвергались таким же жестоким карательным мерам. В марте 1933 года на железнодорожном вокзале в Полтаве специальный вагон был поставлен на подъездную ветку, и дети, бродившие вокруг станции в поисках пищи, были под конвоем погружены в этот вагон. Их набралось 75 человек. Их поили суррогатом кофе из поджаренного зерна и кормили небольшим количеством хлеба. Очень скоро они умерли и были закопаны в ямы. Работник железнодорожной станции замечает: «Эта процедура стала настолько обычной, что никто уже не обращал на нее внимания»[40].
В Верхнеднепровске, на правом берегу Днепра, 3000 сирот в возрасте от семи до двенадцати лет, дети репрессированных или высланных кулаков, содержались подобным же образом, умирая с голода всю весну и лето 1933 года[41].
Преподаватель ботаники пишет о детской смертности, которую он наблюдал в Кировограде. Там раньше находился универмаг, который ликвидировали после запрета в стране частной торговли, и несколько его освободившихся зданий превратили в детские дома. Крестьяне приводили своих детей в город и оставляли около детдомов, чтобы их туда забрали. Во время голода детдома были настолько переполнены, что больше не могли вместить детей. Тогда тех перевели в «детский городок», где они могли якобы жить «под открытым небом». Есть им не давали, и они умирали от голода вдали от людских глаз, а смерть их в регистрационных ведомостях объясняли слабостью нервной системы. Городок был окружен забором – стеной, чтобы никто не видел, что происходит внутри, но оттуда доносились «ужасающие нечеловеческие вопли… женщины крестились и спешили прочь от этого места». Чтобы скрыть размеры смертности, грузовики вывозили трупы только ночами. Тела мертвых детей часто выпадали из машин, и сторожа обходили каждый свой «участок территории», чтобы проверить, не лежит ли там тело какого-нибудь ребенка. Рвы, в которые закапывались тела, заполнялись до самых краев и засыпались таким тонким слоем земли, что волки и собаки разрывали и поедали трупы. Доктор Чинченко подсчитал, что в Кировограде таким образом погибли тысячи детей.[42]
Даже менее импровизированно устроенные детдома были очень скверными. Один из чиновников наркомата просвещения рассказывает, как он однажды посетил привилегированный детский летний лагерь в Ульяновке. После хорошего обеда к нему подошел сотрудник лагеря и тихо предложил ему посмотреть другой детский приют, в четверти мили от этого села. Там стоял каменный амбар, где на покрытом песком полу, в полутьме, размещалось около 200 детей от двух до двенадцати лет, имевших вид скелетов и одетых только в грязные рубашки. Все они плакали и просили хлеба. Когда представитель комиссариата просвещения спросил, кто заботится об этих детях, он получил саркастический ответ: «Партия и правительство». Забота сводилась к вывозу трупов каждое утро.[43]
Девочка в тяжелом состоянии была отправлена в Чернуховский детдом. Туда ее повезли в грузовике с трупами, но общая могила еще не была готова, и потому мертвых (вместе с ней) выгрузили прямо на землю. Она выбралась из груды тел, спаслась и была возвращена к жизни заботами жены еврейского доктора. Доктор этот, Моисей Фельдман, спас много голодающих детей, помещая их в свою больницу с каким-нибудь вымышленным диагнозом и подкармливая там. В связи с этим у него часто бывали неприятности по службе[44].
В другом месте десятилетний мальчик и его шестилетняя сестра после смерти родителей были отправлены в местный детдом – в старую крестьянскую хату с выбитыми окнами, где почти что нечего было есть. Медицинская сестра, которая заведовала детдомом, заставляла старших детей рыть могилы и закапывать его умерших обитателей. В конце концов брату пришлось похоронить там сестру[45].
Говорят, некоторые детдома, организованные в селах, где их воспитанники родились, были неплохо устроены. Но есть свидетельства, что мальчики, выросшие в них, стали первыми дезертирами из советской армии в 1941 году[46].
Уже в начале 1930 года, когда гнет казался еще сравнительно небольшим, детские дома содержались чрезвычайно плохо. Один из учительских журналов писал: «Материально дети крайне необеспечены, питание плохое, во многих детских домах грязно, вшивость, отсутствие дисциплины и навыков жизни в коллективе.»[47]
Правительственный указ о ликвидации детской беспризорности от 31 мая 1935 года отмечал:
1. Большинство детдомов работают неудовлетворительно, как в хозяйственном, так и в воспитательном отношении.
2. Организованная борьба с детским хулиганством и уголовными элементами среди детей и подростков полностью неудовлетворительна, а в целом ряде случаев вообще отсутствует.
3. До сих пор не созданы условия, чтобы дети, которые по тем или иным причинам оказываются на улице (смерть родителей, побег из дома или из детского дома и т.д.), были бы немедленно определены в соответствующие детские заведения или возвращены родителям.
4. Родители и опекуны, равнодушные к своим детям, позволяют им заниматься хулиганством, воровством, сексуальным развратом, а бродяжничество не наказывают должным образом[48].
Последний пункт очень точно описывает жизнь беспризорников. Указом учреждалась сеть детдомов, подведомственных наркомату просвещения, домов для больных детей по ведомству наркомата здравоохранения, и изоляторов, трудовых колоний и приемников, подчиненных НКВД, который теперь взял под свою эгиду все дела, связанные с детской преступностью.
Как подчеркивалось в том же указе, беспризорники часто сбегали из этих домов из-за жестокости, которая там царила.[49] Отмечалось, что в коммуне имени Горького под Харьковом было «мало пищи, но изобилие муштры»[50]. Одна из учительских газет приводила пример некачественной работы в детдоме Нижне-Чирска, где «целыми месяцами не давали сносной пищи».[51]
Современный советский романист жил с другими беспризорниками в заброшенном театре, и он рассказывает, какими ужасными были детские дома[52]. Но и здесь бывали исключения. Так, например, сам этот романист (В.П.Астафьев) был в детдоме на Крайнем Севере, в Игарке. В романе «Кража» он повествует в значительной степени о событиях собственной жизни. Директор детдома был порядочным человеком, которого очень уважали дети (однако он попал в беду, когда выяснилось, что это – бывший царский офицер).[53]
Большинство детдомов мало чем отличались от тюрем для малолетних, но при всем том немало детей, выросших в детучреждениях, курируемых тайной полицией, сделали потом почетную карьеру; другие из них попали под власть преступного мира, а третьи по чудовищной иронии судьбы превратились в пригодный человеческий материал для использования на работе в самом НКВД. И те относительно человечные детучреждения, которые курировались ВЧК 20-х годов, тоже готовили фундамент для будущей работы своих воспитанников в тайной полиции.
По рассказам, в Белореченской детской колонии около Майкопа (на Северном Кавказе) «половину ее обитателей-мальчиков по достижении ими шестнадцати лет посылали в спецшколы НКВД, где готовили будущих чекистов. Отбирали их из наиболее антисоциальных преступных элементов. Некий житель, арестованный в Баку, узнал в своем следователе тайной полиции бывшего уголовника, дважды бежавшего из тюрьмы; в первый раз тот сидел за убийство крестьянина, а несколько лет спустя был арестован за поджог церкви.[54]
* * *
Страшная нравственная ирония заключена в том, что детям, чьих родителей убила власть, «промыли мозги» до такой степени, довели их до столь звероподобного состояния, что сумели превратить именно их в наиболее отвратительных агентов этого же режима.
Существует мнение, что многие аспекты в отношении властей к детям в то время, которые привели к моральному разложению детей, выглядят не только не менее, но, может быть, более страшными, чем физическое массовое истребление крестьянской молодежи.
Можем ли мы без отвращения слушать рассказ комсомольца о пропагандистском фильме про кулаков, закапывавших зерно, и о комсомольцах, обнаруживших эту пшеницу и убитых за это кулаками?[55] Не станешь наслаждаться и рассказом очевидца о том, как во время облавы на заморенных голодом крестьян в Харькове «дети сытых коммунистов-аппаратчиков, юные пионеры, стояли вокруг и выкрикивали, как попугаи, услышанные ими в школе фразы ненависти.»[56] Может вызвать отвращение «пионерский отряд», арестовавший двух женщин, чьи мужья были репрессированы: у одной муж расстрелян, у другой – выслан за то, что они сорвали один или два колоса пшеницы (их сослали в концентрационный лагерь на Крайний Север)[57]. Пионеры (коммунистическая организация детей от десяти до пятнадцати лет) вообще отличились многими подобными победами. В одном колхозе четверо пионеров заслужили похвалу за то, что повалили на землю женщину-кулачку и держали ее, пока не подоспела милиция. Ее увели и приговорили в соответствии с декретом от 7 августа 1932 года. «Это была первая победа, одержанная колхозными пионерами.»[58]
В Усть-Лабинском колхозе на Кубани официальный отчет того времени с похвалой отзывается о том, как «пионерский отряд представил в политотдел целый список подозреваемых в воровстве, составленный по классовому принципу: „Мы, пионеры детского лагеря колхоза „Путь хлебороба“, докладываем политотделу, что такой-то, безусловно ворует, поскольку он кулак и в селе Раздомны его теща была раскулачена“. В пионеротряде научились говорить на классовом языке.[59]
Детей мобилизовали дежурить на полях – Постышев говорил, что более полумиллиона детей выполняло эту работу из них 10 тысяч «боролись с ворами», то есть с крестьянами которые пытались собрать немного зерна для себя[60]. В «Правде была опубликована „Песня колхозного пионера“, написанная сталинским наемником А.Безыменским, которая содержала такие строки:
Вора в тюрьму сажая, Врагам на страх Охрану урожая Несли в полях. Мы лодыря заставим В поля идти. Мы будем по заставам Дозор нести.[61]Что касается детей и юношей от пятнадцати и более лет, известно, что в целом «комсомольцы принимали активное участие во всех хозяйственно-политических кампаниях и вели беспощадную борьбу с кулаком»[62]. Действительно, в хрущевские времена было заявлено, что, по мнению Сталина, «наипервейшей задачей воспитания комсомола была необходимость выявлять и распознавать врага, которого затем следовало устранить силой путем экономического давления, организационно-политической изоляцией и методами физического истребления.»[63].
Это повсеместное вовлечение и поощрение юношества к жестокостям и вымышленной классовой борьбе вызовет, конечно же, отвращение у большинства из тех, кто не привык к таким стандартам поведения. Но, с нашей точки зрения, следует увидеть здесь еще более низменный по сути феномен.
Уже на Шахтинском процессе во всеуслышание было объявлено, что сын требует для своего отца смертного приговора. И в сельской местности дети, давшие пионерское «Торжественное обещание», использовались против родителей. Наиболее известным стал прославленный Павлик Морозов, именем которого назван Дворец юных пионеров в Москве. Четырнадцатилетний Морозов «разоблачил» своего отца, бывшего председателя сельсовета в деревне Герасимовка. После процесса над отцом и вынесенного ему приговора Морозов был убит группой крестьян при участии его дяди и с тех пор признан мучеником. Теперь в его деревне есть даже музей Павлика Морозова. «В этом бревенчатом доме происходил процесс, на котором Павлик разоблачил своего отца, покрывавшего кулаков. Здесь хранятся памятные предметы, которые дороги сердцу каждого жителя Герасимовки»[64]. Еще в 1965 году в деревне был поставлен памятник Павлику. Последнее издание Большой Советской Энциклопедии отмечает, что, наряду с другими такими же ребятами (Коля Мяготин, Коля Яковлев, Кичан Джакилов), Морозов внесен в пионерскую «Книгу Почета».
О Морозове опубликовано очень много книг и брошюр, в том числе несколько поучительных романов, один из которых (В.Губарева) назван как-то двусмысленно – «Сын»[*].
В мае 1934 года другой юный герой, тринадцатилетний Проня Колибин, донес на свою мать, что она крадет хлеб, и заслужил этим большую известность.[65] Другой пионер – Сорокин – на Северном Кавказе поймал своего отца, когда тот набивал карманы зерном, и добился его ареста.[66]
В своей речи на праздновании 20-й годовщины тайной полиции в декабре 1937 года Микоян похвалил нескольких граждан, которые разоблачили своих товарищей, и с особой гордостью отозвался о четырнадцатилетнем пионере Коле Щеглове из деревни Порябушки Пугачевского района, который обличил своего отца И.И.Щеглова: «Пионер Коля Щеглов знает, чем является для него и для всего народа советская власть. Когда он увидел, что его родной отец крадет социалистическую собственность, он сообщил об этом в НКВД.[67]
Конечно, эти дети заслуживают осуждения, но значительно меньшего, чем те, кто давал им мотивацию для подобного поведения. Во всяком случае, мать мальчика, который пропал во время голода, сказала мне, что она предпочла бы тогда и предпочитает сейчас физическую его гибель духовной смерти и превращению в одного из тех, кого она считает вообще недостойным права называться человеческим существом.
* * *
Физическое уничтожение, прямое убийство детей – тоже было одной из возможностей «решения вопроса». Когда проблема беспризорников оказалась слишком громоздкой для местных властей, их массами просто убивали.[68] Указ, легализовавший расстрел детей от 12 лет и старше, вошел в силу только 7 апреля 1935 года. Это распространение всех видов наказания на двенадцатилетних детей приобретает особый смысл, когда мы размышляем об истолковании партией основ марксизма. Ведь если «сознание определяется бытием», то естественно может возникнуть предположение, что целиком сформированное к двенадцати годам классовое сознание должно оказаться неискоренимым. Но сведения о голодающих детях 1933 года или о сосланных в 1930 году несомненно показывают, что в период роста классовой борьбы малым членам семей предстояло страдать из-за своего социального происхождения, и по сути дела, вероятно, именно двенадцать лет считались тем нижним пределом, когда с партийной точки зрения разрешалось применять положенные «меры».
Но в детдомах НКВД и в относительно более спокойные периоды, то есть уже спустя несколько лет, власти измышляли способы как-нибудь еще снизить этот минимальный возраст – ну, например, вынуждая врачей выдать свидетельство, что, мол, два провинившихся одиннадцатилетних мальчика по физическим данным выглядят старше своих одиннадцати лет, и поэтому данные о возрасте, указанные в их метриках, следует считать поддельными.[69]
Старший офицер ОГПУ рассказал, что уже в 1932 году был издан секретный указ расстреливать детей-воришек в вагонах проходящих поездов[70]. Такие меры предпринимались и в случаях, когда речь заходила об охране народного здоровья: в Лебединском детском центре было расстреляно, согласно отчету, 76 детей, заразившихся сапом от мяса павших лошадей.»[71]
Несомненно, что от нежелательных детей избавлялись многими антигуманными и смертоубийственными способами, хотя основным из них и в детских учреждениях служило убийство голодом. Сообщают, например, что некоторых детей топили в баржах на Днепре (такой метод применяли и ко взрослым)[72]. Но большинство детей, повторяем, погибало просто от голода. Есть четкие доказательства относительно числа, хотя, возможно, неточного числа, этих детских жертв.
Советский демограф-диссидент С.Максудов подсчитал, что «не менее трех миллионов детей, родившихся между 1932-м и 1934 гг., умерло от голода»[73]. Это составляет общее число погибших в эти годы новорожденных. Лев Копелев приводит цифру в два с половиной миллиона младенцев, умерших именно от голода – по данным другого советского исследователя[74]. Перепись 1970 года дает цифру в 12,4 миллиона живущих из тех, кто родился в 1929–1931 гг., и только 8,4 миллиона для тех, кто родился в 1932–1934 гг. При этом естественный коэффициент прироста населения снизился совсем немного. В 1941 году в школах было на миллион меньше семилетних, чем одиннадцатилетних, и это при том, что группа одиннадцатилетних тоже очень жестоко пострадала. Более того, когда речь идет о районах, переживших голод, такая диспропорция еще более увеличивается. В Казахстане возрастная группа в семь лет составляла менее двух пятых от группы в одиннадцать лет; в Молдавии же (большая часть территории которой не входила в 1930 году в состав СССР) семилетняя возрастная группа почти на две трети превосходила одиннадцатилетнюю группу[75].
Если проследить все имеющиеся местные сведения, то демографическая картина окажется очень сходной с общесоюзными итогами.
Так, в одной деревне, по имеющимся данным, «маленьких мальчиков выживало меньше, чем один из десяти»[76] (маленькие мальчики, по сведениям другого источника, являлись наиболее уязвимой группой).
В одном из районов Полтавской области из общей цифры смертности в 7113 приводятся следующие показатели по группам[77]:
Дети (до 18 лет) 3549
Мужчины 2163
Женщины 1401
Учительница в деревне Новые Санжары Полтавской области пишет, что к 1934 году ей некого было учить, в школе не осталось учеников, а у другой из класса в 30 человек осталось двое.[78] В украинской же деревне Харьковцы в 1940–1941 учебном году вообще не было учеников младших классов, тогда как в предыдущие годы их в среднем набиралось до 25 человек.[79]
Правомерно заключить, что из семи миллионов погибших от голода число примерно в три миллиона составляли дети – в большинстве младенцы (в главе 16-й мы поговорим об общей цифре поражения голодом, включая взрослых). Следует иметь в виду, что по вполне ясным причинам во время голода регистрация рождаемости велась в селах очень нерегулярно, а в пиковые моменты голода рождаемость вообще – по тем же причинам – была минимальная, поэтому энное число новорожденных могло умереть, просто не будучи зарегистрированными.
К числу в три (или более) миллиона погибших детей в 1932–1934 гг. следует прибавить и детей, погибших в кампанию раскулачивания. По нашим подсчетам, в процессе раскулачивания всего погибло около трех миллионов человек (мы считаем здесь тех взрослых из раскулаченных, кто погиб позднее, в лагерях) – это значит, что процент детской смертности от этого числа, который по всем показателям свидетелей был очень высоким, вряд ли мог поглотить менее одного миллиона детей, из которых большая часть падает на младенцев. Быть может, к этим четырем миллионам детоубийств следовало бы добавить те жертвы, о которых упоминалось выше, – но это последнее число просто не подается никакому учету.
Рассказывая о голоде, стоит отметить, что меры, предпринятые в конце концов для спасения голодающих весной 1933 года, могли быть введены и раньше: начали ведь детям выдавать еду в школах – муку, овсянку, жиры – и тем, кто дожил до мая, больше уже не грозила смерть от голода. Правда, к тому времени многие из них стали сиротами.
Глава шестнадцатая. Реестр смерти
Никто не вел учета…
Н.ХрущевНе было никакого официального изучения террора в селах в 1930–1933 гг.; не было сделано ни одного заявления о «человеко-потерях»; не были открыты архивы для независимых исследований этого вопроса. Тем не менее, мы располагаем возможностями осуществить достаточно убедительные расчеты относительно числа умерших в период этого этапа террора.
Прежде всего рассмотрим вопрос об общих потерях для всего цикла события – в период раскулачивания и в период голода. Сделать это в принципе нетрудно.
Для этого нужно только обратиться к численности населения по советской переписи 1926 года, взять коэффициент естественного прироста за последующие годы и сравнить полученные результаты с цифрами первой переписи после 1933 года.
Здесь надо сделать несколько незначительных оговорок. Перепись 1926 года, как и все остальные переписи, сделанные в несравненно более благоприятных условиях, все же не может быть абсолютно точной. Как советские, так и западные подсчеты сходятся в том, что она была заниженнной на 1,2–1,5 миллиона[1] (примерно на 800 000 человек применительно к Украине). Это означает, что список умерших практически должен бы увеличиться почти на полмиллиона жертв, преимущества официально установленной базовой цифры, данной в переписи, так велики, что мы в наших вычислениях пренебрежем этим полумиллионом. Опять-таки, «коэффициент естественного прироста» вычислялся по-разному, хотя и в достаточно узком пределе. Наибольшей помехой нашим целям может, на первый взгляд, показаться тот факт, результаты следующей переписи, предпринятой в январе 1937 года, к сожалению, нам не известны. Властям, видимо, не предъявлены предварительные результаты, сделанные расчете на 10 февраля 1937 года. Дальше перепись была приостановлена, результаты объявлены секретными. Начальник Управления по делам переписи О.А.Квиткин был арестован 25 марта.[2] Оказалось, что «прославленная советская разведка, возглавлявшаяся сталинским народным комиссаром Н.И.Ежовым, уничтожила змеиное гнездо предателей в аппарате советской статистики»[3]. Предатели «поставили себе задачу извратить реальные цифры населения» или (как писала потом «Правда») «стремились сократить численность населения СССР»[4] – упрек весьма несправедливый, ибо отнюдь не статистики осуществили это сокращение.
Цели запрещения переписи и стремления заставить замолчать тех, кто ее осуществлял, достаточно ясны. Цифра в 170 миллионов советских граждан, которая в течение нескольких лет фигурировала в официальных речах и отчетах, символически олицетворяла хвастливое заявление, сделанное в январе 1935 года Молотовым: «гигантский рост населения свидетельствует о жизнеспособности советского строительства»[5].
Следующая перепись была проведена в январе 1939 года. Это единственная за данный период перепись, результаты которой были опубликованы. Но, проведенная в тогдашних условиях, она никогда не вызывала большого доверия. Все-таки следует отметить, что даже если принять всерьез официальные цифры 1939 года, они тоже свидетельствуют об огромных потерях в составе населения, хотя, конечно, не показывают реального дефицита.
В деле вычисления общей цифры неестественных смертей между 1926-м и 1937 годами решающими являются итоги переписи 1937 года, и именно на них (без упоминания деталей) имелось несколько ссылок в послесталинских демографических публикациях. Самая специальная из этих публикаций приводит цифру населения в СССР: 163 772 000,[6] остальные – ровно 164 миллиона[7]. Общее же число, считая самые нижние оценки, сделанные в прежние годы советскими статистиками, а также согласно оценкам современных демографов, должно было составить примерно 177 300 000 человек.
Другой, более грубый подход к нашему вычислению сводится к тому, чтобы к цифре приблизительно подсчитанного населения на 1 января 1930 года (157 600 000)[8] присовокупить заявление Сталина о том, что «годовой прирост населения составляет три миллиона», сделанное им в 1935 году.[9] В результате получается цифра в 178 600 000, очень близкая к первой проекции. Второй пятилетний план тоже дает цифру численности населения на начало 1938 года в 180,7 миллиона[10]; это также означает, что в 1937 году она равнялась 177 или 178 миллионам. Странно, правда, что начальник ЦСУ во времена Хрущева В. Н. Старовский, используя применительно к 1937 году цифру Госплана в 180,7 миллиона, сравнивает ее с цифрой переписи в 164 миллиона и при этом замечает: «Даже после корректировки»[11] – оговорка, свидетельствующая о значительной, ползущей вверх инфляции чисел: «корректировка» на пять процентов означала бы в качестве базовой цифры уже 156 миллионов, то есть число, которое сообщил советскому исследователю А.Антонову-Овсеенко нижестоящий номенклатурщик.[12] Но, следуя нашей практике вычисления потерь только по минимуму, пренебрежем этой возможной «корректировкой». Без нее Старовский определяет потери в 16,7 миллиона человек. Можно, конечно, посчитать, что эта цифра Госплана столь же убедительна, как и все остальные госплановские показатели на начало октября 1937 года, но если ее принять, то в этом случае потери за предыдущие годы составят около 14,3 миллиона человек. Но мы предпочитаем снова взять более низкие числа, пренебречь более высокими прикидками советских демографов, исследуюших этот период, и будем считать убыль населения равной 13,5 миллиона человек.
Поскольку к началу 1937 года не было массового уничтожения других социальных категорий, – исключая малые величины в десятки тысяч убитых, – то в действительности почти все эти потери населения приходятся на крестьянство.
Число в 13,5 миллиона не включает в себя только убийства. В него включены и «неродившиеся» – те, кто не появился на свет в результате смерти родителей, их разлуки и т.п. Эти потери «неродившихся» в сельских местностях можно вычислить: за год террора голодом и за два года депортации кулаков они составляют примерно 2,5 миллиона душ, и это число вряд ли завышено. Если же принять это очень высокое число нерожденных за фактическое, то у нас останется 11 миллионов погибших к 1937 году в ходе раскулачивания и голода, но без учета тех, кто позднее погиб в лагерях.
Другой метод сводится к следующему: в 1938 году насчитывалось примерно 19 900 000 крестьянских хозяйств. В 1929 году их было примерно 25 900 000. Если на каждую крестьянскую семью приходится 4,2 человека, это означает, что в 1929 году крестьян имелось 108 700 000, а в 1938 году – 83 600 000. Естественный прирост за эти годы должен был довести цифру до 119 000 000 – дефицит с реальной цифрой доходит до 36 000 000. Из них мы должны вычесть 24 300 000, либо переселившихся в города, либо оставшихся жить в деревнях, названных теперь поселками городского типа, и остается убыль в населении, в целом равная 11 миллионам 700 тысячам человек.
К этим 11 с лишним миллионам мы должны добавить крестьян, уже осужденных и умиравших в лагерях после января 1937 года, то есть тех, кто был арестован в ходе наступления на мужика в 1930–1933 гг. и не пережил сроков заключения (но исключим из наших подсчетов тех крестьян, которых арестовали в ходе еще более тотального террора 1937–1938 гг.). Как будет показано далее, эти жертвы дадут нам еще не менее 3,5 миллиона человек, и общая цифра гибели крестьян в результате раскулачивания и террора голодом составит таким образом 14,5 миллиона погибших.
* * *
Далее мы должны рассмотреть, как этот страшный итог делится по показателям – отдельно на жертв раскулачивания и отдельно на убитых голодом. Здесь почва оказывается более зыбкой.
Демографы считают, что жертвы террора на селе делятся примерно пополам – из 14 с лишним миллионов смертей 7 с лишним приходится на раскулачивание и 7 с лишним на голод. Мы беремся проверить это предположение более детально.
Из 14,5 миллиона свыше 3,5 миллиона составляют зэки, умершие в лагерях в период после 1937 года, но в большинстве своем осужденные до указа от мая 1933 года, цифра эта составляет, конечно, важный компонент в числе тех, кого уничтожили в отчаявшихся селах Украины и Кубани периода голода, но эти люди все же не погибли непосредственно от кампании террора голодом, и, чтобы вычислить жертвы последнего, вернемся к 11 миллионам умерших до 1937 года и попытаемся поделить ее между депортацией и голодом.
Можем начать с жертв голода – и тогда опять-таки начнем с потерь украинского населения. (Уже говорилось, что это не полная цифра общероссийских потерь, но неофициальные подсчеты показывают, что около 80 процентов смертей приходится либо на саму Украину, либо на преимущественно украинские районы Северного Кавказа.) Чтобы определить потери украинцев, обратимся снова к фальсифицированной переписи 1939 года, поскольку, как выше упоминалось, не было опубликовано никаких иных цифр по национальностям – нет никаких вообще цифр, кроме общего количества населения, даже сейчас, когда струится тоненькая струя сведений подлинной переписи 1937 года, которой мы воспользовались выше.
Официальная цифра численности советского населения в переписи на январь 1939 года – 170 467 186. Западная демографическая работа указывает, что реальной цифрой, вероятно, были примерно 167,2 миллиона. (Но даже эта последняя цифра говорит о резком улучшении в сравнении с 1937 годом, несмотря на те 2–3 миллиона, которые, как мы подсчитали, погибли в лагерях или расстреляны в 1937–1938 гг. Улучшение объяснялось частично естественным, а частично и юридическими факторами: рост рождаемости после бедствий, катастроф или голода – это явление естественное: и частота половых сношений и способность к воспроизводству, которые резко пошли на убыль в голодные годы, потом восстанавливаются. Что касается второго фактора, то в 1936 году были официально запрещены аборты, а противозачаточные средства перестали продаваться. Были предприняты и другие подобные меры.)
Из официальной цифры переписи в 170 467 186 долю Украины составляет цифра в 28 070 404 (против 31 194 976 по переписи 1926 года). Нет никакого способа определить, как распределяются эти добавочные по сравнению с западной цифрой 3,4 миллиона в сумме 170,5 миллиона по национальным показателям. Поэтому обычно предполагают, что численность каждой национальной группы пропорционально завышали (хотя лучшая тактика сокрытия фактов могла бы продиктовать и сознательное приписывание Украине из-за ее особенно низких показателей более высокой цифры, чем остальным республикам).
Если на долю Украины не выпало бы добавочного завышения, то подлинной цифрой численности ее населения в 1939 году была бы 27 540 000. Тогда бы 31,2 миллиона в 1926 году выросли бы до 38 миллионов в 1939-м. И в этом случае потери равнялись бы 10,5 миллиона. Если на долю нерожденных детей отвести 1,5 миллиона, то потери на Украине вплоть до 1939 года составили бы 9 миллионов человек.
Но эти 9 миллионов не являются показателем одной только смертности. К 1939 году на украинцев, живущих вне пределов Украины, оказывалось очень сильное давление с целью, чтобы они записывались русскими – и значительное число украинцев осуществило этот переход в другую национальную группу. Советский демограф признает, что за период между двумя переписями, 1926-м и 1939 гг., «низкий коэффициент роста (!) в численности украинцев объясняется снижением естественного прироста, которое явилось результатом плохого урожая на Украине» в 1932 году», но добавляет при этом, что люди, «которые прежде считали себя украинцами, в 1939 году записались русскими»[13]. Нам, например, говорили, что люди с поддельными документами часто меняли свою национальность, поскольку украинцы были всегда на подозрении у милиции[14].
Все сказанное относится не столько к Украине, сколько к украинцам, проживающим в других местах СССР. Таких было 8 536 000 в 1926 году, из них 1 412 000 – на Кубани. Остатки кубанских казаков безусловно были зарегистрированы теперь как русские, но численность их оказалась намного ниже, чем в 1926 году. В других местах это определялось силой давления на каждого отдельного человека и было, несомненно, затяжным процессом – даже по переписи 1959 года было еще более 5 миллионов украинцев, проживавших в СССР не на территории Украины. Если предположить, что количество украинцев, записавшихся русскими, составляет 2,5 миллиона, то мы получим: 9 минус 2,5 равняется 6,5 миллиона умерших.
Если из этой цифры вычесть 500 000 украинцев, погибших в период раскулачивания в 1929–1932 гг., то на долю умерших от голода остается 6 миллионов.
Эту цифру надо разделить на 5 миллионов умерших на самой Украине и 1 миллион – на Северном Кавказе. Цифра погибших в этот период неукраинцев, возможно, не превышает одного миллиона. Таким образом, общее число умерших от голода составляет приблизительно 7 миллионов, из которых три падает на детей. Как мы уже указывали, эти цифры минимальны.
* * *
Еще один ключ к цифрам умерших от голода, или, вернее, в самый страшный его период, можно найти в разнице между подсчетами Управления по делам переписи, осуществленными незадолго до переписи 1937 года, и действительными цифрами этой переписи. Цифра предварительных вычислений равна 168,9 миллиона[15]; реальная – 163 772 000 – разница как раз в пять с лишним миллионов. Считается, что эта цифра образована количеством незарегистрированных смертей на Украине, начиная с конца октября 1932 года, хотя таких цифр не имелось в распоряжении составителей переписи; и эта цифра согласуется с другими цифрами, которые мы получили для умерших от голода в целом.
Можно произвести и целый ряд менее прямых вычислений количества умерших от голода, основываясь в том числе и на официальной утечке информации.
Так, американский гражданин, родившийся в России, который до революции был знаком со Скрыпником, посетил его в 1933 году и встретился так же и с другими украинскими лидерами. Скрыпник назвал ему «минимум» восемь миллионов, умерших на Украине и Северном Кавказе.[16] Глава ГПУ Украины Балицкий тоже сказал ему, что погибло 8–9 миллионов; Балицкий добавил при этом, что цифра эта была предъявлена Сталину, хотя в качестве приблизительной.[17] Другой офицер Госбезопасности писал, что, возможно, на более раннем этапе ГПУ представляло Сталину цифру в 3,3–3,5 миллиона, умерших от голода[18]. Иностранному коммунисту называли цифру в 10 миллионов умерших в целом по СССР.[19]
Другой иностранный рабочий на Харьковском заводе, где голод далеко не ушел еще в прошлое, слышал от местных властей, что Петровский допускает число в 5 миллионов, умерших от голода «на сегодняшний день».[20]
Уолтер Дюранти сказал в британском посольстве в сентябре 1933 года, что «население Северного Кавказа и Нижний Волги сократилось за прошлый год на 3 миллиона, а население Украины – на 4 или 5 миллионов» и что ему представляется «весьма вероятной» общая цифра смертности в 10 миллионов. Разумно предположить, что цифры Дюранта добыты из тех же источников, которые никогда не публиковались, но были даны кому-то из его коллег неким высоким чиновником или почерпнуты им из тех официальных данных, которые имелись в то время в распоряжении властей.
Американский коммунист, работавший в Харькове, определяет потери в 4,5 миллиона умерших только от голода и еще несколько миллионов – от болезней, связанных с плохим питанием.[21] Другому американцу высокий украинский чиновник сказал, что в 1933 году умерло 6 миллионов человек[22]. Канадский коммунист, украинец, который учился в Высшей партшколе при ЦК Украины, узнал, что секретный отчет для ЦК Украины привел цифру в 10 000 000 умерших[23].
Что касается других областей, то для Центральной и Нижней Волги, а также для Дона по имеющимся данным потери пропорционально были так же велики, как и для Украины. Директор Челябинского тракторного завода Ловин сказал иностранному корреспонденту, что на Урале, в Восточной Сибири и Заволжье погибло более миллиона человек.[24]
Следует оговориться, что все эти подсчеты не обязательно совпадают друг с другом, поскольку не всегда ясно, когда цифры относятся к показателям числа смертей только на Украине, или же – какие годы охватывают эти цифры смертности, или включены ли в них также показатели смертей от болезней, связанных с голоданием…
Во всех случаях даже официальные секретные отчеты дают между собой разнобой в несколько миллионов жертв. Мы не должны полагать, что возможно получить точные или хотя бы приблизительные цифры (как это явно вытекает из оценок Балицкого). Как говорит Леонид Плющ, «члены партии приводят цифры, равные пяти или шести миллионам, а другие говорят о десяти миллионах жертв. Истинная цифра, видимо, лежит посередине».[25]
* * *
Если в полученной нами цифре приблизительно в 11 миллионов преждевременных смертей в 1926–1937 гг. можно быть уверенными, то приблизительная цифра в 7 миллионов из 11 для умерших от голода должна быть названа лишь вероятной или предполагаемой. Если она верна, то, значит, приблизительно 4 миллиона из них падает на смерти в процессе раскулачивания или коллективизации (или на все, что имело место до 1937 года) .
Эти 4 миллиона включают и умерших в период казахстанской трагедии. Среди казахов потери населения между переписями 1926-го и 1939 гг. (даже если принять цифры последней) составляли 3 968 300 минус 3 100 900 равно 867 400. Корректировка цифр переписи 1939 года по усредненной шифре национального состава (как мы это сделали для украинцев) дает итог в 948 000. Но в 1939 году численность казанского населения по сравнению с 1926 годом должна была возрасти до 4 598 000 (при весьма минимальном допущении, республиканский прирост равен в среднем приросту населения в СССР, составлявшему 15,7 процента. На самом деле в мусульманских советских республиках, исключая Казахстан, численность населения росла куда быстрее среднего уровня). Это означает, что по проекции населения должно было оказаться в Казахстане более чем на 1,5 миллиона больше реально известного нам числа. Если допустить, что на долю нерожденных детей приходится 300 000, а на долю удачно эмигрировавших в Китай из районов, близлежащих к Синьцзяну, еще 200 000, то мы получим цифру смертности казахов, равную одному миллиону.
Таким образом, мы получили 3 миллиона потерь населения с 1926 по 1937 год, понесенных в процессе депортации кулаков. Мы уже обсудили цифру высланных и коэффициент смертности, приводимый в источниках. Цифра в 3 миллиона согласуется с нашими подсчетами (если предположить, что 30 процентов высланных умерло, то высланных окажется 9 миллионов, а если – что умерло 25 процентов, то общая цифра высланных составит 12 миллионов).
К 1935 году, согласно одному источнику[26] приводящему лишь примерную цифру, третья часть из 11 миллионов высланных умерла; треть находилась в «специальных поселениях» и треть – в лагерях принудительного труда. По имеющимся данным, общая цифра обитателей лагерей принудительного труда в 1935 году достигала примерно 5 миллионов человек[27], и до массовых арестов служащих и партийных чиновников в 1936–1938 гг., 70–80 процентов от этих 5 миллионов в соответствии со всеми источниками преимущественно приходилось на крестьян.[28]
Из примерно 4 миллионов крестьян, вероятно, сидевших в лагерях принудительного труда в 1935 году, большая часть, видимо, дожила до 1937-го или 1938 гг., но позднее до освобождения дожило скорее всего не более 10 процентов из них. Таким образом, как уже отмечалось, мы должны прибавить еще минимум 3,5 миллиона умерших к цифре погибших крестьян.
* * *
Во всех вычислениях наши выводы основаны либо на точных и твердых цифрах, либо на убедительных минимальных посылках. Так, если мы приходим к выводу, что не менее 14 миллионов с лишним крестьян погибло в результате описанных в этой книге событий, то даже и эта цифра может оказаться заниженной. Во всех случаях цифра в 11 с лишним миллионов умерших, по показаниям переписи 1937 года, вряд ли может быть предметом серьезных поправок.
Цифры смертности от голода одинаково правдоподобны – и сами по себе и в сопоставлении с данными переписи – точно так же, как и цифры смертности от раскулачивания.
Почему мы не в состоянии привести более точные цифры – читателю очевидно. В своих мемуарах Хрущев говорит: «Я не могу привести точной цифры, потому что никто не вел учета. Единственное, что мы знали, – люди умирали в огромных количествах.»[29]
Показательно, что статистика смертности крупного рогатого скота, даже если данные ее сомнительны, все-таки была опубликована, а вот статистика человеческой смертности не обнародовалась никогда. Поэтому у нас есть какие-то данные о том, что происходило за эти пятьдесят лет со скотом, но нет никаких сведений о том, что же случилось с человеческими жизнями. В речи, произнесенной Сталиным спустя несколько лет и часто переиздававшейся, вождь сказал, что людям надо уделять больше внимания, и привел в пример случай с ним самим в сибирской ссылке: переходя реку вброд вместе с крестьянами, он увидел, что те всеми силами стараются сохранить лошадей, но даже и не думают, что может утонуть кто-то из людей. Сталин резко порицал подобное поведение. Надо сказать, что даже в его устах, устах человека, чьи слова вообще очень редко выражали его истинное отношение к тому или иному предмету, такое рассуждение – особенно в то время – выглядело максимальным извращением правды. Потому что для него и его сторонников именно человеческая жизнь по их, сталинской, шкале ценностей занимала последнее место.
Теперь мы можем без помех вычислить (в грубом приближении) показатели потерь населения:
Крестьяне, погибшие в 1930–37 гг. 11млн.
Арестованные в этот период и
скончавшиеся в зонах позднее 3,5 млн.
ВСЕГО: 14,5 млн.
Из них:
погибших в результате
раскулачивания 6,5 млн.
погибших в казахстанской
катастрофе 1 млн.
погибших от голода в 1932–33 гг.:
на Украине 5 млн.
на Северном Кавказе 1 млн.
в других местах 1 млн.
ВСЕГО: 7 млн.
Как уже говорилось, эти огромные цифры сопоставимы с потерями в основных войнах нашего времени. Если говорить об элементах геноцида в отношении только украинцев, то следует напомнить, что эти 5 миллионов жертв составляли 18,8 процента от всего населения Украины и около четверти ее крестьянства. В Первую мировую войну погибло менее 1 процента от количества населения стран, в ней участвовавших. В украинском селе (Писаревка на Подолии), где жило 800 человек, умерло во время голода 150 человек: местный крестьянин иронически отметил, что в Первую мировую войну было убито семь здешних жителей[30].
В описанных здесь катастрофах то, что называется «ходячими язвами», охватило без исключения все население, в этой главе мы старались отразить лишь один аспект – реальную смертность населения, и как можно точнее, как можно ближе к истине. Но не забывайте ни на секунду, что чудовищный эфект безмерных страданий сказался не только в тот период – он повлиял на отдаленное будущее, на будущее и отдельных людей и целых народов.
Добавим, что последующие фазы террора, например Большой террор, повлекшие за собой смертность примерно в таких же масштабах, как вышеописанные, уже глядели почти прямо в лицо уцелевшим людям.
Еще раз напомним: приведенные здесь цифры минимальны, они наверняка не превосходят истинные. Если мы не смогли сделать их более точными, то лишь потому, что нам не позволяет сделать это советский режим. Сразу оговорим, что дело не только в утаивании подлинных фактов Сталиным тогда, в 30-е годы.
Мы обязаны рядом полезных сведений честным и мужественным советским исследователям: и писателям, но даже сегодня московские власти препятствуют проведению настоящего расследования чудовищных событий того времени. Это доказывает нам, до какой степени режим все еще остается соучастником и наследником деятелей, которые пятьдесят лет назад обрекли на гибель миллионы ни в чем не повинных людей.
Глава семнадцатая. Протокол Запада
Замолкни, смерть, чтоб не было мне стыдно.
МейсфилдОсновным элементом в сталинских операциях против крестьянства была, как это называет Пастернак, «нечеловеческая сила лжи». Обман использовался в огромных масштабах. В частности, было сделано все возможное, чтобы убедить Запад в том, что никто не голодает, а позднее, что в реальной действительности не было никакого подлинного голода.
На первый взгляд, может показаться, что это вообще невозможно сделать. Достаточно большое число правдивых отзывов дошли до Западной Европы и Америки, некоторые из них представляют собой безупречные свидетельства очевидцев с Запада. (Считалось невозможным, по крайней мере в 1932 году, не пускать иностранцев в районы, охваченные голодом.)
Но у Сталина имелось глубокое понимание возможностей того, что Гитлер одобрительно называл Большой Ложью. Он знал, что если правда даже и лежит на поверхности, обманщик не должен сдаваться. Сталин понимал: категорическое отрицание, с одной стороны, и вливание в имеющийся фонд информации не менее основательного запаса несомненной лжи с другой, окажется достаточным, чтобы сместить существо происходящего в представлении пассивной и неосведомленной западной аудитории и навязать сталинскую версию событий тем, кто сам ищет возможность быть обманутым. Голод был первым значительным поводом для использования их упражнений по воздействию на общественное мнение, за которым последовал целый ряд других – таких, как кампания московских процессов 1936–1938 гг., как отрицание системы лагерей принудительного труда и тому подобное. Вряд ли можно сказать, что от этих методов отказались сегодня.
* * *
Прежде, чем приступить к разговору о том, как работали подобные схемы, необходимо признать непреложный факт: в действительности, на Западе правда была широко известна.
Несмотря ни на что, обстоятельные или вполне удовлетворительные статьи, освещающие происходящее, появлялись в «Манчестер гардиан» и «Дейли телеграф», в «Ле Матен», в «Нойе цюрихер цайтунг», в «Газете де Лозанн», в итальянской «Ля стампа», в австрийской «Райхпост» и множестве других западных газетах. В США многие широко читаемые газеты печатали подробные впечатления очевидцев, только что вернувшихся с арены событий, скажем, украинца, ставшего американцем, и других (хотя такие рассказы вызывали часто недоверчивое отношение, поскольку публиковались в журналах «правого крыла»). «Кристчен сайенс монитор», «Нью-Йорк геральд трибюн» и нью-йоркская еврейская «Форвертс» широко освещали описываемые события. Мы много раз цитировали в книге их отчеты.
Однако должно принять в расчет, что в большинстве случаев журналисты, аккредитованные в СССР, не могли бы сохранить свои визы, если бы они писали о реальных фактах. Потому часто они были вынуждены – или просто предпочитали – пойти на компромисс. Только покинув навсегда страну, такие люди, как Чемберлен и Лайонс, смогли обо всем рассказать. Сверх того, их сообщения подвергались цензуре, хотя Магаридж сумел послать несколько статей тайком через английские дипломатические каналы.
В целом правдивые отчеты непосредственно с арены событии сводились либо к сообщениям, посланным таким образом, как это делал Магаридж, либо же к неполным, хотя и несущим какую-то информацию коротким статейкам, проходившим цензуру, да к свидетельствам недавних посетителей СССР, которые знали русский или украинский язык и проникали в районы голода – некоторые из них были иностранными коммунистами, работавшими там, или иностранными гражданами, имевшими родственников в селах, либо же случайными эксцентричными иностранцами, просто склонными находить и говорить правду.
Одним из этих последних был Гарет Джонс, бывший секретарь Ллойд-Джорджа и специалист по России и русской истории. Он поехал на Украину из Москвы, как и Магаридж, никому не сказав ни слова. Он шел пешком по селам в Харьковской области и, вернувшись на Запад, возвестил там о постоянном вопле, который преследовал его везде на Украине: «Нет хлеба, мы умираем!» Он сказал, как и Магаридж, в «Манчестер гардиан» (от 30 марта 1933 г.), что никогда не забудет «вздутых животов детей в хатах, где ночевал». Кроме того, он добавил: «Четыре пятых крупного рогатого скота и лошадей погибло». Этот достойный и честный отзыв стал объектом грубых клеветнических заявлений не только со стороны советских официальных лиц, но также Уолтера Дюранти и других корреспондентов, желавших остаться в стране, чтобы писать о предстоящем сфабрикованном процессе «Metro-Vic», главной тогдашней новости.
И все-таки некоторые из встревоженных западных журналистов старались всячески в депешах, случайно пропущенных цензурой, протащить полезную информацию. Один из корреспондентов Ассошиэйтед Пресс Стенли Ричардсон в сообщении от 22 сентября 1933 года процитировал слова начальника политического отдела МТС Украины, старого большевика Александра Асаткина, в прошлом – первого секретаря белорусской компартии, о голоде. На самом деле Асаткин дал ему цифры, которые были изъяты цензором, но ссылка на «случаи смерти от недоедания, имевшие место прошлой весной в его районе» в статье сохранилась. (Такое подтверждение фактов со стороны советского партийного деятеля не было опубликовано большинством американских газет: Марко Царинник пишет, что сумел найти его только в «Нью-Йорк американ», «Торонто стар» и «Торонто ивнинг телеграмм».)
В общем, в 1933 году были введены новые правила, запрещавшие иностранным корреспондентам въезд на Украину и Северный Кавказ.[1] Уже 5 марта 1933 года британское посольство докладывало Лондону, что «всем иностранным корреспондентам в отделе прессы при наркомате иностранных дел „посоветовали не выезжать из Москвы“. Но только в августе У. Х. Чемберлен счел возможным известить свою редакцию на Западе, что ему и его коллегам запретили выезжать из Москвы без объявления предполагаемого маршрута и специального разрешения на него и что ему отказали в поездке на Украину и Северный Кавказ, где он прежде бывал. Он добавил, что такой отказ получили еще два американских корреспондента и некоторые другие.[2] Корреспондент «Нью-Йорк гералд трибюн» П.-Б. Барнес заявил, что «новые правила цензуры исключают для аккредитованных иностранных корреспондентов возможность посещать районы СССР, где условия складываются неблагоприятно.»[3]
Честным журналистам можно было надеть намордник, но их нельзя было заставить замолчать. Когда в 1934 году вышла книга Чемберлена, не возникало больше сомнений в реальности голода и в тех муках, которые и прежде выпали на долю крестьянства. Даже западные писатели-коммунисты и не коммунисты, но друзья режима, уже позволяли себе «оговорки» и писали правду. Морис Хиндус, когда писал о коллективизации (ее-то он в принципе оценил положительно), говорил о «человеческой трагедии» депортированных кулаков, о «черствости и бесчувственности» партии; описывал реакцию крестьян на гибель их скота и последующую «апатию»; некомпетентность колхозной администрации (падеж свиней и цыплят из-за плохого ухода, коров и лошадей от недоедания)[4].
Имелось уже достаточно информации, чтобы наличие голода больше не вызывало каких-либо сомнений, и западное общество теперь было осведомлено о происходящем. Некоторые действовали: конгрессмен Хамильтон Фиш-младший 28 мая 1934 года предложил в Палате представителей США резолюцию (73-е заседание Конгресса, 2-я сессия, Резолюция палаты 39-а), которая констатировала факты голода и призывала согласно американской традиции «обращать внимание на подобные посягательства на права человека, выражать сочувствие и надежду, что СССР изменит свою политику» и тем временем предлагала ему помощь Америки. Эта резолюция была передана в комиссию Конгресса по иностранным делам и была предназначена к публикации.
Как и в 1921 году, хотя и в меньших масштабах, поскольку факты были не так широко известны, был совершен международный гуманистический акт. На этот раз, однако, он оказался безрезультатным. Учредили Международный комитет помощи под председательством кардинала Инницера, архиепископа Вены. Но Красный Крест вынужден был отвечать на все призывы о помощи, что он не может действовать, не получив согласия правительства заинтересованной страны, а правительство данного государства продолжало отвергать факты голода, сообщения о нем называло ложью и помещало в печати опровержения от имени своих преуспевающих крестьян, отказывающихся принимать наглые предложения помощи. Колхозы республики немцев Поволжья, по словам газеты «Известия»[5], отвергали помощь организаций, созданных в Германии «для оказания помощи тем немцам, которые, как полагают, голодают в России».
На Западной Украине, входившей в состав Польши, факты голода были известны хорошо, и в июле 1933 года во Львове образовался Украинский центральный комитет помощи, который сумел оказать голодающим неофициальную поддержку посылками.
Украинские эмигрантские организации на Западе проявили максимум активности, стремясь привлечь к голоду внимание правительств и общественного мнения разных стран. В Вашингтоне, в досье Госдепартамента, есть множество обращений к правительству с просьбами о вмешательстве, на что отвечали, что, поскольку это дело никак не связано с американскими интересами, вмешательство бесцельно.
В документах Госдепартамента хранится много писем от редакций, профессуры, духовенства и других, где сообщают, что в лекциях таких людей, как Чемберлен, упоминается число жертв от 4 до 10 миллионов человек – и почти в каждом выражается сомнение, что такие масштабы вообще возможны. Иногда Госдепартамент отвечал, что он не комментирует событий, это его принципиальная позиция, а иногда отсылал к источникам, где авторы писем могли получить ответы на интересующие их вопросы.
В то время (до ноября 1933 года) у США не было дипломатических отношений с СССР, и у Госдепартамента имелось задание провести подготовку для их установления – в ситуации подобной дипломатической акции сообщения о терроре голодом рассматривались правительством как ненужные. Но дипслужбы в самой Москве обмануты не были, и, в частности, британское посольство докладывало в Лондон, что ситуация на Украине и на Кубани «ужасающая».[6]
Следовательно – так или иначе, но правда была Западу доступна и в какой-то доле известна. Поэтому задача, стоявшая перед советским правительством, заключалась либо в том, чтобы исказить правду, либо как-то ее парализовать, либо просто замять поднимаемый вопрос.
Вначале наличие голода либо игнорировали, либо полностью отрицали. В советской прессе вообще не появилось никаких откликов. Даже украинские газеты ни о чем подобном не упоминали. Несоответствие между реальностью и информацией о реальности выглядело совершенно исключительным.
Артур Кестлер, побывавший в 1932–1933 гг. в Харькове, писал, что чтение местных газет создавало у него чувство иллюзорности окружающего: улыбающаяся молодежь со знаменами в руках, гигантские комбинаты на Урале, статьи о наградах бригадам ударников, но ни «единого слова о голоде в республике, об эпидемиях, о вымирании целых деревень; даже тот факт, что в Харькове не было электричества, ни разу не был упомянут в газетах. Огромная страна лежала под покровом молчания»[7].
В более ранний период, во время коллективизации, вообще трудно было понять, что происходит. Американский корреспондент писал: «Живя в Москве, русский или иностранец в большинстве случаев узнавал только стороной, либо вообще не узнавал о таких эпизодах „классовой борьбы“, как смерть от голода многих высланных крестьянских детей в далекой Лузе, на севере России летом 1931 года. Или, например, о повальной цинге от недостатка питания среди сосланных на принудительные работы в карагандинские угольные шахты в Казахстане. Или о гибели от холода семей кулаков, которых зимой выгнали из их домов и отправили в Акмолинск, в Казахстан. Или о массовых заболеваниях половых органов у женщин, сосланных в холодный Хибиногорск за Северным Полярным кругом, из-за полного отсутствия гигиенического обеспечения в холодную зиму.»[8] Когда начался голод, о нем даже в Москве открыто говорили русские, и не только у себя дома, но и в общественных местах и в гостиницах. Но очень скоро упоминание слова «голод» стало расцениваться как уголовное преступление, которое каралось тремя–пятью годами тюрьмы. Но уже достаточно стало о нем известно, и даже иностранным корреспондентам, и этот факт сделал необходимым предпринятие более действенных шагов, чем одно голое отрицание.
Тем не менее, отрицали горячо и решительно.
В газетах критиковали «клеветников», которые вдруг появились в иностранной прессе. «Правда» обвинила (20 июля 1933 года) австрийскую «Рейхпост» в том, что «заявление о голодной смерти миллионов советских граждан на Волге, Украине и Северном Кавказе является вульгарной клеветой, грязным наветом, который сварганили в редакции „Рейхпост“, чтобы переключить внимание своих рабочих с их собственного тяжелого и безнадежного положения на проблемы голода в СССР». Председатель ВЦИКа Калинин говорил о «политических мошенниках, предлагающих помощь голодающей Украине», добавив, что «только самые загнивающие классы способны создавать такие циничные измышления.»[9] Когда о голоде широко заговорили в США и конгрессмен из Коннектикута Герман Копельман официально обратился с этим вопросом к советским властям, он получил следующий ответ от наркома иностранных дел Литвинова:
«Я только что получил Ваше письмо от 14 числа и благодарю Вас за присланный мне очерк об Украине. Немало таких лживых статей циркулирует в зарубежной прессе. Их стряпают контрреволюционные организации за границей, натренированные в такого рода работе. Им уже ничего не осталось, как распространение ложной информации и поддельных документов.»[10]
Советское посольство в Вашингтоне тоже заявило, что за период пятилетнего плана население Украины возрастало на два процента в год и что коэффициент смертности здесь самый низкий из всех советских республик![11]
С этого времени и стали прибегать к прямому и грубому извращению фактов. Так, 26 февраля 1935 года «Известия» опубликовали интервью с американским корреспондентом Линдсеем М. Пэрротом из «Интернейшнл ньюс сервис». В этом интервью с его слов сообщалось, что он видел хорошо организованные хозяйства и изобилие хлеба на Украине и в Поволжье. Пэррот объяснил своему издателю, а также в американском посольстве, что его умело исказили; он просто сказал советскому корреспонденту «Известий», что не видел в своей поездке, происходившей в 1934 году, «голодной ситуации» и что положение в сельском хозяйстве, как ему показалось, начало улучшаться. Все остальное изобрели «Известия.»[12]
* * *
Основные методы фальсификации носили более широкий и более традиционный характер.
Американский журналист, работавший в Москве, рассказывает об одной из таких фальшивок периода раскулачивания:
«Чтобы успокоить американское общественное мнение, специальная комиссия из Америки была послана в район лесоповала. Она, конечно, правдиво установила, что не видела там никакого принудительного труда. Никого во всей иностранной колонии это так не позабавило, как самих членов комиссии. Ими были: торговец американским оборудованием, давно живущий в Москве и зависящий от хорошего расположения властей к его бизнесу, молодой американский репортер без постоянного места работы и потому посланный в СССР с согласия советского правительства, и постоянный секретарь Американо-Российской Торговой Палаты, платный служащий этой организации, функция которого состояла в поддержании добросердечных отношений с советскими властями.
Я знал всех троих очень близко и не выдам никакого секрета, если скажу, что каждый из них был так же глубоко уверен, что принудительный труд широко использовался в лесной промышленности, как Хамильтон Фиш или д-р Детердинг. Они поехали на Север прогуляться, или же потому, что им трудно было отказаться от поездки, и они успокоили свою совесть, заявив, что лично не видели никаких признаков принудительного труда. Они только не указали, что не сделали минимального усилия обнаружить его и что расследование вели их официальные сопровождающие».
Результаты этой поездки были торжественно опубликованы и послушно переданы американскими корреспондентами в США. Они точно совпадали с тем, что позднее было заявлено комиссией по расследованию принудительного труда в районе угольного бассейна на Дону. Один из членов этой «комиссии», известный американский фотограф Джимми Эббе, сказал об этой поездке так:
«Разумеется, мы не видели никакого принудительного труда. Когда мы приближались к чему-то похожему на него, мы все крепко закрывали глаза и держали их закрытыми. Мы не собирались говорить неправду»[13].
Эдуард Эррио, лидер радикальной партии Франции, дважды премьер своей страны, посетил Советский Союз в августе – сентябре 1933 года. Он пробыл на Украине пять дней: половину времени он провел на официальных приемах и банкетах, а вторую половину ездил туда, куда его возили. В результате он мог только заявлять, что голода, мол, не существует, и отрицательно отозваться о статьях на эту тему, которые «преследуют антисоветские цели». «Правда» получила возможность заявить (13 сентября 1933 года), что «он категорически отверг ложь буржуазной прессы о голоде в Советском Союзе».
Такие заявления всемирно известного государственного деятеля имели, говорят, огромное воздействие на общественное мнение Европы. Эта проявленная Эррио безответственность очень поощрила Сталина и укрепила его мнение о доверчивости Запада, на которой он так успешно играл в последующие годы.
Человек, находившийся в Киеве во время визита Эррио, так описывает подготовку к визиту: за день до его приезда население призвали начать работу в два часа ночи. Нужно было убрать улицы и покрасить дома. Центры раздачи пищи были закрыты. Очереди запрещены. Бездомные дети, нищие и голодные исчезли.[14] Местный житель добавляет к этому, что витрины были полны продуктов, но милиция разгоняла и арестовывала даже местных жителей, если они подходили слишком близко к ним (продажа продуктов тоже была запрещена).[15] Улицы были вымыты, отель, где он должен был остановиться, переоборудован, привезены новые ковры, мебель и новая униформа для сотрудников.[16] То же самое было проделано в Харькове.[17]
Круг визитов Эррио весьма показателен. В Харькове его повезли в образцовый детдом, в Музей Шевченко и на Тракторный завод, а потом на встречи и банкеты с лидерами украинской компартии.[18]
Несколько деревень были специально отведены для визитов иностранцев[19]. Это были «образцовые» колхозы – например, «Красная звезда» в Харьковской области, где собрали одних только коммунистов и комсомольцев. Они имели хорошие дома и хорошо питались. Скот тоже был в хорошем состоянии. И тракторы были всегда под рукой.[20] Иногда, в случае необходимости, и обычное село реорганизовывалось таким же образом.
Один из очевидцев рассказывает о приготовлениях для приема Эррио в колхозе «Октябрьская революция» в Броварах, около Киева.
«Было созвано специальное заседание парткома в Киеве, решить, как превратить колхоз в „потемкинскую деревню“. Старого коммуниста, инспектора из наркомата сельского хозяйства, временно назначили председателем, а опытных агрономов сделали членами бригад колхоза. Колхоз был тщательно вычищен и выскоблен коммунистами и комсомольцами, специально мобилизованными на эту работу. Из районного театра в Броварах привезли мебель и обставили ею клуб. Из Киева привезли занавески, портьеры и скатерти. В одном крыле устроили столовую, столы покрыли новыми скатертями и на каждый поставили цветы. Сменили в райкоме телефон, и телефонистку коммутатора перевели в колхоз. Забили несколько быков и боровов, чтобы было впечатление мясного изобилия. Привезли также запасы пива. С окрестных дорог были убраны все трупы и удалены голодные крестьяне. Остальным запретили выходить из дома. Собрали всех колхозников и сказали им, что будут снимать фильм о колхозной жизни, и Одесская киностудия выбрала для этой цели именно их колхоз. Только те, кого выбрали сниматься в фильме, будут ходить на работу, все остальные должны оставаться дома и не мешать. Отобранным специальной комиссией раздали форму, привезенную из Киева: ботинки, носки, костюмы, носовые платки. Женщины получили новые платья. Весь этот маскарад был организован специально присланным из Киева работником райкома Шараповым. А человек по фамилии Денисенко был его заместителем. Людям сказали, что это режиссер и его ассистент. Организаторы решили, что лучше всего будет, если мосье Эррио встретится с колхозниками, сидящими за столами и поедающими хороший обед. На следующий день, к тому времени, когда Эррио вот-вот должен был прибыть, колхозники, хорошо одетые, уже сидели за столами, обильно уставленными мясом. Они ели по большому куску, запивая его пивом и лимонадом, поглощая все с невероятной скоростью. „Режиссер“ нервничал и призывал их есть помедленнее, чтобы почетный гость Эррио увидел их сидящими за столами. В это время зазвонил телефон и из Киева передали: „Визит отменяется, все ликвидировать“. Собрали всех снова, и Шарапов поблагодарил рабочих за хорошую работу, а Денисенко велел всем снять и сдать одежду, кроме носков и носовых платков. Люди просили оставить им одежду и обувь, обещая отработать или заплатить за них, но безрезультатно. Все надо было сдать и вернуть в Киев в магазины, где их взяли взаймы.»[21]
По всей вероятности Василий Гроссман имеет в виду Эррио, когда пишет о «французе, знаменитом министре», посетившем колхозный детсад и спросившем у детей, что они ели на обед. Дети ответили: «Куриный бульон с пирожками и рисовые котлеты». «Куриный бульон! Котлеты! А в нашем колхозе они съели всех земляных червей!» – восклицает Гроссман. И он возмущенно говорит о том «театре», который из всей этой ситуации устроили власти[22].
Переводчик, выделенный для Эррио, профессор Сиберг из Института иностранных языков в Киеве, как стало позднее известно, был арестован и приговорен к пяти годам заключения в карельском лагере за «тесные связи» с французом[23].
В другой раз делегация американцев, англичан и немцев приехала в Харьков. Этому предшествовал широкий рейд по поимке нищих крестьян. Их погрузили в машины и просто выбросили в пустом поле далеко за городом[24]. Турецкая миссия, возвращавшаяся домой, должна была по распорядку дня обедать на узловой станции Лозовая. В порядке подготовки к этому обеду трупы и умирающие были погружены в машины и вывезены неизвестно куда. Всех остальных увели за восемнадцать миль от города и запретили возвращаться. Станцию вычистили и привезли хорошеньких «официанток» и «публику»[25].
Таким образом, потемкинский метод оказался очень пригоден для обмана людей с международной известностью, хотя мало кто из них достиг таких вершин, как Бернард Шоу, заявивший: «Я не видел в России ни одного голодного человека, молодого или старого. Или их просто набили как чучел? Или их упитанные щеки набили ластиком изнутри?»[26] (Бернард Шоу умудрился даже сказать – или так, по крайней мере, писала советская пресса, – что «в СССР, в отличие от Англии, существует свобода вероисповедания».)[27]
Как интересный вариант обмана, один из сочувствующих режиму рассказывает поразительную историю (она подробно излагается Веббами как свидетельство отсутствия голода). Группа иностранных посетителей услышала разговоры о том, что в деревне Гавриловка все мужчины, кроме одного, якобы умерли от голода. Они тут же направились туда «для расследования», побывали в отделе регистрации, у священника, в местном совете, у судьи, у учителя и «у всех крестьян, которые им встретились». Они обнаружили, что трое из 1100 жителей деревни умерли от тифа, после чего были приняты срочные меры, чтобы предотвратить эпидемию, и ни один человек не умер от голода[28]. Проницательный читатель увидит по крайней мере три способа объяснить, почему это все было прямым надувательством. Но даже если бы это оказалось правдой, как она может опровергнуть прямые свидетельства очевидцев, подобных Магариджу и всем остальным?
* * *
Но, возможно, куда более предосудительно то, что такие методы, прямо или косвенно, сработали, и с помощью известных ученых удавалось соответственно информировать интеллектуальный Запад.
Сэр Джон Мейнард, бывший в то время ведущим английским специалистом по советскому сельскому хозяйству, так высказывает свое мнение о человеческих потерях в период коллективизации: «Картины эти ужасающи, но мы сумеем составить себе правильное представление о вещах, только если будем помнить, что большевики задались целью вести войну, – войну против классового врага как войну против вражеской страны, и потому прибегали к методам ведения войны.»[29] Когда дело доходит до 1933 года, то он как очевидец, посетивший описываемые области, прямо заявляет: «Всякое утверждение о бедствии, сравнимом с голодом 1921–1922 гг., является, с точки зрения настоящего писателя, посетившего Украину и Северный Кавказ в июне–июле 1933 года, необоснованным.»[30]
Еще более поразительным было «исследование» старейшин западной общественной науки Сиднея и Беатрисы Вебб в их большой работе, обобщающей события и процессы, происходящие в Советском Союзе.[31]
Они посетили страну в 1932-м и 1933 гг. и проделали огромную работу, чтобы создать полную, здравую и научно документированную книгу о том, что в ней происходит.
Начнем с того, что они относятся к крестьянству с той же враждебностью, какую мы отмечали у большевиков. Веббы говорят о «характерных для крестьян пороках, таких как алчность, хитрость, о вспышках запоя с последующими периодами праздности». Они одобрительно говорят о намерении превратить этих отсталых людей в «общественно полезных соратников в работе над намеченным планом справедливого распределения между ними общественного продукта.»[32] Они говорят даже о «частично насильственной» коллективизации, являющейся «конечной стадией» крестьянских восстаний 1917 года![33]
«Целью коллективизации было „искоренение десятков и даже сотен тысяч семей ненавистных всем кулаков и непокорных донских казаков“[34]. (Какой-то отрывок официальной пропаганды о раскулачивании они называют «немудреным рассказом крестьянки».)[35]
Веббы считают, что последняя фаза раскулачивания была необходима потому, что кулаки не желали работать и до такой степени разложили деревню, что их надо было выслать в отдаленные районы, чтобы заставить трудиться или участвовать в чем-то полезном, и это было «прямым, спешным и целесообразным способом избавления от голода». Они делают вывод, что «искренний исследователь обстоятельств и условий может прийти к не столь уж безответственному заключению, что… советское правительство едва ли могло действовать иначе.»[36]
Их энтузиазм вызывает омерзение, когда, например, они делают заключения, что раскулачивание с самого начала предполагало вышвырнуть из дома «примерно около миллиона семей» и позволяют себе заявлять, что «велика должна была быть вера и сила воли у людей, которые в интересах того, что они считали общественным благом, смогли принять такое важное решение.»[37] При желании можно то же самое сказать о Гитлере и его «окончательном решении».
Однако все, что было сказано до сих пор Веббами, лежит в сфере истолкования, интерпретации. Когда же дело доходит до самих фактов, то Веббы задаются вопросом, «был или не было голода в СССР в 1931–1932 годах?» И тут они цитируют «вышедшего в отставку чиновника высокого ранга в правительстве Индии» (видимо, Мейнарда), который сам занимался районами голода и сам посещал те места, где условия были наиболее тяжелыми, и не обнаружил там ничего, что он мог бы назвать голодом[38]. Их выводы основываются на официальных отчетах или на беседах с журналистами, английскими или американскими, имен которых они не называют, и сводятся к следующему: «Частичная неудача с урожаем сама по себе не была настолько серьезной, чтобы вызвать настоящий голод, кроме, может быть, отдельных районов, где эти неудачи были особенно велики, но таких было относительно немного». И они приписывают (совершенно ложно) сообщения о голоде «людям, которые редко имели возможность проникать в районы, охваченные голодом»![39]
Но даже признаваемые ими незначительные нехватки продовольствия Веббы приписывают «нежеланием сельских тружеников сеять… или собирать пшеницу после жатвы.»[40] Они даже говорят о «населении, явно виноватом в саботаже»[41], а вот на Кубани «целыми деревнями упрямо уклонялись от сева или жатвы»[42]. Они даже изображают «крестьян-единоличников», которые «назло выбирали зерно из колоса или просто срезали целый колос и уносили его к себе в тайники; такая бесстыдная кража общественной собственности.»[43]
Они приводят без всякого комментария признание одного из мнимых украинских националистов, которое цитировал Постышев, что именно эти националисты своей агитацией и пропагандой добивались саботажа урожая в деревнях[44]. Заявление Сталина на январском пленуме 1933 года о дальнейших мерах по изъятию не существующего зерна на Украине Веббы рассматривают как «кампанию, которая по смелости мысли и силе исполнения и по размаху ее операций не имеет, с нашей точки зрения, аналогии в анналах мирного периода истории какого-нибудь правительства»[45].
Что же касается источников, на которые опираются Веббы, то они часто ссылаются, например, на «компетентных исследователей». Они приводят высказывание одного из таких «компетентных», который заявляет, что теперь крестьяне хотят иметь собственный дом или плуг не больше чем рабочий хотел бы иметь свою собственную турбину, а предпочитают они вместо дома и плуга получать деньги, чтобы жить лучше – у них «духовная революция».[46]
По поводу коллективизации Веббы одобрительно цитируют коммунистку Анну-Луизу Стронг, которая в противовес существующему на Западе предположению, что высылка кулаков была делом рук «мистически вездесущего ГПУ», пишет, что решалась она на «деревенских собраниях» бедняков и сельскохозяйственных рабочих, которые составляли списки кулаков, препятствовавших коллективизации с помощью силы и жестокости, и «просили правительство выслать их… Я лично посещала такие собрания, и они были юридически более серьезными, а обсуждения, проходившие на них, были более уравновешенными, чем любой судебный процесс, на котором я присутствовала в Америке.»[47]
Излюбленным источником Веббов в их анализе периода голода является корреспондент «Нью-Йорк таймс» Уолтер Дюранти, деятельность и влияние которого заслуживают специального рассмотрения.
* * *
Как ближайший западный сотрудник в изготовлении советских фальсификаций, Уолтер Дюранти достиг всех возможных привилегий, вплоть до похвал самого Сталина и интервью с ним. И одновременно он пользовался безмерным поклонением в значительных кругах Запада.
В ноябре 1932 года Дюранти объявил, что «нет ни голода, ни смерти от него, и не похоже, чтобы это произошло в будущем».
Когда же о голоде стало широко известно на Западе и о нем писали в его же газете и его же коллеги, он перешел от отрицания к преуменьшению. Все еще не желая признать голод, он теперь говорил о «плохом питании», о «нехватке продовольствия», о «пониженной сопротивляемости».
23 августа 1933 года он писал: «Всякое сообщение о голоде в России является сегодня либо преувеличением, либо злостной пропагандой», и дальше: «Нехватка продовольствия, которую в последний год испытывает почти все население и, в особенности, хлеборобные области – Украина, Северный Кавказ, район Нижней Волги, – привела к тяжелым последствиям – большой потере жизней». Он прикидывает, что число смертей почти в четыре раза превышает нормальное: в перечисленных им областях обычная цифра «составляла 1 000 000», а вот теперь она, вероятно, «по меньшей мере, утроилась».
Такое признание двух миллионов экстраординарных смертей вызывало у него сожаление, но не истолковывалось как факт чрезвычайной важности и не приписывалось голоду. (Более того, он объяснил это явление частично «бегством одних крестьян и пассивным сопротивлением других».)
В сентябре 1933 года он был первым корреспондентом, которого пустили в районы голода, и, посетив их, он написал: «Пользоваться словом „голод“, говоря о Северном Кавказе, является чистейший абсурдом», добавив, что теперь он понимает, насколько «преувеличенными» оказались его первоначальные подсчеты коэффициента избыточной смертности, по крайней мере, для этого района. Он также рассказывал об «упитанных младенцах» и «жирных телятах», типичных для Кубани[48]. (Литвинов счел полезным процитировать эти депеши конгрессмену Копельману в ответ на его письмо с запросом о голоде.)
Дюранти обвинял в распространении слухов эмигрантов. Они якобы делали это, вдохновленные взлетом Гитлера, и упомянул про «Берлин, Ригу, Вену и другие города, где циркулируют сейчас слухи о голоде, распространяемые элементами, враждебными СССР. Они предпринимают последнюю попытку помешать американскому признанию СССР».
Репутация, какую Дюранти (англичанин по подданству) обрел к осени 1933 года, сухо выражена в депеше британского посольства о его визите в хлебные районы Украины: «У меня нет сомнения, что он не встретит трудностей в получении достаточного количества материала в часы своих поездок, и это даст ему возможность утверждать все, что вздумается, по возвращении». В депеше говорится о нем как о «мистере Дюранти, корреспонденте „Нью-Йорк таймс“, дружбу которого Советский Союз заинтересован завоевать больше, чем дружбу кого-либо другого.»[49]
Мальколм Магаридж, Джозеф Олсоп и другие опытные журналисты считали Дюранти просто лгуном. Как позднее сказал Магаридж, он «самый большой лгун из всех журналистов, которых я встречал за мои пятьдесят лет в журналистике.»
Дюранти сам говорил Юджину Лайонсу и другим, что, по его подсчетам, наличествовало не менее 7 миллионов жертв голода. Но еще более четкое доказательство разрыва между тем, что он знал, и что он писал, можно найти в депеше от 30 сентября 1933 года, посланной британским поверенным в делах в Москве, которого мы цитировали выше: «По сведениям м-ра Дюранти, население Северного Кавказа и Нижней Волги сократилось за последний год на 3 миллиона, а население Украины на 4–5 миллионов. Украина обескровлена… М-р Дюранти считает вполне вероятным, что 10 миллионов человек прямо или косвенно умерло от нехватки продовольствия в Советском Союзе за последний год».
Но американской общественности доставляли не это фактическое изложение событий, а фальшивые отчеты. Влияние этой извращенной информации было огромным и продолжительным. В 1983 году кампания «Нью-Йорк таймс» в ежегодном отчете опубликовала список всех лиц, получивших премию Пулитцера[*], не упустив отметить, что в 1932 году Уолтер Дюрантн получил ее за «беспристрастный аналитический отчет о событиях в России».
В объявлении о присуждении премии, кроме приведенной цитаты, сказано, что сообщения Дюранти были «отмечены за научную обоснованность, глубину, непредвзятость, разумность суждений и исключительную четкость», являясь тем самым «отличным примером образцовой иностранной корреспонденции».
«Нейшн» в своем ежегодном «почетном списке», цитируя «Нью-Йорк таймс» и Уолтера Дюранти, говорит о его корреспонденциях, как о «самых информативных, непредвзятых и читабельных очерках об огромной стране в процессе ее становления, из всех, какие публиковались во всех газетах мира».
На банкете в «Уолдорф-Астории» по случаю признания СССР Соединенными Штатами был зачитан список лиц, причастных к этому. Гости вежливо аплодировали каждому, пока очередь не дошла до имени Уолтера Дюранти. И тогда, писал Александр Волкотт в «Нью-Йоркер»: «…и тогда поднялся долгий неумолкаемый шквал… Воистину создавалось впечатление, что Америка в некоем спазме проницательности праздновала признание как России, так и Уолтера Дюранти». Верно, это был безусловно некий «спазм»…
Похвалы в адрес Дюранти без сомнения проистекали не от желания знать правду, а скорее из желания многих людей, чтобы им говорили то, что им хотелось бы слышать. Мотивы же самого Дюранти не требуют объяснений.[50]
* * *
Это лобби слепых и любителей ослепления не смогло помешать вообще проникновению на Запад правдивых сообщений тех, кто не оказался ни простаком, ни лжецом. Но лобби смогло и действительно преуспело в том, чтобы создать ложное впечатление (или, по крайней мере, вызвать сомнение по поводу всего происходящего в СССР) и вызвать поток инсинуаций в адрес врагов советского правительства, якобы виновных во всех сообщениях о голодных смертях, которые в силу этой «враждебности» являются сомнительными и ненадежными. Репортеры, вроде Магариджа и Чемберлена, говорившие правду, подвергались постоянным и жестоким нападкам прокоммунистических кругов на Западе – даже в следующем поколении.
Фальсификацию не ограничили во времени. Она вторгалась в сферу определения «ученого авторитета» Веббов и прочих, она имела более отдаленные последствия, когда уже в 40-х годах в Голливуде выпустили энергично способствующую, а не просто попустительствующую лжи кинофальшивку под названием «Северная звезда», где колхоз изображался чистенькой и благоустроенной деревней прекрасно откормленных и счастливых крестьян – такую пародию, пожалуй, постеснялись бы выпустить даже на советские экраны, ибо тамошний зритель хоть и привык ко лжи, но все же был достаточно опытен, чтобы с ним не позволяли переходить границы правдоподобного обмана.
Некий коммунист считал причиной (или одной из причин) утаивания правды о голоде то, что Советский Союз мог бы получить поддержку рабочих в капиталистических странах, лишь скрыв от них, ценой скольких жизней он расплачивается за свою политику. На деле вышло, что для успеха потребовалось заполучить поддержку не столько рабочих, сколько интеллигенции и тех деятелей, что формируют общественное мнение.
Как справедливо жаловался в Англии Джордж Орвелл, «чрезвычайные события, вроде голода 1933 года на Украине, повлекшего смерть миллионов людей, оказались практически вне поля зрения английских русофилов». Увы, дело было не только в группках русофилов – эти события не обратили на себя внимания очень значительных, очень влиятельных западных кругов.
Скандальность такого явления заключена вовсе не в том, что интеллектуалы оправдывали действия советских властей. Истинная скандальность в том, что они вообще отказывались слушать что-либо противоречащее их предубеждениям, что они оказались не в состоянии честно встретиться с очевидной реальностью.
Глава восемнадцатая. Ответственность
А где же эта жизнь, где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за это? Вот так и забудется без слов? Травка выросла.
Василий ГроссманИсторик, регистрирующий достоверные факты и их контекст, не может не судить о них. История мира – и есть суд мирской. Этот вердикт Шиллера может сегодня показаться чрезмерно напыщенным. И тем не менее все так: установление фактов безусловно включает в себя выяснение общественной ответственности за них.
В случае с кулаками, умершими или высланными в 1930–1932 гг., все ясно. Они стали жертвами сознательной правительственной акции против «классового врага». Коммунистические власти обсуждали необходимость «уничтожения» пяти миллионов человек еще до того, как акция была запущена в ход.[1] Даже сам Сталин, оправдывая и цели, и намерения, все же признал впоследствии масштабность этой массовой расправы. Но когда дело доходит до великого голода 1932–1933 гг., здесь и в то время делались огромные усилия – и продолжаются они в какой-то степени по сей день – чтобы затемнить и затуманить правду о нем.
Первой линией обороны стал вопль о том, что никакого голода нет. Это была официальная линия советского правительства. На Западе, как мы видели в главе 17-й, она проводилась в жизнь советскими дипломатами и западными журналистами, а также и теми, кто был обманут или подкуплен советским властями. Внутри же страны советская пресса в целом игнорировала голод, хотя от случая к случаю публиковала опровержение или отрицание сообщения какого-нибудь «наглого иностранного клеветника». Стали называться антисоветской пропагандой вообще всякие разговоры о голоде. Это запрещалось даже в самих районах голода. И ко всему прочему, сам Сталин провозгласил, что никакого голода не существует.
Эта линия годами оставалась официальной версией. Даже теперь в советских научных и исторических работах упоминания о голоде встречаются редко и обычно носят косвенный характер – хотя в некоторых советских художественных произведениях на эту тему можно обнаружить поразительную искренность.
На Западе все это возымело свое действие: некоторые с готовностью поверили официальной линии, а другие стали думать, что существуют две противоречивые версии, ни одна из которых не имеет за собой убедительных доказательств. Поэтому рассказы о голоде либо вовсе отрицались, либо, по меньшей мере, легко забывались – теми, кто был к такой забывчивости склонен.
Однако вообще все сообщения о голоде замолчать было все же очень трудно. Поэтому второй линией обороны стало двуличие: нехватка продовольствия, мол, действительно существовала и даже возрос «коэффициент смертности», но виноваты в этом оказались сами крестьяне с их неподатливостью и нежеланием сеять и жать так как надо. А госпоставки зерна, которые требовало с них советское правительство, объяснялись нуждами армии, поскольку якобы ожидалась война с Японией.
Признание «роста коэффициента смертности» было разрешено журналистам, проводившим просоветскую линию, тем, которые, как мы видели, были способны утверждать, что голода вовсе не было – лишь два миллиона дополнительных смертей! Но и в этом случае старались сбить общественность с толку, утверждая, что такие цифры не означают в России чрезмерно большого числа смертей. «Противодействие крестьянства» перекликалось с официальной линией: кулаки, мол, саботировали урожай всеми возможными путями, и это тоже хорошо использовалось на Западе.
Вместе взятые эти две линии составили третью – признание того, что, действительно, имело место явление, какое большинство людей сочло бы за голод, но советские власти не были в нем виноваты, и вдобавок голод не был таким уже серьезным, как изображает его злостная пропаганда.
И тут Сталин получил в свое распоряжение лучшее средство, чтобы помешать любой критике. То есть, если о голоде и стало известно, то одно лишь существование его само по себе еще не доказывает ответственность ни Сталина, ни партийного руководства. Бывало и в прошлом много случаев голода, и правомерно допустить, что наступил еще один, вызванный, как и прочие, естественными причинами, возможно, усугубленный политикой правительства, но не имелось никаких оснований думать, что правительство вызвало голод намеренно, коль скоро это не было точно доказано.
Именно в этой, не столь уж бессмысленной, посылке мы встречаемся со сложностью нашей проблемы.
* * *
Но, прежде всего, давайте зададимся вопросом, действительно ли руководство знало о голоде.
Мы знаем наверняка, что украинские коммунисты были информированы о положении вещей. Чубарь, Хатаевич, Затонский, Демченко, Терехов, Петровский посещали деревню и видели собственными глазами, как обстоят дела. Они всегда знали, что норма госпоставок была слишком велика, а теперь они видели голод. Известно, что Чубарь, отвечая на вопрос участников конференции в Киеве, знает ли правительство Украины о голоде, сказал: «Правительство знает о нем, но ничего не может сделать»[2].
Один из крестьян видел Петровского, проходившего по деревне мимо трупов и умирающих[3]. Тот даже обещал толпе голодных крестьяне деревне Чернухи поговорить обо всем в Москве, но, вероятно, не сделал этого[4]. Когда директор фабрики сказал Петровскому, что его рабочие говорят о пяти миллионах уже умерших от голода, и спросил, что он должен отвечать им, ему было сказано: «Ничего не отвечай! То что они говорят, – правда. Мы знаем, что умирают миллионы. Это несчастье, но славное будущее Советского Союза оправдает его. Ничего не говорим им!»[5]
Нам также известно, что высокого ранга московские сталинисты тоже знали о голоде. Молотов посетил украинскую сельскую местность в конце 1932 года, и, по имеющимся сведениям, районные власти доложили ему, что зерна нет и население голодает[6]. Известно, что Каганович был зимой в Полтаве и получил такую же информацию от ветеранов местной компартии, которые вскоре были из нее исключены[7]. Что касается остальных членов Политбюро, то, по рассказам Хрущева, первый секретарь Киевского обкома Демченко обратился к Микояну с вопросом, знают ли Сталин и Политбюро о том, что происходит на Украине. Демченко рассказал Микояну, что на железнодорожный вокзал в Киеве прибыл поезд, загруженный трупами, которые подбирали на всем протяжении железнодорожного пути от Полтавы.[8]
Сам Хрущев говорит: «Мы знали… что люди умирают в огромных количествах»[9]. Это означает, что высокие партийные круги, где он постоянно бывал в Москве, знали обо всем. На самом деле, когда ветеран революции Федор Раскольников, служивший советским послом в Болгарии, бежал на Запад, он послал Сталину открытое письмо, где черным по белому было написано, что внутри партии прекрасно знали, как он выразился, об «организованном» голоде.[10]
Наконец, мы знаем, что сам Сталин был достаточно хорошо информирован.
Терехов, первый секретарь Харьковского областного комитета, сказал Сталину, что голод бушует, и просил прислать хлеба. По какой-то непонятной аномалии Терехов был одним из немногих украинских аппаратчиков, избежавших ежовского террора, обрушившегося на страну через несколько лет после голода, и потому в хрущевские времена он смог воспроизвести всю эту историю в «Правде». В ответ на его искреннее сообщение Сталин бросил: «Нам говорили, товарищ Терехов, что вы хороший оратор. По-видимому, вы еще и хороший рассказчик, вы сочинили такую басню о голоде, думая напугать нас, но вам это не удастся. Не лучше ли вам оставить пост секретаря обкома и ЦК Украины и перейти в Союз писателей? Там вы сможете сочинять свои басни, и дураки их будут читать.»[11]
(Во время голода 1946 года имела место подобная же сцена, когда, как рассказывает Хрущев, Сталин послал Косыгина в Молдавию, и тот, вернувшись, рассказал ему о почти повсеместном недоедании и дистрофии. Сталин «взорвался и накричал на Косыгина» и «еще долго после этого» насмешливо звал его «брат-дистрофик».)[12]
Нет сомнения, что, отвечая издевкой Терехову, Сталин не мог не поверить ответственному партийному чиновнику и считать, что тот просто фантазирует, рискуя карьерой и даже большим. Он просто давал таким образом всем понять, что на партсобраниях не будет позволено даже упоминаний о голоде.
Судя по контексту, вмешательство Терехова состоялось на январском пленуме ЦК в 1933 году или в связи с ним. Почти наверняка Терехов выступил не по собственной инициативе, а от имени украинских руководителей, которые, как мы видели, разделяли его отношение к происходящему и стремление найти хотя бы какое-то понимание в Москве. В равной мере и ответ Сталина нельзя считать искренним или проистекающим от подлинной, хотя и безумной веры в то, что не было никакого голода. Если бы это было так, то естественно ожидать, что в ответ на такое сообщение высокого партийного чина, при том, что сам он по каким-либо причинам не имел представления об этих фактах, последовало бы какое-то расследование и при необходимости личное посещение районов, о которых шла речь.
Не возникает ни малейшего сомнения в аутентичности доклада Терехова Сталину. Известно о целом ряде обращений к Сталину именитых представителей украинского народа.
Рассказывают, что Иона Якир, командующий Украинским военным округом, лично просил Сталина выделить зерно для раздачи крестьянам, но его приструнили, повелев заниматься своими военными делами. Командующий Черноморским флотом тоже, говорят, поднимал этот вопрос, и снова безуспешно.[13]
Есть сведения о том, что Чубарь как председатель Украинского совета народных комиссаров «обратился к Сталину за продуктами хотя бы для умирающих от голода детей, но получил ответ: „Никаких разговоров на эту тему“ (то есть „никаких замечаний“).[14] Реакция Сталина была логичной. Послать помощь – значило бы признать существование голода и тем самым отклонить представление о том, что зерно прячут кулаки. Более того, накормить детей и дать взрослым погибать от голода – значит создать административные проблемы…
И еще один человек обращался к Сталину с этим – его жена Надежда Аллилуева.[15] Сталин позволил ей учиться в техническом вузе, на факультете текстильного производства. Студенты, мобилизованные помогать в ходе коллективизации и посланные в сельские районы, рассказывали ей о массовом терроре в надежде, что она сумеет что-то сделать. Они говорили ей о полчищах осиротевших детей, побирающихся в поисках пищи, и о голоде на Украине. Когда она рассказала обо всем Сталину, думая, что он плохо осведомлен, тот отмахнулся от всего, назвав это «троцкистскими слухами». И наконец, двое студентов рассказали ей о людоедстве и о том, что они сами принимали участие в аресте двух братьев, торговавших трупами.
Когда она рассказала Сталину и об этом, он выругал ее за то, что она собирает «троцкистские сплетни», и приказал Паукеру, начальнику его охраны, арестовать преступных студентов, а ОГПУ и Комиссии партийного контроля – провести специальную чистку среди студентов всех вузов, которые принимали участие в коллективизации.[16] Ссора, которая привела к самоубийству Надежды Аллилуевой 5 ноября 1932 года, видимо, и произошла на почве неприятных Сталину рассказов.
Помимо всего прочего, как мы отмечали, Сталин получал доклады ОГПУ о миллионах, умирающих от голода.
* * *
Сталин в любое время мог приказать раздать крестьянам зерно из резервов, но он дождался поздней весны, зная, что голод уже свирепствует вовсю.
То, что Сталин был хорошо осведомлен о голоде, не является прямым доказательством, что голод изначально планировался им. Но упорная приверженность политике, которая вела к голоду уже после того, как тот вполне о себе заявил, требование и далее строго держаться именно этой политики, говорит, что Сталин считал приемлемым для себя оружие голода и пользовался им против такого врага, как кулаки-националисты.
Сознательный характер операции убедительно проявился еще до того, как она была запушена в ход. Когда сталинский режим приступил к неумеренной реквизиции зерна в конце 1932 года, за плечами у властей уже был опыт 1918–1921 гг. И тогда такая неумеренная реквизиция тоже закончилась страшным голодом, Если к ней прибегали снова, то не из-за недостатка понимания сути дела в Кремле.
Еще более убеждает нас и то, что украинское руководство совершенно четко называло Сталину норму, утвержденную на 1932 год, «чрезмерно завышенной», более высокой, чем где бы то ни было (кроме Дона, Кубани, Нижней Волги и других районов голода). Значит, к этому времени Сталин уже твердо знал, к какому результату приведет операция.
Тот факт, что посевное зерно для следующего урожая было впервые отобрано у украинского села ранней осенью 1932 года и хранилось в городах, ясно указывает: власти понимали, что оно будет съедено, если оставить его в колхозных амбарах. Это означает – они заранее знали: никаких запасов крестьянам оставлено не будет.
Нельзя также предполагать, что голод или завышенные цифры зернопоставок были запланированы для наиболее продуктивных хлеборобных областей – то есть что это была только ошибочная или порочная экономическая политика. В богатом русском центральном сельскохозяйственном районе голода не было, а в это же время в бедных зерном областях той же Украины, таких как Волынь или Подолия, голод был такой же, как в остальных частях республики.
Но, может быть, самым убедительным доводом в пользу нашей посылки о преднамеренном характере голода является тот факт, что граница Украины с Россией была блокирована, чтобы не допустить проникновения хлеба на Украину.[17] «На всех границах Украины стояли войска, чтобы не дать украинцам бежать с Украины.»[18] В поездах и на железнодорожных станциях сотрудники ОГПУ проверяли пассажиров, требуя командировочное удостоверение.[19] Последняя станция между Киевом и границей, Михайловка, была окружена вооруженными отрядами ОГПУ, и все, у кого не было специального разрешения, задерживались и помещались в товарные поезда, которые утром отправлялись обратно в Киев.[20] Конечно, некоторым удавалось проскочить. «Люди пускались на невероятные трюки, прибегали к вымышленным историям, только для того, чтобы уехать» в Россию «купить хоть что-нибудь съедобное в обмен на последнюю меховую шубу, ковры, полотно, чтобы вернуться домой с продуктами и спасти своих умирающих от голода детей».[21]
В России, как было широко известно, дела обстояли иначе. «Стоило только пересечь границу, и тут же за пределами Украины условия сразу же оказывались лучшими»[22]. Тогдашний редактор главной одесской ежедневной газеты Иван Майстренко позднее описал две деревни по обе стороны русско-украинской границы. В украинской деревне было отобрано все зерно целиком, а в русских деревнях норма поставок была вполне приемлемой[23]. Таким образом, те, кому удавалось пересечь границу, могли достать хлеб. Но на обратном пути из РСФСР где только было возможно их обыскивали и хлеб отбирали[24]. Один украинский крестьянин, который ранее был мобилизован на работу железнодорожником в Московской области, услышал, что дома у него голодают, и в апреле 1933 года уехал из Москвы, везя с собой 79 фунтов хлеба. Но в Бахмаче, на русско-украинской границе, 70 фунтов были конфискованы, остальные девять ему разрешили провезти как прописанному в Москве рабочему, а у ехавших с ним двух украинских крестьянок, которые тоже пытались провезти хлеб, отобрали все, что у них было, да еще задержали[25] .
Люди, везшие с собой хлеб, пробирались в пустые вагоны, которые возвращались после доставки в Россию украинского зерна, но и эти поезда прочесывали специальные рейды, как официальные с целью изъятия хлеба и ареста, так и поездные бригады, которые требовали у крестьян взятки.[26]
Существовали и другие преграды. Железные дороги в это время были перегружены. Те, кто хотел попасть в Орел (РСФСР), чтобы купить хлеб, должны были делать на обратном пути пересадку в Лозовой, где приходилось ждать попутного поезда по две недели и дольше. Пока они ждали, купленный хлеб съедался и снова наступал голод, и люди валялись, умирая, на станции.[27]
Самым существенным здесь является наличие четких приказов не пускать украинских крестьян в Россию, где можно было достать продукты, а когда им удавалось преодолеть чинимые препятствия – приказов перехватывать на пути домой и отбирать добытое. Такие приказы могли быть даны только на самом высоком уровне и имели они одну-единственную цель.
Вспомогательным, но тем не менее немаловажным аргументом в пользу нашей посылки является то обстоятельство, что, как мы видели, наступление с помощью голода на сельское население Украины сопровождалось широкомасштабным наступлением на украинскую культуру и религиозную жизнь, а также уничтожением украинской интеллигенции. Как уже отмечалось, Сталин видел в крестьянстве оплот национализма, и здравый смысл требует от нас усматривать в этот двойном ударе по украинскому национальному существованию не простое совпадение.
* * *
В более общем смысле ответственность за избиение «классового врага» и уничтожение «буржуазного национализма» может быть возложена на марксистские концепции в той форме, какую придала им коммунистическая партия и как воспринял их Сталин.
Мотивы практической реализации решений партии были различны. Восприятие идеи «классового врага» естественно лишало эти решения гуманности. Утех, кто испытывал сомнение, часто брала верх их мистическая преданность «линии партии». Такая преданность усугублялась пониманием того, что невыполнение приказов приведет к чистке недостаточно жестких лиц (исполнение приказов, кстати, не служило аргументом защиты на Нюрнбергском процессе).
Поэтому даже такие люди, как Косиор и Чубарь, которые испытывали сомнения, а скорее и просто уверенность в том, что политика Москвы приводит к бедствию, все-таки проводили ее в жизнь.
Что касается личной вины самого Сталина (а также Молотова, Кагановича, Постышева и других), то верно, что, как и в случае ответственности Гитлера за Катастрофу европейского еврейства, мы не можем документально подтвердить его ответственность, то есть не можем подтвердить существование прямого указа, в котором Сталин распорядился бы о введении голода.
Единственное, что могло бы послужить ему защитой в данной ситуации – предположение, что Сталин приказал запланировать завышенные реквизиции, просто игнорируя существующее положение вещей, но не имея субъективно дурных намерений. Но это противоречит всему, что было нами проанализировано.
Можно добавить, что запрет иностранным корреспондентам посещать районы голода является на самом деле еще одним молчаливым признанием того, что власти знали об истинном положении вещей.
Итак, мы можем подвести следующие итоги:
1. Причиной голода были установленные Сталиным и его соратниками завышенные нормы реквизиции зерна.
2. Украинские партийные руководители с самого начала заявили Сталину и его соратникам, что эти нормы чересчур завышены.
3. Тем не менее, нормы не изменили и приступили к осуществлению госпоставок, и тогда начался голод.
4. Украинские руководители доложили о голоде Сталину и его соратникам. Кроме того, правда стала известна ему и его соратникам и от других лиц.
5. Тем не менее, реквизиции продолжались.
Таковы основные положения. Можно привести и вспомогательные доказательства:
6. Хлебные пайки, хотя и очень низкие, были введены в городах, но никакого, даже самого минимального снабжения продуктами, не было установлено для сел.
7. В районах голода хлеб находился в зернохранилищах, но крестьянам, несмотря на их бедственное положение, его нe выдали.
8. Был отдан приказ, который проводился в жизнь со всей старательностью – не пропускать крестьян в города и выгонять их оттуда, если они в них проникали.
9. Был отдан приказ и проводился в жизнь – не допускать, чтобы легально купленная пища могла быть перевезена через границу между двумя республиками: РСФСР и Украиной.
10. Факт существования голода, в том числе особо страшного голода, полностью установлен очевидцами – высокими коммунистическими чинами, местными активистами, иностранными обозревателями и самими крестьянами. Тем не менее, всякое высказывание о его существовании в Советском Союзе было объявлено преступлением. Представители СССР за границей получили распоряжение отрицать наличие голода. И по сей день феномен голода не признается в официальной советской литературе (хотя он подтверждается с недавнего времени – достаточно редко – в некоторых советских художественных произведениях).
Единственно возможным оправданием можно было бы считать то, что Сталин и его соратники просто не знали о голоде. Но это невозможно утверждать в свете всего сказанного выше.
Вывод: они знали, что указы 1932 года приведут к голоду; они знали, когда голод уже наступил, что результаты указов таковыми и окажутся. Тем не менее были отданы приказы, которые делали невозможным всякое смягчение голода, и обеспечивалось их действие в определенных ограниченных ими районами.
Когда речь заходит о мотивах, нельзя не отметить, что особые меры против Украины и Кубани увязывались и шли параллельно с гласными кампаниями против национализма в этих, районах. В этих и других районах, пораженных голодом, очевидная задача властей непосредственно в аграрной сфере сводилась к тому, чтобы сломать там дух крестьян в регионах наиболее упорного сопротивления коллективизации. Что касается партии, то конечным результатом, как и вероятным политическим намерением, было устранение из ее рядов элементов, недостаточно дисциплинированных в деле подавления собственных буржуазно-гуманных чувств.
Таким образом, факты установлены, мотивы однозначны и совместимы со всем, что нам известно о сталинской ментальности. Вердикт истории не может быть иным, чем признание ответственности виновных. Более того, пока не появится искреннего советского исследования всех этих событий, молчание сегодняшних властей должно безусловно рассматриваться как знак солидарности со всем, что было тогда совершено, или оправданием этого преступления.
Эпилог. Второй покос
Без роздыха, без сострадания, без отсрочки приговора.
МильтонВторой покос, о котором здесь говорится, охватывает пятьдесят лет советской истории, истекшие с той поры, и в определенном смысле он затрагивает и мировую историю.
Социальный и политический порядок, закрепленный в начале 1934 года на Семнадцатом съезде партии, названном «Съездом победителей», продолжает с тех пор сохраняться. Однопартийное ленинистское государство и коллективная система сельского хозяйства прошли различные фазы развития и принципиально не заменены ничем другим. Не станем пересказывать, даже коротко, всю историю СССР за последующие годы, лучше остановимся на определенных ключевых моментах и событиях.
* * *
Ближайшим из последовавших за голодом событий стал Большой террор 1936–1938 гг., о котором автор данной книги уже писал прежде.
Точка зрения Пастернака на этот последний террор (в «Докторе Живаго»), хотя, несомненно, слишком упрощенная, все же отражает, по крайней мере, часть правды: «…коллективизация была ложной, неудавшейся мерой, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда и беспримерная жестокость ежовщины»[1].
В отличие от 1930–1933 гг. новый террор массированно ударил по вождям партии и правительства: именно этот аспект вызвал в мире наибольший интерес. Но в контексте нашей книги мы остановимся преимущественно на дальнейших страданиях крестьянства.
Да, «кулаки» со спецпоселений, конечно же, оставались и потом на особом прицеле. Сотни их сидело в свердловской тюрьме в 1938 году, большей частью со сроками в десять лет по обвинению в шпионаже, вредительстве, подготовке вооруженного восстания.[2] Но даже и в деревнях мужики страдали жестоко, особенно те, кто в прежние годы пал жертвой несправедливости – их подвергали травле, полагая, что эти-то уж в первую очередь окажутся в оппозиции. В целом же и тогда крестьяне составляли большой процент арестованных. Один бывший зэк пишет, что в Харькове, на Холодной горе, с сентября 1937 года по декабрь 1938-го именно мужики составляли большинство обитателей тюрем. Их избивали, после чего камерные наседки разъясняли им, каких именно показаний от них ждут на допросах, чтобы, получив эти признания, отправить в те лагеря, откуда мало кто мог вернуться[3]. Кроме того, крестьян расстреливали массами. Из 9000 трупов, жертв расстрелов в Виннице начала 1938 года, найденных в тамошних братских могилах, около 60 процентов составляли крестьяне[4]. Разумеется, они были украинцами. Еще дополнительная деталь: помимо обычных «потоков», теперь снова арестовывали и расстреливали членов СВУ, уже успевших отбыть свои первые, относительно короткие сроки заключения[5].
От крестьян в этот период хотели, чтобы они «изобличали» председателей колхозов и других должностных лиц, но одновременно – или даже в первую очередь – собственных товарищей, других крестьян.[6] Председатель же должен был «изобличать» членов правления, те – бригадиров.
Многих взяли по обвинению, разумеется, во вредительствe: по этим делам можно узнать, как на самом деле работали колхозы. Сотни подобных процессов прошли на селе во второй половине 1937 года. Рой Медведев сообщает, что «обычно во всех процессах отдавали под суд работников одного ранга, что свидетельствовало об одной схеме, сочиненной в центре»[7]. Например, в антисоветской вредительской деятельности обвинялся обычно такой состав подсудимых: местные парт– и совработники, директор МТС, один или два председателя колхоза, главный агроном. Если же выдвигалось обвинение в умышленной гибели скота, то вместо агронома назначали ветеринара, а эмтээсовскую должность замещал зоотехник, и т.д. Типичный случай произошел в 1937 году в одном из районов, где главного агронома, ветеринара, лесничего, заместителя директора МТС по политчасти и многих крестьян обвинили в отравлении местных колодцев и т.д. Там, где производительность труда была особенно низкой, процессы проводили открыто, обвиняя подсудимых во всех колхозных неудачах – в падеже скота, в поздней уборке, именуя это «вредительством». В Ленинградской области, например, все подсудимые по вышеприведенному списку номер один обвинялись в том, что из-за их управления мужики практически ничего не получали на трудодень и вдобавок не сдавали госпоставок».[8]
* * *
Мы уже упоминали, что, в отличие от 1930–1933 гг., Большой террор тяжело ударил по самой партии. Он принес гибель почти всем упомянутым выше видным партийцам: Зиновьеву, Пятакову, Бухарину, Рыкову, Гринько – их расстреляли после открытых процессов, где они целиком признали «правоту» своих обвинителей. Томский покончил с собой. Яковлев, Бауман, Каминский, надзиравшие за выполнением планов наступления на крестьянство во время коллективизации, были тайно убиты. Чубарь, Постышев, Косиор одновременно казнены в тюрьме. Подобным же образом расправились и с другими парт-деятелями Украины – Хатаевичем, Демченко, Затонским, как и с Шеболдаевым, терроризировавшим Северный Кавказ. Расправились и с начальниками НКВД Украины – Балицким и Карлсоном. Любченко покончил самоубийством вместе со своей женой.
В живых остались Сталин, Каганович и Молотов. Последние оба живы в момент, когда я пишу эту книгу. Петровского сняли с поста, но не арестовали. По странной иронии судьбы Терехов, позволивший поднять публично вопрос о голоде, тоже пережил Сталина.
Хотя коммунистов везде уничтожали в огромном количестве, масштабы террора над украинскими коммунистами были большими, чем где-либо. На Четырнадцатом съезде украинской компартии в июне 1938 года в новый ЦК, насчитывавший 86 членов и кандидатов, вошли только трое из прошлого состава, и все трое – не политические деятели, а «почетные граждане». Чистки велись по обвинению в национализме, в котором, в частности, обвиняли Любченко, Гринько и даже Балицкого.
Республиканская компартия и государственный аппарат после ареста всех членов украинского правительства и их первых заместителей практически распались. Все секретари губкомов были смещены, а потом и их преемники – уже в начале 1938 года. Не было больше ни кворума ЦК, ни какого-либо иного органа, который мог бы назначить Совет Народных Комиссаров, и к концу 1937 года республика мало чем отличалась от простой вотчины НКВД.
* * *
Естественно, никакого подлинного «националистического» заговора в среде сталинских кадров не могло возникнуть. Но, не затрагивая проблем чистки 1936–1938 гг., можно задаться вопросом: преуспел ли Сталин в своих акциях расправы с украинским национализмом, начатых с 1930 года (и в особенности в 1932–1933 гг.)? Похоже, ответ будет – частично, да, преуспел. В течение последующих десятилетий украинский национализм проявлял свою решительную оппозиционность лишь на Западной Украине, аннексированной у Польши в 1939 году и не пережившей террора голодом. Эту область тоже подвергли террору – в 1939–1941 гг. и после повторной оккупации, в 1944-м. Здесь тоже прошли массовые аресты, коллективизация и все остальное. Население сопротивлялось. Развернулось широкое партизанское движение, направленное и против немцев, и против советских властей. С ним не могли справиться вплоть до начала 50-х годов (его лидеры были ликвидированы в изгнании секретными советскими агентами).
Тысячи украинцев были расстреляны, еще больше отправлено в лагеря принудительного труда или выслано. Обычно приводится цифра почти в два миллиона репрессированных, что перекликается с числом высланных из других, тоже оккупированных в те годы прибалтийских стран.
В период с 1945-гo по 1956 год украинцы составляли очень большой процент от числа обитателей лагерей принудительного труда, и по всем сведения они неизменно считались наиболее «трудными» с полицейской точки зрения заключенными. Коэффициент смертности среди них, особенно в самых тяжелых лагерях, куда их обычно ссылали, был очень высоким. В 50-е годы в самых страшных заполярных лагерях на Колыме встречались сельские девушки, которые ранее помогали повстанцам. Один из заключенных, поляк, никак не сочувствовавший украинскому национализму, отмечает, что «советские офицеры, допрашивая семнадцатилетних девочек, ломали им шейные позвонки или били по ребрам тяжелыми армейскими сапогами, так что потом они харкали кровью в тюремных больницах на Колыме. Конечно, такое обращение не могло убедить кого-нибудь из допрашиваемых в том, что содеянное ими было злом. Они умирали с медальонами Девы Марии на своей искалеченной груди и с ненавистью в глазах».[9]
Некоторое представление о действительном числе заключенных можно получить из заявления, сделанного 17 марта 1973 года первым секретарем Львовского горкома Куцеловым о том, что начиная с 1956 года 55 000 членов антикоммунистической организации украинских националистов (ОУН) вернулись после отбытия своих сроков заключения в одну только Львовскую область, насчитывающую лишь четверть всего населения Западной Украины[10].
Именно в таком контексте следует понимать замечание Хрущева о том, что Сталин приказал выслать в 1943–1945 гг. семь малых народов и хотел также депортировать и украинцев, «но их для этого было слишком много». Сталин позднее сказал Рузвельту, что на Украине у него «трудное и небезопасное» положение.[11]
* * *
Безусловно верно, что в той части Украины, которая находилась в составе СССР в 1930 году, национальное самосознание получило в 1930–1933 гг. ошеломляющий удар, когда истребили стольких естественных вождей нации и их приверженцев на всех уровнях. Верно и то, что национальное чувство и сейчас более выражено именно на Западной Украине, хотя значительная часть интеллигенции Киева и других городов Восточной Украины представляет собой некоторое исключение из этого правила.
Тем не менее, недавние годы широко продемонстрировали, что, вопреки намерениям Сталина, надеявшегося на более радикальные результаты своих действий, украинское национальное чувство сохранило свою силу или возродило ее вновь как в Восточной, так и в Западной Украине, и среди миллионов украинцев, проживающих в Канаде, США и других странах.
В послевоенные годы Украина переживала новые страдания. (Знаменательно, что в течение тридцати лет, до 1958 года, никакой экономической статистики для Украины не публиковалось вообще.)[12] В 1947 году в республике снова разразился голод, на этот раз одновременно с голодом в Белоруссии и других пограничных областях. Он не был сознательно запланирован, но при том, что люди умирали от голода, Сталин продолжал экспортировать зерно[13]. У нас нет возможности оценить число жертв, но земля эта была спасена от гибели Комитетом помощи ООН и Управлением по делам спасения, в основном американским, которые поставили к январю 1947 года только одной Украине продовольствия на сто миллионов долларов (288 000 метрических тонн).
В те же годы провели очередное наступление на культуру, на немногих из сохранившихся украинских писателей. 26 июля 1946 года ЦК Союза принял резолюцию, гласившую, что «в области науки, литературы и искусства враждебная буржуазная идеология пыталась возродить украинские националистические концепции».
Весь следующий год в литературной прессе критиковали писателей и деятелей культуры, приклеивая им такие ярлыки, как «неисправимые буржуазные националисты», «жалкая и отвратительная фигура», «типичные псевдоученые», «книги, страдающие недержанием»…[14] Тысячи людей отправили в лагеря.
После этого наступил период относительного спокойствия, за которым в 1951–1952 гг. начались новые нападки на лидеров украинской культуры. Одним из негативных показателей служит тот факт, что с 1930-го по 1957 год ни один из членов Украинской академии наук не получил Ленинской премии, тогда как до 1930-го и после 1957-го им присуждали ее ежегодно.[15]
В наши намерения не входит подробное изложение послевоенной истории Украины. Если коротко, то были в ней периоды, когда слегка отпускали поводья, коими помыкали украинскими национальными чувствами, бывали и другие времена – времена более жестоких мер. Но идея независимой украинской государственности или свободного развития украинской культуры, неподконтрольной Москве, всегда оставались под запретом.
Обращаясь к сегодняшнему дню, начнем с возникновения более сильного, чем когда-либо в прошлом, украинского национально-культурного движения в 60-х годах.
Оно заявило о себе как в самиздате (по украински – самвидав), так и в официально опубликованных произведениях. В одном 1966 году прошло минимум 20 процессов над авторами самиздата, получивших сроки до 15 лет за эссе или антологию стихов.[16] Примером же официальной публикации в национальном духе может служить роман О.Гончара «Собор», где герои пытаются спасти от разрушения здание собора, напоминая, что даже Махно или нацисты не покушались на него.
В это же время Иван Дзюба, автор большого эссе, выступил с протестом против арестов деятелей культуры и заявил, что нынешний «интернационализм» мало чем отличается от русификации царских времен.
Последовали экстраординарные события: на защиту Дзюбы выступил первый секретарь ЦК Украины Петр Шелест, сам тоже писавший в националистическом тоне (так, во всяком случае, воспринимали его тексты и националисты и коммунисты ортодоксы). Например, в разрез с традиционным в советской историографии направлением, он отрицательно описал покорение Украины войсками Екатерины Великой.
Примечательно, что украинский лидер понимал: подобная позиция принесет ему политические дивиденды даже внутри самой партии. Когда в 1973 году его сместили, пришлось провести массовую чистку его сторонников, и в одной только Высшей партийной школе при ЦК КПУ было уволено 34 инструктора и даже сам директор школы. Уволили четвертую часть всех секретарей по пропаганде – на всех уровнях. Запретили книги почти сотни авторов, провели чистку в НИИ с последующим увольнением сотрудников – пачками! Во Львовском университете уволили 20 преподавателей и профессоров, исключили десятки студентов. В Киевском университете тоже прошли увольнения. Множество известных интеллектуалов в последующие два года были отправлены в лагеря или тюремные психиатрические больницы. Полагают, что в общем итоге были арестованы тысячи людей.
При этом обнаружилось, что даже в официальных партийных и академических кругах попытка украинизации в духе 20-х годов нашла отклик и открытую поддержку, на что рассчитывал Дзюба (сам Дзюба позднее, после сильного давления, отрекся от своей прежней позиции).
В следующем десятилетии официальная политика сводилась к нападкам на «злостного врага украинского народа, украинский национализм», как это формулировал теперь нынешний первый секретарь ЦК Украины Щербицкий. Все доходящие до нас сообщения свидетельствуют, что свободное выражение национальных чувств осталось неутоленным. В 1976 году в Киеве была образована «Группа по контролю за выполнением Хельсинкских соглашений», которая была разогнана к 1978 году, а ее члены получили сроки от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения. С этого времени преследованию подвергалось много других групп и отдельных людей. Следует подчеркнуть, что и в рабочих беспорядках на Украине в 70-х годах часто присутствовал национальный компонент, например, в трехдневных волнениях в Днепропетровске в мае 1972 года. Именно на Украине возникло ядро первого «свободного профсоюза», хотя и недолго просуществовавшего.
В целом нет сомнений в том, что проблемы, поднятые диссидентами-националистами, как сказал один украинский писатель, «все еще стоят первыми на повестке дня».
Не нам предсказывать развитие тамошних событий. Но при любом возможном кризисе в СССР украинское национальное самосознание, очевидно, станет жизненным фактором. Оно не было уничтожено сталинскими методами, его не обезоружила ни одна из последующих тактических, операций сталинских наследников и преемников.
* * *
Если же говорить о том, какие последствия имели события 1930–1933 гг. для советского сельского хозяйства, то сегодня элементарная неэффективность последнего является общеизвестной. Система колхозов не только не породила новых производительных сил и возможностей, не только не перегнала весь мир, а как раз наоборот, по статистике двадцать пять сельскохозяйственных рабочих в СССР производят столько же, сколько в США – четверо. И это происходит в последнее время, во всяком случае, не из-за недостатка финансовых вложений. Огромные суммы инвестировались в сельское хозяйство СССР, но результат оказался минимальным. Объясняется это недостатками самой системы.
В январе 1933 года Сталин доложил, что пятилетний план был выполнен за четыре года и три месяца с максимальными результатами. Это было совершенной ложью: основные задачи, даже для промышленности, не были достигнуты вовсе. Только на треть по чугуну, наполовину – по стали, на три пятых по производству электроэнергии. По товарам потребления: больше половины по хлопчатобумажным тканям, меньше одной трети по шерсти и чуть больше четверти по льняным тканям. В сельскохозяйственном производстве было еще хуже: только одна восьмая – по минеральным удобрениями менее одной трети – по тракторам.[17]
К началу 1935 года стала возможной отмена хлебных карточек, но сбалансировать спрос и потребление смогли только взвинчиванием цен, которые теперь стали гораздо выше существовавших при карточной системе, хотя и ниже цен на легальном и черном рынках. В конечном результате цены на предметы потребления с 1928 года возросли в десять раз, хотя фактически зарплата сельского труженика едва ли повысилась. Требуемая разница достигалась с помощью «налога с оборота».[18]
К концу 30-х годов средний советский гражданин жил хуже, чем до революции. Он ел то же количество хлеба, но меньше мяса, жиров и молочных продуктов. Он плохо одевался и имел худшие жилищные условия.[19] В работе Ленина «Развитие капитализма в России» было подсчитано, что средний сельскохозяйственный рабочий в достаточно характерном Саратовском округе потреблял в 90-е гг. 419,3 килограмма зерновых продуктов в год. В 1935 году официальный советский экономист Струмилин подсчитал, что средний советский гражданин потребляет за год 261,6 килограмма зерна…[20]
Что касается крестьянства, то жизнь на селе скатилась до беспрецедентного уровня нищеты. Реальная стоимость трудодня и в денежном выражении и в продуктах, получаемых на трудодни колхозниками, оставалась чрезвычайно низкой и абсолютно недостаточной для удовлетворения их самых минимальных нужд. В 1938 году они за счет трудодней удовлетворяли свои нужды в зерновых только на три четверти, меньше половины – в картофеле и поразительно мало во всех прочих продуктах. Оплата на трудодень колхозника сводилась в среднем к шести фунтам зерна, нескольким фунтам картофеля и овощей, небольшому количеству сена и денежной сумме, равной стоимости килограмма черного или полкилограмма белого хлеба.
Указ от 19 апреля 1938 года признал, что «в некоторых областях и республиках… есть колхозы, где в 1937 году вообще не платили на трудодни деньгами».[21] Ответственными, естественно, оказались «враги народа… которые с провокационными целями – повредить колхозам – намеренно создавали искусственное обесценивание стоимости колхозных капиталов и производственных расценок, а также срезали денежные суммы, распределяемые по трудодням». Указ устанавливал, что не меньше 60–70 процентов колхозного денежного дохода выделялось на оплату по трудодням, а капитальные расходы не должны превышать 10 процентов от общей суммы денежного дохода колхоза. Уже в декабре того же года этот указ аннулировали.
Колхоз средних размеров – например, колхоз имени Сталина в селе Степная Орджоникидзевского края – производил только пшеницу. Его валовой сбор составлял 74 240 гектолитров. После сдачи госпоставок и резервного фонда, после осуществления капвложений и вычетов административных расходов на содержание колхоза и т.д., на оплату колхозникам оставалось 12 480 гектолитров, то есть примерно 20 процентов от собранного урожая. В колхозе насчитывалось 1420 работников. В начале свою долю получала администрация. Потом была очередь «стахановцев», заработавших по 280 трудодней, они получали по 8 гектолитров зерна. Обычному крестьянину полагалось 4 гектолитра, вдове – два. У работающего крестьянина было четверо детей (жена работала на ферме), у вдовы – трое малых детей. Зерна не хватало ни в одной семье. Вдова незаконно утаивала его, рабочий просто воровал.[22]
В первое десятилетие с начала коллективизации тягловая сила (лошадиная и механическая) постоянно была более низкой, чем в 1929 году.[23] (Сверх того, от одной пятой до трети тракторов всегда были выведены из строя, что еще сильнее ухудшало общее положение.)[24]
Официально разрешенное и весьма ограниченное количество личного скота было по норме все же выше, чем в это время могли фактически содержать многие колхозники. Хотя к 1938 году 55,7 процента коров находились в личной собственности колхозника, практически эти проценты выразились в том, что только 12,1 миллиона коров приходилось на 18,5 миллиона общего числа всех крестьянских дворов.[25] Еще важнее был существовавший тотальный, исключая несколько кочевых районов, запрет на содержание лошадей. Крестьяне, которые привыкли прежде использовать лошадей в разных видах работ, могли теперь пользоваться только колхозной лошадью и только с разрешения начальства – за плату.
Для большинства колхозников свой участок, каким бы крошечным он ни был, означал последнее воспоминание о прежней жизни. Несмотря на трудности – такие как нехватка оборудования, фуража и удобрений, колхознику удавалось добиваться удивительно большой отдачи с этого участка. В 1938 году на личных участках собирали 21,5 процента всей советской сельскохозяйственной продукции, хотя они составляли лишь 3,8 процента обрабатываемой земли.[26]
На Восемнадцатом съезде КПСС в 1939 году член Политбюро, ответственный за сельское хозяйство, Андреев признал, что «в некоторых областях хозяйствование на приусадебных участках начинает преобладать над общественным хозяйством колхозов и становится основой экономики, тогда как колхозное хозяйство превращается во вспомогательное». Он заявил, что личные участки перестали быть необходимыми, поскольку колхозы стали достаточно сильными, чтобы удовлетворять все нужды колхозников, и настаивал на том, что «личное хозяйство на приусадебных участках должно во все возраставшей мере носить исключительно второстепенный характер, в то время как колхозная экономика – становиться единственной основой».
Вскоре после съезда был выпущен указ от 27 мая 1939 года, гласивший, что личные участки были незаконно расширены за счет колхозной земли, «в интересах частной собственности и элементов, стремящихся к личному обогащению, которые используют колхоз в целях спекуляции и личной выгоды». В указе говорилось, что приусадебные участки рассматривались как «личная собственность… которой колхозник, а не колхоз распоряжается по собственному усмотрению», что их даже сдают в аренду другим колхозникам. В нем также говорилось, что «существует достаточно большое число псевдоколхозников, которые либо совсем не работают в колхозах, либо работают только для вида, проводя большую часть времени на своих личных участках». Указ устанавливал разнообразные меры для предотвращения нарушений и учреждал постоянные бригады должностных инспекторов для проведения этих мер в жизнь.
Личные участки выделялись не только для того, чтобы продукты производились для рынка, и даже не для продажи их государству. Участки тоже облагали налогом – в денежной или натуральной форме: яйца, мясо, молоко, фрукты и т.д. В 1940 году власти получили с приусадебных участков 37,2 процента мяса, 34,5 процента молока и масла, 93,5 процента яиц от общего их количества, полученного в колхозно-совхозной системе[27]. Вопреки всем надеждам избавиться от подобной ненормальности, этот источник получения продуктов сохраняет существенную роль в производстве вплоть до сегодняшнего дня.
В 40-х годах колхозную систему распространяют на вновь аннексированную территорию – не только на Западную Украину, но и на прибалтийские страны. В Эстонии, например, «массовая коллективизация происходила в условиях резкого обострения классовой борьбы», так «кулаки» неизбежно лишались своей собственности и средств производства.[28] Была проведена массовая депортация.
Еще во время войны экс-кулакам разрешили передвижение внутри районов спецпоселений и часто даже за их пределами,[29] но окончательно ограничения в правах для выживших в ссыпках «кулаков» или, правильней говоря, для тех крестьян, которых отправили на спецпоселения, а не в лагеря, сняты были только в 1947 году[30].
Окончание войны отметили новым ужесточением колхозной системы: 14 миллионов акров (примерно 5700 тысяч га) колхозных площадей, ранее взятых крестьянами под личные участки, были реколлективизированы в 1946–1947 гг.[31]
В последующие годы предпринимались разные меры для повышения урожайности хлебов, и на Девятнадцатом съезде КПСС в 1952 году объявили, что зерновая проблема решена благодаря урожаю в 130 миллионов тонн. После смерти Сталина выяснилось, что это число было достигнуто путем подсчета его по методу «биологического урожая», а реальное число «в закромах» составило только 92 миллиона тонн.
На пленумах ЦК в сентябре 1953-го и в феврале 1954 гг. Хрущев показал, что на душу населения зерна все еще производится меньше, чем в царское время, и абсолютные цифры поголовья крупного рогатого скота ниже, чем в царское время. На 1 января 1916 года на нынешней территории СССР насчитывалось 58 400 000 голов крупного рогатого скота, а на 1 января 1953 года – 56 600 000. Население же за это время увеличилось со 160 до примерно 190 млн. человек. И несмотря на все усилия и капиталовложения, урожай с гектара в 1965 года составлял всего 950 килограммов (9,5 ц), что означало весьма слабое улучшение по сравнению с 820 килограммами (8,2 ц) на десятину в 1913 году.[32]
* * *
В сталинскую эпоху, как и много лет спустя, в советской сельхознауке преобладали антинаучные теории, в частности, Вильямса и Лысенко, и на их основании были приняты решения, гибельные для сбора урожая. Как и в 30-е годы, скороспелые прожекты и обещания продолжали процветать. При Хрущеве первый секретарь Рязанского обкома А.Н.Ларионов пообещал за год вдвое увеличить производство мяса в области. Он и его присные добились этого результата, забив всех молочных коров и племенной скот и скупая (на незаконно вырученные суммы) скот в других областях и т.д. Став Героем Соцтруда и кавалером ордена Ленина, Ларионов покончил с собой, когда в 1960 году правда выплыла на поверхность. Но в других регионах у него нашлось немало последователей.
Аналогичные авантюры предпринимались и в послехрущевские времена. Вот один из первой попавшейся дюжины примеров. Огромный рост «эффективности животноводства» в Кокчетавской области Казахстана. Он был достигнут в результате навязанной специализации: стада овец, крупного рогатого скота и других животных были сосредоточены в местах, признанных «по науке» лучшими для разведения и выпаса. В итоге деревни, где веками занимались овцеводством, остались без единой овцы, зато овечьи стада заполнили бывшие молочно-товарные фермы. Колхозных свиней запретили разводить повсюду, кроме спецсвиноферм, остальных сразу забили. Поэтому производство мяса, молока и т.д. резко сократилось. В первое время крестьяне были вынуждены продукты со своих приусадебных участков вывозить на сторону: местные мясокомбинаты отказались покупать свинину не со свиноферм, те же пока еще не встали на ноги и не производили свинины, зато кокчетавские крестьяне вывозили свою свинину за сотни миль от дома…
* * *
В послесталинское время многое было улучшено, но эти улучшения носили частный характер, а в целом система сохраняет главные отрицательные стороны.
Симптомы, которые мы отмечали в 30-х годах, остались – и апатия, вызываемая отсутствием стимулов, и «управление» некомпетентных лиц, и огромный бюрократический административный аппарат, активное вмешательство невежественных и планирующих из далекого центра деятелей.
Некая «классовая борьба» действительно происходила в деревнях – борьба между колхозным крестьянством и «новым классом» бюрократов и управителей. В одном из официальных журналов сетовали:
«У нас есть колхозники, которые не заботятся об общественной собственности. Однажды я отругал одного из них за разбазаривание колхозного урожая и напомнил, что он совладелец общественной собственности. В ответ он саркастически усмехнулся: „Какие владельцы! Все это пустая болтовня. Они просто называют нас хозяевами, чтобы мы тихо сидели, а все решают сами…“
Настоящий колхозник не скажет председателю, проезжающему мимо в машине: «Вот я, совладелец колхоза, шлепаю тут ногами, а он прохлаждается в „Победе“. Всякий колхозник, который действительно дорожит своим колхозом, порадуется, что у председателя есть своя машина! Колхозники, как и советские рабочие, заинтересованы в усилении руководства своим хозяйством».[33]
Персонаж в советском романе замечает:
«– Как организованы наши колхозы? Так же, как и в 30-х годах. Бригадиры, контролеры, стражники и Бог знает что еще учреждено было тогда. Для чего? Для Контроля… И все равно никто ни за что не отвечает.
– Почему так?
– Потому, что земля, сельхозинвентарь, машины – все обезличено. Как будто нельзя было работать в том же колхозе, но чтобы лошади и участок земли были твоими».[34]
Или, как замечает другой автор, «все та же старая песня. Действительно, какой-то порочный круг! Чтобы получить приличную отдачу продукции за день работы, надо как следует потрудиться – какие есть другие источники капитала у фермы? Но чтобы люди как следует работали, надо именно получить приличную отдачу за рабочий день».[35]
В одном из рассказов, напечатанных во времена Хрущева, говорится, что беда, испытанная колхозом – падеж молочного стада из-за того, что коровы объелись отсыревшим клевером, – не могла случиться даже в царское время, при помещиках. Падеж произошел в выходной день, когда председатель колхоза отдыхал: «Можно ли представить, чтобы помещик держал на службе управляющего, который постоянно проживал в городе и как чиновник уходил отдыхать в разгар летних полевых работ?»[36]
Можно пронаблюдать избыток «планирования» и «руководства» по результатам недавнего газетного расследования в одном из колхозов: он был завален «постоянным потоком инструкций», за год там получили 773 директивы. Когда корреспондент обратился в контору, из которой директивы поступали, ему ответили, что в том году они сами получили из центра 6000 указаний относительно этого колхоза[37].
В 1982 году в СССР имелось только 65 процентов комбайнов от требуемого числа, но в начале июля 100 тысяч из них считались выведенными из строя.[38] Секретный доклад советской сельскохозяйственной комиссии обнаружил, что тракторная промышленность выпускает 550 тысяч тракторов в год, и почти столько же тракторов ежегодно списывается. В 1976 году работало 2400 тысяч тракторов, в 1980-м – 2600 тысяч, но в эти годы их производили по 3 миллиона штук в год.[39] В советской прессе в 1982 году можно было прочесть, что в одном из совхозов есть 40 лошадей, но конюшни развалились, на зиму нет ни сена, ни фуража.[40]
В 1982 году в обшей сложности была потеряна «треть всего фуража»: около 40–45 процентов его пропало из-за несвоевременной уборки зерна, 20 процентов из-за плохого стогования, остальное из-за нехватки зернохранилищ (в колхозах имелось только 20–25 процентов от их требуемого количества).[41]
Система подсчета урожая сегодня не так скандальна, как «по биологическому уровню», но все же еще неудовлетворительна: его подсчитывают после жатвы на полях или в бункерах комбайнов – до транспортировки, сушки и очистки. Предполагаемые потери по весу составляют 20 процентов. Но это только один из сомнительных методов, с помощью которых неудовлетворительная ситуация рисуется почти терпимой.
Другой персонаж в советской прозе отметил иной аспект колхозной жизни: «Маркс сказал, что если не дать все жизненно необходимое производителю, он его добудет иным путем. Если открыть бухгалтерские книги наших колхозов, увидим, что из года в год колхозники обычно получали по 200 граммов хлеба плюс копейку деньгами. Каждый понимает, что прожить на это невозможно. Но люди-то жили… Это означает, что колхозник добывает себе средства к жизни другими способами, и эти иные способы обходятся государству, колхозам и самому колхознику очень дорого.»[42]
Сохранилась и мания создания все более крупных колхозов. Она влечет переселение жителей малых деревень в большие поселки, но, как говорится в статье официальной «Советской России», «эта идея изначально страдает побочными экономическими пороками»: «Труженики вынуждены делать ежедневные дополнительные затраты времени, как в давние времена, чтобы добраться до рабочего места… При этом дороги, как известно, плохие, в дурную погоду вообще непроходимы. Коровы на фермах ходят некормленные, потому что люди до них не могут добраться». Кроме того, людям просто не нравится жить на новых местах: «Население начинает покидать их, и крупные поселения снова превращаются в малые, пока в финале не прекращают полностью свое существование».[43]
Есть многое, что вообще лежит за пределами экономики. Академик Сахаров говорил о «почти необратимом уничтожении» сельского образа жизни. Современный русский писатель пишет: «Старая деревня с ее тысячелетней историей пришла в полное запустение… ее вековые установления доживают последние дни, вековая почва, которая питала национальную культуру, исчезает. Деревня – это материнская грудь, от которой отлучили нашу национальную культуру»[44]. Другой писатель подвел итог: «Теперь, когда я слышу, как люди недоумевают: почему так произошло, откуда такое варварское равнодушие к земле? – я могу сказать точно: в моей собственной Овсянке это началось в бурные дни тридцатых годов».[45]
* * *
Мы уже цитировали точку зрения Бухарина, что наихудшими результатами событий 1930–1933 гг. были не столько пережитые крестьянством страдания, сколько «глубокие перемены в психологическом восприятии окружающего у тех коммунистов, которые принимали участие в этой кампании и, чтобы не сойти с ума, превратились в профессиональных бюрократов, для которых, террор с тех пор стал нормальным методом управления, а послушание любому приказу сверху – высокой добродетелью»[46]. Это привело к «настоящему обесчеловечиванию коммунистов, работающих в аппарате».
Партийный работник, принимавший прямое участие в этой кампании, замечает: «На войне есть огромная разница между теми, кто оказываегся на переднем крае, и теми, кто остается в тылу. Эту разницу нельзя компенсировать ни более полной информацией, ни живым сочувствием. Эта разница познается не разумом, а нервной системой. Те из коммунистов, которые непосредственно соприкасались со всеми ужасами коллективизации, живут с тех пор с отметиной. Мы меченые. Мы видели призраки. Нас можно отличить по тому, как мы прикусываем языки и шарахаемся от всяких разговоров на тему о „крестьянском фронте“. Мы еще можем обсуждать это между собой, как Сережа и я после возвращения оттуда, но говорить об этом с непосвященными казалось нам бессмысленным, с ними у нас не нашлось бы общего языка. Я, разумеется, говорю не об Аршиновых. При любой политической системе они остались бы жандармами и палачами. Я имею в виду тех коммунистов, человеческие чувства которых не полностью затуплены цинизмом»[47].
В своей повести «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург описывает эволюцию следователей НКВД. «Шаг за шагом, выполняя одну за другой спущенные им ежедневные директивы, они каждый раз опускались на ступеньку ниже, превращаясь из людей в животных». В определенной степени это можно сказать обо всех, кто принимал участие в осуществлении режима террора. Конечно, именно «Аршиновы» выжили и расцвели. Нельзя уже сокрыть того факта, что некоторые из главных фигур в нынешнем поколении советских лидеров принадлежат к той же самой возрастной группе и прямо или косвенно испытали на себе то озверение, о котором мы упоминали. Другие в середине 30-х годов были еще в комсомоле, многие вступили в партию, когда после ежовского террора в нее снова в 1939–1940 гг. начался прием.
С другой стороны, вопрос ведь не сводится только к личному участию в терроре: молодые люди вступали, а потоми воспитывались в той партии, которая успела превратиться в политический инструмент для проведения акций, вроде коллективизации, террора голодом или того круга кампаний террора, которые последовали за событиями, описанными в этой книге.
* * *
Главный урок, который мы можем извлечь из этих событий, состоит, видимо, в том, что именно коммунистической идеологией были мотивированы беспрецедентные убийства мужчин, женщин и детей. Возможно, эта искусственная идеология страдала примитивным, схематичным подходом к жизненным проблемам, оказавшимся для нее слишком сложными. Ей принесли жертвы, жертвами оказались жизни других людей – и они оказались напрасными.
Сегодня принято задавать такой вопрос: могут ли нынешние руководители СССР пойти на то, чтобы убить десятки миллионов иностранцев или вновь потерять миллионы своих сограждан в очередной войне. К поставленному вопросу прямое отношение может иметь тот факт, что прежнее поколение этих руководителей явилось прямыми исполнителями в деле практического истребления миллионов украинцев и представителей других народов с целью установить политический и общественный порядок, предписанный их теорией, и что молодые руководители все еще оправдывают такие их действия. Из этого следует, что, как мы и предполагали, описанное в этой книге нельзя сбросить со счета в качестве мертвого, слишком далекого от сегодняшнего дня груза. Наоборот, пока нам не позволяют свободно и открыто исследовать эти события, нынешние руководители СССР остаются, – причем хвастаясь этим, – наследниками и соучастниками страшных дел, история которых тут изложена.
* * *
Только в немногих советских художественных произведениях можно отыскать описание человеческих переживаний или реальных фактов по нашей теме (с 1983 года и дозволенное прежде было запрещено). Если мы зададим себе вопрос, каковы же критерии, которые советский режим прилагает к исследованию правды по столь значительному феномену его истории и его сегодняшнего дня, то столкнемся с очень любопытным моментом.
В хрущевскую оттепель и какое-то время после нее советским историкам и вообще специалистам дозволили писать о реальных фактах и оспаривать некоторые положения теории так, что это создавало им некоторые возможности для выявления полезной фактической информации, хотя политический курс 30-х годов прямо никогда не опровергался.
Эта ситуация вызвала резкие возражения, и после падения Хрущева заведующий отделом науки и культуры ЦК неосталинист С.П.Трапезников обвинил ведущих ученых, таких как Данилов, в «неверной оценке коллективизации», «в выпячивании определенных эпизодических фактов»[48], в том, что «они поставили под вопрос необходимость уничтожения кулачества как класса» и в прочих ошибках[49]. Партийный теоретический журнал «Коммунист» в №11 за 1967 год подверг особой критике статью Данилова о коллективизации, опубликованную в Советской исторической энциклопедии, очень полезном источнике.
Один ученый-неосталинист даже посчитал официально объявленную цифру урожая за 1938 год (77,9 миллиона тонн) слишком заниженной, заявляя: «Можно ли всерьез подумать, что наше огромное социалистическое сельское хозяйство, оснащенное самой современной техникой, дало меньше зерна, чем сельское хозяйство царской России, в котором преобладали деревянный плуг и трехполка? Если грандиозная попытка партии осуществить социалистическую перестройку деревни была бессмысленной, то в таком случае новая техника есть выбрасывание денег на ветер, а героический труд колхозников, механизаторов, специалистов сельского хозяйства был совершенно напрасным. Безусловно, в этом нет ни грана логики»[50].
После Хрущева не только защитили сталинскую политику, но, напротив, Бухарина и его последователей публично именовали «открытыми сторонниками кулаков и прочих реакционных, сил в стране».[51] Иногда, правда, слышались возражения (не слишком громкие) против «перегибов» коллективизации, но за всю советскую историю ни разу не говорили о голоде и причинах, вызвавших его. И уже речи не могло идти о включении истории голода 1932–1933 гг. в учебники, хотя, находясь на вершине власти, Хрущев, случалось, упоминал о «войне голодом».[52] Поскольку в одном из романов И.Стаднюка автору позволили написать о голоде, это, возможно, свидетельствует, что у Хрущева имелось какое-то намерение предать этот вопрос гласности.
Но с тех пор исследователи выдавали публике редко и мало что-либо правдивое, да и в художественной литературе до конца 70-х годов не появлялось почти ничего. Даже в канун 1983 года, после которого сочинения подобного рода вовсе перестали появляться, мы можем назвать буквально считанных писателей и редакторов, кратко и редко касавшихся 1932–1933 гг., хотя иногда они делали это (даже косвенным образом) с удивляющей нас откровенностью.
Что касается официальной позиции, то самое большее, что в ней признавалось, – это «трудности» и «проблемы». Последнее издание БСЭ поместило статью «Голод», в которой сообщается, что он есть «социальное явление, сопутствующее антагонистическим социально-экономическим формациям», когда «десятки миллионов страдают от недоедания в США и других странах», поскольку «голод может быть преодолен только в результате социалистической перестройки общества». Что касается СССР, то «благодаря эффективным мерам, принятым советским государством, катастрофическая засуха 1921 года не привела к обычным тяжелым последствиям»; о 1933 годе не говорится ни слова. Стандартное признание о «тяжелых последствиях в снабжении продовольствием» в том году было опубликовано по-английски (1970 г.), и эти последствия объяснялись, конечно же, неопытностью, вредительством кулаков и «другими причинами». Добавлялось, что они («последствия») преодолены с помощью советского правительства.[53] Позднее, в коммюнике «Выпуска новостей» советского посольства в Оттаве (28 апреля 1983 г.) под названием «О так называемом голоде на Украине», «основной причиной» голода стала называться засуха (см. главу 11-ю). Разумеется, «богатые фермеры, называемые 'кулаками', играли важную роль в саботаже», терроре и убийстве. Тем не менее, «мнимое сокращение украинского населения» называлось «мифическим», сам же период не только не был «трагическим», но, напротив – «временем интенсивного труда и беспримерного энтузиазма».
В целом ситуация такова: в монолите утаенной правды иногда появляются бреши, откуда какая-то ее часть просачивается, но пока мало признаков, что режим собирается вплотную заняться своим прошлым и разрешить – или хотя бы помочь кому-то другому – осветить подлинную реальность.
Для тех, кто надеется на превращение советской системы в нечто менее приверженное тем позициям, которые обрисованы в этой книге, первым шагом на пути к подобной эволюции следует считать искреннее исследование прошлого или – хотя бы – признание всего реально происшедшего в 1930–1933 гг. Это касается и других, пока непризнанных массовых расправ и прочих подобных деяний. Признание правды и возмещение ущерба жертвам террора на селе не является всего лишь испытанием для правительства на его порядочность и ум: пока фактам не посмотрят прямо в глаза, в СССР будет продолжаться разрушение его сельского хозяйства.
Есть мнение, что именно анализируя сельскохозяйственную политику советского руководства, можно определить, собирается ли оно в принципе вырваться за тюремные пределы собственных теорий. Если после стольких лет постоянных неудач в этой сфере оно, наконец, откажется хотя бы здесь от своих ошибочных догм, мы могли бы надеяться, что бремя остальных идеологических доктрин, в частности, например, безнадежная враждебность к иным идеям, а в международном плане – к другим государствам, которые основаны на отличных от них принципах, – что это страшное их бремя тоже со временем начнет ослабевать.
Пока же мы в СССР и через пятьдесят лет после описываемых событий встречаемся с иллюстрацией к тезису, выдвинутому Берком два столетия назад: «Эта дегенеративная склонность идти кратчайшим путем и пользоваться ложными средствами, которые правительства деспотических режимов изобрели во многих частях света… когда недостаток мудрости подменяют избытком силы. Такие правительства ничего от этого не выигрывают, только трудности, которые они скорее обходят, чем избегают, снова возникают на избранном ими пути; они множат их и запутываются в них».
Ясно, что террор, обрушившийся на крестьянство, не принес в сельском хозяйстве результатов, обещанных теорией. Да и разрушение украинского национального бытия носило лишь временный характер. Это не частный вопрос – если вообще слово «частный» применимо к нации, насчитывающей 50 миллионов человек; даже истинные выразители духа России – Андрей Сахаров и Александр Солженицын – утверждают, что Украина должна быть свободной в выборе собственного будущего. И кроме того, свобода Украины является – или должна стать – ключевой нравственной и политической проблемой для всего мира.
В задачи данной книги не входит сочинение спекуляций на темы будущего. Зафиксировать как можно полнее и подробнее события изучаемого периода – вполне достаточная обязанность для историка. И все-таки до тех пор, пока эти события нельзя серьезно изучать или обсуждать в стране, где они произошли, ясно, что они не являются лишь частью прошлого, а, напротив, насущной проблемой, которую непременно следует учитывать, когда мы размышляем о сегодняшнем Советском Союзе и о проблемах современного мира.
Послесловие редактора
Итак, на русском языке появилась новая книга Роберта Конквеста, автора знаменитого «Большого террора», посвященная одному из самых малоизвестных и самых страшных этапов сталинского террора – раскулачиванию, коллективизации и голоду 1932–1933 гг.
Поражает колоссальный объем фактической работы, проделанной исследователем: библиография насчитывает сотню монографий, десятки периодических изданий на английском, русском и украинском языках. Поражает не потому, что историку пришлось много поработать – в конце концов, каждый добросовестный исследователь, охватывая большую тему, переворачивает горы материала. Случай Конквеста удивителен потому, что ему пришлось вгрызаться в пласты истории чужих и, в общем, не слишком известных народов. То есть, каждый факт, который нам, уроженцам той страны, представляется известным с детства или со школы, историку пришлось добывать горбом – сначала узнать про его существование, потом прочитать в источнике, потом сделать собственные выводы. Насколько тяжел и опасен такой труд, видно уже по тексту Конквеста: как только он отступает (в интересах полноты сюжета) от своей непосредственной и добротно изученной темы, от своего «периода», в его книге мгновенно возникают, хотя и третьестепенные, но все же фактические ошибки. Например, якобы накануне освобождения крестьян среди 36 миллионов российского населения насчитывалось 34 миллиона крепостных – автор явно отождествил понятия «крестьянин» и «крепостной», не учтя, что, помимо частновладельческих, то есть крепостных рабов, в России больше половины крестьян составляли мужики государственные, удельные, кабинетские и пр., то есть не находившиеся в непосредственной крепостной зависимости от барина. Другой пример: автор считает, что на Украине со времен Богдана Хмельницкого существовала «украинская государственность» на протяжении свыше ста лет (вплоть до упразднения гетманства при Екатерине Второй), в которую якобы «вмешивалось» российское правительство. Нет нужды объяснять российскому читателю, что о подобной «государственности» можно говорить скорее в польский период украинской истории (Конквест и сам объявляет польский сюзеренитет над Украиной почти символическим), что же касается эпохи, начиная с Богдана Хмельницкого, то гетман провозгласил и ратифицировал в Переяславле сюзеренитет Московского царства над своей страной и, следовательно, сам перепоручил ведение важнейших государственных дел в чужие руки: Москва законно осуществляла процесс, который сюзерены всей Европы творили со своими, столь же неразумными, как Богдан, вассалами. Эта ситуация и привела к тому, что первый же после Хмельницкого гетман, Иван Выговский, поднял восстание против московских сюзеренов и попытался вернуться обратно под куда более мягкую государственную «державу» польских королей. Итогом казачьего мятежа и явился первый раздел Украины – по Днепру, с временным оставлением Киева в руках Москвы. Даже формально в этом пункте Р.Конквест неправ: гетманство полностью было упразднено не в 60-е годы, а уже в 30-е годы 18-го века, а кратковременное его восстановление в 60-е годы (на два года) являлось актом личной царской милости графу Кириллу Разумовскому за захват им престола в пользу Екатерины, и было немедленно отменено царицей, как только выяснилось, что Разумовский всерьез воспринял дарование чисто почетного титула.
Конечно, редактор мог удалить подобные мелкие неточности одним росчерком пера, согласовав с автором, но мне делать такую операцию не хотелось. Потому что в моих глазах они – как ни парадоксально это звучит – лишь украшали книгу: не имея, строго говоря, прямого отношения к проблематике и главным историческим сюжетам, эти мелочи выделяли, оттеняли, какую громадную работу пришлось проделать автору, чтобы поразить даже русского читателя (то есть, повторяю, того, для которого эти сюжеты привычны с детства) неимоверным количеством собранного нового материала по избранной теме и, главное, анализом документов, которые, как говорится, были у всех на виду, но никто ничего в них не понял (для меня лично шоком явилось истолкование Конквестом давно, со студенческих времен читанного письма Сталина Шолохову).
К числу особых достоинств Р.Конквеста я отношу его удивительное чутье к нащупыванию и истолкованию важнейших подробностей сюжетов, которые по какой-то причине остались недоисследованы: может быть, оно – это чутье – и составляет так называемый талант историка? Вот один из примеров. Р.Конквест уделяет немало места партийным «дефинициям» для кулака, середняка и бедняка и со сдержанным британским остроумием иронизирует над попыткой парт-идеологов навести «порядок» среди сельско-пролетарских «овец» и буржуазных «козлищ». Ему явно неизвестна концепция того из персонажей книги, которого он сам называет самым выдающимся российским экономистом той эпохи, А.В.Чаянова. Между тем, изучив жизнь деревни не в мгновенном ее срезе, но, напротив, в динамике развития, А.Чаянов пришел к выводу, что наличие бедняков, середняков и кулаков – не в традиционно-крестьянском смысле этих понятий, когда бедняком называли либо лодыря и пьяницу, либо несчастного мужика, сраженного болезнями, редкостным невезением и т.п., а кулаком того, кто существовал не «от земли», а за счет посторонних и доходных промыслов – а скорее уж в партийном смысле этих терминов, – так вот, Чаянов выяснил, что, видимо, бедняки, середняки и кулаки представляли собой, как правило, разные фазы в развитии одной и той же крестьянской семьи. Молодая пара начинала жизнь, естественно, как бедняцкая, потом появлялись дети, помощники в работе, хозяйство крепло и становилось середняцким; наконец, дети вырастали, женились, семья получала от «мира» дополнительный надел на новые «души», становилась зажиточной (по-большевистски –кулацкой), потом женатые дети «выделялись», и из большой кулацкой семьи возникало несколько малых бедняцких. Таков, по Чаянову, типичный цикл сельской жизни, и этот круг объясняет сложности, путаницу, неразбериху, парадоксы в трех крестьянских категориях, описываемых Р.Конквестом, – тех, в которых большевистские теоретики заблудились, как в трех соснах.
Кстати, это же объясняет, почему раскулачивание носило такой массовый характер, нанесло такой жуткий удар сельскохозяйственной экономике: из деревень изъяли не только лучших хозяев (и это, конечно, тоже), но и количественно самые большие и находившиеся на самом пике успешной хозяйственной деятельности трудовые семьи. Р.Конквест, видимо, не знал теорию Чаянова, но тем больше чести, что всем ходом своих рассуждений, всеми собранными им данными – и о семейном составе крестьян, и о величине их доходов, о товарности хозяйств – он подвел читателей к этим выводам, он поставил перед нами проблему и дал необходимые данные для ее решения.
Повторяю, главное достоинство его книги в том анализе, в той работе ищущей исследовательской мысли, которая делает труд важным и свежим, – свежим даже тогда, когда собранные автором факты перестанут быть новинкой для лишенного информации читателя. Здесь мне хочется сравнить ее с «Архипелагом ГУЛАГом» А.Солженицына, художественным исследованием, все непреходящее, гениальное величие которого стало ясно именно тогда, когда собранные писателем факты превратились в общеизвестные истины.
Со дня выхода «Жатвы скорби» в свет на английском языке прошло два «перестроечных» года, появились статьи о голоде Ю.Черниченко, о коллективизации – других авторов, более того, издан первый в истории СССР закон о «реколлективизации», то есть о праве крестьян на аренду земли. Если бы книга Р.Конквеста выделялась сегодня только публикацией новой информации, она бы удачно влилась в поток «перестроечной» литературы и довольно быстро осела на его дне. Но не такая ждет ее судьба, по моему глубокому убеждению.
Р.Конквест – английский автор, а определение национальности автора обусловлено не кровью, текущей в его жилах, но тем, к какому читателю он обращается, с кем хочет общаться на страницах своей книги, кого мысленно видит, сидя за машинкой или держа в руке перо. Книга Конквеста обращена сначала к англичанам и, во вторую очередь, ко всем остальным жителям западного мира: он хочет разрушить предубеждения, предрассудки и аморальную позицию именно «своих», а не российских читателей. Но она оказалась написана так, что выглядит необходимой прежде всего читателю страны, о которой «сказ сказывается», – СССР. Во всяком случае, так это представляется мне, человеку, большую часть сознательной жизни бывшему российским историком и литератором.
Почему? Что представляется самым важным, почти шоковым выводом, поражающим даже сегодня и, убежден, неизвестным и чрезвычайно важным феноменом для любого российского читателя? Вот он: тройной удар по крестьянству начала 30-х годов (раскулачивание, коллективизация, террор голодом) не имел никакого положительного социального смысла. Эта фраза означает, что ни один социальный слой в стране, включая и партию, не получил никаких выгод от того, что были ограблены и погублены миллионы людей. Разве что считать выигравшими Кагановича, унаследовавшего место Бухарина, Молотова, перенявшего должность у Рыкова, Шверника, сменившего Томского, Хрущева, постепенно прибравшего к рукам углановские функции, и еще кучку политических дельцов, сделавших на этой катастрофе свои карьеры.
Р.Конквест справедливо отмечает, что не только сторонники Сталина, но и все его противники видели в «тройном ударе по мужику» некий огромный замысел, некую (пусть сатанинскую) цель. В СССР и на Западе сторонники Сталина до сих пор говорят, что ценой этих миллионов жертв удалось форсированными темпами «превратить Россию в великую индустриальную державу», благодаря чему и была одержана победа над Гитлером, и это обеспечило конечное спасение российской нации и всего мира! Именно по сему мифу книга Конквеста и наносит убийственный удар, попадая в центральный поток бушующих сегодня в Союзе дискуссий. Автор, опираясь на данные, опубликованные советскими экономистами типа Барсова, истолкованные западными специалистами вроде Миллара, пришел к выводу, что если брать не частную цифирь – количество зерна, отобранного государством у мужиков, а соединить все суммы, весь баланс расходов и доходов советской казны в совокупности, выяснится поражающая воображение картина: не только сельское хозяйство в общем итоге не дало казне за счет реквизиций через колхозные каналы дополнительных средств для развития промышленности, но, напротив, оно поглотило – пусть и небольшую – часть государственных доходов даже сверх того, что у мужиков удалось отобрать! Не только в социальном, значит, плане, когда в убытки следует занести гибель миллионов людей, то есть – потенциальных налогоплательщиков, потенциальных солдат (я умышленно учитываю только социальные и материальные убытки), или уничтожение лучших «мастеров урожая», как их называет сегодня советская пропаганда, то есть подрыв самой основы сельского хозяйства, но даже в плане примитивном, бухгалтерском, когда на одной половине страницы записаны доходы вследствие отобранного у производителей урожая, а на другой – расходы на создание штатной администрации там, где ее раньше не было (и не было в ней нужды), или на машины, которые заменили уничтоженную тягловую силу, или на капитальные вложения в новые хозяйства взамен разрушенных старых, и когда подбивается общий итог казенных расходов и доходов, выясняется, что и чисто бухгалтерски уничтожение миллионов людей принесло их палачам небольшие убытки! Или другой расчет, когда на одну половину занесли доходы от награбленного «кулацкого имущества», а на другую какой-то западный исследователь догадался занести примерные подсчеты расходов на депортацию миллионов людей, которые ведь не только перестали давать государству налоги и продукты, но, напротив, пусть впроголодь, но их приходилось кормить «пайкой», пока они не построят собственные дома, кормить вновь созданные комендатуры и прочих паразитов и т.д., и вдруг выясняется, что расходы-то на депортацию едва ли не превысили доходы от грабежа «кулацкого» имущества… Короче говоря, если и была создана новая индустрия в СССР 30-х годов, то вопреки коллективизации, а не благодаря ей (во всяком случае, в бухгалтерском аспекте этой проблемы)!
Не могу удержаться от рассуждения, уводящего несколько в сторону от прямого сюжета Р.Конквеста, но являющегося своеобразным продолжением его. Неосталинисты видят огромную заслугу Сталина в том, что благодаря его политике СССР выиграл войну против Гитлера. Но ведь на самом деле – и это становится ясным, когда в полную меру познаешь Запад здесь, за кордоном – войны, скорее всего, просто не было бы, как, возможно, не было бы и Гитлера у власти, если бы не политика Сталина! Советские политологи справедливо видят важнейшую причину гитлеровских успехов в ошибочной политике западных демократий, в мюнхенской политике умиротворения агрессора с целью повернуть его волчью пасть на восток и стравить со Сталиным, они называют такую политику предательской по отношению к коллективной безопасности в Европе и тем и оправдывают Сталина, в свою очередь предавшего собственных союзников и заключившего договор с Гитлером – тем более, что Красная армия в результате репрессий 1937–1938 гг. стала практически небоеспособной для серьезной войны в Европе и ей действительно требовалась некоторая передышка. Но при этом забывают, что западные политики, вроде Даладье и Чемберлена, тоже рассматривали безопасность Европы в комплексе, и уничтожение командного состава РККА воспринималось ими не как внутреннее лишь дело СССР, а как колоссальная военная победа Гитлера, выведшего без единого выстрела из строя едва ли не треть или более вооруженных антигитлеровских сил в Европе. Мюнхенская политика осуществлялась в атмосфере колоссального военного поражения антигитлеровских стран, когда лидерам западных демократий хотелось схватиться за якорь перемирия, предложенный уже победоносным Гитлером, ликвидировавшим руками Сталина одним махом почти весь Восточный союзный фронт. Не следует забывать, что только нам казалось, будто весь мир обманули московскими процессами, как и множество советских граждан: на самом деле политические лидеры западных стран не могли не знать, что люди, уничтожаемые в СССР, точно не были их агентами – уж в этом-то их не могли убедить ни Вышинский, ни Бернард Шоу, они-то знали, кто на них действительно работает, а кто нет; кроме того, имея информатором руководителя германской военной разведки Канариса и других высших офицеров вермахта, руководители западных стран отлично знали, что подсудимые на московских процессах и все прочие сталинские жертвы, ликвидированные одновременно с ними, не были германскими агентами тоже. Таким образом, верить московским прокурорам могла разве что наивная общественность, но европейские политики уже тогда знали правду: Сталин уничтожает в чудовищных масштабах собственный народ! На эти мысли меня навело то место в тексте Конквеста, где он рассказывает о корреспонденте «Нью-Йорк таймс» в Москве англичанине У.Дюранти. Будучи бесспорным дезинформатором читателей газеты, в которой он официально работал, Дюранти, оказывается, одновременно давал вполне достоверную информацию британскому посольству в Москве, и посольство, а вместе с ним и правительство Его Величества, ни в коем случае не заблуждались насчет сути и масштабов происходящего: об этом нам тоже сообщает Конквест, анализируя рассекреченные сегодня депеши посольства в Лондон. Отсюда явствует, что уже с начала 30-х годов Сталин и его помощники выглядели в глазах правителей Европы жуткими преступниками и убийцами миллионов советских граждан – стоит ли негодовать, что эти западные политики пытались отодвинуть опасность войны от своего порога, стравив два самых преступных правительства мира между собой! Эти европейские деятели, безусловно, ошибались, их политика оказалась близорукой, неумной – спору об этом нет! – но нельзя же забывать и той огромной доли вины за Мюнхен политических дельцов, которые создали СССР такую жуткую международную репутацию и вдобавок уничтожили собственную армию, совершив тем самым преступление не только против своего народа, но и против своих европейских коллег по системе коллективной безопасности. Что я не придумываю такой вариант задним умом, что он обдумывался уже тогда современниками той эпохи, доказывается недавно опубликованной в «Знамени» фразой маршала А.Василевского насчет того, что не будь тридцать седьмого – не было бы и сорок первого… А сегодняшний литературовед А.Ланщиков добавил: «Если бы не было коллективизации, то не было бы и лета 1941-го»[*].
С другой стороны, западные советологи, особенно эмигрантские, усматривают некий социальный смысл коллективизации в том, что после нее вся без исключения частная собственность попала в государственные руки, и это-то позволило Сталину создать в СССР «тоталитарный режим», Нет нужды опровергать эту концепцию, когда на наших глазах существовали тоталитарные режимы в Германии и Италии 30-х – 40-х годов с нетронутой частной собственностью. Конечно, управлять страной, когда вся собственность захвачена государством, проще, это требует как бы меньшего искусства от политика, но зато ведь и невыгоднее: многочисленные экономические рычаги одновременно связывают руки политическому руководству.
Еще одно: восторги неосталинистов по поводу превращения страны из аграрной в индустриальную выглядят со стороны невероятно наивными. По сути они сводятся к тому, что великая нация, обладавшая неисчислимыми природными и людскими ресурсами и многочисленными талантами, могла, оказывается, развить свое хозяйство на современный лад только потому, что во главе ее вдруг оказался гениально одаренный практической сметкой, но все же лишь безмерно волевой и расчетливый палач, который бичом своего гнева загонял Россию в индустриальную революцию. Между тем Р.Конквест доказывает, что любой из возможных альтернативных лидеров России понимал необходимость индустриализации, и споры между ними шли лишь о темпах, о сбалансированности ресурсов и инвестиций и о возможностях получения источников для ее развития. Автор мимоходом разоблачает мифы, запущенные в советское общество еще при Сталине, якобы Бухарин был противником индустриализации; или, наоборот, якобы Троцкий, Зиновьев и Каменев были сторонниками беспощадной политики по отношению к крестьянам (из этого диссиденты раньше делали вывод, а некоторые «мыслители» выводят и теперь, будто Сталин просто украл и осуществил на практике троцкистско-зиновьевскую программу). Оказывается, Бухарин ясно понимал необходимость индустриализации, и Троцкий с Зиновьевым и Каменевым вовсе не планировали «ликвидации кулачества как класса». Всем им было ясно, что за индустриализацию страны необходимо заплатить населению, и, конечно, главный счет должен лечь на плечи самой значительной его группы – крестьянства, однако эта ситуация не требовала обязательного разорения села: как доказывает тот же Конквест, и японские, и даже царские премьеры (Витте и Столыпин) давали возможность развиваться сельскому хозяйству, с тем, чтобы излишки средств выдаивать из него в виде земельной ренты и налогов и тратить на развитие необходимых государству индустриальных проектов. Кроме того, существовал еще один рациональный и опробованный Россией путь: инвестиция иностранных капиталов. Правые и левые спорили между собой о том, какой вариант из возможных путей развития более выгоден, но и те и другие не собирались покушаться на НЭП, и в этом смысле Сталин был абсолютно прав, утверждая истинное сходство позиций сочиненного им «право-троцкистского блока». Еще одно соображение: защитники Сталина до сих пор утверждают, что, несмотря на всю его жестокость, сталинский план индустриализации и коллективизации был жизненно необходим СССР ввиду ограниченности сроков модернизации страны перед лицом грозящей войны. Анализ А.Конквеста полностью опровергает эту концепцию неосталинистов: ведь если сельскохозяйственная разруха привела к тому, что не только нельзя было перекачивать средства из села в город, но, напротив, сельское хозяйство стало убыточным, значит, и промышленность тоже не могла не понести неизбежных при этом потерь. Если из общеэкономической сферы изымали тогда всех честных руководителей экономики, которые, как доказывает тот же Р.Конквест, великолепию понимали реальные возможности развития промышленности, если разрушали комплексный план индустриального развития, то стоит ли удивляться, что эпиграфом к этим главам Конквеста можно спокойно ставить фразу Солженицына из «Архипелага ГУЛАГа»: «Будет же кто-нибудь скоро писать и историю техники этих лет!.. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в четыре года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погибло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом». Такая книга еще не написана, но краткие ее тезисы содержатся в «Жатве скорби»…
(В этом месте статьи, где говорится о потенциальной реальности «право-троцкистского блока», даже если организационно он, по-видимому, не существовал, мне, еврею и израильтянину, хочется отметить некий третьестепенный в книге и истории, но интересный лично мне /как писал Твардовский в «Теркине»: «что ж, а я – не человек?»/ сюжет с теми украинскими еврейскими деятелями культуры и политики, что поддержали во второй половине 20-х – начале 30-х годов политику украинизации. Зачем Сталин, деятель с поразительным практическим чутьем политика, дал указание ее проводить – этот вопрос еще ждет своего исследователя, как и то, почему он для такой цели выбрал именно Кагановича. Но как бы то ни было, Каганович не только выполнил заказ босса, но и сумел привлечь к этому делу значительные силы украинского еврейства. Сюжет оставлен у Р.Конквеста без продолжения, но вдруг, через несколько глав, возникает в его истории разгрома украинской культуры и уничтожения самых, оказывается, опасных очагов вредительства некий «троцкистско-националистический блок». Достаточно немного копнуть источники, и обнаруживаешь, что троцкистами обозначали на Украине евреев, а националистами – украинцев, блоком же – их возникший реально союз по развитию местной культуры на украинском языке. В подвалах УкрГПУ и НКВД и на заснеженных полях Воркуты нашел бесследный конец этот социальный эксперимент, и только короткое замечание Р.Конквеста о реальной близости, вопреки укоренившимся мифам, правых и левых заставило меня поинтересоваться, что же это за такой «троцкистско-националистический блок» – и вдруг обнаружить неизвестную почти никому страницу истории моего народа.)
Главным отрицательным персонажем Р.Конквеста несомненно является Сталин, и тем выше следует оценить объективность автора: в его изображении Сталин – человек, который, как никто из его современников, умеет чувствовать, на что реально способна, чего в действительности хочет и что может осуществить его партия; он умеет чувствовать настроения руководимого им общества и с изумительным чутьем использовать их в своих интересах. Он повел за собой партийных ветеранов, типа Кирова и Калинина, он вдохновил молодых идеалистов типа Петра Григоренко или Льва Копелева, и если «политика есть искусство возможного», то именно Сталин, в отличие от всех своих коллег, понимал и чувствовал, что возможно и нужно его партии делать. Он умел играть на ее идеалах и предрассудках, темпераменте и молодости. Он первым понял, что марксова теория не соответствует реально возникшей в СССР исторической действительности, но он же первым понял, что отказ от нее означает политическое самоубийство партии, которого она вовсе не желала. Поэтому он отверг «перманентную революцию» Троцкого (истинную революцию!), потому что ничем, кроме неудачи, она и не могла завершиться, – и он же отверг прагматические оценки Бухарина, потому что если остаться прагматиками, тогда невольно и неизбежно возникает знаменитый вопрос: «Зачем мы убили царя и господина Рябушинского?» – ведь прагматично развивать страну могли и члены Учредительного собрания, для этого большевики вовсе не нужны. И Сталин, во всяком случае конквестовский Сталин, изобретает ту «перманентную революцию», которая привлекает к нему левых идеалистов – революцию, развивающуюся перманентно, но… только в одной стране, в Советской России. Перманентно изобретаются муляжи врагов – кулаки, подкулачники, украинские, прочие националисты, каждый год возникают все новые и новые враги народа и шпионы-вредители, на борьбу с которыми и мобилизуется революционная энергия масс. Троцкому не снилась подобная перманентность, обращенная на собственный народ! Здесь у меня снова невольно возникает параллель с нацистами, которые уничтожали евреев, уже изгнанных ими из науки, культуры, бизнеса, уже загнанных в гетто, уже лишенных голодом и террором политической воли – истребляли уже без всякой выгоды для нацистов; наоборот, истребление евреев приносило во время войны ужасный вред, ведь истреблялись рабочие руки, занятые на военных предприятиях, отвлекались немцы с фронта на карательные функции, крепла изоляция рейха в мире, подрывалась мораль граждан гибнущей Германии, до которых как-то доходили сообщения о преступлениях нацизма. Выгод не возникало никаких, даже от гипотетического наличия некоего «врага» для сплачивания нации, о чем и шла речь в начале движения – Германия тогда вела войну со всем миром, и реальный ее враг действовал на Востоке и Западе. Но инерция «перманентной революции» нацизма двигала Гитлером, Гиммлером и их подручными. Сравнение советской ситуации с нацистской придумано мной не случайно: оно постоянно присутствует в книге Р.Конквеста! Точно так же и Сталин вел свою партию на борьбу с перманентно возникавшими муляжами врага – с придуманным кулаком-эксплуататором, с мужиком-«итальянщиком», с украинскими лингвистами, с русскими писателями, еврейскими врачами и военнопленными всех национальностей. Только, в отличие от Гитлера, он не стал рискованно осуществлять «перманентку» во всемирном масштабе, а обрушил ее на своих подданных – и потому вышел победителем из игры. А если ценой его победы оказались жизни, по Конквесту, двадцати миллионов соотечественников (это только до войны!), что ж, как пелось, «нам нужна была одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». И здесь Р.Конквест примыкает ко взглядам Александра Зиновьева, который, ненавидя Сталина с юных лет, одновременно и бесстрашно признается: сила этого лидера состояла в том, что он какой-то гранью выражал дух революции, дух революционной партии, то есть, согласно этимологии этого слова, дух части своего народа.
Простой и лживой выглядела бы российская история последних семидесяти лет, если бы все кошмарные преступления, описанные в книге Конквеста, творило бы просто сборище подонков, возглавляемое величайшим негодяем истории. Нет, все было куда страшнее, потому что ни у какого обычного бандита не хватит ни воли для совершения подобных преступлений против человечества, ни исполнителей для них. Конквест не занимается дешевым обличительством – он выявляет корни исторических явлений колоссальных масштабов. Те ужасы, что описаны в обеих его книгах, в «Жатве скорби» и в «Большом терроре», стали возможны только потому, что были оправданы и более того – приказаны идеологией.
Марксовы схемы не случайно родились в Европе 19-го века, и уже тем более не случайно они получили неслыханную популярность во всем мире. Они в значительной мере отразили чувства народов, ведших тяжелую борьбу за свое повседневное существование, причем в условиях, когда освобождение от непосильных тягот, казалось, уже озарило исторические горизонты. Именно лучшие люди планеты, захваченные мечтой построить Царство Божие на земле, стали адептами нового учения: эсхатологические схемы немецкого философа (самое ненаучное в его системе) как раз и воспринимались как новая Тора. Это был вид религиозного увлечения масс, наподобие того, которое охватило трудовые массы Израиля в 1-м веке н.э. (сравнение принадлежит о.Сергею Булгакову). И как в ту эпоху, выбивались теперь исключительно решительные бойцы, заклинавшие свои народы: «Маркс сильнее Бога», как некогда их предшественники возглашали: «Бог сильнее Рима» – и силой своих кинжалов (их ведь некогда и прозвали «сикариями», то есть «кинжальщиками») понуждали неповоротливых крестьян к свободе. Некогда так погиб на алтаре своей эсхатологии древний Израиль, а в 20-м веке на алтаре марксовой эсхатологии кинжальщики всех народов мира принесли в жертву свои народы… Это ведь и называется тоталитаризмом (вовсе не обязательно марксистским – можно и нацистским, и хомейнистским и пр.), когда люди жертвуют собственную совесть, ум, честь кому-то вне себя: вождю, партии, государству… Взамен такой человек получает ощущение всесилия от причастности его к эрзац-божеству, к идолу – по Бэкону («Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» – помните слова?). Вот цитируется Конквестом типичное для той эпохи высказывание экономиста, академика Струмилина: «Наша задача состоит не в том, чтобы изучать экономику, а в том, чтобы изменить ее. Нас не связывают никакие законы». Нужно ли вспомнить рядом вечно цитировавшиеся слова Мичурина относительно законов природы…
Естественно, когда войско товарища Сталина устремилось на штурм законов и природы, и общества («Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики»), оно ощущало себя воюющим со всем миром, а «на войне как на войне», и если враг, в частности, собственный мужик, не сдается, его уничтожают (часто, если сдается – тоже, потому что нет охоты и времени возиться с отягощающими войско колоннами пленных). Но такое войско неизбежно обречено на историческое поражение: как бы ни экспериментировать по ходу истории на живом теле нации, подобно конквестовскому Ленину, как бы ни преодолевали косность исторической материи беспрецедентным в истории насилием, подобно конквестовскому Сталину, – законы природы и общества одолеть невозможно. Вот почему действия Сталина и руководимой им партии были не только преступными (у истории, вообще говоря, сложные отношения с преступлением, и нередко именно великие преступники становятся ее кумирами даже в среде жертв – вспомним Александра Македонского, ставшего эпическим героем в Средней Азии, или Тимура, воспетого окровавленным Востоком) – нет, эти действия были ошибочными, они не приносили реальных выгод никому, даже самой партии («Это хуже, чем преступление. Это ошибка», – слова Талейрана об убийстве герцога Энгиенского). Надо отдать партии должное: многие в ней почти сразу это поняли. Р.Конквест в доказательство цитирует Б.Пастернака, мне же хочется добавить к нему свидетельство высокопоставленного коммуниста, общавшегося почти исключительно с тогдашней высшей номенклатурой, – заведующего Ближневосточным отделом Коминтерна Иосифа Бергера (Железнякова-Барзилая): «С 1932 года, когда, по заявлениям Сталина, коллективизация увенчалась блестящим успехом, а по мнению почти всех остальных кончилась грандиозным провалом (курсив мой. – И. X.), правые не скрывали в частных беседах своего мнения по этому вопросу»[*].
Гениальность Сталина как политика заключалась в том, что он первым чувствовал любую угрозу для своей власти и находил нередко парадоксальные средства для парализации этих угроз. Для спасения от тех партийцев, которые помнили предостережения правых и потому понимали, к какой катастрофе он привел страну, Сталин успел использовать те силы зла и ненависти, которые партия разожгла в обществе. Он протянул свою царственную руку поверженным («сын за отца не отвечает») и позвал их на службу – мстить былым мучителям и вообще любым врагам нового босса. Миллионы этих вытолкнутых из деревень пареньков составляли самый мобильный слой общества, давно выломанный из старого гнезда и готовый на любое употребление. Многим из них вождь доверил важную функцию – отомстить обществу, которое допустило или даже активно содействовало гибели их отцов и односельчан. Руками сирот, лишенных родителей, то есть тех людей, кто естественно должен был прививать им мораль, честь, воспитать совесть, но был убит, – руками детей-жертв творились расправы над сумевшими сохранить относительное благополучие во время «жатвы скорби». Как потом солженицынский Тюрин, тоже жертва крестьянского потока, скажет про «поток тридцать седьмого»: «Есть ты, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь».
Я потому упомянул про этот аспект книги Конквеста, что именно наследники жертв «крестьянского потока» позже стали главными защитниками памяти палача собственных родителей. Я не о Шолохове только говорю, но, прежде всего, о современных писателях и редакторах, которых называют «патриотами». Ну, например, Иван Стаднюк, так часто цитируемый Конквестом, первым (или одним из первых, наряду с Михаилом Алексеевым) рассказавший в литературе о «терроре голодом», потом с гордостью признавался, что именно он тоже первым после хрущевских гонений на Сталина восславил вождя в литературе (его даже назвали «официальным биографом Сталина»). Раскройте первый попавшийся номер «Нашего современника», и вы даже сегодня, когда это отнюдь не поощряется, увидите в журнале, сделавшем упор на «русскую народность», упоминание, что Сталин был прав («вернее других трактовал Ленина») в середине 20-х годов, а потом ошибался лишь потому, что, подобно Троцкому и Бухарину, был махистом (А.Кузьмин), [*] или воркотню в ответ на критику сталинских достижений, вроде московского метро, которое сравнивается с тоже ведь «неправильно» и «антиинженерно» построенным Санкт-Петербургом («Не хочется вступать в… бесплодный спор о том, что в свое время мы 'неправильно' строили, 'неправильно' воевали…» – Вс. Сахаров[*]). Нет, я вовсе не хочу лягнуть лишний раз этих авторов, оперевшись на текст Р.Конквеста – повторяю, именно они или им подобные некогда с тем же мужеством решались поминать «террор голодом», как сегодня защищают сталинские заслуги. Мне видится здесь важный феномен: Сталин действовал не сам по себе, он выражал волю партии наиболее простым и убедительным способом, а воля партии тоже не возникала на пустом месте, она являлась отражением каких-то глубинных тенденций, во всяком случае, у значительной части народа. И нельзя не согласиться с Виктором Астафьевым, одним из самых значительных сегодня писателей, который иронически отозвался о критике Сталина в процессе сегодняшней перестройки, назвав ее «чем-то вроде громоотвода»: «А может быть, удастся самим чище выглядеть?»
Сила Р.Конквеста, мне кажется, состоит в том, что он показал: с точки зрения тех идей, тех ценностей, которые победили в конкурентной борьбе идей и ценностей в русском обществе 20-го века (в числе средств борьбы имелись, конечно, и сила оружия, и сила террора) Сталин являлся наилучшим выразителем партийных идей. Его победа была не случайна: он стал подлинным вождем партии, которую, правда, потом сам уничтожил и заменил другой, подлинным вождем которой тоже был. Но партия тоже выражала важные тенденции народной воли (именно об этом все время пишет в эмиграции А.Зиновьев!). И критика Сталина как какого-то извращенца ленинских идей бесплодна, она действительно призвана стать «громоотводом», по слову В.Астафьева. Поэтому-то главной мишенью Р.Конквеста является именно идеология общества, позволившая ему стать ареной самых страшных, наряду с нацистскими, преступлений 20-го века, а вовсе не товарищ Сталин и его верные соратники.
* * *
Долг требует от меня сказать о том, что я считаю недостатками монографии Р.Конквеста.
Но сначала о критике, появившейся в советской печати. В третьем номере «Вопросов истории» за 1988 год помещена небольшая статья автора, упомянутого на страницах «Кровавого посева», известного советского историка крестьянства В.Данилова, где он в пух и прах разносит подсчеты Р.Конквестом жертв коллективизации и террора голодом. При этом он якобы защищает честь и достоинство современного СССР от клеветнических нападок из-за рубежа, явно имея в виду мысль Конквеста из эпилога по поводу современного состояния дел в советской идеологии.
Нельзя придумать худшее унижение для сегодняшнего СССР, чем статья В.Данилова! Крупнейший, известнейший советский историк, специалист по данной проблеме, не может противопоставить данным Р.Конквеста ничего, кроме других подсчетов, сделанных опять-таки не им, а другими иностранными специалистами, учеными из школы Э.Г.Карра (т.н. «объективистами»). На глазах у советского читателя иностранцы спорят о важнейших для него проблемах (В.Данилов сам упомянул, что десятки раз спрашивали его студенты на лекциях «о десяти миллионах погибших в начале 30-х годов»), а самый крупный русский исследователь по данной теме всего-то и может, что цитировать иностранцев и присоединяться к одной из спорящих сторон. Поневоле вспомнишь горькие слова все того же В.Астафьева: «Дали у нас возможность выступить зарубежным общественным деятелям, зарубежным философам. И они черным по белому писали: 'Мы знаем, а вы не знаете'. И это действительно так».
Кто прав, а кто ошибается в споре демографов Запада, мне, неспециалисту, судить трудно. На первый взгляд, аргументы противников Конквеста поражают непониманием, какой-то поразительной глухотой к реалиям советской жизни. Например, они отрицают – по В.Данилову – особые условия террора голодом на Украине и Кубани тем, что говорят: голод ведь царил на территории, где проживало 77 миллионов человек, а на Украине жило всего 30, значит, он не носил специфически антиукраинского характера. Разумеется, голодали все или почти все. Недавно бывший первый секретарь ЦК Белоруссии Мазуров в книге воспоминаний «Незабываемое» сообщил, что в 1932–1933 годах голодала вся Белоруссия. Я очень хорошо помню, как отец моего друга, старый ленинградец, вспоминая годы первой пятилетки, вдруг сказал: «Как мы голодали, Боже, как мы тогда голодали!» Или прочитайте книгу В.Гусарова «Мой папа убил Михоэлса», где сын видного партийного функционера сообщает о внезапно свалившемся на их семью богатстве, после того как его папа стал первым секретарем Свердловского обкома ВКП/б/: отныне они в столовой имели возможность выбирать в меню один набор блюд из целых трех возможных!
Но от голода до террора голодом – дистанция громадная! Убивали голодом все-таки не всех, а только во вполне определенных регионах. И отрицать особое положение Украины (или, скажем, республики немцев Поволжья) можно примерно с тем же основанием, как отрицать геноцид европейского еврейства на том основании, что среди уничтоженных Гитлером евреи не составляли даже половины (примерно шесть миллионов убитых из общего числа в 14 миллионов). Тоже ведь логика…
Разумеется, всегда возможны разногласия в подсчетах жертв террора. Вот типичный пример. Р.Конквест зачисляет в жертвы террора 3,5 миллиона крестьян, высланных в ходе коллективизации, и позже, уже в ссылках, заключенных в лагеря и не вышедших оттуда. А его противники спокойно могут отрицать эти миллионы: ведь тех людей в лагерях никто умышленно не убивал, они сами поумирали, причем в разные и даже часто более поздние, чем 1939 год, даты: некоторые, наверно, дотянули аж первую десятку и получили вторую… Это тот же вопрос, что возникает при подсчете гитлеровских жертв – например, можно ли считать Анну Франк жертвой гитлеровцев: ее ведь не загнали в газовую камеру, она умерла от тифа, то есть от естественной причины… Не имея права вмешиваться в спор специалистов-демографов, я всецело, как рядовой читатель, присоединяюсь к методике Конквеста, а ведь разница при подсчетах, если учесть эти жертвы, достигнет нескольких миллионов человек!
Разумеется, в подсчетах Конквеста имеется уязвимое место: он вынужден опираться на официальные советские данные и на официальные цифры в официальных речах советских лидеров – а нам известно, как они лгут… Но ведь и его оппоненты опираются на те же советские данные: других просто нет. Очень смешно выглядит В.Данилов, когда одобряет оппонентов Конквеста за то, что они якобы используют данные советских ученых, а потом, в финале, вдруг признает, что «сложность проблемы состоит в том, что советские специалисты… над проблемами демографического развития СССР в 30-е – 40-е годы не работали и потому не могут дать сколько-нибудь ясных и полных ответов на возникающие вопросы»[*]. Так чего вообще стоят ссылки на ученых, которые этими проблемами не занимались?
Само собой, и я родом из СССР и понимаю мотивы В.Данилова. С одной стороны, ему нужно отмежеваться от Р.Конквеста, который ссылается на его собственные, даниловские, подсчеты потерь – еще более страшные, чем у автора «Жатвы скорби». Вот он и утверждает, что Р.Конквест недооценил общее число «неродившихся», зачислив их в «жертвы», недоучел, мол, что прирост населения в 20-х годах носил компенсаторный характер после потерь в гражданскую войну, и механически перенес этот же темп прироста на 30-е годы. Ну а прирост после потерь голода и до самого 1939 года разве не мог носить такой же компенсаторный характер, раз уж такая компенсация есть установленный демографами закон? Тем более, что он был подкреплен – экономически отменой карточной системы, а юридически – запретом на аборты и резким сокращением противозачаточных средств? Этот «компенсаторный прирост» как бы подсказал Данилову повод «дать отпор» зарубежному клеветнику. А с другой стороны – вот она появилась, желанная и долгожданная возможность – под видом полемики с зарубежным автором публично назвать и число потерь из его книги, и число у тех, кто ему возражает: вовсе до войны не 22 миллиона человек у нас погибло, как считает Конквест и его союзники, а всего-навсего пять миллионов с хвостиком. И от голода погибло вовсе не семь миллионов человек, а не более трех! Так-то-с, господа клеветники! Нужно жить в России, лишенной памяти, где студенты (я сам читал их записки) робко спрашивали лекторов: «Неужели правда, что в ходе коллективизации погибли сотни тысяч людей?», чтобы понять, какое впечатление на них произведут даже скромные цифры в пять миллионов, признаваемые Даниловым и его западными союзниками.
И все-таки цена, которую за такую публикацию пришлось В.Данилову заплатить, непомерно, недостойно велика: в этом я уверен. Более всего другого Россия нуждается в «зубрах», в тех несгибаемо честных людях, наподобие А.Солженицына, А.Сахарова, Д.Лихачева и многих, к счастью, других, которые способны сделаться опорными точками в той системе нравственных координат, вокруг которой способно вновь объединиться и восстановиться общество. В.Данилов, в самые трудные годы говоривший о коллективизации хотя бы часть, но необычайно важную часть правды, В.Данилов, на книгах которого воспитывались поколения советских историков, мог бы и должен бы остаться одним из таких опорных столпов общества. Увы… И когда читаешь это позорное, недостойное его таланта отмежевание от Конквеста, отмежевание, лживость и алогичность которого бросается в глаза с первого взгляда, понимаешь, как глубоки следы сталинизма в сегодняшней России и сколько еще предстоит пройти, чтобы одолеть в ней эту заразу.
* * *
Настоящие недостатки монографии Р.Конквеста (помимо тех мелочей, о которых я упомянул выше) проистекают, по моему мнению, из его личной высокой порядочности.
Когда высокопорядочный человек сталкивается с такой бездной горя и страданий, какие увидел Р.Конквест, изучая катастрофу российского крестьянства и украинского (и других упомянутых им в книге) народа, ему не хочется, по-человечески невозможным кажется заговорить о вине – жертв. И он молчит, хотя, думается, многое знает.
Например, Р.Конквест принимает как данность правоту аграрных требований российских крестьян, поэтому он, хоть и уклончиво, одобряет захват ими помещичьих имений в годы гражданской войны. Но совершенно ясно, что именно в те годы были заложены духовный и юридический фундаменты их собственной катастрофы.
С экономической точки зрения, крупные помещичьи и «кулацкие» хозяйства поставляли на рынок товарный хлеб. Уничтожив их, масса крестьянства сама должна была поставлять этот товарный хлеб городу, то есть сама превратила себя в объект реквизиций.
С юридической же точки зрения, захватив чужую собственность без выкупа и без юридически законного оформления национализации (то есть революционным путем, без закона Учредительного собрания) российское крестьянство ратифицировало на будущее конфискацию своей собственности. Лозунг «Грабь награбленное!», который оно с таким упоением подхватило вслед за Лениным, в силу исторического возмездия десять лет спустя обратился против него самого.
А с духовной точки зрения крестьяне понимали, что если они хотят владеть чужой собственностью и не выглядеть в своих глазах грабителями, эта собственность должна стать «общегосударственной», «общей», то есть как бы народной. Большевики победили белых потому (и это доказывает Конквест), что они посягали только на выращенный хлеб, но не самые основы порядка в деревнях, установленные мужиками. Как только большевики согласились отменить реквизиции, настало «хорошее время» – по определению Р.Конквеста (он, видимо, давно не перечитывал «Архипелаг ГУЛАГ», иначе у него не вырвались бы эти слова о «славных двадцатых»! Но ведь и то характерно: войдя в шкуру своих любимых героев, он искренне выразил их мироощущение в 20-е годы – хотя было же сказано: «Не рой другому яму!»). Это «хорошее время» стало временем крестьянской контрреволюции, направленной против поистине революционных преобразований, необходимых для развития деревни, задуманных и начатых Столыпиным. Конквест справедливо отметил, что в принципе и Ленин был согласен со Столыпиным, и с самого начала он не верил в будущее «Декрета о земле» и лишь хотел дать крестьянам время на своем опыте убедиться, что этот, их, путь решения аграрного вопроса, путь общинного земледелия – ошибочен. Может быть, этот величайший тактик революционных сдвигов был прав? Может, с великим трудом и натугой восстановив сельское хозяйство по собственному разумению, крестьяне почувствовали – их путь не ведет никуда, а вернуться назад, к Столыпину, после грабежей гражданской войны оказалось немыслимо, и тут-то их и подстерегали Сталин и его команда, переведя их на другой путь, который якобы сулил величайшие блага всем, и деревне тоже… Ведь если цитировать Шолохова, то надо цитировать все: его Давыдов не просто навязал казакам колхоз, но сумел-таки уговорить многих из них! А нынешний историк Ап.Кузьмин (из группы «российских патриотов») признает, что, может быть, общинный стиль жизни способствовал тому, что немалая часть мужиков приняла колхозный уклад…
Когда другой историк и писатель, Дмитрий Балашов, сегодня отыскивает причины, как он выразился, «сельскохозяйственной бодяги», то справедливо видит эти причины в существовании старинной общины. Но верный традиционной российской идеологической схеме, он сначала находит (у С.Веселовского), что в Московской Руси велось хуторное хозяйство, потом у Маслова узнает, что общину ввели лишь при Петре Первом, для облегчения сбора подушной подати, – и подводит нас к выводу, что, мол, это не народ, а опять-таки власть, государство навязало народу общинное существование, тормозившее развитие села. Может быть, и так, но в 1918–1920 годах не власть, а именно масса крестьянства разрушила и уничтожила частную собственность на селе, помещичью и хуторскую, и восстановила общину – тем подготовив фундамент собственной гибели. И то социальное успокоение большинства народа, отмеченное Конквестом, которое наступило после насильственной экспроприации крупной земельной помещичьей собственности, несло в себе зародыши будущей катастрофы всех российских земледельцев.
То же самое можно повторить о трагедии украинского народа, начиная с гетмана Хмельницкого и его атаманов, подведших свою страну под «северную лавину», и кончая украинской войной в 1918–1919 гг., этим жутким по жестокости и политической бессмысленности бунтом, который привел к новой национальной трагедии – к потере государственности. Не стоит говорить о неизбежности этой трагедии перед лицом более сильного врага, как это делает Конквест: и Финляндия, и Польша, и даже маленькая Эстония перед лицом того же самого врага сумели сохранить независимость. А вот украинцы свою свободу проиграли…
Легко объяснить все беды России и Украины 20-го века марксизмом-ленинизмом. Нет сомнения, что в самой значительной степени эти трагедии были санкционированы, а иногда и вызваны этой идеологией. Но будем справедливы: из бесчисленного множества марксовых положений в десятках томов можно было набрать каждому все, что душе хотелось. И почему-то в России не выбрали марксово положение об онтологической враждебности любой цензуры развитию общества («Дебаты о свободе печати»); или позабыли упомянутое Конквестом положение Энгельса о недопустимости для пролетариата насильственной социализации крестьян (что имеет прямое отношение к теме этой книги); или о невозможности победы социализма, то есть безгосударственного (или полугосударственного) строя в одной стране! Сапог стаптывается по ноге! Я вовсе не хочу злопыхательски обвинить в чем-то русский народ: почти все народы этой страны включая мой собственный (и в очень активной степени) участвовали в выработке той системы ценностей, согласно которой «воля народа была всегда права» (а народ, например, требовал отмены частной собственности на землю), что господствующие классы всегда виновны, что государство должно быть сильным и навязывать свою верную, истинную волю другим народам и т.п. Марксизм лишь лег на поверхность этой системы и санкционировал выводы, которые без него, возможно, и не были бы сделаны (а может, и были бы: обошелся же в Иране Хомейни без марксизма – хватило ислама). Важнейшая задача сегодняшних российских мыслителей, как представляется издалека, – пересмотреть многие исходные ценности не только марксова, но и традиционных российских мировоззрений, приведших народ к катастрофе. Потому что нет, не существует отрицательных черт характера у того или иного народа, а существует лишь дурное их использование, дурное, ложное направление, которого следует избежать, отыскав для народа новые и подходящие ему пути. Такой поиск уже начался в сегодняшней России, и в этом смысле в ней есть уже мыслители, более глубоко захватывающие философскую глубину проблемы, чем у Р.Конквеста: я имею в виду прежде всего И.Клямкина, автора замечательной статьи «Какая дорога ведет к Храму?» (ж-л «Новый мир», №11 за 1987 г.), – статьи, пока еще не понятой большинством современников, но положившей начало важнейшей дискуссии о прошлом и будущем российских народов.
Для того, чтобы здраво судить об этих важнейших национальных проблемах, российским мыслителям требуется основа – честная историческая фактология. «Историки, дайте нам статистику, дайте цифры, чтобы разогнать туман, который существует», – призвал на всесоюзном совещании историков и литераторов писатель Дмитрий Балашов[*]. Что ж, вот перед вами, Дмитрий, книга, в которой мужественный и нравственный исследователь собрал доступные в свободном мире цифры и факты, которых вы просите! Это все, что мы здесь можем сделать. Остальное зависит от вас.
P.S. Пo подсчетам советского литературоведа В.Кожинова, опирающегося на исследование демографа Б.Ц.Урланиса, общие потери населения СССР в 1932–1933 гг. оказались значительно выше данных Р.Конквеста, исчислявшего их «по минимуму» (см.: В.Кожинов. Правда и истина. Ж-л «Наш современник», №3, 1988, с.160–175).
М. Хейфиц
Основная библиография
Из семидесяти с лишним периодических журналов и вдвое большего числа книг, на которые мы ссылаемся в тексте, равно как и целого ряда рукописных источников, те, что перечислены ниже, являются наиболее рекомендуемыми. Они сами по себе освещают основные темы данной книги достаточно широко, а во многих случаях приводят дополнительные и весьма убедительные подробности, помимо тех, которые были использованы в этой книге. Читатель, разумеется, отсылается еще и ко многим официальным документам, периодике и другим основополагающим источникам, которые указаны в сносках.
Общие работы (на русском языке)
Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней. М., 1969.
Данолов В.П. (ред.) Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках М., 1963.
Ивницкий Н.А. Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в 1929–1932 гг.М., 1972.
Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР. М., 1966.
Немаков Н.И. Коммунистическая партия – организатор массового колхозного движения в 1929–1932 гг. М., 1966.
Постышев П.П. и Косиор С.В. Советская Украина сегодня. Нью-Йорк, 1934.
Селунская В.М. Рабочие-двадцатипятитысячники.М., 1964.
Сломить саботаж сева и хлебозаготовок, организованный в районах Кубани. М., 1932.
Трапезников С. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. М., 1976.
Общие работы (на английском языке)
Ammende, Ewald, Human Life in Russia. London. 1936.
Carynnyk, Marco, Commentary 76, November 1983; The Idler nos. 1 and 2,1985.
Chanberlin, William Henry, Russia's Iron Age. Boston, 1934.
Cohen, Stephen F., Bukharin and the Bolshevik Revolution. New York, 1983.
Conquest, Robert, ed., Agricultural Workers in the USSR, London, 1968.
Dalrymple, Dana, 'The Soviet Famine of 1932–34', Soviet Studies vol. 15, no. 3 January 1964.
Davies, R.W., The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet Agriculture 1929–1930. Cambridge, Mass, 1980.
Ellison, Herbert, «The Decision to Collectivize Agriculture», in Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin, ed. William Blackwell. New York, 1974.
Fainsod, Merle, Smolensk under Soviet Rule. Cambridge, Mass, 1958.
Jasny, Naum, The Socialized Agriculture of the USSR, Stanford, 1949.
Karcz, Jerzy, The Economics of Communist Agriculture. Bloomington, 1979.
Kostiuk, Hryhory, Stalinist Rule in the Ukraine, London, 1960.
Lewin, Moshe, Russian Peasants and Soviet Power. London, 1968.
Lewin, Moshe, Political Undercurrents in Soviet Economic Debates. Princeton, 1974.
Mace, James E., Communism and the Dilemmas of National Liberation. Cambridge, Mass, 1983.
Mitrany, David, Marx Against the Peasant, Chapel Hill, 1951.
Millar, James R., «Mass Collectivization and the Contribution of Soviet Agriculture to the First Year Plan, » Slavic Review 33, December 1974.
Olcutt, Martha Brill, The Collectivization Drive in Kazakhstan, Russian Review 40, April 1981.
Postyshev, P.P. and Kossior, S.V., Soviet Ukraine Today. New York, 1934.
Radkiy, Oliver H., The Unknown Civil War in Soviet Russia, Stanford, 1976.
Radziejowski, Janusz, «Collectivization in Ukraine in the light of Soviet Historiography, » Journal of Ukrainian Studies no. 9, Fall 1980.
Robinson, Geroid Tanquary, Rural Russia under the Old Regime. New York, 1932.
Sullivant, Robert S., Soviet Politics and the Ukraine. New York, 1962.
Swianiewicz, S., Forced Labour and Economic Development. London, 1965.
Taniuchi, Y., «A Note on the Ural-Siberian Method, » Soviet Studies vol. 33, no. 4, October 1981.
Ukraine: A Concise Encyclopedia, 2 vols. Toronto, 1963–1965.
Webb, Sidney and Beatrice, Soviet Communism: A New Civilization. Second edition. London, 1937.
Сборники отдельных свидетельств и документов (на немецком, украинском и английском языках)
Brueder in not. Berlin, 1933.
Chynchenko, Ivan M., Trahediya ditey v Ukraini v proklyatykh rokakh. Рукопись.
Dolot, Myron, Execution by Hunger. New York, 1985. Kalynyk, O., Communism the Enemy of Mankind. London,
1955. Harvard University Refugee Interview Project. Duplicated
Typescript. Pidhainy, S.O., editor in chief. The Black Deeds of the Kremlin. 2 vols. Toronto, 1953.. Soloviy, Dmytro, The Golgotha of the Ukraine. New York,1953. Verbytsky, M., Naybilshyy zlochyn Kremlya. London, 1952.
Описание событий бывшими партийными активистами
Григоренко, Петро. Мемуары. Лондон, 1977. (В русском издании – «В подполье можно встретить только крыс». Нью-Йорк, 1981.)
Копелев, Лев. Воспитание истинно верующего. Нью-Йорк, 1977.
Кравченко, Виктор. Я выбираю свободу. Нью-Йорк, 1946.
Описание событий в советских художественных произведениях
Астафьев, Виктор. Последний поклон. «Роман-газета», №№2–3,1979.
Белов, Василий. Кануны. М., 1976.
Гроссман, Василий. Все течет… Нью-Йорк, 1972.
Шолохов, Михаил. Поднятая целина. М., 1947.
Стаднюк, Иван. Люди – не ангелы. Лондон, 1963.
Примечания
…Берген-Бепьзен…
Берген-Бепьзен – один из самых страшных гитлеровских лагерей смерти. (Здесь и далее – прим. переводчика.)
(обратно)…Петр Григоренко и д-р Лев Копелев
П.Г. Григоренко (1907–1987) – бывший генерал-майор советской армии, ученый-кибернетик, впоследствии один из лидеров диссидентов 60-х гг. Многократно преследовался, в частности, за участие в борьбе за национальные права малых народов. Умер в Нью-Йорке.
Л.З. Копелев – советский литературовед, публицист. Видный диссидент 60-х – 70-х гг. Ныне живет в эмиграции в ФРГ.
(обратно)В 1927 году тот же писатель жаловался…
Опечатка. Следует читать 1972 год (OCR Д.Т.)
(обратно)…Маколей считал, что и пяти-то мало!
Т.Б. Маколей (1800–1859) – великий английский историк, публицист и общественный деятель, автор классической в английской историографии пятитомной «Истории Англии от восшествия на престол короля Якова Второго».
(обратно)…которых тогда определяли немецким словом «Naturvolk»
Сейчас принято использовать слово «этнос».
(обратно)…нацисты расправятся с Лидице
9–10 июня 1942 года нацисты разрушили эту чешскую деревню и уничтожили ее жителей в наказание за убийство уполномоченного германского Рейха в Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха.
(обратно)…raison d'etre
Смысл существования (франц.)
(обратно)На сегодня официальная точка зрения такова…
Книга написана Р.Конквестом в 1986 г.
(обратно)…ad hos
Для данной цели (лат.).
(обратно)…per capita
На душу населения (лат.)
(обратно)…предписывающий постоянное расселение всех кочевых племен на территории РСФСР
До 1936 г. Казахстан входил в РСФСР на правах автономной республики.
(обратно)…en masse
Все вместе, целиком (франц.).
(обратно)…потенциональных
Так в книге – Д.Т.
(обратно)…«модус вивенди»
Признание заинтересованными сторонами фактического состояния отношений (лат.).
(обратно)…отложилась
Так в книге – Д.Т.
(обратно)…и для Катыни
Катынь – лес на Смоленщине, где были обнаружены массовые могильники расстрелянных жертв ГУЛАГа, в том числе – 4,5 тысяч взятых Красной армией в плен польских офицеров.
(обратно)…«контрреволюционной группировкой Рютина»
Рютин М.Н. – партийный работник среднего звена (редактор «Красной Звезды»), составивший в 1932 году совместно со Слепковым документ, известный как «рютинская платформа». Она требовала восстановления внутрипартийной демократии, уменьшения капиталовложений в индустрию и разрешения крестьянам свободно выходить из колхозов, а также удаления Сталина из партийного руководства.
(обратно)Дед Леонида Плюща…
Плющ Леонид – украинский диссидент, публицист. В настоящее время живет в эмиграции в Париже.
(обратно)…на Конском рынке (Киний площ)
Правильно «Конный рынок» – Д. Т.
(обратно)…около станции Лизово
Возможно «Лосево» – Д.Т.
(обратно)…назван как-то двусмысленно – «Сын»
Недавно издательство OPI выпустило в свет книгу Ю.Дружникова, излагающую совершенно новую версию гибели П.Морозова.
(обратно)…получивших премию Пулитцера
Высшая награда журналистов в США.
(обратно)…то не было бы и лета 1941-го
См.: «Вопросы истории», №6. М., 1988, с.30.
(обратно)…правые не скрывали в частных беседах своего мнения по этому вопросу
Бергер И. Крушение поколения. Флоренция, изд-во «Аврора», 1973, с.131.
(обратно)А. Кузьмин
Кузьмин А. К какому храму ищем мы дорогу. Ж-л «Наш современник», №3. 1988, с.157
(обратно)Вс. Сахаров
Сахаров Вс. Репортаж из котлована. Там же, с.186.
(обратно)…и полных ответов на возникающие вопросы
Ж-л «Вопросы истории», №3, 1988, с.122.
(обратно)…писатель Дмитрий Балашов
Ж-л «Вопросы истории», №6, 1988, с.52
(обратно) (обратно)Ссылки на источники
Введение
1
Янош Радзиевский написал очень полезную работу о советских источниках этого периода: «Журнал изучения Украины», №9, 1980, с.3–17.
Когда в тексте приводятся легкодоступные и датированные декреты (указы), речи и доклады на съездах, пленумах и т.д., то, как правило, ссылок на источники нет.
(обратно)2
«Правда» от 8 октября 1965; «Сельская жизнь» от 29 декабря 1965, 25 февраля 1966; ж-л «Коммунист», №11, 1967.
(обратно)3
М.Алексеев. Хлеб – имя существительное. Ж-л «Звезда», №1, 1964, с 37.
(обратно)4
М.Алексеев. Сеятель и хранитель. Ж-л «Наш современник», №9, 1972, с.96.
(обратно)5
Цитируется по: Рой Медведев. Сталинизм. Под ред. Роберта К. Таккера. Нью-Йорк, 1977, с.212.
(обратно)6
М.Алексеев. Сеятель и хранитель, с.96
(обратно) (обратно)Часть первая. Главные действующие лица: Партия, крестьяне, народ
Гл. 1-я. Крестьяне и Партия
1
П.А.Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг.. М., 1964, с.10.
(обратно)2
Наум Ясный. Социалистическое сельское хозяйство СССР. Планы и их выполнение. Стэнфорд, 1949, с.137. (Далее «Н.Ясный…»)
(обратно)3
Я обязан этими сведениями профессору Михаилу Конфино.
(обратно)4
Марксизм и русское сельское развитие; проблемы и факты, опыт и культура. «Американский исторический обзор», т. 86, 1981, с.752.
(обратно)5
Там же, с.735–735.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Р.В.Дэвис. Социалистическое наступление. Коллективизация советского сельского хозяйства в 1929–1930 гг. Массачусетс, Кембридж, 1980, с.10, (Далее «Р.Дэвис…»)
(обратно)8
В.И.Ленин. ПСС. Изд. 5-е. Т. 16. М., 1958–1965, с.219. (Без специальной ссылки все работы В.И.Ленина далее приводятся по этому изданию.)
(обратно)9
Дороти Аткинсон. Конец русской земельной общины: 1905–1930. Стэнфорд, 1984, с.79. (Далее «Д.Аткинсон…»)
(обратно)10
Там же, с.95.
(обратно)11
Е.К.Манн. Марксизм и русское сельское хозяйство, с.751.
(обратно)12
Максим Горький. Ленин и русский крестьянин. Париж, 1925, с.140–141. Цитируется по: Моше Левин. Русские крестьяне и советская власть. Исследование коллективизации. Лондон, 1968, с.22. (Далее «М.Левин. Исследование…»)
(обратно)13
Максим Горький. О русском крестьянстве. Берлин, 1922, с.43–44.
(обратно)14
Г.В.Плеханов. Сочинения. Т. 10. М., 1920–1927, с.128.
(обратно)15
В.И.Ленин. Карл Маркс ПСС. Т. 26, с.74.
(обратно)16
См.: Гарри Уиллетс. Ленин и крестьянин. В сб.: «Ленин: человек, теоретик, вождь» под ред. Леонарда Шапиро и Питера Реддавея. Нью-Йорк, 1976, с.211–233. (Далее «Л.Шапиро и П.Реддавей. Ленин…»)
(обратно)17
Хрущев вспоминает: последнее завещание. Нью-Йорк, 1976, с.124.
(обратно)18
К.Маркс. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта, гл.7.
(обратно)19
Давид Митрани. Маркс против крестьянина. Чепелхилл, 1951, сб. (Далее: «Д.Митрани…»)
(обратно)20
КПСС. 8-й съезд. М., 1959, с.348; Ленин, т. 41, с.6.
(обратно)21
В.И.Ленин, т. 16, с.406.
(обратно)22
Там же, т. 17, с.29–32.
(обратно)23
Например: В.Ленин, т. 17, с.66 и т. 23, с.437.
(обратно)24
В.Ленин, т. 11, с.44, 77.
(обратно)25
Л.Шапиро и П. Реддавей. Ленин, с.215.
(обратно)26
В.Ленин, т.З, с.177–178.
(обратно)27
Цитируется по Алексу Ноуву в сб.: Л.Шапиро и П.Реддавей. Ленин, с.204.
(обратно)28
Р.Абрамович. Советская революция. Нью-Йорк, 1962, с.312. Он же. В двух революциях. Т.2. Нью-Йорк, 1944, с.148.
(обратно)29
«Северная коммуна» от 19 сентября 1918.
(обратно) (обратно)Гл. 2-я. Украинский национализм и ленинизм
1
Ж-л «Колокол», №34, с.274.
(обратно)2
Петро Григоренко. Мемуары. Лондон, 1983, с.345. (Далее «П.Григоренко…»)
(обратно)3
Микола Ковалевский. При джерелах боротьбы. Инсбрук, 1980.с.101.
(обратно)4
В.Ленин, т. 27, с.256.
(обратно)5
Там же, т. 25, с.258.
(обратно)6
Там же, с.269.
(обратно)7
Там же, т. 30, с.56.
(обратно)8
Там же, с.38–39, 43.
(обратно)9
См.: Карл Маркс. Революция 1848 г. Лондон, 1973, с.231.
(обратно)10
К.Маркс. Демократический панславизм. «Нойе рейнише цайтунг», февраль, 1849.
(обратно)11
Ф.Энгельс. Письмо к Карлу Каутскому от 7 февраля 1882 г. Маркс и Энгельс. Сочинения. Т. 10. Нью-Йорк, 1973, с.393.
(обратно)12
И.Сталин. Сочинения. Т.2. М., 1953–1955, с.321. (Далее «И.Сталин…»)
(обратно)13
Там же, т. 5, с.270.
(обратно)14
В.Ленин, т. 5, с.251.
(обратно)15
Там же, т. 24, с.143; т. 48, с.329.
(обратно)16
В.Ленин. Про Украину. Т.2. Киев, 1969, с.77.
(обратно)17
Перемога Великой Жовтневой социалистичной революции на Украини. Т.1. Киев, 1967, с.359–360.
(обратно)18
См.: Джеймс Мейс. Коммунизм и дилемма национального освобождения, Национальный коммунизм на советской Украине. 1918–1933. Массачусетс, Кембридж, 1983, с.24.
(обратно)19
В.Затонский. Национальна проблема на Украини. Харьков, 1926, с.33–40.
(обратно)20
Коммунистическая партия (большевиков) Украины. Одиннадцатый съезд. Харьков, 1927, с.174–175.
(обратно)21
КП/б/У, Второй съезд, с.123–124.
(обратно)22
КПСС, Восьмой съезд, с.91.
(обратно)23
В.Ленин, т. 45, с.105–106.
(обратно)24
Там же, т. 37, с.111, 120–121.
(обратно)25
«Известия» от 3 января 1919.
(обратно)26
Дж.Борис, Советизация Украины. Эдмонтон, 1980, с.215, 418.
(обратно)27
В.Ленин, т. 38, с.69.
(обратно)28
П.Феденко в кн.: «Пленные в СССР». Мюнхен, 1963, с.107.
(обратно)29
Х.Раковский. Борьба за освобождение деревни. Харьков, 1920, с.37.
(обратно)30
КПСС, Десятый съезд. М., 1963, с.202–203.
(обратно)31
КПСС, Двенадцатый съезд. М., 1968, с.504.
(обратно)32
Ж-л «Летопись революции», №6,1926.
(обратно)33
М.Равич-Черкасский. История коммунистической партии (большевиков) Украины. Харьков, 1923, с.241. (Далее «М.Равич-Черкасский…»)
(обратно)34
«Украинский историчний журнал», №4, 1968, с.117–119.
(обратно)35
Дж.Борис. Русская коммунистическая партия и советизация Украины. Докторская диссертация. Стокгольмский университет, 1960, с.275.
(обратно)36
КПСС, Двенадцатый съезд, с.504.
(обратно)37
Там же, с.529–530.
(обратно)38
Н.Н.Попов. Очерки истории коммунистической партии большевиков Украины. Харьков, 1929, с.277–280.
(обратно)39
КПСС, Десятый съезд, с.205.
(обратно)40
См.:О.О.Кучер. Проти большовистского повстання Украини в 1921. Литопис червоной калини, №№6,9, 1932.
(обратно) (обратно)Гл. 3-я. Революция, крестьянская война и голод (1917–1921)
1
Н.Ясный, с.144–145.
(обратно)2
Д.Митрани, с.59.
(обратно)3
Дж.Мейнард. Русский крестьянин и другие исследования. Лондон, 1943, с.120. (Далее «Дж.Мейнард, Русский крестьянин…»)
(обратно)4
Д.Аткинсон, с.179–181.
(обратно)5
В.Ленин, т. 37, с.179–181.
(обратно)6
Дж.Мейнард. Русский крестьянин, с.66.
(обратно)7
Д.Аткинсон, с.176.
(обратно)8
См: Речи В.Осинского и других на Восьмом, Девятом Десятом съездах партии и т.д.
(обратно)9
В.Ленин, т. 36, с.255, 265.
(обратно)10
С.Трапезников. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Т.2.М., 1976, с.188. (Далее «С.Трапезников…»)
(обратно)11
Ю.А.Поляков в кн.: История советского колхозного строительства в СССР. М., 1963. Цитируется Г.Уиллетсом в сборнике Л.Шапиро и П.Редаввея «Ленин», с.224.
(обратно)12
Р.Дэвис, с.51.
(обратно)13
«Знамя труда» от 16 мая 1918.
(обратно)14
В.Ленин, т. 36, с.408, 428, 488.
(обратно)15
В.Ленин, т. 43, с.219–220.
(обратно)16
В.М.Андреев. Под знаменем пролетариата. М., 1981, 36.
(обратно)17
Комитет бедноты. Сборник материалов. М., – Л., 11933, с.46–47; В.Ленин, т. 37, с.175–182.
(обратно)18
На аграрном фронте, №3, с.60.
(обратно)19
Д.Аткинсон, с.195.
(обратно)20
Ю.Семенко (ред.). Голод 1933 року в Украини. Мюнхен, 1963, с.44. (Далее «Ю.Семенко…»)
(обратно)21
В.Андреев.Под знаменем пролетариата, с.37.
(обратно)22
Там же, с.40.
(обратно)23
Там же, с.88.
(обратно)24
В. Ленин, т. 36, с.430.
(обратно)25
Там же, т. 44, с.157.
(обратно)26
Там же, с.156.
(обратно)27
Там же, с.157.
(обратно)28
Л.Крицман. Героический период русской революции. М., 1926, с.114–122.
(обратно)29
Цитируется по Э.Х.Карру. Большевистская революция, т. 2, с.169.
(обратно)30
М.Левин. Политические подводные течения в советских экономических дебатах, с.79. (Далее: «М.Левин…»); В.Ленин, т. 39, с.167, 274.
(обратно)31
Доклад на Восьмом съезде партии. КПСС. Восьмой съезд. М., 1959, с.354.
(обратно)32
Н. И. Подвойский. Контрреволюция за четыре года. М., 1922.с.4.
(обратно)33
И.Геллер и А. Некрич. Утопия у власти. Париж, 1982, с.85. (Далее «М.Геллер и А.Некрич…»)
(обратно)34
П.Г.Софинов. Очерки истории ВЧК. М., 1960, с.82; Джордж Леггет. Чека, Оксфорд, 1981, с.103.
(обратно)35
Дж.Леггет. Чека, с.З
(обратно)36
Ф.Пигидо-Правобережный. Сталинский голод. Лондон, 1953, с.20. (Далее «Ф.Пигидо-Правобережный…»)
(обратно)37
Документы Троцкого 1917–1922. Т.2. Гаага, 1964, с.278–279.
(обратно)38
М.Геллер и А.Некрич, с.80.
(обратно)39
Н.Я.Гущин. Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в сибирской деревне в 1926–1933. Новосибирск, 1972, с.89. (Далее «Н.Гущин…»)
(обратно)40
М.Геллер и А.Некрич, с.87.
(обратно)41
Об этих и других подробностях см.: Оливер Радкей. Неизвестная гражданская война в Советской России. Калифорния, Стэнфорд, 1976.
(обратно)42
М.Геллер и А.Некрич, с.87.
(обратно)43
Гражданская война и военная интервенция в СССР. М., «Энциклопедия», 1983, с.158.
(обратно)44
Цитируется по М.Геллеру и А.Некричу, с.89.
(обратно)45
Б.Пастернак. Доктор Живаго. Лондон, 1958, с.202.
(обратно)46
Дж.Леггет, с.329.
(обратно)47
Леонард Д. Герзон. Тайная полиция в ленинской России. Филадельфия, 1976, с.303. (Далее «Л.Герзон…»)
(обратно)48
М.Вербицкий. Наибильший злочин Кремля. Лондон, 1952, с.71. (Далее «М.Вербицкий…»)
(обратно)49
Там же, с.27–30.
(обратно)50
Цитируется по М.Геллеру и А.Некричу, с.87.
(обратно)51
Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 1959, с.172.
(обратно)52
О.И.Шкаратан. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. М., 1970, с.351–354.
(обратно)53
В.Андреев, с.173–174.
(обратно)54
И.Я.Трифонов. Классовая борьба в начале НЭПа. Л., 11964, с.90. (Далее «И.Трифонов…»)
(обратно)55
Г.Левич. Стрекопытовщина. М., 1923, с.36.
(обратно)56
«Известия ВРК». Кронштадт, 16 марта 1921.
(обратно)57
В.Ленин, т. 43, с.82.
(обратно)58
Франк Лоример. Население Советского Союза. Женева, 1946, с.40.
(обратно)59
Е.З.Волков. Динамика населения СССР. М., 1930, с.I 190.
(обратно)60
В.Ц.Урланис. Войны и народонаселение Европы. М., 1960, с.188.
(обратно)61
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.17. М., 1929, с.2
(обратно)62
М.Я.Лацис. Два года борьбы на внутреннем фронте. М., 1920, с.75.
(обратно)63
Так это формулирует Михаил Конфино.
(обратно)64
Так подсчитал Н.Ясный по различным советским источникам.
(обратно)65
Д.Митрани, с.277; Лига Наций. Доклад об экономическом положении в России. Женева, 1922, с.1–3.
(обратно)66
Голод в России, 1923, с.14.
(обратно)67
Лига Наций. Доклад об экономическом положении, с.55.
(обратно)68
Голод в России, с.32.
(обратно)69
Х.Х.Фишер. Голод в Советской России, 1919–1922. Нью-Йорк, 1927, с.252. (Далее «Х.Фишер…»)
(обратно)70
Итоги борьбы с голодом в 1921–1922, с.4, 335.
(обратно)71
Х.Фишер, с.262–263.
(обратно)72
Лига Наций. Доклад (отчет), с.57.
(обратно) (обратно)Гл. 4-ая. В тупике (1921–1927)
1
М.Левин, с.85.
(обратно)2
В.Ленин, т. 44, с.208, 487.
(обратно)3
Там же, т. 41, с.175–176.
(обратно)4
Там же, т. 45, с.369–377.
(обратно)5
М.Левин, с.94.
(обратно)6
Л.Шапиро и П.Реддавей. Ленин, с.209; Ленин В., т. 45, с.86–87.
(обратно)7
Ленин В., т. 44, с.161.
(обратно)8
М.Левин, с.89.
(обратно)9
В.Ленин, т. 43, с.206; т. 44, с 108.
(обратно)10
Там же, т. 43, с.383.
(обратно)11
Цитируется по ж-лу «Коммунист», №6, 1963, с.26.
(обратно)12
В.Ленин, т. 44, с.9.
(обратно)13
Там же, т. 44, с.428.
(обратно)14
Адам Улам. Ленин и большевики. Лондон, 1966, с.477.
(обратно)15
Григорий Костюк. Сталинистское правление на Украине. Исследование десятилетия массового террора 1929–1939.Лондон, 1960, с.80. (Далее «Г.Костюк…»)
(обратно)16
П. Григоренко.с.14.
(обратно)17
М.Левин, с.95.
(обратно)18
«Правда» от 24апреля 1925.
(обратно)19
Стефен Ф. Коэн. Бухарин и большевистская революция. Оксфорд, 1980, с.176.
(обратно)20
М.Левин, с.151, 154.
(обратно)21
Л. Троцкий. Третий Интернационал после Ленина. Нью-Йорк, 1936, с.270.
(обратно)22
Е.X .Карр. Большевистская революция. Т. 1. Нью-Йорк, 1950, с.355.
(обратно)23
М.Левин, с.148.
(обратно)24
«Бюллетень оппозиции», №9, с.6.
(обратно)25
И.Сталин, т. 8, с.60.
(обратно)26
Ежи Карч. Экономика коммунистического сельского хозяйства. Индиана, Блюмингтон, 1979, с.465, (Далее «Е.Карч…»)
(обратно)27
Цитируется по: Н.Ясный. Советские экономисты двадцатых годов. Кембридж, 1972, с.17.
(обратно)28
Н.Ясный, с.202.
(обратно)29
Построение фундамента социалистической экономики в СССР, 1926–1932. М., 1960, с.258–259.
(обратно)30
П. Григоренко, с.22.
(обратно)31
«Украинское ревю», №6, 1958, с.145–146.
(обратно)32
«Социалистический вестник», апрель 1961.
(обратно)33
«На аграрном фронте», №2, с.110.
(обратно)34
М.Левин, с.32.
(обратно)35
Н.Гущин, с.170.
(обратно)36
«Известия» от 17 декабря 1922.
(обратно)37
«Украинское ревю», №6, 1958, с.156.
(обратно)38
Там же, с.149–150.
(обратно)39
Верховный суд РСФСР в 1923 году. М., 1924, с.25. Доклад П. Стучки.
(обратно)40
М.Левин, с.87.
(обратно)41
См.особенно: «Украинское ревю», №6, 1958, с.126–169.
(обратно)42
См.: Д. Аткинсон, с.300.
(обратно)43
М.Левин, с.88.
(обратно)44
Там же, с.87.
(обратно)45
Н.И.Бухарин. Путь к социализму и рабоче-крестьянский блок. М., -Л., 1926, с.13.
(обратно)46
М.Левин, с.74.
(обратно)47
КПСС, 15-й съезд. М., 1962, с.1334.
(обратно)48
См.: М.Левин, с.73.
(обратно)49
Е.Х.Карр. Социализм в одной стране, т. 1, с.306, 324–325.
(обратно)50
А.И.Хрящева. Группы и классы в крестьянстве. М., 1924, с.6.
(обратно)51
КПСС, 15-й съезд, с.1183.
(обратно)52
Ю.В.Арутюнян. Социальная структура сельского населения СССР. М., 1971.с.26.
(обратно)53
Н.Ясный, с.176–179.
(обратно)54
М.Левин, с.176.
(обратно)55
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 7-е. Т. 2.М., 1954, с.258–267, 412–430.
(обратно)56
Цитируется по: Рой Медведев. К суду истории. Нью-Йорк, 1971, с.99.
(обратно)57
М.Левин, с.72–73.
(обратно)58
Там же.
(обратно)59
Там же, с 73.
(обратно)60
Цитируется по: М.Левин, с.47.
(обратно)61
П.И.Лященко. История народного хозяйства СССР. Т.3, М., 1956, с.240.
(обратно)62
М.Левин, с.48.
(обратно)63
Там же, с.5 2.
(обратно)64
В.Молотов на 15-м съезде КПСС. 15-й съезд, с.1182, 1126.
(обратно)65
«Большевик», №2, 1929, с.9О.
(обратно)66
«На аграрном фронте», №1, 1928, с.93.
(обратно)67
М.Левин, с.57.
(обратно)68
Пятый съезд Советов. Бюллетень, №16, с.4. 69М.Левин, с.71.
(обратно)69
Нет сноски
(обратно)70
Там же, с.54.
(обратно)71
Там же, с.163–164.
(обратно)72
И.Сталин, т. 8, с.99.
(обратно)73
«Правда» от 14 декабря 1927, от 6 января 1928.
(обратно)74
«Правда»от 30 сентября 1928.
(обратно)75
См.: Х.Дж.Эллинсон. «Славик ревю», 1961, с.189–202.
(обратно)76
Г.Костюк. Сталинистское правление на Украине, с.31.
(обратно)77
И.Сталин, т. 8, с.160.
(обратно)78
КПСС, 12-й съезд, с.573.
(обратно)79
Висти Всеукраинского Центрального Комитету Робитничих, Селянских и Черво– ноармейских Депутатив, №3, 1926, с.1–8. (Далее «Висти…»)
(обратно)80
М.Равич-Черкасский, с.5–6.
(обратно)81
В его беседах с Каменевым в июле 1928 г.
(обратно)82
И.Сталин, т. 8, с 158.
(обратно)83
В.Затонский. Национальная проблема на Украине, с.21.
(обратно)84
«Висти» 9 мая 1930.
(обратно) (обратно) (обратно)Часть вторая. Подавления крестьянства
Гл. 5-я. Нарастание противоречий (1928–1929)
1
М.Левин, с.36–37.
(обратно)2
Там же, с.176.
(обратно)3
КПСС, 15-й съезд, с.1134.
(обратно)4
Р.Дэвис, с.44.
(обратно)5
М.Левин. с.183.
(обратно)6
КПСС, 15-й съезд, с.1364.
(обратно)7
Е.Карч, с.55.
(обратно)8
Там же, с.463.
(обратно)9
Там же, с.52.
(обратно)10
Там же, с.37.
(обратно)11
Там же, с.38–39.
(обратно)12
Там же, с.41.
(обратно)13
Там же, с.40.
(обратно)14
А.М.Большаков. Деревня 1917–1927 гг. М., 1927, с.8–9.
(обратно)15
М.Левин, с.173.
(обратно)16
И.Сталин, т. 11, с.90–91.
(обратно)17
Там же, с.92, 101.
(обратно)18
Д.И.Голинков. Крушение антисоветского подполья в СССР. Т. 2. М., 1978, с.306. (Далее «Д.Голинков…»)
(обратно)19
С.Трапезников. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Т. 2, с.55–56.
(обратно)20
Д.Голинков, т. 2, с.306.
(обратно)21
И.Сталин.т. 11.с.3–11.
(обратно)22
Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. М., 1960, с.79.
(обратно)23
См.: Е.Карч, с.48.
(обратно)24
С.Трапезников, т. 2, с.32–24.
(обратно)25
Д.Голинков, т. 2, с.306–307.
(обратно)26
См.: М.Левин, с.285.
(обратно)27
Ю.Тануччи. Заметки об Урало-Сибирском методе. Советские исследования. Т. 33, №4, октябрь 1981, с.535.
(обратно)28
Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления 1927– 1935. М., 1957, с.105–106.
(обратно)29
Ю.Тануччи. Заметки об Урало-Сибирском методе, с.529–531.
(обратно)30
М.Левин, с.218.
(обратно)31
«Большевик», №2, 1928, с.65.
(обратно)32
И.Сталин, т. 11, с.14
(обратно)33
Там же, с.215.
(обратно)34
«Правда» от 15 июля 1928.
(обратно)35
«Правда»от 2 декабря 1928.
(обратно)36
И.Сталин, т. 11, с.167–169.
(обратно)37
Там же, с.179.
(обратно)38
Р.Медведев. К суду истории, с.80.
(обратно)39
«Плановое хозяйство», 03, 1929.
(обратно)40
М.Левин, с.174.
(обратно)41
Г.Ясный, с.223–227.
(обратно)42
«Правда» от 30 сентября 1928.
(обратно)43
И.Сталин, т. 11, с.15–16.
(обратно)44
«Социалистический вестник», №6, март, 1979, с.11.
(обратно)45
«Правда от 18 сентября 1928.
(обратно)46
«Правда» от 5 декабря 1928. 47И.Сталин, т. 11, с.288. 48Ю.Тануччи, с 525.
(обратно)47
Нет сноски
(обратно)48
Нет сноски
(обратно)49
Там же, с.526.
(обратно)50
Р.Дэвис, с.49.
(обратно)51
«Известия» от 12 и 13 января 1928
(обратно)52
«Деревенский коммунист», №4, 1928, с.37.
(обратно)53
«Бюллетень оппозиции», №3, 1929, с.16–26.
(обратно)54
«Деревенский коммунист», №11, 1928, с.26.
(обратно)55
«Большевик», №№13–14, 1928, с.74.
(обратно)56
«Правда» от 12 февраля 1929.
(обратно)57
«Правда» от 10 января 1929.
(обратно)58
«Большевик Казахстана», №12, 1928.
(обратно)59
«Народное просвещение», №6, 1928, с.79.
(обратно)60
Смоленский архив, цитируется по: Шейла Фицпатрик. Образование и социальная мобильность в Советской Союзе в 1921–1934 гг. Кембридж, 1979, с.161.
(обратно)61
«Правда» от 14 декабря 1928.
(обратно)62
Материалы по истории СССР. Т. 7. М., 1959, с.24. 3.
(обратно)63
Мерль Файнсод. Смоленск при советской власти. Массачусетс, Кембридж, 1958, с.240. (Далее «М.Файнсод…»)
(обратно)64
См.: Р.Дэвис, с.62.
(обратно)65
«Большевик», №№13–14, 1928, с.46–47.
(обратно)66
«Большевик», N» 19, 1928, с.20.
(обратно)67
И.Сталин, т. 11, с.45.
(обратно)68
КПСС в резолюциях, т. 2, с.534.
(обратно)69
Ю.Семенко, с.44.
(обратно)70
И.Сталин, т. 11, с.275.
(обратно)71
Д.Аткинсон, с.329.
(обратно)72
«Правда» от 18 сентября 1929.
(обратно)73
Р.Дэвис, с.98.
(обратно)74
Ю.А.Мошков. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР, 1929–1932. М., 1962, с.72–73. (Далее «Ю.Мошков…»)
(обратно)75
«Правда» от 19 июля 1929.
(обратно)76
М.Левин, с.321–322.
(обратно)77
И.Сталин, т. 12, с.106.
(обратно)78
«Правда» от 24 января 1929.
(обратно)79
М.Левин, с.453.
(обратно)80
Н.Ясный, с.305.
(обратно)81
И.Сталин, т. 12, с.92.
(обратно)82
См.: М.Левин, с.490.
(обратно)83
Там же, с.475.
(обратно)84
М.Вербицкий, с.28.
(обратно)85
Р.Дэвис, с.58.
(обратно)86
Научные записки. Т. 76. Днепропетровск, 1962, с.58.
(обратно)87
«Плановое хозяйство», Nc 8, с.57.
(обратно)88
Олекса Калиник. Коммунизм – враг человечества. Лондон, 1955, с.77. (Далее «О.Калиник…»)
(обратно)89
Д.Аткинсон.с.334.
(обратно)90
М.Левин, цитируется по: Шейла Фицпатрик (ред.). Культурная революция в России. Блюмингтон, 1978, с.59.
(обратно)91
Там же.
(обратно)92
См.: Р.Дэвис, с.140–142.
(обратно)93
«Правда» от 20 августа 1929.
(обратно)94
В.И.Варенов. Помощь Красной армии в развитии колхозного строительства. 1929–1933. Но материалам Сибирского военного округа. М., 1975. (Далее «М.Варенов…»)
(обратно)95
М.Левин, с.241.
(обратно)96
Д.Голинков.т. 2, с.308.
(обратно)97
Д.Аткинсон, с.336.
(обратно)98
Вестник Московского университета, №6, 1967, с.19 –Ч^
(обратно)99
Д.Голинков, т. 2, с.307.
(обратно)100
М.Файнсод, с.142–143.
(обратно)101
См., например: Р.Дэвис, с.82–85, 88–89. Ю 2м.Левин, с.120.
(обратно)102
Нет сноски
(обратно)103
А.Ангаров. Классовая борьба в советской деревне. М., 1929, с.76.
(обратно)104
КПСС в резолюциях, т. 1, с.546.
(обратно)105
Там же.
(обратно)106
М.Левин, с.120.
(обратно)107
«Большевик», №2, 1929, с.15.
(обратно)108
КПСС в резолюциях, т. 2, с.661.
(обратно)109
М.Левин, с.84.
(обратно)110
М.Файнсод, с.240.
(обратно)111
См.: Р.Дэвис, с.91.
(обратно)112
Н.И.Немаков. Коммунистическая партия – организатор массового колхозного движения в 1929–1932 гг. М., 1966, с.191. (Далее «Н.Немаков…»)
(обратно)113
«Правда» от 23 мая 1929.
(обратно)114
«Деревенский коммунист», №18, 1929, с.4.
(обратно)115
«Правда» от 9 октября 1929.
(обратно)116
Ю.Семенко, с.46.
(обратно)117
В.Белов. Кануны. М., 1976, с.116, 295.
(обратно)118
Р.Дэвис, с.90.
(обратно)119
Ф.М.Ваганов. Правый уклон в ВКП/б/и его разгром. М., 1970, с.238–241.
(обратно)120
«Правда» от 30июля 1929.
(обратно)121
«Правда», август 1929.
(обратно)122
Р.Дэвис, с.75.
(обратно)123
Там же, с.76.
(обратно)124
Там же, с.85.
(обратно)125
О.Калиник, с.25.
(обратно)126
Н.Немаков, с.198.
(обратно)127
Е.Карч, с.57.
(обратно)128
М.Левин, с.438.
(обратно)129
«Правда» от 27 июня 1929.
(обратно)130
М.Левин, с.107.
(обратно)131
Коллективизация сельского хозяйства, с.101–102.
(обратно)132
Там же, с.99.
(обратно)133
М.Левин, с.421.
(обратно)134
См.:Н.Ясный, с.28.
(обратно)135
Д.Аткинсон, с.371.
(обратно)136
«Правда» от 7 ноября 1929.
(обратно)137
«Экономическая жизнь», сентябрь, 1929, с.29; январь 1930, с.75.
(обратно)138
И.Сталин, т. 12, с.138.
(обратно)139
«Правда» от 19 февраля 1930.
(обратно)140
Р.У.Дэвис. Советский колхоз, 1929–1930. Массачусетс, Кембридж, 1980, с.4–5.
(обратно)141
Н.Ясный, с.З.
(обратно)142
Анналы Украинской академии искусств и наук в США, т.9, 1961, с.93. См. также: Е.Карч, с.48.
(обратно)143
«Вопросы истории», №5, 1963, с.22.
(обратно)144
См.: М.Левин, с.467.
(обратно)145
Р.Дэвис, с.4О 5.
(обратно)146
М.Левин, с.431–432, 435.
(обратно)147
Там же, с.431–432.
(обратно)148
«Правда» от 28 сентября 1929.
(обратно)149
«Правда» от 12 октября 1929.
(обратно)150
И.Сталин, т. 12, с.16О; «Правда» от 6 января 1930.
(обратно)151
Р.Дэвис, с.131.
(обратно)152
Цитируется по тому же источнику, с.148.
(обратно)153
М.Левин, с.453.
(обратно)154
Там же, с.346.
(обратно)155
«Правда» от 20 сентября 1929.
(обратно)156
Р.Дэвис, с.71.
(обратно)157
М.Левин, с.99–100.
(обратно)158
«Правда» от 7 ноября 1929.
(обратно)159
«Вопросы истории КПСС», №4, 1962, с.71.
(обратно)160
«Коммунист», №3, 1966, с.95.
(обратно)161
См.: Р.Дэвис, с.163–165.
(обратно)162
«Большевик», №22, 1929, с.17.
(обратно)163
«Большевик», №2, 1930, с.17.
(обратно)164
Р.Дэвис, с.7О.
(обратно)165
Н.Немаков, с.83.
(обратно)166
КПСС в резолюциях, т. 2, с.663.
(обратно)167
См.: Р.Дэвис, с.190–191.
(обратно)168
История коллективизации сильского господарства Украинской РСР. 1917–1937. Сб. документов и материалов в 3-х тт.Т. 2.Киев, 1962–1971, с.245.
(обратно)169
«Правда» от 29 декабря 1929.
(обратно)170
«Правда» от 25 ноября 1929.
(обратно)171
«Правда» от 30 октября 1929.
(обратно)172
Р.Дэвис, с.188–189.
(обратно)173
«Правда» от 29 декабря 1929.
(обратно) (обратно)Гл. 6-я. Судьба кулаков
1
«Правда» от 27 декабря 1929.
(обратно)2
Н.А.Ивницкий. Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в 1929–1932 гг. М., 1972, с.178. (Далее «Н.Ивницкий…»)
(обратно)3
«Правда» от 17 сентября 1929.
(обратно)4
Ю.Мошков, с.72.
(обратно)5
«Правда» от 21 января 1930.
(обратно)6
Цитируется по: Р.Дэвис, с.233.
(обратно)7
Например:И.Я.Трифонов. Ликвидация эксплуататорского класса в СССР. М., 1975, с.209.
(обратно)8
М.Левин в кн.:Ш.Фицпатрик, с.58–59.
(обратно)9
И.И.Слинько. Социалистична перебудова и технична перебудова сильского господарства Украйни в 1927–1932. Киев ,1961.
(обратно)10
Виктор Кравченко. Я выбираю свободу. Нью-Йорк, 1946, с.103. (Далее «В.Кравченко., .»)
(обратно)11
М.Левин, с.503.
(обратно)12
М.Левин в кн.: Ш.Фицпатрик.с.49.
(обратно)13
Н.Немаков, с.147.
(обратно)14
См.: Иван Стаднюк в ж-ле «Нева», №12, 1962.
(обратно)15
В.П.Данилов (ред.). Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. М., 1963, 85. (Далее «В.Данилов…»)
(обратно)16
Е.Карр. Социализм в одной стране, т. 1, с.99.
(обратно)17
С.О.Пидхайни. Черные дела Кремля. Т. 1. Детройт, 1955, с.502. (Далее «С.Пидхайни…»)
(обратно)18
«На аграрном фронте», №7–8, 1930, с.94.
(обратно)19
См.:Р.Дэвис, с.251.
(обратно)20
Н.Гущин, с.236.
(обратно)21
Там же.
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
«Правда» от 21 октября 1930.
(обратно)24
См.:Р.Дэвис, с.247–248.
(обратно)25
М.Файнсод, с.243.
(обратно)26
Р.Дэвис, с.236.
(обратно)27
Н.Ивницкий, с.214.
(обратно)28
Цитируется по: Р.Дэвис, с.234.
(обратно)29
Там же, с.236.
(обратно)30
«Вопросы истории», №4, 1962, с.68.
(обратно)31
Ю.В.Арутюнян. Социальная структура сельского населения СССР.М., 1971, с.26.
(обратно)32
Н.Немаков, с 147.
(обратно)33
«Вопросы аграрной истории». Вологда, 1868, с.49–50
(обратно)34
См.: С.Трапезников, т. 2, с.443.
(обратно)35
С.Пидхайни (ред.), т. 2, с.ЗО 6.
(обратно)36
Олекса Воропай. Девятый круг. Лондон, 1954, с.46. (далее «О. Воропай…»)
(обратно)37
И.Стаднюк в ж-ле «Нева», №12, с.200.
(обратно)38
Сергей Залыгин. На Иртыше. Избранные произведения.М., 1963.
(обратно)39
Виктор Астафьев. Последний поклон. «Роман-газета», №№2–3, 1979; он же. Царь-рыба. М., 1980; Борис Можаев. Из жизни Федора Кузькина. Ж-л «Новый мир», №7, 1966; он же. Лесная дорога. М., 1973; он же. Старые истории. М., 1978; он же. Мужики и бабы. М., 1979.
(обратно)40
М.Файнсод, с.241–244, 259.
(обратно)41
Там же.
(обратно)42
Василий Гроссман. Все течет… Нью-Йорк, 1972, с.140–14–1. (Далее «В. Гроссман…»)
(обратно)43
Н.Ивницкий; В.Данилов, с.105.
(обратно)44
И.Мошков, с.156–157.
(обратно)45
М.Вербицкий, с.48–50.
(обратно)46
С.Пидхайни, т. 1, с.466.
(обратно)47
Цитируется по: М.Левин, с.512–513.
(обратно)48
«Вопросы истории КПСС», №5, 1975, с.130.
(обратно)49
М.Файнсод, с.248.
(обратно)50
«Правда» от 25 февраля 1930.
(обратно)51
«Правда» от 2 февраля 1930; С., Пидхайни, т. 2, с.410–411.
(обратно)52
Р.Дэвис. Советский колхоз, с.80.
(обратно)53
В.Кравченко, с.104.
(обратно)54
«Правда» от 9 октября 1929; «Висти», 8 октября, 10 октября, 10 ноября 1929
(обратно)55
Н.Гущин, с.218.
(обратно)56
М .Файнсод, с.244.
(обратно)57
Собрание законов СССР 1932 г., №84, статья 516.
(обратно)58
«Правда» от 11 февраля 1930.
(обратно)59
С.Пидхайни, т. 2, с.198.
(обратно)60
О.Калиник, с.85.
(обратно)61
Там же.
(обратно)62
Фред Бил. Слова ниоткуда. Лондон, 1938. (Далее «Ф.Бил…»)
(обратно)63
Ю.Семенко, с.48.
(обратно)64
М.Вербицкий, с.68.
(обратно)65
История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР. М., 1963, с.277
(обратно)66
В.Варенов. Помощь Красной армии, с.39, 42, 59.
(обратно)67
«Правда» от 26января 1930.
(обратно)68
Н.Ивницкий, с.245.
(обратно)69
В.Данилов, с.239.
(обратно)70
Н.Йвницкий, с.299.
(обратно)71
Р.Медведев. К суду истории, с.140.
(обратно)72
М.Файнсод, с.263.
(обратно)73
И.Сталин, т. 13, с.253.
(обратно)74
Украина. Краткая энциклопедия. Т. 1. Торонто, 1963, 617.
(обратно)75
См.: Н.Ясный, с.312.
(обратно)76
М.Левин, с.507.
(обратно)77
Там же, с.508.
(обратно)78
С.Сваневич. Принудительный труд и экономическое развитие. Лондон, 1965, с.124. (Далее «С.Сваневич… «)
(обратно)79
«Правда» от 7 декабря 1929.
(обратно)80
«Вопросы историиКПСС», №5, 1975, с.130.
(обратно)81
Н.Гущин, с.242.
(обратно)82
Международная комиссия по советским концентрационным лагерям. Белая книга о советских концентрационных лагерях. Париж, 1951, с.32.
(обратно)83
И.Солоневич. Цитируется по: Б.Суварин. Сталин. Лондон, 1939, с.545.
(обратно)84
Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Лондон, 1978.
(обратно)85
В.Гроссман, с.141.
(обратно)86
Коллективизация сельского хозяйства в Западном районе РСФСР. М., 1968, с.246–250.
(обратно)87
М.Вербицкий, с.33.
(обратно)88
М.Файнсод, с.248.
(обратно)89
«Радянска Украина», №10, 1930.
(обратно)90
М.Гроссман, с.142–143.
(обратно)91
Там же, с.144.
(обратно)92
М.Файнсод, с.248.
(обратно)93
Например: С.Пидхайни, т. 1, с.468.
(обратно)94
См.: Адам Тавдул в «Нью-Йорк американ» от 22 августа 1935.
(обратно)95
В.Гроссман, с.144.
(обратно)96
С.Залыгин. На Иртыше, с.487.
(обратно)97
«Народное просвещение», №6, 1930, с.17.
(обратно)98
Там же, с.16.
(обратно)99
В.Гроссман, с.147.
(обратно)100
«Правда» от 1 февраля 1930.
(обратно)101
М.Файнсод, с.245.
(обратно)102
М.Файнсод, с.245.
(обратно)103
Проект опроса беженцев при Гарвардском университете. Рабочий раздел 1719. 104 В.Гроссман, с.141.
(обратно)104
Нет сноски
(обратно)105
В.Данилов, с.185.
(обратно)106
«Большевик», №5, 1930, с.41.
(обратно)107
М.Файнсод, с.245.
(обратно)108
Там же, с.180–182. 1
(обратно)109
там же, с.185–186.
(обратно)110
Там же, с.185.
(обратно)111
«Советская юстиция», №9, 1932, с.7.
(обратно)112
«Правда» от 15 января 1930.
(обратно)113
М.Файнсод, с.246.
(обратно)114
Г.Токаев. Сталин затевает войну. Лондон, 1951, с.6. (Далее «В.Токаев…»)
(обратно)115
В.Астафьев. «Роман-газета «, №2, 1979, с.29.
(обратно)116
«Большевик», №8, с.20.
(обратно)117
«Правда» от 5 марта 1930.
(обратно)118
см.: Р.Дэвис, с.257.
(обратно)119
М.Файнсод, с.148.
(обратно)120
Там же, с.54–55.
(обратно)121
М.Левин, с.27–28.
(обратно)122
Морис Хиндус. Великое преступление. Нью-Йорк, 1933, с.65. (Далее «М.Хиндус…»)
(обратно)123
М.Файнсод, с.250.
(обратно)124
О.Воропай, с.52.
(обратно)125
Там же, с.51.
(обратно)126
Лев Копелев. Воспитание истинно верующего. Нью-Йорк, 1978, с.270. (Далее «Л.Копелев…»)
(обратно)127
С.Пидхайни, т. 1, с.146.
(обратно)128
Там же.
(обратно)129
Ю.Семенко, с.27.
(обратно)130
Там же, с.23–24.
(обратно)131
В.Кравченко, с.88–90.
(обратно)132
С.Пидхайни, т. 2, с.624.
(обратно)133
Ю.Семенко, с.7.
(обратно)134
Там же.
С.Пидхайни, т. 1, с.198.
(обратно)135
Нет сноски
(обратно)136
Там же, с.191.
(обратно)137
Там же, с.467.
(обратно)138
Пережитое в России, 1931. Питтсбург, 1932, с.176 (анонимное).
(обратно)139
В.Гроссман, с.145.
(обратно)140
С.Пидхайни, т. 1, с.179.
(обратно)141
Там же, с.144.
(обратно)142
Там же, с.166.
(обратно)143
Там же, с.144; Александр Солженицын. Архипелаг Гулаг. Т. 3. Нью-Йорк, 1918, с.360. (Далее «А.Солженицын…»)
(обратно)144
Ф.Пигидо-Правобережный. Сталинский голод. Лондон, 1953, с.24.
(обратно)145
А.Солженицын, г, 3, с.360.
(обратно)146
Там же, с.361.
(обратно)147
с.Пидхайни.т. 1, с.182.
(обратно)148
В.Тендряков. Смерть. Ж-л «Москва», №3, 1968.
(обратно)149
В.Астафьев. Царь-рыба, с.266.
(обратно)150
В.Гроссман, с.1–7.
(обратно)151
С.Пидхайни, т. 1, с.174.
(обратно)152
Ю.Семенко, с.173.
(обратно)153
С.Пидхайни, с 166.
(обратно)154
Вольфганг Леонгард. Дитя революции. Чикаго, 1958, с.136. (Далее «В.Леонгард…»)
(обратно)155
«Вопросы истории», №11, 1964, с.59.
(обратно)156
С.Пидхайни.т. 1, с.145.
(обратно)157
«Вопросыистории», №11, 1964, с.61.
(обратно)158
С.Трапезников, т. 2, с.455.
(обратно)159
В.Леонгард.с.142.
(обратно)160
Ю.Семенко, с.10.
(обратно)161
Например: А, Солженицын, т. 3, с– 362.
(обратно)162
С.Пидхайни.т. 1, с.172.
(обратно)163
«Вопросы истории», №11, 1964, с.58.
(обратно)164
История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР, с.277.
(обратно)165
А.Солженицын, т. 3, с.359.
(обратно)166
С.Трапезников, т. 2, с.432.
(обратно)167
Н.Ивницкий, с.2О 4.
(обратно)168
В.Гроссман, с.148.
(обратно)169
«Вопросы истории», №11, 1964, с.61.
(обратно)170
Н.Ивницкий.с.310.
(обратно)171
И.Трифонов, с.369, 381–382.
(обратно)172
Н.Ивницкий, с.311.
(обратно)173
Джон Скотт. За Уралом. Блюмингтон, 1973, с.85.
(обратно)174
Джон Литлпейдж. В поисках советского золота. Нью-Йорк, 1937, с.80. (Далее «Дж.Литлпейдж…»)
(обратно)175
С.Пидхайни, т. 1, с.167.
(обратно)176
Б.Можаев. Старые истории, с.152.
(обратно)177
А.Солженицын, с.366.
(обратно)178
Там же.
(обратно)179
Н.Гущин, с.222.
(обратно)180
С.Пидхайни, т. 1, с.177.
(обратно)181
Там же, с.173.
(обратно)182
Там же, с.250.
(обратно)183
Там же, с.467.
(обратно)184
Там же, с.166.
(обратно)185
Там же, с.175.
(обратно)186
Там же, с.179.
(обратно)187
А.Солженицын, с.303.
(обратно)188
Леннард Губбард. Экономика советского сельского хозяйства. Лондон, 1939, с.177 (Далее «Л.Губбард…»); С.Сваневич, с.123.
(обратно)189
С.Пидхайни, т. 1, с.173.
(обратно)190
Илья Эренбург. День второй. Цитируется по: Анатолий Гольдберг. Илья Эренбург. Нью-Йорк, с.141.
(обратно) (обратно)Гл. 7-я. Крах сплошной коллективизации (январь–март 1930 г.)
1
И.Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950, с.29.
(обратно)2
История СССР, №5, 1982.
(обратно)3
Исаак Дейчер. Отверженный пророк. Оксфорд, 1963, с.123. (Далее «И.Дейчер…»)
(обратно)4
Александр Бармин. Тот, кто выжил. Нью-Йорк, 1945, с.123. (Далее «А.Бармин…»)
(обратно)5
История КПСУ.М., 1960, с.435.
(обратно)6
Например: «Правда» от 13 и 17 сентября 1929.
(обратно)7
«Вопросы истории №3, 1954, с.23.
(обратно)8
В.М.Селунская. Рабочие-двадцатипятитысячники. М., 1964, с.201. (Далее «В.Селунская…»)
(обратно)9
М.Файнсод, с.254–255.
(обратно)10
Материалы по истории СССР, т. 1, с.426, 434, 458.
(обратно)11
В.Селунская, с.201.
(обратно)12
Н.Немаков, с.179.
(обратно)13
«Вопросы истории», №5, 1947.
(обратно)14
Колхозы в 1930 г: итоги рапортов колхозов 16-му съезду ВКП/б/. М., 1931, с.224.
(обратно)15
В.Селунская, с.81, 187.
(обратно)16
Р.Дэвис, с.204.
(обратно)17
М.Файнсод, с.284.
(обратно)18
В.Кравченко, с.91–92.
(обратно)19
П.Григоренко, с.36.
(обратно)20
В.Гроссман, с.143.
(обратно)21
«Наш современник», №11, 1978, с.186.
(обратно)22
Александр Малышкин. Люди из захолустья. Сочинения. Т. 2. М., 1956, с.356.
(обратно)23
М.Файнсод, с.289.
(обратно)24
Там же, с.288.
(обратно)25
Там же, с.289.
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
В.Кравченко, с.117.
(обратно)28
«РадянськаУкраина», №10, 1930.
(обратно)29
«Правда» от 28 февраля 1930.
(обратно)30
Там же.
(обратно)31
П.Н.Шарова. Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области, 1928–1932. М., 1963, с.148. (Далее «П.Шарова…»)
(обратно)32
«Висти», 2июля, 1932.
(обратно)33
М.Файнсод, с.143.
(обратно)34
М.Хатаевич. Цитируется по: Р.Дэвис, с.226.
(обратно)35
Ю.Тануччи, с.540.
(обратно)36
М.Левин, с.393.
(обратно)37
М.Файнсод, с.149.
(обратно)38
Там же.
(обратно)39
Ю.Тануччи, с.540
(обратно)40
Там же, с.540–541.
(обратно)41
«Власть Советов», №20, 1930, с.9; №№22–23, с.20.
(обратно)42
«Плановое хозяйство», №2, 1929, с.111.
(обратно)43
М.Левин, с.93.
(обратно)44
Маркуша Фишер. Мои жизни в России. Нью-Йорк, 1944, с.49–50.
(обратно)45
Цитируется по: Ю.Тануччи, с.542.
(обратно)46
См.: О.Волков в ж-ле «Наш современник», №11, 1978, с.186.
(обратно)47
С.Пидхайни, т. 2, с.281–286.
(обратно)48
М.Вербицкий, с.47.
(обратно)49
С.Трапезников, т– 2, с.241.
(обратно)50
«Власть Советов», №№8–9, 1930, с.34; №№14–15, с.44–46 и №16, с.17–18.
(обратно)51
М.Вербицкий, с.56.
(обратно)52
Л.Губбард, с.115–116.
(обратно)53
См.: Р.Дэвис, с.256.
(обратно)54
«Правда» от 11 сентября 1929.
(обратно)55
И.Трифонов, с.297–298.
(обратно)56
Например: С.Пидхайни, т. 1, с.247.
(обратно)58
«Украинское ревю», №6, 1958, с.168.
(обратно)58
М.Файнсод, с.253.
(обратно)59
Там же, с.55.
(обратно)60
История селянства Украинской РСР. Т. 2. Киев, 1967, с.151.
(обратно)61
А.Яковецкий. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма. М., 1964, с.326.
(обратно)62
Г.Токаев, с.7.
(обратно)63
В.Кравченко, с.106.
(обратно)64
О.Калиник, с.40–42.
(обратно)65
Там же, с.42–43, иллюстр. 21.
(обратно)66
Там же, с.47–54.
(обратно)67
Л.Копелев, с.226.
(обратно)68
М.Файнсод, с.241.
(обратно)69
«Советская Украина». Киев, 1969, с.137.
(обратно)70
С.Пидхайни, т. 1, с.189.
(обратно)71
Цитируется по: Р.Дэвис, с.259.
(обратно)72
П.Шарова, с.155.
(обратно)73
С.Пидхайни, т. 1, с.167.
(обратно)74
О.Воропай, с.12.
(обратно)75
Там же, с.11.
(обратно)76
С.Пидхайни, т. 1, с.218.
(обратно)77
М.Вербицкий, с.22–23.
(обратно)78
С.Пидхайни, т. 1, с.219–220.
(обратно)79
См.: Г.Костюк, с.10–11, итоги нескольких сообщений (докладов) .
(обратно)80
О.Воропай, с.12.
(обратно)81
В зависимости от дефиниции «мятежа» и не обязательно одновременно.
(обратно)82
Н.Гущин, с.94–95.
(обратно)83
Там же, с.186–187.
(обратно)84
Там же, с.204–205.
(обратно)85
Там же, с.222–223.
(обратно)86
В.Варенов, с.45–46, 41.
(обратно)87
Александр Орлов.Тайная история сталинских преступлений. Лондон, 1954, с.41–42. (Далее «А.Орлов…»)
(обратно)88
Геноцид в СССР, с.22.
(обратно)89
Там же, с.61.
(обратно)90
«Заря Востока» от 6 июня 1930.
(обратно)91
Исаак Дейчер. Сталин. Лондон, 1949, с.325.
(обратно)92
И.Стаднюк, с.159.
(обратно)93
«Правда» от 9 января 1930; «Висти», 20 и 27 февраля 1930.
(обратно)94
О.Калиник, с.90–95.
(обратно)95
Там же.
(обратно)96
М.Файнсод, с.253.
(обратно)97
М.Вербицкий, с.71–72.
(обратно)98
С.Пидхайни, т. 2, с.398–399.
(обратно)99
Там же, с.306.
(обратно)100
П.Григоренко, с.35.
(обратно)101
«Правда» от 11 января 1930.
(обратно)102
Там же.
(обратно)103
Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Новосибирск, 1965, с.5, 82.
(обратно)104
Г.Токаев, с.7.
(обратно)105
В.Данилов, с.181.
(обратно)106
Александр Вайсберг. Обвиняемые. Нью-Йорк, 1951, с.146. (Далее «А.Вайсберг…»); и см.: СССР в цифрах. М., 1935, сс. 110, 180 и т.д.
(обратно)107
Александр Банков. Развитие советской экономической системы. Кембридж, 1946, с.196.
(обратно)108
У В.Данилова, с.45.
(обратно)109
Там же.
(обратно)110
«Вопросы истории», №5, 1963, с.27.
(обратно)111
«Правда» от 19 февраля 1930.
(обратно)112
«Правда» от 2 марта 1930.
(обратно)113
См.: Коэн. Бухарин, с.342.
(обратно)114
КПСС в резолюциях, т. 2, с 649– 651.
(обратно)115
И.Сталин. Ответ товарищам колхозникам, т. 12, с.214, 217.
(обратно)116
Там же.
(обратно)117
См.: Р.Дэвис, с.319–323, 325–326.
(обратно)118
В.Данилов, с.46.
(обратно)119
«Исторический архив», №2, 1962, с.197, цитируется по: Р.Медведев. К суду истории, с.88.
(обратно)120
Р.Дэвис, с.312.
(обратно)121
«Висти», 30 марта 1930; и см.: С.Пидхайни, т. 2, с.293–304.
(обратно)122
С.Трапезников, т. 2, с.251.
(обратно)123
Н.Немаков, с.4, 191.
(обратно)124
Очерки истории коммунистической партии Грузии. Т. 2.Тбилиси, 1963, с.105.
(обратно)125
Стенографический отчет Всесоюзного совещания по усовершенствованию кадров в исторической науке. М. –Л., 1964, с.299–300.
(обратно)126
Хрущев вспоминает, с.72. (Далее «Хрущев…»)
(обратно) (обратно)Гл. 8-я. Конец свободного крестьянства (1930–1932)
1
«Правда» от 2 марта 1950.
(обратно)2
Н.Ясный, с.32.
(обратно)3
«Правда» от 17 апреля 1930.
(обратно)4
Цитируется по: Р.Дэвис, с.290.
(обратно)5
Там же, с.291.
(обратно)6
Там же, с.296.
(обратно)7
Там же, с.297.
(обратно)8
Там же, с.296.
(обратно)9
Цитируется по тому же источнику, с.293.
(обратно)10
Например: С.Пндхайни. т. 1, с.292.
(обратно)11
Л.Копелев, с.189.
(обратно)12
Например: С.Пидхаини, т. 1, с.292.
(обратно)13
«Правда» от 17 апреля 1930.
(обратно)14
«Социалистический вестник», май 1930.
(обратно)15
См.: Р.Дэвис, с.330.
(обратно)16
«Правда» от 16окгября 1930.
(обратно)17
Ю.Семенко, с.52–54.
(обратно)18
С.Пидхайни, т. 1, с.177.
(обратно)19
П.И.Лященко. История народного хозяйства СССР, г. 3, с 280.
(обратно)20
Ф.Бил. Слово ниоткуда, с.242.
(обратно)21
Ю.Мошков. с.127.
(обратно)22
Там же, с.135.
(обратно)23
Там же, с.126, 129.
(обратно)24
Там же.
(обратно)25
Там же, с.124–125.
(обратно)26
Там же, с.196–197; Немаков, с.91.
(обратно)27
А.Вайсберг.с.196.
(обратно)28
Там же, с.189.
(обратно)29
Там же, с.192.
(обратно)30
С.Сваневич, с.114.
(обратно)31
Анн Рассвейлер. «Славик ревю», №42, лето 1983, с.234; цитируется по: А.М.Панфилов. Формирование рабочего класса СССР в годы первой пятилетки. 1928–1932. М., 1964; М.Романова. Организация отходничества на новом этапе. М.-Л. 1931.
(обратно)32
О.Калиник, с.93–94.
(обратно)33
«Большевик», №7, с.19.
(обратно)34
И.Сталин, т. 13, с.55.
(обратно)35
Дж.Миллар в «Славик ревю», №33, с.750–766; А.А.Барсон. «ИсторияСССР», №3, 1968, с.64–82; так же см.: Карч, с.457–458.
(обратно)36
Е.Карч, с.457.
(обратно)37
«Большевик», №7, 1930, с.18.
(обратно)38
Депеша британского посольства от 23 января 1933. См.: Государственный архив. Справочные книги №13. Архив Министерства иностранных дел, 1782–1, 1939. Лондон 1969.
(обратно)39
О.Калиник, с.20, 28.
(обратно)40
М.Файнсод, с.265.
(обратно)41
П.Григоренко, с.41.
(обратно)42
М.Файнсод, с.265–266.
(обратно)43
Тамже, с.255–257.
(обратно)44
Там же, с.450.
(обратно)45
П.П.Постышев и С.В.Косиор. Советская Украина сегодня. Нью-Йорк, 1934, с.31. (Далее «П.Постышев и С.Косиор…»)
(обратно)46
Рой и Жорес Медеведевы. Хрущев. Нью-Йорк, 1978, с.26 (Далее «Р. и Ж.Медведевы…»)
(обратно)47
П.Григоренко, с.39.
(обратно)48
Там же, с.38.
(обратно)49
Н.Гущин, с.231–232; Поль Б.Андерсон. Люди, церковь и государство в современной России. Лондон, 1944, с.86.
(обратно)50
М.Файнсод, с.257.
(обратно)51
П.Постышев и С.Косиор, с.21–22.
(обратно)52
Е.Карч, с.456.
(обратно)53
Там же, с.467.
(обратно)54
Н.Ясный, с.541.
(обратно)55
Советская историческая энциклопедия, т. 7, ст. «Коллективизация».
(обратно)56
Р. и Ж.Медведевы, с.27.
(обратно)57
Ю.Мошков, с.171.
(обратно)58
Там же, с.169.
(обратно)59
Р.Дэвис, с.367.
(обратно)60
См.: Всеволод Голубничий в сб.: «АнналыУкраинской академии искусства и науки в США». Т. 9. 1961, с.108.
(обратно)61
Советская историческая энциклопедия, т. 7, с.494.
(обратно)62
Р. и Ж.Медведевы. (так в книге, без указания страницы – Д.Т.)
(обратно)63
Хрущев, с.108.
(обратно)64
П.Постышев и С.Косиор, с.28.
(обратно)65
М.Вербицкий, с.17.
(обратно)66
В.Данилов, с.202.
(обратно)67
«Лос-Анджелес Ивиинг Гералд и Экспресс» от 1 мая 1935.
(обратно)68
А.Вайсберг, с.188.
(обратно)69
О.Калиник. с.61.
(обратно)70
Там же, с.60.
(обратно)71
Н.Ясный, с.251.
(обратно)72
Материалы по истории СССР. М., изд. АН СССР, 1959, вып. 7, с.365.
(обратно)73
М.Файнсод, с.302–303.
(обратно)74
Очерк истории СССР. Английское издание. М., 1960, с.297; см. также источники, цитируемые Голубничим в «Анналax Украинской академии…», с.78 и др.
(обратно)75
И.Сталин, т. 12, с.160.
(обратно)76
«Известия» от 24 января 1930.
(обратно)77
Численность скота в СССР. М., 1957, с.6.
(обратно)78
Леонид Плющ. На карнавале истории. Нью-Йорк, 1977, с.41. (Далее «Л.Плющ…»)
(обратно)79
«Правда» от 6 января 1930.
(обратно)80
Пережитое в России, с.179.
(обратно)81
Г.Токаев, с.7.
(обратно)82
Иван Солоневич. Утрата советского рая. Нью-Йорк, 1938, с.137.
(обратно)83
Колхозы в 1930 году: сталинский сборник. М., 1931, 110–111.
(обратно)84
Ф.Бил, с.246.
(обратно)85
Пережитое в России, с.197.
(обратно)86
Ф.Бил, с.246.
(обратно)87
«Звезда» от 5 ноября 1929. Цитируется по: Научные записки, т. 76. Днепропетровск, 1962, с.46.
(обратно)88
П.Постышев и С.Косиор, с.23–24.
(обратно)89
С.Пидхайни, т. 2, с.364.
(обратно)90
П.Постышев и С.Косиор, с.29.
(обратно)91
М.Файнсод, с.286.
(обратно)92
М.Левин, по Ш.Фицпатрик, с.64.
(обратно)93
Н.Ясный, с.32.
(обратно)94
См.: И.Винникова в ж-ле «Волга», №12, 1979, с.179.
(обратно)95
П.Григоренко, с.39.
(обратно)96
И.Сталин, т. 13, с.402.
(обратно)97
Там же, с.213–214.
(обратно)98
Н.Гущин, с.242.
(обратно)99
В.Данилов, с.58.
(обратно)101
«Висти», 19 марта 1930.
(обратно)101
Меньшевистский процесс. Л., без даты, с.59, 62; Итоги выполнения Первого пятилетнего плана. М., 1934, с.103–105; Роберт Конквест. Большой террор, 1973, с.736.
(обратно)102
Р.Медведев. К суду истории.
(обратно)103
Н.Ясный с.29–30.
(обратно)104
Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Т. 5. Новосибирск, 1965, с.83.
(обратно)105
А.Шлихтер. Выбрани твори. Киев, 1959, с.533.
(обратно)106
С.В.Шольц. Курс сельскохозяйственной статистики. М., 1945, с.37. (Цитирует Н.Ясный.)
(обратно)107
Н.Ясный, с.10.
(обратно) (обратно)Гл. 9-я. Средняя Азия и трагедия казахов
1
В.Данилов, с.245.
(обратно)2
Там же, с.252.
(обратно)3
Там же, с.492.
(обратно)4
Б.Ф.Тулепбаев. Торжество ленинской идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. М., 1971, с.199. (Далее «Б.Тулепбаев…»)
(обратно)5
Ю.А.Поляков и А.И.Чугунов. Конец басмачества. М., 1976, с.144–151. (Далее «Ю.Поляков и А.Чугунов…»)
(обратно)6
Ю.Поляков и А.Чугунов, с.156.
(обратно)7
Там же.
(обратно)8
Там же; Виктор Серж. От Ленина к Сталину, с.61.
(обратно)9
В.Данилов, с.408.
(обратно)10
Марта Олкут. Процесс коллективизации в Казахстане. «Русское ревю», 40, апрель 1981, с.136. (Далее «М.Олкут…»)
(обратно)11
М.Олкут, с.123.
(обратно)12
Коллективизация сельского хозяйства Казахстана.Т. 2. Алма-Ата, 1967, с.222.
(обратно)13
А.Кучкин. Советизация казахского аула. М., 1962.
(обратно)14
«Революция и национальности», №5, 1932, с.59; Олкут, с.132.
(обратно)15
КПСС в резолюциях, т. 2, с.649–651; «Вопросы истории», 1960, №2, с.36.
(обратно)16
М.Олкут, с.142.
(обратно)17
Там же, с.140.
(обратно)18
«Большевик Казахстана, », №12, 1938; Торжество ленинских идей, с.136–137.
(обратно)19
Тулепбаев, с.202.
(обратно)20
М.Олкут, с.133.
(обратно)21
Коллективизация сельского хозяйства Казахстана, 1т. 2, с.287.
(обратно)22
М.Олкут, сД 29.
(обратно)23
Б.Тулепбаев, с.206.
(обратно)24
Там же, с.203, 206; Олкут, с.129–130.
(обратно)25
А.Б.Турсунбаев. Победа колхозного строя в Казахстане. Алма-Ата, 1957, с.149. (Далее «А.Турсунбаев…»)
(обратно)26
М.Олкут, с.130.
(обратно)27
А.Турсунбаев, с.144–148.
(обратно)28
М.Олкут, с.127.
(обратно)29
Ю.Поляков и А.Чугунов, с.154.
(обратно)30
«Красная звезда» от 10 апреля 1984.
(обратно)31
См.: М.Олкут, с.138.
(обратно)32
С.Пидхайни, т. 2, с.243.
(обратно)33
«Большевик Казахстана», №1, 1939, с.87.
(обратно)34
Коллективизация сельского хозяйства Казахстана, т. 2, с.306.
(обратно)35
М.Олкут, с.137.
(обратно)36
Там же, с.131.
(обратно)37
«Правда» от 29 ноября 1931.
(обратно)38
М.Олкут, с.133–134.
(обратно)39
С.Пидхяйни, т. 2, с.243.
(обратно)40
«Большевик Казахстана», №12, 1932, с.13.
(обратно)41
Пережитое в России, с.197.
(обратно)42
В.Данилов, с.293–294.
(обратно)43
«Большевик Казахстана», №№9–10, 1937, с.47.
(обратно)44
М.Олкут, с.134.
(обратно)45
Коллективизация сельского хозяйства Казахстана, т 2, с.142.
(обратно)46
М.Олкуг, с.133.
(обратно)47
Там же, с.135.
(обратно)48
В.Данилов, с.293.
(обратно)49
М.Олкут, с.128.
(обратно)50
Там же, с.139.
(обратно)51
Б. Тулепбаев, с.203.
(обратно)52
Ловин, директор Челябинского тракторного завода. Цитируется по: А.Дж. Тавдул в «Нью-Йорк Американ», 19 и 20 августа 1935.
(обратно)53
Хрущев…, с, 72.
(обратно)54
Роберт Рупен. Как в действительности управляется Монголия. Стэнфорд, 1979, с.55 (Далее «Р.Рупен…»)
(обратно)55
«Правда» от 2 ноября 1935.
(обратно)56
С.Пидхайни, 2 ноября 1935.
(обратно)57
Дж.Литлпейдж.с.109–111.
(обратно)58
Р.Pyпен, c. 55.
(обратно)59
П.Григоренко, с.48.
(обратно) (обратно)Гл. 10-я. Церкви и люди
1
М.Левин, с.23.
(обратно)2
Д.Аткинсон, с.175.
(обратно)3
«Правда» от 18 апреля 1928
(обратно)4
«Правда» от 20 апреля 1922.
(обратно)5
Н.Орлеанский (ред.). Закон о религиозных объединениях РСФСР. М., 1930.
(обратно)6
М.Файнсод, с.308.
(обратно)7
Р.Медведев. Сталин и сталинизм. Лондон, 1979, с.76.
(обратно)8
Цитируется по: Р.Дэвис, с.229.
(обратно)9
«Правда» от 11 января 1929.
(обратно)10
Например: Р.Дэвис, с.246.
(обратно)11
Н.Ивницкий, с.130.
(обратно)12
Р.Дэвис, с.96–97.
(обратно)13
С.Пидхайни, т. 1, с.493.
(обратно)14
М.Вербицкий, с.51.
(обратно)15
С.Пидхайни, т. 1, с.271.
(обратно)16
Там же, с.499.
(обратно)17
Там же, с.260.
(обратно)18
Там же, с.261.
(обратно)19
М.Файнсод, с.254.
(обратно)20
Р.Медведев. О Сталине и сталинизме, с.70.
(обратно)21
«Висти», 10 октября 1929.
(обратно)22
Например: Ю.Семенко, с.46.
(обратно)23
«Антирелигиозник», т. 1, с.459.
(обратно)24
С.Пидхайни, т. 1, с.459.
(обратно)25
Там же, с.502.
(обратно)26
Р.Медведев. О Сталине и сталинизме, с.70.
(обратно)27
М.Файнсод, с.247.
(обратно)28
«Висти», 22–26 декабря 1929.
(обратно)29
«Висти», 5 января 1930.
(обратно)30
М.Вербицкий, с.69.
(обратно)31
С.Пидхайни, т. 1, с.501.
(обратно)32
В.Кравченко, с.127
(обратно)33
«Висти», 1 января 1930.
(обратно)34
«Правда» от 22 февраля 1930.
(обратно)35
«Висти», 5 января 1930.
(обратно)36
«Висти», 22 декабря 1929.
(обратно)37
«Правда» от 27 ноября 1929.
(обратно)38
«Правда» от 30 ноября 1929.
(обратно)39
«Висти», 1 января 1930.
(обратно)40
«Правда» от 12–15 января 1930.
(обратно)41
КПСС в резолюциях, т. 2, с.670–671.
(обратно)42
С.Пидхайни, т. 1, с.508.
(обратно)43
Там же, с.505.
(обратно)44
Р.Медведев. О Сталине и сталинизме, с.71.
(обратно)45
В.Распутин. Прощание с Матерой. В сб.: Повести. М., 1976.
(обратно)46
А.Вайсберг, с.461.
(обратно)47
И.А.Лавров. В стране экспериментов. Харбин, 1934, 216.
(обратно)48
ПольБ.Андерсон.Народ, церковь и государство в современной России. Нью-Йорк, 1941, с.86.
(обратно)49
Большая Советская Энциклопедия. Изд. 1-е, т. 23, с.811.
(обратно)50
«Украинское ревю», №6, с.153.
(обратно)51
«Висти», 26–27 февраля 1930.
(обратно)52
«Висти», 22–26 декабря 1930.
(обратно)53
С.Пидхайни, т. 1, с.494.
(обратно)54
Там же, с.497.
(обратно)55
Григорий Лузницкий. Преследование и разрушение украинской церкви русскими большевиками. Нью-Йорк, 1960, с, 43–44. (Далее «Г.Лузницкий…»)
(обратно)56
Г .Лузницкий, с.59–60.
(обратно)57
Ж-л «Огонек», №46, 1963, с.30–31.
(обратно) (обратно) (обратно)Часть третья. Террор голодом
Гл. 11-я. Штурм Украины (1930–1932)
1
«Висти», 14 марта 1930.
(обратно)2
«Червоный шлях», №4, 1930, с.141–142.
(обратно)3
С.Пидхайни, т. 1, с.27.
(обратно)4
Ю.Семенко, с.11.
(обратно)5
«Украинское ревю», №6, 1958, с.156.
(обратно)6
И.Сталин, т. 7, с.71.
(обратно)7
«Пролетарская правда» от 22 января 1930. Цитируется по: Дмитрий Соловей. О тридцатой годовщине великого голода, содеянного человеком на Украине. Украинский ежеквартальник, 1963, с.7.
(обратно)8
Например: М.Вербицкий, с.28.
(обратно)9
Там же, с.65.
(обратно)10
КПСС. 17-й съезд. М., 1934, с.199.
(обратно)11
О.Воропай, с.60.
(обратно)12
Например, С.Сваневич, с.120.
(обратно)13
П.Григоренко, с.35–36.
(обратно)14
Проект опроса беженцев при Гарвардском университете, с.482.
(обратно)15
«Правда» от 17 января 1933.
(обратно)16
«Правда» от 9 октября 1929.
(обратно)17
«Правда» от 5 сентября, 6 октября, 6 ноября 1929
(обратно)18
Хрущев, с.120.
(обратно)19
П.Григоренко, с.36.
(обратно)20
Там же, с.37.
(обратно)21
Василь Гришко. Москва слезам не верит. Нью-Йорк, 1963; он же. Украинский Холокост, 1933, Нью-Йорк – Торонто, 1978.
(обратно)22
С.Пидхайни, т. 1, с.2–3.
(обратно)23
Засухи в СССР. Ред. А.И.Руденко. Л., 1958, с.164.
(обратно)24
«Правда» от 9 июня 1932.
(обратно)25
«Висти», 11 июля 1932.
(обратно)26
«Сучасна Украина», 9августа, 1953, с.6.
(обратно)27
«Правда» от 14 и 15 июля 1932.
(обратно)28
«Правда» от 7 июля 1932.
(обратно)29
«Висти», 17 июля 1932.
(обратно)30
См.: «Виста», 5 июля, 28 июля 1932. Цитируется по: Г.Костюк, с.17.
(обратно)31
Например, Д.Соловей. Украинский ежеквартальник, №19, 1963.
(обратно)32
С.Пидхайни, т. 2, с.107.
(обратно)33
См.: И.Стаднюк в ж-ле «Нева», №12, 1962.
(обратно) (обратно)Гл. 12-я. Буйство голода
1
В.Гроссман, с.148.
(обратно)2
И.Сталин, т. 13, с.213–214, 402.
(обратно)3
А.Я.Вышинский. Революционная законность на современном этапе. М., 1933, с.99–103. (Далее «А.Вышинский…»)
(обратно)4
«Висти», 11 июня 1933.
(обратно)5
«Журнал де Женев», 26 августа 1933.
(обратно)6
«Висти», 27 августа, 14 сентября, 30 ноября 1932; 2 февраля 1933.
(обратно)7
С.Пидхайни, т. 1, с.205.
(обратно)8
«Лос-Анджелес Геральд», 22 февраля 1935.
(обратно)9
О.Воропай, с.249.
(обратно)10
С.Пидхайни, т. 1, с.249.
(обратно)11
Н.Немаков, с.254.
(обратно)12
Ф .Бил, с.247.
(обратно)13
М.Вербицкий, с.66.
(обратно)14
С.Пидхайни, т. 2, с.450–452.
(обратно)15
Ф.Пигидо-Правобережный, с.45.
(обратно)16
«Украинское ревю», №6, 1958, с.134.
(обратно)17
О.Воропай, с.54.
(обратно)18
Там же, с.55.
(обратно)19
С.Пидхайни, т. 2, с.395–359.
(обратно)20
«Большевик Украины», №№19–20, 1932.
(обратно)21
Там же, №№21–22, 1932.
(обратно)22
Ю.Мошков, с.215.
(обратно)23
Например: «Висти», 1 сентября 1932.
(обратно)24
«Висти», 9 декабря 1932.
(обратно)25
«Коммунист», Харьков, 24 ноября 1932.
(обратно)26
«Висти», 30 января 1933.
(обратно)27
«Правда» от 16 ноября 1932.
(обратно)28
«Правда» от 8 декабря 1932.
(обратно)29
«Висти», 9 декабря 1932.
(обратно)30
«Комсомольская правда» от 23 ноября 1932.
(обратно)31
«Украинский сбирник», с.96
(обратно)32
В.Данилов, с.200.
(обратно)33
«Висти», 30 ноября, 21 декабря 1932; 1 января, 4 января, 9 января 1933.
(обратно)34
«Висти», 28 января 1933.
(обратно)35
С.Пидхайни, т. 1, с.247.
(обратно)36
С.Пидхайни, т. 2, с.354.
(обратно)37
А.Вайсберг, с.122.
(обратно)38
Л.Копелев, с.234.
(обратно)39
В.Кравченко, с.113.
(обратно)40
С.Пидхайни, т. 1, с.280.
(обратно)41
Данило Мирошук. Кто организовал голод на Украине. Рукопись.
(обратно)42
В.Кравченко, с.128.
(обратно)43
Г.Костюк, с.44.
(обратно)44
Ф. Пигидо-Правобережный, с.44–45.
(обратно)45
Ф.Бил, с.241.
(обратно)46
«Украинский сбирник», с.83.
(обратно)47
М.Вербицкий, с.61.
(обратно)48
О.Воропай, с.49.
(обратно)49
С.Пидхайни, т. 2, с.1О 8.
(обратно)50
М.Вербицкий, с.55–60.
(обратно)51
С.Пидхайни, т. 2, с.36–37.
(обратно)52
О.Воропай, с.53.
(обратно)53
Там же, с.39–41.
(обратно)54
С.Пидхайни, т. 2, с.75.
(обратно)55
«Правда» от 10 марта 1963.
(обратно)56
Там же.
(обратно)57
Л.Копелев, с.235.
(обратно)58
Там же, с.11–12.
(обратно)59
В.Кравченко, с.105.
(обратно)60
Там же, с.114.
(обратно)61
Борис Николаевский. Власть и советская элита. Нью-Йорк, 1965, с.18–19. (Далее «Б.Николаевский…»)
(обратно)62
См.: П.Шейберт. Начало деятельности Ленина. Историше Цайтшрифт, т. 182, с.561.
(обратно)63
«Висти», 9 декабря 1932.
(обратно)64
С.Пидхайни, т. 2, с.483–484.
(обратно)65
Там же, т. 1, с.249.
(обратно)66
«Висти», 11 января 1933; Пидхайни, т. 2, с.484–485.
(обратно)67
И.Стаднюк, с.125. (так в книге, без названия произведения, или журнала. –Д.Т.)
(обратно)68
См.: В.Астафьев в ж-ле «Наш современник», №1, 1978, с.17.
(обратно)69
В.Тендряков. Смерть. Ж-л «Москва», №3, 1968.
(обратно)70
В.Кравченко, с.119.
(обратно)71
В.Гроссман, с.157.
(обратно)72
Там же, с.134.
(обратно)73
С.Пидхайни, т. 1, с.248.
(обратно)74
Л.Плющ, с.40.
(обратно)75
В.Гроссман, с.155.
(обратно)76
В.Кравченко, с.129.
(обратно)77
С.Пидхайни, т. 2, с.558.
(обратно)78
В.Кравченко, с.121.
(обратно)79
С.Пидхайни, т. 2, с.581.
(обратно)80
«Социалистический вестник», №19, 1933, с.15.
(обратно)81
См.: А.Тавдул в «Нью-Йорк Американ», 22 августа 1935.
(обратно)82
М.Каравай. Начальник политотдела Усть-Лабинской МТС. М., 1934, с.12. (Далее «М.Каравай…»)
(обратно)83
Проект Гарвардского университета, раздел «А», дело 285.
(обратно)84
М.Вербицкий, с.30.
(обратно)85
Ю.Семенко, с.48.
(обратно)86
Люси Робинс Лонг. Завтра – это прекрасно. Нью-Йорк, 1948, с.262. (Далее «Л.Лонг…»)
(обратно)87
«Украинское ревю», №2, с.581 и др.
(обратно)88
С.Пидхайни, т. 2, с.581 и др.
(обратно)89
Например: Иван Чинченко. Винницкая трагедия. Виннипег, 1981. Рукопись. (Далее «И.Чинченко…»)
(обратно)90
Юджин Лайонс. Командировка в утопию. Нью-Йорк, 1937, с.469–470.
(обратно)91
С.Пидхдйни, т. 2, с.469–470.
(обратно)92
«Социалистический вестник», №14, 23 июля 1932.
(обратно)93
Виктор Серж. Воспоминания революционера. Лондон, 1963, с.64.
(обратно)94
С.Пидаайни, т. 2, с.77.
(обратно)95
Ф.Пигидо-Правобережный, с.38.
(обратно)96
С.Пидхдйни, т. 2, с.84.
(обратно)97
С.Пидхайни, т. 1, с.209.
(обратно)98
«Висти», 8 декабря 1932; «Пролетарская правда» от 10 декабря 1932; Воропай, с.13.
(обратно)99
Уильям Генри Чемберлен. Железный век России. Бостон, 1934, с.86. (Далее У.Чемберлен…»)
(обратно)100
Р.Медведев. К суду истории. Бостон, 1934, с.86.
(обратно)101
О.Калиник, с.80–85.
(обратно)102
Ф.Пигидо-Правобережный (в разных местах); Гарвардский проект.
(обратно)103
«Большевик», №№1–2, 1933.
(обратно)104
«Правда» от 26 мая 1963.
(обратно)105
«Большевик», №№1–2, 1933.
(обратно)106
Там же.
(обратно)107
«Правда» от 24 ноября 1933.
(обратно)108
П.Постышев и С.Косиор, с.9–10.
(обратно)109
«Правда» от 6 февраля 1933.
(обратно)110
Там же.
(обратно)111
«Правда» от 26 февраля 1933.
(обратно)112
«Правда» от 6 февраля 1933.
(обратно)113
«Господарство Украйни», №№3–4, 1933, с.32.
(обратно)114
«Висти», 13 февраля 1933.
(обратно)115
«Правда» от 24 ноября 1933.
(обратно)116
П.Посгышев и С.Косиор, с.18.
(обратно)117
Иван Чинченко. Рукопись.
(обратно)118
«Украинское хозяйство», №№3–4, 1978, с.26–30.
(обратно)119
Иосиф Бергер. Крушение поколения. Лондон, 1971, с.23.
(обратно)120
«Висти», 12 марта 1933.
(обратно)121
«Известия» от 12 марта 1933.
(обратно)122
«Правда» от 24 ноября 1933.
(обратно)123
История селянства Украинской РСР. Т. 2, с.188.
(обратно)124
СЛидхайни, т. 2, с.52.
(обратно)125
В.Селунская, с.233.
(обратно)126
«Правда» от 19 февраля 1933.
(обратно)127
С.Пидхайни, т. 2, с.558–622.
(обратно)128
В.Гроссман, с.157.
(обратно)129
С.Пидхайни, т. 2, с.578.
(обратно)130
Там же, с.712.
(обратно)131
А.Вышинский, с.102–103.
(обратно)132
С.Пидхайни, т. 2, с.511.
(обратно)133
Томас Уолкер в «Нью-Йорк Ивнинг Джорнал» от 18 февраля 1933.
(обратно)134
С.Пидхайни, т. 2, с.578–579.
(обратно)135
О.Воропай, с.18.
(обратно)136
Л.Копелев, с.280–381.
(обратно)137
См.: М.Алексеев в ж-ле «Звезда», №1, 1964, с.37.
(обратно)138
См.: И.Стаднюк в ж-ле «Нева», №12, 1932.
(обратно)139
В.Кравченко, с.118.
(обратно)140
О.Калиник, с.117.
(обратно)141
«Лос-Анджелес Ивнинг Гералд», 26 февраля 1935.
(обратно)142
М.Соловьев. Записки военного корреспондента. Нью-Йорк, 1954, с.57–61. (Далее «М.Соловьев…»)
(обратно)143
В.Гроссман, с.155.
(обратно)144
У.Чемберлен, с.368.
(обратно)145
С.Пидхайни, т. 2, с.576.
(обратно)146
Гам же, с.450–451.
(обратно)147
В.Гроссман, с.48, 155.
(обратно)148
Степан Дубовик. Рукопись.
(обратно)149
С.Пидхайни, т. 2, с.593–594.
(обратно)150
И.Вербицкий, с.82.
(обратно)151
С.Пидхайни, т. 2, с.8О.
(обратно)152
М.Соловьев, с.55.
(обратно)153
Дмитро Соловей. Голгофа Украины. Нью-Йорк, 1953, с.33. (Далее «Д.Соловей…»)
(обратно)154
В.Гроссман, с.14.
(обратно)155
Ю.Семенко, с.14.
(обратно)156
О.Воропай, с.189.
(обратно)157
Эуолд Амманд. Человеческая жизнь в России. Лондон, 1936, с.62. (Далее «Э.Амманд…»)
(обратно)158
А.Вайсберг, с.189.
(обратно)159
Г.Костюк, с.32.
(обратно)160
М.Хиндус.с.289.
(обратно)161
Данило Мирошук. Кто организовал голод на Украине? Рукопись.
(обратно)162
В.Гроссман, с.161.
(обратно)163
Ю.Семенко, с.4.
(обратно)164
В.Кравченко, с.111.
(обратно)165
М.Вербицкий, с.72.
(обратно)166
В.Гроссман, с.161–162.
(обратно)167
Там же.
(обратно)168
Например: О.Воропай, с.31–32.
(обратно)169
М.Вербицкий, с.95.
(обратно)170
И.Семенко, с.15.
(обратно)171
О.Воропай, с.33.
(обратно)172
С.Пидхайни, т. 1, с.245.
(обратно)173
В.Гроссман, с.162–163.
(обратно)174
Ф.Бил, с.244.
(обратно)175
Степан Дубовик. Рукопись.
(обратно)176
О.Калиник, с.111–116.
(обратно)177
С.Пидхайни, т. 2, с.695.
(обратно)178
О.Воропай, с.46.
(обратно)179
С.Пидхайни, т. 1, с.269.
(обратно)180
Там же, с.260–261.
(обратно)181
Там же, т. 2, с.122..
(обратно)182
Там же, т. 1, с.253.
(обратно)183
«Лос-Анджелес Ивнинг Гералд», 29 апреля 1935.
(обратно)184
Там же, 1 мая 1935.
(обратно)185
С.Пидхайни, т. 2, с.672.
(обратно)186
М.Вербицкий, с.55.
(обратно)187
С.Пидхайни, т. 2, с.572.
(обратно)188
Особый комитет Конгресса США (комиссия) по коммунистической агрессии. Специальный выпуск, №4.Коммунистическое правление и оккупация Украины. Вашингтон, Госдепартамент, 1955.
(обратно)189
С.Пидхайюьт. 1, с.283.
(обратно)190
О.Калиник, с.116.
(обратно)191
Уильям Генри Чемберлен. Украина: угнетенная нация. Нью-Йорк, 1944, с.60–61. (Далее «У.Чемберлен.Украина…»)
(обратно)192
У.Чемберлен, с.368.
(обратно)193
Ю.Семенко, с.74–75.
(обратно)194
Л.Ланг, с.268–269; М.Файнсод, с.244.
(обратно)195
О.Воропай, с.47.
(обратно)196
Личный контакт; см. также: К. Генри Смит. История меноннитов. Индиана, Берн, 1941, гл.8.
(обратно)197
Д.Соловей, с.42–43.
(обратно)198
С.Пидхайни, т. 1.с.240.
(обратно)199
О.Калиник, с.22–23.
(обратно)200
С.Пидхайни, т. 1, с.233, 244.
(обратно)201
С.Пидхайни, т. 2, с.676.
(обратно)202
Там же, с.68.
(обратно)203
О.Воропай, с.18.
(обратно)204
Ф.Бил, с.243.
(обратно)205
Там же, с.251.
(обратно)206
В.Кравченко, с.114.
(обратно)207
С.Пидхайни, т. 2, с.530–531.
(обратно)208
Там же, с.533.
(обратно)209
У.Чемберлен. Украина, с.61.
(обратно)210
О.Воропай, т. 1, сс. 295, 43.
(обратно)211
С.Пидхайни, т. 2, с.590.
(обратно)212
Там же.
(обратно)213
«Дило», 31 октября 1934.
(обратно)214
В.Гроссман, с.160.
(обратно)215
У.И.Резвик. Мне снилась революция. Чикаго, 1952, с.308–309.
(обратно)216
«Кристчен сайонс монитор» от 29 мая 1934.
(обратно)217
С.Пидхайни, т. 2, с.85.
(обратно)218
В.Гроссман, с.164–165.
(обратно)219
Например, Л.Копелев, с.240–241.
(обратно)220
Степан Дубовик. Рукопись.
(обратно)221
В.Гроссман, с.164; С.Пидхайни, т. 1, с.230.
(обратно)222
С.Пидхайни, т. 1, с.230.
(обратно)223
Там же, с.38.
(обратно)224
Украинский Национальный Совет в Канаде. Бюллетень, №1, с.1.
(обратно)225
Л.Плющ, с.40.
(обратно)226
Комитет незаможних селян Украйни. Киев, 1968, с.580–582.
(обратно)227
С.Пидхайни, т. 2, с.36.
(обратно)228
О.Воропай, с.56; Гарвардский проект, раздел «а», дело 1434, с.13.
(обратно)229
Ю.Семенко, с.45.
(обратно)230
О.Воропай, с.48.
(обратно)231
Там же, с.55–56; С.Пидхайни, т. 2, с.125–126.
(обратно)232
М.Вербицкий, с.33.
(обратно)233
С.Пидхайни, т. 1, с.262.
(обратно)234
Там же, с.266.
(обратно)235
Там же, с.280.
(обратно)236
Ф.Пигидо-Правобережный, с.60.
(обратно)237
О.Воропай, с.24.
(обратно) (обратно)Гл. 13-я. Земля была пуста…
1
Двухнедельное ревю, 1 мая 1933.
(обратно)2
«Ансерз», 24 февраля 1934.
(обратно)3
Ф.Бил, с.249.
(обратно)4
Цитируется по: М.Хиндус, с.154.
(обратно)5
В.Кравченко, с.130.
(обратно)6
«Правда» от 24 июня 1933.
(обратно)7
И.Трифонов, с.352–353, 359.
(обратно)8
«Правда» от 16 декабря 1933.
(обратно)9
«Правда» от 9 февраля 1933.
(обратно)10
Э.Амманд, с.62.
(обратно)11
О.Воропай, с.23.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Например: Л.Копелев, с.284.
(обратно)14
«Висти», 17марта 1933.
(обратно)15
«Висти», 3 марта 1933.
(обратно)16
С.Пидхайни, т. 2, с.89.
(обратно)17
«Висти», 23 апреля 1933.
(обратно)18
О.Воропай, с.57.
(обратно)19
«Украинский сбирник», т. 2, с.97.
(обратно)20
О.Воропай, с.25–26.
(обратно)21
Например: С.Пидхайни, т. 1, с.269.
(обратно)22
В.Гроссман, с.165.
(обратно)23
С.Пидхайни, т. 2, с.543; Пигидо-Правобережный, с.58.
(обратно)24
Специальная комиссия Конгресса США.Отчет о коммунистической агрессии, с.19.
(обратно)25
М.Вербицкий, с.47, 59.
(обратно)26
Там же, с.74.
(обратно)27
«Коммунист». Харьков, 26 декабря 1934.
(обратно)28
О.Воропай, с.58.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
С.Пидхайни, т. 1, с.231–232.
(обратно)31
«Висти», 11 июня 1933.
(обратно)32
Там же.
(обратно)33
П.Постышев и С.Косиор, с.10.
(обратно)34
Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях, 1918–1956. Киев, 1958, с.569.
(обратно)35
Д.Соловей. Украинский ежеквартальник, №19, 1963, с.23.
(обратно)36
«Известия» от 21 сентября 1933.
(обратно)37
Н.Ясный, с.86, 544.
(обратно)38
С.Пидхайни, т. 1, с.232.
(обратно)39
П.Постышев и С.Косиор, с.5.
(обратно)40
«Пролетарска правда», сентябрь 1933.
(обратно)41
Ж-л «Молодая гвардия», №№1 9–20, 1933.
(обратно)42
«Висти», 30 июля 1934.
(обратно)43
Ж-л «Коммунист», 27 июня 1934.
(обратно)44
Депеша британского посольства от 4 сентября 1933.
(обратно)45
А.Тавдул. «Нью-Йорк Америкам», 30 августа 1935.
(обратно)46
Депеша британского посольства от 4 сентября 1933.
(обратно)47
С.Пидхайни, т. 1, с.232.
(обратно)48
Дмитрий Шостакович. Свидетельство. Нью-Йорк, 1979 с.214–215.
(обратно)49
«Правда» от 12 марта 1933.
(обратно)50
Г.Костюк, с.50.
(обратно)51
«Правда» от 2 декабря 1933.
(обратно)52
Г.Костюк.с.93.
(обратно)53
«Висти», март 1933.
(обратно)54
Г.Костюк, с.57.
(обратно)55
Там же, с.48.
(обратно)56
«Правда» от 22 июня 1933.
(обратно)57
«Правда» от 8 июля 1933.
(обратно)58
«Правда» от 2 декабря 1933.
(обратно)59
«Червоний шлях», №№1–2, 1932, с.92.
(обратно)60
П.Постышев и С.Косиор, с.109.
(обратно)61
«Висти», 22 июня 1933.
(обратно)62
П.Постышев и С.Косиор, с.109.
(обратно)63
«Висти», 5 июня 1933.
(обратно)64
П.Постышев и С.Косиор, с.63.
(обратно)65
Там же, с.74.
(обратно)66
Г.Костюк, с.59.
(обратно)67
Там же, с.143.
(обратно)68
П.Постышев и С.Косиор, с.82.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Г.Костюк, с.56.
(обратно)71
Там же, с.58; Специальная комиссия Конгресса США. Отчет, с.22.
(обратно)72
С.Пидхайни, т. 1, с.403.
(обратно)73
«Червоний шлях», №№8–9, с.246.
(обратно)74
С.Пидхайни, т. 2, с.57.
(обратно)75
«Висти», 21 января 1934
(обратно)76
«Большевик Украины», №3, 1936.
(обратно)77
«Висти», 24 января 1934.
(обратно)78
«Висти», 5 июня 1937.
(обратно)79
КПСС. 17-й съезд, с.71, 199.
(обратно)80
«Правда» от 18 декабря 1934.
(обратно)81
«Правда» от 10 июня 1935.
(обратно)82
Там же.
(обратно)83
Г.Костюк, с.101–102.
(обратно)84
Там же, с.105–107.
(обратно)85
См.: С.Пидхайни, т. 1, с.394; специальная комиссия Конгресса США. Отчет-стенограмма, с.19–20.
(обратно)86
Бюллетень оппозиции, №№77–78, 1939, с.5.
(обратно)87
«Нью-Йорк таймс» от 21 сентября 1952.
(обратно) (обратно)Гл. 14-я. Кубань, Дон и Волга
1
«Новое русское слово» от 24 декабря 1982.
(обратно)2
Энциклопедия «Брнтаника», Изд. 11-е. Т. 7, с.218. Ст. князя Кропоткина «Казаки».
(обратно)3
Большая Советская Энциклопедия. Изд 3-е, т. 13.
(обратно)4
«Новое русское слово» от 24 декабря 1982.
(обратно)5
А.Осичко. Почему они нас уничтожали? Цитируется по: «Новое русское слово» от 26 декабря 1982; Геноцид в СССР, с.247.
(обратно)6
КПСС. 17-й съезд, с.148.
(обратно)7
Сломить саботаж сева и хлебозаготовок, организованный кулачеством в районе Кубани. М., 1932.
(обратно)8
Там же.
(обратно)9
Там же.
(обратно)10
«Правда» от 29 апреля 1933.
(обратно)11
Дж.Маньярд. Колхозы в СССР, с.9. (Далее «Дж.Маньярд…»)
(обратно)12
«Новое русское слово «от 24 декабря 1982.
(обратно)13
Дж.Маньярд, с.9.
(обратно)14
«Русское возрождение», №2, 1981.
(обратно)15
М.Вербицкий, с.77–78.
(обратно)16
«Молот», 17 декабря 1932; цитируется по: «Новое русское слово «от 26 декабря 1982.
(обратно)17
С.Пидхайни, т. 1, с.44.
(обратно)18
«Новое русское слово» от 26 декабря 1982.
(обратно)19
Р.Медведев. К суду истории, с.93.
(обратно)20
С.Пидхайни, т. 1, с.44.
(обратно)21
М.Соловьев, с.73–75.
(обратно)22
Там же, с.76–80.
(обратно)23
Г.Костюк, с.96.
(обратно)24
«Молот», 20, 22 декабря 1932; цитируется по: «Новое русское слово» от 26 декабря 1982.
(обратно)25
«Украиниэн гералд», №№7–8, с.111.
(обратно)26
Братья в нужде! Документы о голоде. Берлин, 1933.
(обратно)27
Там же, с.7.
(обратно)28
Там же, с.14.
(обратно)29
Там же, с.7.
(обратно)30
Там же, с.11.
(обратно)31
А.Вышинский, с.104.
(обратно)32
Гарвардский проект, раздел «а», дело 296.
(обратно)33
С.Пидхайии, т. 2, с.79.
(обратно)34
Геноцид в СССР, с.247.
(обратно)35
М.Вербицкий, с.78–79.
(обратно)36
Депеша британского посольства от 27 октября 1933.
(обратно)37
СЛидхайни, т. 2, с.121.
(обратно)38
Э.Амманд, с.99.
(обратно)39
С.Пидхайни, т. 2, с.71.
(обратно)40
У. Чемберлен. Железный век России, с.83.
(обратно)41
Ю.Семенко, с.З.
(обратно)42
Г.Токаев, с.10.
(обратно)43
Депеша британского посольства от 5 марта 1933.
(обратно)44
Там же от 27 октября 1933.
(обратно)45
«Советская Россия» от 26 августа 1975.
(обратно)46
М.Алексеев в ж-ле «Наш современник», №9, 1972, с.96.
(обратно)47
Братья в нужде… с.3.
(обратно)48
Речь о голоде. Берлин, 1933, с.23.
(обратно)49
Там же, с.25.
(обратно)50
Там же, с.11.
(обратно)51
Там же, с.134–135.
(обратно)52
Там же.
(обратно)53
Э.Амманд, с.220.
(обратно)54
Братья в нужде, с.15.
(обратно) (обратно)Гл. 15-я. Дети
1
Ф.Бил, с.259.
(обратно)2
«Просвещение Сибири», №4, 1929, с.111.
(обратно)3
М.Файнсод, с.241.
(обратно)4
А.Солженицын, с.360.
(обратно)5
«На путях к новой школе», №№4–5, 1930, с.25.
(обратно)6
Ф.Бил, с.248.
(обратно)7
В.Кравченко, с.98.
(обратно)8
Семинар о голоде наУкраине, 1933.Торонто, декабрь, 1981.
(обратно)9
С.Пидхайни, т. 1, с.300.
(обратно)10
Ф.Пигидо-Правобережный, с.24.
(обратно)11
Там же.
(обратно)12
С.Пидхайни, т. 2, с.357.
(обратно)13
«Лос-Анджелес Ивнннг Гералд» от 1 мая 1935.
(обратно)14
О.Воропай, с.23.
(обратно)15
Ричард Кроссмэн (ред.). Проигравший бог. Лондон, 1950, с.68.
(обратно)16
А.Кестлер. Йог и комиссар. Нью-Йорк, 1946, с.128.
(обратно)17
В.Гроссман, с.156–157.
(обратно)18
«Лос-Анджелес Ивнинг Гералд» от 20 февраля 1935.
(обратно)19
О.Воропай, с.42.
(обратно)20
С.Пидхайни, т. 2, с.535–536.
(обратно)21
Там же, т. 1, с.303.
(обратно)22
Например: Ф.Бил, с.253.
(обратно)23
«Нью-Йорк Ивнинг Джорнал», 16 апреля 1935; см. также: Лэнг, с.260.
(обратно)24
Э.Амманд, с.63.
(обратно)25
Уайтинг Уильямс в: «Ответы», 24 февраля 1934.
(обратно)26
С.Пидхайни, т. 2, с.73
(обратно)27
А.Дж.Тавдул в: «Нью-Йорк Американ», 29 августа 1935.
(обратно)28
С.Пидхайни, т. 1, с.448.
(обратно)29
Хулиганство и хулиганы. М., 1929, с.46.
(обратно)30
Вспышки голода в России, с.17.
(обратно)31
«Коммунистическое просвещение», №1, с.106.
(обратно)32
Там же, №2, 1935, с.97.
(обратно)33
Там же, №4, 1935, с.16.
(обратно)34
«Вопросы истории КПСС», №8, 1966, с.112.
(обратно)35
«Коммунистическое просвещение», №4, 1935, с.15–17
(обратно)36
Там же, №1, 1934, с.106.
(обратно)37
«Челлендж», №6, октябрь 1951, с.9–16.
(обратно)38
Виктор Попов. Цитируется по кн.: В.Авдеев (ред.). Вчера и сегодня. М., 1970, с.17.
(обратно)39
А.Вайсберг, с.414
(обратно)40
С.Пидхайни, т. 1, с.298.
(обратно)41
О.Калиник, с.116.
(обратно)42
И.Чинченко. Рукопись.
(обратно)43
С.Пидхайни, т. 1, с.551.
(обратно)44
Там же, с.575.
(обратно)45
О.Воропай, с.39.
(обратно)46
С.Пидхайни, т. 2, с.253.
(обратно)47
«Народное просвещение», №2, 1930, с.11
(обратно)48
«Коммунистическое просвещение», №13, 1935, с.3–6.
(обратно)49
Например: А.Тавдул в: «Нью-Йорк Американ», 30августа 1935.
(обратно)50
О.Бил, с.256.
(обратно)51
«Коммунистическое просвещение», №3, 1935, с.7.
(обратно)52
В.Астафьев в: «Роман-газета», №2, 1979, с.60; см. также его «Последний поклон» в ж-ле «Наш современник», №6, 1978.
(обратно)53
См.:Л.Герзон, с.128.
(обратно)54
«Вызов», №12, с.12.
(обратно)55
С.Пидхайни, т. 1, с.444.
(обратно)56
Ф.Бил, с.258.
(обратно)57
Цитируется по: С.Пидхайни, т. 1, с.269.
(обратно)58
М.Каравай, с.88.
(обратно)59
Там же.
(обратно)60
«Правда» от 24 ноября 1933.
(обратно)61
Там же.
(обратно)62
Ф.Шевченко. История Украины. Т. 2. Киев, без даты, с.336.
(обратно)63
С.Павлов. Выступление на Ноябрьском пленуме ЦК комсомола в 1962 г.
(обратно)64
«Комсомольская правда» от 2 сентября 1962.
(обратно)65
«Рейтерс», 21 мая 1934.
(обратно)66
«Молот», 30 августа 1934.
(обратно)67
«Правда» от 20 декабря 1937.
(обратно)68
А.Орлов, с.53.
(обратно)69
Петр Якир. Детство в тюрьме. Лондон, 1972, с.44. (Далее «П.Якир…»)
(обратно)70
А.Орлов, с.53.
(обратно)71
Ф.Пигидо-Правобережный, с.46.
(обратно)72
Семинар о голоде на Украине. Торонто.
(обратно)73
«Кайе дю монд рус э советик» (фр.), №18, 1977, с.7.
(обратно)74
Л.Копелев, с.282.
(обратно)75
Цитируется по: Джон А.Армстронг.Политика тоталитаризма. Нью-Йорк, 1961, с.7.
(обратно)76
М.Вербицкий, с.55–60.
(обратно)77
«Украинский сбирник», т. 2, с.92.
(обратно)78
Семинар о голоде на Украине. Торонто.
(обратно)79
С.Пидхайни, т.l, c. 253.
(обратно) (обратно)Гл. 16-я. Реестр смерти
1
Ю.А.Корчак-Чепурковский. Таблицы доживания и сподиваного жития людности УССР. Харьков, 1929, с.33, 72–79; он же в: «Висник статистики Украйни», №2, 1928, с.154–158; он же. Избранные демографические исследования. М., 1970, с.301–302. См. также: Джон Ф.Катнер и Лидия В. Кульчицкая. Перепись населения 1926 года: частичная эволюция. Бюро переписи США, Отчет о населении мира. Серия «П», 95, №50, октябрь 1957, с.100–117.
(обратно)2
С.И.Пироков. Жизнь и творческая деятельность О.А.Квиткина. Киев, 1974.
(обратно)3
«Большевик», №№23–24, 1938.
(обратно)4
«Правда» от 17 января 1939.
(обратно)5
«Правда» от 26 января 1935.
(обратно)6
Население СССР, состав и движение населения. М. 1975, с.7.
(обратно)7
«Вестник статистики», №11, 1964, с.11.
(обратно)8
См.: Е.Карч, с.479.
(обратно)9
«Правда» от 5 декабря 1935.
(обратно)10
Второй пятилетний план. Англ. изд-е. Нью-Йорк, 1937 с.458.
(обратно)11
«Вестник статистики», №11, 1964, с.11.
(обратно)12
Антон Антонов-Овсеенко. Сталинское время. Нью-Йорк, 1981, с.207.
(обратно)13
В.Н.Козлов в: «История СССР», №4, 1983, с.21.
(обратно)14
С.Пидхайни, т. 2, с.594.
(обратно)15
И.Кравал в: «Плановое хозяйство», №12, 1936, с.23.
(обратно)16
А.Тавдул в: «Нью-Йорк Амернкан», 18 августа 1935.
(обратно)17
Там же.
(обратно)18
А.Орлов, с.28.
(обратно)19
А.Тавдул в: «Нью-Йорк Американ» от 19 августа 1935.
(обратно)20
Ф.Бил, с.255.
(обратно)21
«Лос-Анджелес Ивнинг Гералд» от 29 апреля 1935.
(обратно)22
Л.Лонг, с.260.
(обратно)23
Джон Коласки. Два года на советской Украине. Торонто, 1970, с.111.
(обратно)24
А.Тавдул в: «Нью-Йорк Американ», 19 августа 1935.
(обратно)25
Л.Плющ, с.42.
(обратно)26
С.Сваневич, с.123.
(обратно)27
Давид Далин и Борис Николаевский. Принудительный труде Советском Союзе. Лондон, 1948, с.54.
(обратно)28
С.Сваневич, с.59; Белая книга о концентрационных лагерях, с.31–36, и т.д.
(обратно)29
Хрущев… с.120.
(обратно)30
«Ле Матэн», 30 августа 1933.
(обратно) (обратно)Гл. 17-я. Протокол Запада
1
«Нью-Йорк Гералд Трибюн», 21 августа 1933; У.Чемберлен. Украина… с.60.
(обратно)2
«Манчестер Гардиан», 21 августа 1933.
(обратно)3
«Нью-Йорк Гералд Трибюн», 21 августа 1933.
(обратно)4
М.Хиндус, с.146–148, 153–155.
(обратно)5
«Известия» от 26 февраля 1933.
(обратно)6
Депеша британского посольства от 5 марта 1933.
(обратно)7
А.Кестлер. Йог и комиссар, с.137–138.
(обратно)8
У.Чемберлен. Железный век России, с.155–156.
(обратно)9
«Правда» от 19 декабря 1933.
(обратно)10
Письмо, датированное 3 января 1934, приведено в стенограммах Конгресса, т. 80, с.2110.
(обратно)11
Цитируется по: «Голод на Украине». Нью-Йорк, 1934, с.7.
(обратно)12
Депеша посольства США, №902, 26 сентября 1935.
(обратно)13
Ю.Лайонс, с.366–367.
(обратно)14
Э.Амманд, с.230–231.
(обратно)15
С.Пидхайни, т. 1, с.270.
(обратно)16
Л.Лонг, с.263.
(обратно)17
М.Вербицкий, с.97.
(обратно)18
Э.Амманд, с.232.
(обратно)19
«Фигаро» от 16октября 1933; Ф.Бил, с.245.
(обратно)20
Ф.Бил, с.245.
(обратно)21
С.Пидхайни, т. 2, с.93–94.
(обратно)22
В.Гроссман, с.159.
(обратно)23
О.Калиник, с.14.
(обратно)24
Ф.Бил, с.259.
(обратно)25
С.Пидхайни, т. 1, с.281.
(обратно)26
Заявление в «Лондон Дженерал Пресс», 1932.
(обратно)27
«Антирелигиозник», №5, 1930.
(обратно)28
Шервуд Эдди. Россия сегодня: чему мы можем у нее научиться. Нью-Йорк, 1934, с.14.
(обратно)29
Дж. Маньярд, с.6.
(обратно)30
Дж. Маньярд. Русский крестьянин, с.296.
(обратно)31
Сидней и Беатриса Вебб. Советский коммунизм: новая цивилизация? Лондон, 1937. (В последующих изданиях вопросительный знак был опущен.) (Далее «с.и Б.Вебб…»)
(обратно)32
С.и Б.Вебб, с.235, 245.
(обратно)33
Там же.
(обратно)34
Там же, с.245.
(обратно)35
Там же, с.267.
(обратно)37
Там же, с.563.
(обратно)38
Там же, с.259.
(обратно)39
Там же, с.266.
(обратно)40
Там же, с.262.
(обратно)41
Там же, с.282.
(обратно)42
Там же, с.263.
(обратно)43
Там же.
(обратно)44
Там же, с.261.
(обратно)45
Там же, с.248.
(обратно)46
Там же, с.276.
(обратно)47
Там же, с.266–267.
(обратно)48
«Нью-Йорк таймс» от 13 сентября 1933.
(обратно)49
Депеша британского посольства от 16 сентября 1933.
(обратно)50
У.Дюранти, см. в особенности Марко Царинника в «Комментарии», №76, ноябрь 1983, и «Айддер», №1, январь 1985 и №2, февраль 1985.
(обратно)51
А.Вайсберг, с.194.
(обратно) (обратно)Гл. 18-я. Ответственность
1
«Социалистический вестник», 12 апреля 1930.
(обратно)2
«Украинский Прометей», с.19–20.
(обратно)3
О.Воропай, с.57.
(обратно)4
«Украинский сбирник», с.85–86.
(обратно)5
Ф.Бил, с.255.
(обратно)6
С.Пидхайни, т. 2, с.491–492.
(обратно)7
Там же.
(обратно)8
Хрущев… с.73–74.
(обратно)9
Там же, с.109.
(обратно)10
Самиздат– 1: Голос оппозиции коммунистам в СССР. Париж, 1969, с.92–100.
(обратно)11
«Правда» от 26 мая 1964.
(обратно)12
Хрущев… с.124.
(обратно)13
См.: Л.Плющ, с.179.
(обратно)14
Специальная комиссия Конгресса США по коммунистической агрессии. Стенограммы, с.19–20.
(обратно)15
Например: И.Дейчер, с.33; А.Бармин, с.264.
(обратно)16
А.Орлов, с.318.
(обратно)17
См.: С.Пидхайни, т. 1, с.467; Воропай, с.28; Плющ, с.41, 85.
(обратно)18
Л.Плющ, с.41.
(обратно)19
С.Пидхайни, т. 1, с.236.
(обратно)20
Там же, с.467.
(обратно)21
О.Воропай, с.28.
(обратно)22
«Новое русское слово» от 29 марта 1983.
(обратно)23
«Вперед», №7, 1958, с.1.
(обратно)24
С.Пидхайни, т. 1, с.251.
(обратно)25
Там же, с.273.
(обратно)26
О.Воропай, с.29.
(обратно)27
С.Пидхайни, т. 1, с.281.
(обратно) (обратно) (обратно)Эпилог. Второй покос
1
Б.Пастернак. Доктор Живаго, с.422.
(обратно)2
П.Якир, с.86.
(обратно)3
А.Вайсберг, с.288.
(обратно)4
С.Пидхайни, т. 1, с.415–416.
(обратно)5
Там же, с.290–291.
(обратно)6
А.Вайсберг, с.290–291.
(обратно)7
Р.Медведев. К суду истории, с.236–237.
(обратно)8
«Украинское ревю», №6, 1958, с.136–140.
(обратно)9
Элинор Липпер. Одиннадцать лет в советских тюремных лагерях. Лондон, 1951.
(обратно)10
«Украиниэн Гералд», №№7–8, с.63.
(обратно)11
Е.Р.Стеттиниус. Рузвельт и русские: Ялтинская конференция. Гарден-сити. Нью-Йорк, 1949, с.187.
(обратно)12
Иван Дзюба. Интернационализм или русификация. Лондон, 1968, с.108.
(обратно)13
«Правда» от 10 декабря 1963.
(обратно)14
«Литературная газета» от 20 ноября 1947.
(обратно)15
История Академии наук Украинской ССР. Киев, 1975, с.802.
(обратно)16
См.: Вячеслав Чорновол. Бумаги Чорновола. Нью-Йорк, 1968.
(обратно)17
См.: Р.Медведев. К суду истории, с.106.
(обратно)18
См.: С.Сваневич, с.94.
(обратно)19
Там же, с.100.
(обратно)20
«Правда» от 23 сентября 1935.
(обратно)21
Н.Ясный, с.37.
(обратно)22
А.Авторханов. Царствование Сталина. Лондон, 1955, с.176–177.
(обратно)23
Н. Ясный, с.458.
(обратно)24
С.Сваневич, с.105–106.
(обратно)25
Н.Ясный, с.346.
(обратно)26
«Плановое хозяйство», №7, 1939.
(обратно)27
См.: Р. и Ж.Медведевы, с.27.
(обратно)28
В.Данилов, с.532–533.
(обратно)29
В.Гроссман, с.148.
(обратно)30
История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР, с.276.
(обратно)31
«Правда» от 19 сентября 1947.
(обратно)32
«Народное хозяйство СССР в 1965 году, с.311.
(обратно)33
«Партийная жизнь», ноябрь 1965.
(обратно)34
Б.Можаев. Полюшко-поле. В сб.: «Лесная дорога», с.400.
(обратно)35
Ф.Абрамов. Вокруг да около. (Англ. изд-е.) Лондон, 1963, с.86–87.
(обратно)36
См.: Ефим Дорош в ж-ле «Новый мир», №6, 1965, с.8.
(обратно)37
См.: «Сервей», №4, 1980, с.28.
(обратно)38
«Известия» от 18 июля 1982.
(обратно)39
«Совьет аналист», т. 11, №15, с.4–5.
(обратно)40
«Труд» от 30 июля 1982.
(обратно)41
Виктор Попов. Московское радио, 8 сентября 1982.
(обратно)42
Б.Можаев. Полюшко-поле. В сб.: «Лесная дорога», с.513.
(обратно)43
«Советская Россия» от 12 сентября 1980.
(обратно)44
См.: Ф.Абрамов в ж-ле «Наш современник», №9, 1979, с.25.
(обратно)45
См.: Астафьев в ж-ле «Наш современник», 1978, №1, с.25.
(обратно)46
Б.Николаевский, с.18–19.
(обратно)47
В.Кравченко, с.107.
(обратно)48
«Правда» от 8 октября 1965.
(обратно)49
«Сельская жизнь» от 29 декабря 1965, 25 февраля 1966.
(обратно)50
Цитируется по: Е.Карч, с.57.
(обратно)51
С.Трапезников, т. 2, с.187–189.
(обратно)52
«Правда» от 10 марта 1953.
(обратно)53
«Советская Украина» (на англ. яз.). Киев, 1970, с.293.
(обратно) (обратно) (обратно)


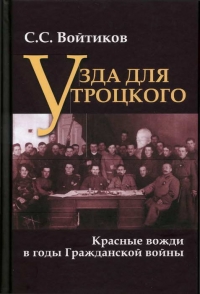
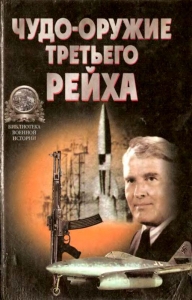
Комментарии к книге «Жатва скорби», Роберт Конквест
Всего 0 комментариев