Паола Волкова, Наталия Басовская и др Средневековье: большая книга истории, искусства, литературы
В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящиеся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.
© Паола Волкова, наследники текст, 2020
© Наталия Басовская, наследники, текст, 2020
© Константин Бандуровский, перевод, составление, предисловие, преамбулы к текстам, комментарии, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Предисловие
Перед вами «Большая книга Средневековья», в которой собраны труды известных деятелей искусства, истории и литературы для того, чтобы пролить свет на так называемые «Тёмные века». Этот период оставил свой уникальный след в живописи, литературе, архитектуре, скульптуре. Он подарил миру таких выдающихся деятелей, как святой Франциск Ассизский, Бонавентура, Джотто ди Бондоне, Данте Алигьери, Андрей Рублёв, Феофан Грек. Эпоха длиною в тысячу лет, которая определила развитие культуры на многие столетия вперёд, глазами тех, кто посвятил свою профессиональную жизнь изучению этого периода.
Наталия Ивановна Басовская, специалист по истории Средних веков, доктор исторических наук, расскажет о самых значимых событиях через жизнеописание ярчайших представителей эпохи. Правители, философы, войны, священники, путешественники – все они знаковые личности, которых история окрестила героями, злодеями, святыми. Как и почему это случилось, что об этих людях думали современники и как мы сейчас оцениваем их. Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в разделе «Все герои мировой истории. Средневековье».
Паола Волкова – советский и российский искусствовед, историк культуры, автор многочисленных книг и признанный деятель искусства. «В пространстве христианской культуры» рассматривает понятие культуры в самом широком смысле этого слова, анализирует становление исторического и духовного образа Средневековья, и то, как эти изменения отразились в искусстве. Отдельная глава посвящена русскому искусству. В ней подробно рассмотрено, как формировалось русское художественное сознание, как развивались различные направления, отдельное внимание автор уделяет иконописи и самым выдающимся художникам того времени, работавшим в этом направлении.
Недостаточно рассказов специалистов, чтобы прочувствовать эпоху, потому что только написанные в то время произведения способны передать все оттенки, всю самобытность далёкого периода, именно поэтому в сборник включены несколько оригинальных произведений.
Фома Аквинский – один из крупнейших средневековых теологов и философов. «Сумма теологии» считается его главным произведением. В нём Фома Аквинский систематизировал накопленные знания по онтологии, гносеологии, этике, вопросам теологии, коснулся эстетики. «Сумма теологии» состоит из трёх частей. Каждая часть представляет собой трактат, который разделен на вопросы. В заглавие каждой главы выносится спорный вопрос, далее приводятся аргументы от лица оппонентов, затем автор предлагает собственное решение вопроса и отвечает на положения оппонентов. В приведённом нами издании рассматривается ряд ключевых вопросов, которые сохраняют свою актуальность и по сей день, а комментарии и подробные объяснения Константина Бандуровского помогут понять и оценить всю глубину мысли.
«Божественная комедия» Данте Алигьери не нуждается в представлении, написанная в начале XIV века, она является одним из величайших памятников мировой культуры. Поэма делится на три части: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Согласно католической традиции, загробный мир состоит из ада, куда попадают навеки осуждённые грешники; чистилища, где находятся искупающие свои грехи, и рая – обители блаженных. Мы предлагаем читателю начать знакомство с бессмертным творением с самой захватывающей части – «Ад».
Не только мрачными «Адом» и «Чистилищем» славится средневековая литература. Именно в эту эпоху появляется один из самых эпичных жанров – рыцарский роман. Сказочное повествование о смелых рыцарях и прекрасных дамах, о дальних странствиях и о великих подвигах, совершённых во имя любви. «Тристан и Изольда» – один из самых известных представителей этого жанра. Сложенная из множества прообразов древних сказаний эта история настоящей любви с печальным концом, появившаяся задолго до Шекспира и его трагедии «Ромео и Джульетта», но до сих пор не теряет своего очарования, что подтверждают экранизации.
В пространстве христианской культуры
Чья рука, летучая как пламень,
По страстным путям меня ведет?
Под ногой не гулкий чую пламень,
А журчанье вещих вод.
М. ВолошинИ стены пасмурной тюрьмы
Одною силой жизни мы
Перед собою раздвигали.
М. ВолошинГений и философия Франциск Ассизский и Джотто Бондоне
Посредине мира
Он шел босым в одном лишь рубище по лесу. Падал хлопьями снег. А он шел неведомо куда, оставив отчий дом, и пел. Он пел о Боге, о любви, о страстной и бесплотной всеобщей любви к людям, Богу, земле, птицам, травам.
Хвала Тебе за землю, нашу мать, Которая нас на себе покоит, Заботится о нас, плоды приносит И травы разные и пестрые цветочки…[1]Он ничего не боялся, не имел расчета, сердце его было преисполнено Богом и поэзией. Его звали Джованни Бернардоне, и был он единственным сыном богатого торговца сукном и другими тканями в городе Ассизи в Умбрии.
Джованни Бернардоне – юноша впечатлительный, утонченный – плоть от плоти окружающей его мягкой поэтичности родной Умбрии.
Тающая синева небес, тонкая очерченность холмов, пушистость раннего цветения на картинах Рафаэля, Перуджино, Пьеро делла Франческа. Весь настрой нежной, молодой, однако и твердой, таинственной земли Тосканы способствовал деятельному поэтическому гению этих мест. Тогда, на рубеже XII–XIII веков, возникла мода на любовную и религиозную песенную лирику странствующих бардов, менестрелей и жонглеров из Франции. Странствовали группы и балаганы в праздники и ярмарочные дни. Но особенно популярны были жонглеры, которые умели все: и петь, и ходить на руках, и быть или казаться чуть-чуть юродивыми. Легенду о «Жонглере Богоматери» знали все. Молодой человек не знал ни молитв, ни грамоты, но страстно, всем сердцем возлюбил Пречистую Деву. Свое служение он доказывал, выделывая антраша, исполняя песни-молитвы собственного сочинения. Однажды во сне Пречистая явилась ему и в знак благосклонности укрыла сына своего покрывалом, обласкала улыбкой, сиянием глаз небесной чистоты. Эту легенду очень любил юный Джованни. То была куртуазная культура впечатлительного и бурного времени. Джованни был молод, всем своим существом включен в жизнь: пел, любил стихи, любил компании. Его прозвали Франческо, то есть «французистый». Трудно сказать, правда ли это, но так утверждает англичанин Гилберт Честертон в книге «Св. Франциск Ассизский».
Смолоду Франческо был, как говорится, безбашенным: кутил, воевал, не очень-то оглядывался на деньги. Однако он был все же тщеславен и во всем хотел первенства. Уходя из дома на войну, он громко крикнул на площади, да так, чтобы слышали все: «Я вернусь великим вождем!» В этом вызове угадывается потомок древних латинян с непременным классическим образованием и любовью к цитатам из классики. «Максимы Цезаря» юноши из хороших семей знали твердо, но не каждый мог громко пообещать, что станет великим вождем. До военных действий тогда не дошло. Джованни Бернардоне вернулся в Ассизи больным. Это и был первый сигнал свыше, поворотный момент «Пути». Во сне он услышал слова из Евангелия от Иоанна: «…мир Мой даю вам; не так, как мир дает…» (Ин. 14:27)
Эти слова обрели судьбоносное значение. Во-первых, отныне Джованни больше не во власти земного отца своего, но лишь Отца Небесного, который его избрал своим посланцем. Наступило время свободы от авторитетов земных: «…не так, как мир дает…» Во-вторых, он призван свыше «мой мир» дать людям. «Мой» – это чей же? Видимо, того, кто явился во сне со словами Евангелия от Иоанна? Или «мой», то есть не Джованни Бернардоне, но уже Франциска из Ассизи?
Франциск не был самоуправцем, но среди людей – свободным, а у Бога – служкой.
То бурное время призывает радикалов различного толка, в том числе и новых святых. Не все и не всегда можно объяснить. Время, о котором идет речь, рекрутировало людей особого рода – настоящих духовных вождей, одержимых идеями преобразования сознания и духа. Появились характеры страстные, лишенные чувства самосохранения, «пассионарии» в прямом определении, данном Львом Гумилевым. Объяснить, конечно, можно все, но в то же время и нельзя. Почему от нашего внимания ускользает время столь глубоких новых явлений? «Богородичный культ», соединившийся с культом поклонения «прекрасной даме» – платонической царице воинов-паломников и поэтов. Канон «коронации Богородицы», изображение ангелоподобных блондинок с алыми губками и розой на груди? Она «уже была» до эпохи Возрождения. Культ «Нотр-Дам», как мы уже говорили, был создан святыми схоластами вроде тщедушного цистерцианца Бернара, а не чувственной художественной богемой XV века. И в то же время именно Бернар Клервоский оскопил великого Абеляра, певца Элоизы, интеллектуалки и страстной возлюбленной ученого… Не роман Бальзака все-таки, но его предшественник. Бернар, чья душа – чистилище борьбы света и тьмы, был канонизирован всего через двадцать лет после смерти, в 1174 году.
В 1234 году канонизирован испанский монах Доминик де Гусман Гарсес. Он родился в семье испанского идальго в 1170 году, а умер в Италии в Болонье в 1221 году. Орден доминиканцев (псов Господа) занимал важное место в политической и культурной жизни Европы. Последователем Доминика был Альберт Великий (1193–1280), признанный Учителем Церкви. Его деятельность связана с Падуанским и Парижским университетами, Регенсбургом (где он был епископом), Кельном, где умер. Его сочинения по вопросам теологии, философии, античной филологии и алхимии насчитывают 38 томов. Альберт Великий преклонялся перед Аристотелем, был настоящим исследователем природы и, что очень важно, систематизатором. Его труды по ботанике, географии, минералогии, действию вулканов и многие другие не утратили актуальности в современной науке. Поражает универсализм ученого в сочетании с истовостью католика-доминиканца.
Учеником Альберта Великого был Фома Аквинский (1225–1274). Фома Аквинский создал комментарий к «Библии» и 12 трактатов об Аристотеле, книги о Цицероне, арабском ученом Авиценне, еврее Маймониде. Фома Аквинский объединил свои труды в два фолианта: «Сумма философии» и «Сумма теологии». Он занимался проблемами познания, психологии, а труды по «пассивному» и «активному» интеллекту интересны и сегодня. Он писал о разнице между научным познанием и «сверхъестественным откровением», то есть о том же, о чем пишем и мы сейчас. О том, чему можно и чему нельзя обучить. Святой Фома Аквинский четко понимал разницу между обучением и одаренностью. В переводе на современный язык понятий это означает, что в Литинституте научить стать Пушкиным невозможно никакими усилиями. Эллинист и доминиканец, мистик-схоласт и современный мыслитель в XII веке? Он имел диспут со святым Бонавентурой, францисканцем, верным последователем святого Франциска, о бытии Божьем и о доказательствах того бытия.
Святой Бонавентура – вот парадокс! – умер от аскезы, то есть истощения, недоедания, будучи кардиналом папы и генералом францисканского ордена. Он, как и Фома Аквинский, был многогранным ученым, человеком всесторонних интересов: знал античность, занимался алхимией, создавал (задолго до Парацельса) лекарства.
В отличие от святых книжников, интеллектуалов своего времени, Франциск интеллектуалом не был. Он не писал научных трудов. Он был поэтом, писал стихи и песни о Боге и его творении. Он не «восходил» к учености, но «снисходил» к чистоте и наивности детства. В этом было его отличие и огромная сила. Та самая «слеза ребенка», о которой писал Достоевский, ибо в культуре ничего не может потеряться.
И валлийский миф именно в это время, на границе XII–XIII веков, творит реальность истории Короля Артура, идеального рыцаря, творит утопию чаши Грааля. И все же, если вспоминать о духовных подвижниках времени, «богах места», сегодня это святой Франциск, который открывает «золотые ворота» Возрождения тем, что являет собой образ свободной, умиротворяющей, могучей личности, человека гармонии и ответственности. В отличие от других духовных подвижников своего времени, Франциск был не социален, не зависел от общества, но был свободен и шел к цели творения «своего мира» прямо, не считаясь с социальной реальностью. Не имея пристанища, никакого дома, он был как лист, гонимый ветром. Нищий, не имеющий ничего, даже смены одежды, он был знаменит и почитаем не менее пап и политиков своего времени. И есть секрет его публичности и популярности уже при жизни, его «центральности»: странное сочетание «малости, меньше видимого» и гигантизма, отказа от тщеславия.
Когда в 1220 году святой Франциск с двенадцатью «братьями» пришел (точно рассчитав, ничего не рассчитывая) в Рим в Латеранский дворец к папе Иннокентию III, тот, зная его уже по слухам, ахнул. Перед сияющим владыкой стоял грязный босоногий нищий. Легенда гласит, что Папа «послал его к свиньям». Это было ругательство, но Франциск понял все буквально и смиренно пошел к свиньям. Ночью же папе приснился сон, будто падает Латеранский собор и давешний нищий подпер его плечом. (Этот сюжет часто изображается художниками в житийной живописи святого Франциска.)
Когда наутро еще более грязный и вонючий нищий снова предстал перед Папой, вопрос об учреждении «Ордена странствующих нищих братьев» был решен и скреплен папской буллой, а Устав будущего ордена уже был написан. Франциск не сомневался в своей победе.
Пылинка Бога, бездомный нищий аскет, питавшийся объедками, называл себя «вестником Великого Господа», а еще «ликующим в Господе» и «потешником Господа». «Потешник Господа» выступил на сцене Италии как рупор Господень, и его слушали все, и все слушались. Потому что он действительно был избран «ликующим в Господе», сам знал это и умел внушить всем людям без разбора их социального значения: от разбойника до папы, от прокаженного до богача. Вот она, демократия пред очами Господа, и вот он – Франциск – его посланник. Его современники в кельях-кабинетах, лабораториях, а он – на открытой сцене, на подмостках мира.
Франциск ходил в окрестностях Ассизи около 1207 года и просил «Христа ради» не хлеб, но камни. Франциск никогда не просил подаяния хлебом и деньгами. Из камней же он восстановил разрушенную часовню Святой Девы под названием Порциункула и жил возле нее в ветхом шалаше. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». (Мф. 10:9-10) Он бросил посох и опоясал себя веревкой. «Потешник Господа» обрел свой классический отныне облик. На вопрос «Что угодно Господу: молитва или проповедь?» он дал ответ: стал проповедником.
Биографию святого Франциска давно принято разделять на периоды. Каждому периоду предшествует некое событие, знамение. Во-первых, это был уход из родительского дома. Все оставить, все отринуть, уйти и в рубище петь под снегом. Какой театральный образ! Что поделать – Франциск выражает в театральности свой национальный характер, национальный жест. Все очень серьезно и театрально одновременно. Во всем открытая взору театральность: вот он учит птиц, вот изгоняет дьяволов из Ареццо – это диалог с современниками, диалог психологического воздействия на современников. В этом сила и отличие святого Франциска. Он актер разомкнутой сценической площадки, большого пространства. Он – в центре.
Переходу к новому этапу – проповедничеству, странствиям, охвату мира неистово и с детской улыбкой – предшествовали погружение в молчание, отшельничество, пещера.
Мы не однажды говорили о том, что есть пещера. Это всегда сакральное место нового рождения или полного преображения. Из пещеры не выходят, но являются в новом обличье. Пещера, где укрывался два года Франциск (примерно до 1209 года), сегодня – непременное место паломничества, туристическая достопримечательность Тосканы.
Пещера святого Франциска находится в Ла Верна, недалеко от дома, где родился Микеланджело. Рядом церковь, украшенная панно и скульптурами великой семьи художников-керамистов делла Роббиа. Пещера же расположена в небольшом «райском саду», где цветут розы, журчит святой ручей, летают птицы. К пещере можно подойти и даже как-то втиснуться внутрь, но представить реально жизнь в ней невозможно. Франциск любил свою аскезу и нищету, как богач любит деньги, эпикуреец – радости жизни. Он упивался отрешением и свободой. И там, где он находился, всегда и навсегда благоухание эдема.
Это парадокс. И наг, и скромен, и тих. А все бряцает литаврами, горит медью, шумит молвой. Ни одно из мест, где ступала нога нищего проповедника, где он присел, вырыл колодец, поставил отметину своего пребывания, не потеряно. Можно предложить маршрут – «Путями святого Франциска». Он никогда не был в забвении. Его ясной таинственной тени вот уже более 800 лет.
У святого Франциска была своя прекрасная дама. Любовь небесная – святая Клара! Родом Клара была также из Ассизи. Ей было семнадцать лет, когда Франциск, скажем так, похитил Клару из богатого отчего дома. Совершенно классический вариант любой новеллы «галантных времен». Вспомним современника Джованни Бернардоне (святого Франциска) француза Пьера Абеляра, теолога и ученого, соблазнившего свою ученицу, прекрасную Элоизу. Какое тяжкое наказание понесли оба за свой грех! Оба окончили жизнь в монастыре, скажем, не совсем добровольно. Абеляр же был наказан лишением мужских достоинств, то есть оскоплен. Человек, по велению которого Абеляр был оскоплен, – Бернард Клервоский. Заклятые враги под конец жизни стали даже друзьями. Евнух социально не опасен. Вот они, «страсти-мордасти» XII века.
Не то – святой Франциск. Вряд ли у кого-либо из святых была такая «прекрасная дама»:
Безумья и огня венец Над ней горел. И пламень муки, И ясновидящие руки, И глаз невидящих свинец, Лицо готической сивиллы, И строгость щек, и тяжесть век, Шагов ее неровный бег — Все было полно вещей силы. М. ВолошинКлара по силе духа, последовательности, вере была ровней святому Франциску. Прекрасные дамы земных владык… Ута, завернувшаяся в длинный плащ, ждущая рыцаря Эхгарта. Придуманные и реальные дамы рыцарской культуры. Донны и Музы поэзии и живописи грядущих эпох рождены воображением и гением творцов. Клара была реальностью. Она – соратник новой миссии проповедника.
Сбежавшая из дома Клара стала духовной ученицей и спутницей Франциска. В ночь побега их тени можно было разглядеть на фоне костра на холме близ Ассизи. Они преломили хлеб и говорили о Боге. И никогда никаких сомнений в высокой миссии, насмешек, сплетен, кривотолков. Затем к Кларе присоединилась ее младшая сестра. Любовь небесная всегда сильнее любви земной. Клара не замечала житейских невзгод. Как и Франциск, она любила лишения, нищету, целомудрие, голод точно так же, как иные любят наряды, достаток и блуд. Благодаря святому Франциску Клара создала свой женский монашеский орден. Это орден кларисс (или клариссинок), он живет и здравствует доныне. Его устав, составленный святой Кларой (иногда кларисс называют вторым орденом святого Франциска), имел много нововведений. Клариссы сосредоточились на обучении пению, рукоделию, домашним премудростям. Жизнь кларисс, уставно строгая, была разнообразна и милосердна. Сестры милосердия берут начало в монастырях францисканок.
Однажды святой Франциск, мыслящий глобально, решил остановить Крестовые походы и обратить мусульман в христианство. Недолго думая, он кинулся в Сирию, прибыл в штаб Крестового похода к осажденной крепости Дамьетте и быстро нашел ставку неверных. Он говорил с султаном и вполне искренно полагал, что убедил султана и его двор принять христианство и крещение. Чудом было его возвращение живым. Безумный этот поступок был вполне в духе «лютни Господа». Он не думал об опасности или провале. Франциск был свободным человеком, и эту свободу и демократию он предложил своему времени. Ты ничем не связан, кроме обета перед Господом, ты равно готов помочь всем и всех понять. Вот почему ни в одном из своих подвигов Франциск не сомневался. Любовь и взаимное понимание предлагал он своему времени. Для Франциска все были братьями, и он создал орден «братцев-францисканцев». Братец, сестрица – его любимые обиходные слова. Всегда весел и вежлив, любезен со всеми без исключения. Без исключения братьев и сестриц малых: зайцев, птиц, лесного населения.
«Друг мой заяц», «друг мой осел». Он просил прощения у кошки. Однажды, собираясь проповедовать в лесу, где пели птицы, он вежливо обратился к ним: «Сестрицы мои птички, если вы сказали, что хотели, дайте сказать и мне». И все птицы смолкли, чему мы безусловно верим. Бог одинаков в любви к своим творениям.
Веку Крестовых походов, всеобщей войны против всех, жестокости и предательства святой Франциск с наивностью ребенка, силой воли воина и целеустремленностью политика противостоял всемерной и всемирной добротой, нежной улыбкой, словом «братцы». И мир прислушивался к его слову. Он имел сторонников. Власти посмеивались наивности его утопий, но поддерживали это противодействие разрушению. Мир для него, как для поэта и святого, был ярок, чист и целен.
Однажды некий дворянин по имени Орландо де Кьюзи с землями в Тоскане подарил святому Франциску гору. То была гора Алверно в Апеннинах. Правила ордена запрещали принимать деньги, но о горах ничего не говорилось. Святой Франциск принял гору. Он уходил на гору, чтобы молиться и поститься, и никого не брал с собой. И там, при странных обстоятельствах, ему было явление серафима.
Гора, равно как и пещера, – отметины судьбы избранников. Пещера – утроба земли, место нового рождения. Гора – вертикаль, ось мира, близость неба, восхождение. Пещера (ясли) – место рождения Иисуса. Свет горы Фаворской – место Преображения. Франциск как бы повторяет – не копирует, но воспроизводит житие Спасителя. Он тень и лютня Владыки. Правильность пути праведнического. Он восходит к горе и становится «посредине мира». Посредине мира на земле, посреди людей, животных, птиц, деревьев. И на вершине Алверно, которая сама посредине, в центре мира, получил он знак неоспоримого сопричастия Учителю. Одинокий Франциск там был пронзен и забылся в экстазе, а когда очнулся, увидел следы гвоздей на своих ладонях. Это были стигматы распятого Господа. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул», – это написал Пушкин о явившемся ему в «пустыне мрачной» серафиме. Явление серафима поэту – окончательное определение, последнее уточнение формы поэта-пророка.
Всю жизнь одолевая свой Путь, под конец жизни он воскликнул: «Никогда, никогда не предавайте этих мест! Куда бы вы ни шли, где бы ни бродили, всегда возвращайтесь домой»[2].
«Даруй мне заронить любовь в сердца злобствующих, Принеси благодать прощения ненавидящим, Примирить враждующих. Укрепи верою сомневающихся, Даруй мне возродить надеждой отчаявшихся, Одари радостью скорбящих» —эту молитву о мире написал святой Франциск Ассизский, в миру Джованни Бернардоне.
Бернард Клервоский, равно как и святой Доминик, был в миру политиком с дальновидными решениями. Святой Франциск заключил в объятия весь тварный мир, призывая «милость к падшим». Его девизом был призыв к любви, уважению, любезности, братству. И пока он шел по земле, ему казалось, что все так и было. Лев Толстой, принц Гаутама, Ганди, Франциск, доктор Швейцер пребывали в этом мире, придавая земной оси нужный градус наклона.
Однако после смерти святого Франциска, похороненного на родине в Ассизи, орден пережил разные времена и смуты и утратил чистоту, которую нес маленький человек в рубище, подпоясанном веревкой. И не слетались сестры-птички, и не приходили братец-волк и братец-заяц. Память о дивном гении и чудаке обросла житиями и легендами, его деяния были много раз описаны, и в мире навсегда остался его образ и след его борозды.
После смерти святого Франциска многое изменилось. Братья спорили о том, в каком направлении двигаться. Впрочем, это обычное дело: после смерти лидера паства остается без поводыря. Орден нищенствующий, а монастыри богатые. В данном случае для нас интересны некоторые последователи Франциска, а не весь орден.
Несомненно выдающейся личностью был Бонавентура (о котором мы уже упоминали), канонизированный Сикстом IV в 1482 году (в миру Джованни Фиданца). Тонкий теолог, алхимик Бонавентура был «генералиссимусом» ордена францисканцев и следовал такой строгой аскезе, что говорили, будто он умер от истощения, будучи уже не только главой ордена, но и кардиналом Григория Х. Святой Бонавентура глубоко понимал тезис о межъязыковом братстве, о понимании и духовном слышании друг друга людей разноязыких. Изучая главные языки, он стал лингвистом и переводчиком. Переводы знакомят, роднят народы, приобщая их к духовным ценностям чужой культуры. Среди прочего Бонавентура перевел арабский текст о загробном странствии пророка Мухаммеда в сопровождении архангела Джабраила по аду. Данте Алигьери был хорошо знаком с этим популярным текстом в переводе Бонавентуры. Так что переводческая деятельность – францисканство чистой воды. Бонавентура, будучи аскетом и теологом, тем не менее увлеченно занимался опытами получения философского камня. Камня он не добыл, но получил лечебные порошки, то есть был врачом-фармацевтом и лечил людей.
Францисканские ученые, последовательные в своем искании путей единения, отличались от принципиально антиинтеллектуального, интуитивного своего лидера. Но, вникая в суть учения, были людьми «мира в мире».
Францисканский монах-аскет падре Оливери (тосканец) в XVII веке пришел в Тибет. И с тех самых времен и доныне установлен «великий путь» тибетских монахов в Италию, где они популярны, имеют широкую поощрительную деятельность, о чем можно написать отдельное исследование «Францисканский католицизм и тибетский даосизм».
И уже в наши дни, в 1933 году, глава францисканского археологического института во Флоренции брат Антонио Фармуцци возглавил поиски в Иордании библейской горы, с вершины которой вознесся пророк Моисей. Археологи нашли гору Небо, создали там музей, доказали историчность места. А когда работа была закончена, подарили весь свой труд государству Иордания и уехали домой. Чтобы не было помех в работе, они предварительно купили на собранные деньги никому не известный участок земли с горой, а когда закончили весь цикл работ, отдали гору Небо и ушли. Мы уже говорили, что гора – всегда средина мира. Вершина – некая точка, а вокруг панорама, и ты – в центре, а точнее – посредине мира. Когда ты на вершине горы Небо, нет сомнений в том, что именно из этой точки пророк Моисей ушел к тому, кто его послал на землю. Гуманистическое францисканство – самая актуальная сегодня позиция. Это бескорыстная помощь миру, и понимание, и осознание себя через других, и ответственность «посредине мира».
Я человек, я посредине мира, За мною мириады инфузорий, Передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост — Два берега связующее море, Два космоса соединивший мост. Арсений Тарковский«Два берега связующее море, два космоса соединивший мост»… Таким был и Джотто Бондоне, флорентинец.
С одной стороны, Джотто, как и Данте Алигьери, как и святой Франциск, – мост, соединивший, связавший собой, своим гением два космоса, две эпохи: теологию и гуманизм. Получив стигматы через серафима, посланца Отца Небесного, святой Франциск в центре мира видел «цветочки», «брата зайца», человека, то есть боготворение. Джотто – историческое (евангелически-библейское) событие, творимое человеком. Одним из любимых героев Джотто был святой Франциск Ассизский. Был ли Джотто францисканцем «в ордене», неизвестно, но, безусловно, художник разделял взгляды великого проповедника. И то, что Джотто как раз тот, с кого начинается новое летоисчисление, давно ни у кого не вызывает сомнений.
Есть и более радикальная позиция. «Джотто вышел в трансцендентный ноль», – изрек как-то философ Мераб Мамардашвили. Смеялись мы недолго. Ну конечно же! Джотто начал с нуля, как и Франциск. Прецедента столь могучей личности в новой европейской живописи до него не было. И трудно представить, что Чимабуэ – это учитель Джотто, а Дуччо – его современник. Он, Джотто, шагнул в другое измерение. Он не наследовал даже самым талантливым мастерам старой византийской школы. Он прервал в Италии византийскую традицию, осиянный гением, открыл двери в совсем иной мир и шагнул за порог неведомого.
Во Флоренции в музее Уффици рядом расположены мадонны Чимабуэ и Джотто. Картины имеют некоторое формальное сходство композиции: доска пятиконечной формы повторяет портал собора. Смысл в том, что Богородица с младенцем находится как бы внутри собора. Но даже беглый взгляд зрителя непременно отметит разницу между мастерами. Изящество письма Чимабуэ, изысканность готических линий, формальное византийское письмо темного восточного лика Мадонны, телесная бесплотность, невесомость рук… Изображение Чимабуэ мы все еще называем иконой. Икона Джотто ломает эти условные строгие правила. Собственно, это уже и не икона. Тело Марии не бесплотно, это живая человеческая плоть. Белая сорочка подчеркивает грудь. Широкоплечая белокурая молодая женщина держит (именно держит, охватывает) на коленях телесного младенца. Значение этого изменения трудно недооценить: Богородица становится Мадонной. Отныне, от Джотто начиная, у каждого итальянского художника своя мадонна, свой излюбленный женский тип, ничуть не напоминающий восточный «ликовый» канон. В российской иконописи ликовый канон существует по сей день. Религиозное и светское искусство в русской традиции разделены. С начала XVIII века, от реформ Петра I, светское искусство портретов, пейзажей, исторической живописи развивается, и быть иначе не может. Но религиозная живопись живет по законам иконостаса и церковных канонических правил. Если лик Богородицы станет лицом – значит, иконы не стало. В западной культуре через Данте и Джотто образ Мадонны привычно сквозит чертами «прекрасной дамы». В России такая форма явилась поздно в творчестве Михаила Врубеля, который изобразил Эмилию Прахову в иконостасе Кирилловской церкви в Киеве. Но это, во-первых, XX век, а, во-вторых, редчайшее исключение из правил.
На рубеже XIII и XIV веков Джотто изменил направление, по которому развивалось искусство. Мадонна торжественно, преисполненная земного женского достоинства, являет себя и младенца миру. Она мать, жена, царица. Ни печали, ни жертвы. Она величественна и спокойна. Джотто писал тех женщин, среди которых рос: крупных, несуетливых, с косами вокруг головы, нежными сильными руками и лицами. Вокруг трона Мадонны хор ангелов, держащих большие церковные свечи. Перед инкрустированным, словно драгоценная шкатулка, троном – коленопреклоненные ангелы-пажи с букетами цветов. Цветы же написаны как в хорошем современном академическом натюрморте. Цветок – к букету, лепесток – к цветку. Об этом, впрочем, разговор еще будет впереди.
Появление Джотто было воспринято с радостью и размахом. Мир ждал обновления. «Он писал столь совершенно, что завоевал славу величайшую»[3].
Во Флоренции в церкви Санта-Кроче в капелле Барди и сегодня можно видеть фреску «Смерть святого Франциска Ассизского». Это большая, сложная по композиции картина. Фрески Джотто следует уже называть картинами, а его самого – создателем современной композиционной картины.
Францисканский цикл Джотто очень обширен. Нам неизвестно, был ли Джотто францисканцем, и мы не знаем ничего о его политических симпатиях. Хотя Италия в те времена бурлила страстями нешуточными. И мы помним, как Флоренция выгнала «белого гвельфа», величайшего гения Италии и мира, Данте Алигьери.
Флоренция – родина Данте и Джотто, колыбель Возрождения, в XIII веке ничуть не была похожа на современную. Башни, башни, башни Тосканы и сегодня поражают воображение там, где они еще остались. Одинокие башни, похожие на современные высотные дома, башни зубчатых стен придавали странный образ городам. В Лукке, Сиене, Пизе, Болонье, Флоренции городская жизнь текла внутри высотного башенного лабиринта. Иногда они окружали площади, но чаще, стоя вблизи друг друга, делали тесными маленькие улочки города. Только еще строился знаменитый Баптистерий и Дом Капитана – дворец Барджелло, место городского самоуправления. В странных башнях жили сеньоры и зажиточные люди города. Город славился богатством, изделиями из шерсти разных сортов и тонкой окраски, ювелирами, нотариусами, ростовщиками. Города были средоточием науки, горожане – читающими людьми. Во времена Данте и Джотто только во Флоренции 10 тысяч молодых людей обучались математике, риторике, философии. Даже девушек учили чтению и письму. В университетской Болонье люди со всего мира обучались юриспруденции, поэтике, грамматике, риторике, математике и т. д. В Болонском университете получал образование Данте. У друга Данте, ученого, поэта и аристократа Гвидо Кавальканти, письменный стол украшали античные статуэтки Аполлона с Дафной и голова Артемиды. Имена Аристотеля, Цицерона, Вергилия, труды античных авторов, Юлия Цезаря пропитывают и прошивают культурную жизнь времени. И удивляться нечему, если отцы церкви были эллинистами, ботаниками, переводчиками, систематизировали знания гуманитарные и естественные, занимались Востоком.
Исходя из этого, мы можем судить об уровне интересов и образования людей XIII века. Неудивительно, что круг интересов и чтения Данте был так широк. Одно из своих произведений, как и Платон, Данте назвал «Пир». Штудия «Эстетики» Аристотеля, произведений Цицерона, латинской классической поэзии. И на первом месте Вергилий – поэт, историк, мыслитель и, что немаловажно, близкий сильному императору Октавиану Августу человек. Для «белого гвельфа» Данте это имело большое значение. Одновременно Данте увлекается личностью Фомы Аквинского, который гармонично сочетал католическую теологию, должность архиепископа, занятия магией со славой доктора Фауста. Он оставил комментарии к любимой Данте «Этике» Аристотеля. Помимо сочинений бенедектинца Бернарда Клервоского, он нежно любил братьев францисканцев, святого Франциска и, конечно же, Бонавентуру, перевод которого о блужданиях пророка Мухаммеда был его настольной книгой.
Данте привлекали истории о короле Артуре, труды философа V века Боэция, сицилийская и прованская лирика трубадуров, культ любви бога Амура. Концентрация гражданской жизни города, архитектуры, литературы создавала ситуацию «культурного бума», выражаясь нашим языком. Лев Гумилев назвал это время активным пассионарным состоянием. Все пело о новой жизни. В пустоте личности и культура не рождаются.
Мы знаем даже, что во Флоренции был орден «Рыцарей служения Богородице» (то есть прекрасной даме). И мы видели этих рыцарей служения в образах ангелов с букетами, коленопреклоненных перед троном Мадонны на картине Джотто. И Джотто, и Данте жили в фантастическое время, в эпоху предельной духовной, политической и культурной ломки Флоренции XIII века. Есть мнение, что Джотто опередил время (по сравнению с Чимабуэ или Дуччо). Джотто ничего не опередил: он описал свое время, определил его. Джотто нашел тот новый язык, язык новой жизни, которого чаяло время. Подобно Джотто, в свое время описали свой мир импрессионисты, потому что классический язык был уже архаичен и для передачи нового пространства, движения, времени и образа человека непригоден. Джотто вписался, врезался новым языком живописи в новую жизнь, но масштаб его был таков, что его творчество оказалось все равно «больше» и во многом определило будущее. Джотто столько дал своим современникам, что осталось еще и потомкам.
В капелле Барджелло во Флоренции Джотто оставил нам портрет Данте среди праведников в сцене Страшного суда. Вазари называет Джотто другом Данте и рассказывает, что он горько оплакивал смерть поэта.
Когда умер духовный и мирской владыка и глава гибеллинской (враждебной Данте) партии Тосканы Мосла де Морелла, Джотто принял заказ на сооружение гробницы в Ареццо, где жил последний. Он выполнял заказы и герцога Малатесты, хозяина Римини, то есть политически был не ангажирован, как и полагалось людям ремесла.
Особенно дружил Джотто с неаполитанским королем Робертом и охотно работал у него. Они много беседовали, и любивший весело пожить неаполитанский король ценил беседы и шутки Джотто. Король сказал однажды: «Джотто, если бы я был тобой, я, пока жарко, немного передохнул бы от живописи». Джотто тут же ответил: «И я бы конечно это сделал, если бы был вами».
Как художник Джотто всегда был связан заказами, по большей части фресковыми росписями на религиозные темы. Он работал с папами, князьями, богатыми заказчиками, городами, да не один, а с большой бригадой учеников и подмастерьев. Как ведущий прославленный мастер Джотто определял масштаб работ, оплату и, главное, стиль работ. И почти все делал «со товарищи», как говорили на Руси. Труд Джотто оплачивался, как оплачивается любой цеховой труд. Такому прославленному мастеру заказчики платили щедро. Если быть точными, Джотто и Данте принадлежали не только к разным цехам, но и к разным слоям общества. И это очень важно для понимания условий творчества. Но воздухом они дышали одним.
Портретов Данте осталось много. Как подлинный может быть принят портрет Данте «с профилем орлиным» авторства Джотто, что подтверждено реконструкцией по черепу. Рафаэль Санти в «Диспуте» ватиканского цикла оставил, быть может, наиболее близкий, угаданный интуитивно портрет-образ гения Данте. Английские прерафаэлиты как только не воспевали в романтической ностальгии живописных полотен и Данте, и Беатриче!
Но наиболее поучительным представляется портрет Данте на фоне Флоренции с дантовой моделью мира, написанный художником XV века Доменико ди Франческо на стене кафедрального собора Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре. Флорентинцы устроили пышную, как сейчас бы сказали, конференцию памяти своего соотечественника и (к тому времени) мирового гения науки, поэзии, философии Данте Алигьери. Ни слов, ни денег не пожалели, ни стены кафедрального собора. Эпоха Возрождения сформулировала многие современные стереотипы поведения, в том числе и этот: «Изгнали же не мы, но мы чтим и воздаем в оценке поздней». Равенна же, как и полагается, праха все равно не отдала до сих пор, а мавзолей Данте и по сей день – непременный пункт туристического маршрута. Данте закончил «Ад» в Лукке, «Чистилище» – в Вероне и Равенне, а «Рай» – в Венеции и Равенне, где и умер в ночь на 14 сентября 1321 года. Свою поэму он писал в городах скитаний, а не на родине, по которой бесконечно тосковал.
А вот портретов Джотто не осталось, ему было не положено. Автопортреты еще не писали. Есть только литературное описание Боккаччо и Вазари. Они свидетельствуют, что Джотто не был хорош собой, но был весел и обаятелен в общении. Однако любой художник оставляет через творчество свой автопортрет, не в зеркале, но в образе. Крупное, плотное тело, полнощекое с густыми копнами волос лицо. Располагающие к себе герои Джотто, несомненно, некая тень, фантом ясного, здорового духом, глубокого гения Джотто.
Вернемся, однако, назад – в Верхнюю церковь Ассизи, где Джотто работает над житием святого Франциска.
Верхняя церковь в Ассизи особенно уютна и нарядна. Нервюрные своды, вырастающие из чудесного пучка изящных стройных колонн, стягиваются узлом на потолке, образуя легкие шатровые перекрытия. Витражные небольшие продолговатые окна, ювелирность архитектурной отделки будто специально созданы для картин Джотто, в два яруса расположенных вдоль стен. Вот знаменитый сюжет сна Иннокентия III, о котором мы рассказывали. Папа спит торжественно, в полном папском облачении – в мантии, тиаре и перчатках. Занавес алькова скручен вокруг колонн. Сцена открыта для созерцания сна папы. Он похож на свою посмертную скульптуру, величественно покоен и недвижим. Левая часть фрески отведена непосредственно сну. Папа видит во сне, как рушатся Латеранский собор и кампанила (колокольня). Все накренилось с готовностью рухнуть. Но явившийся францисканский монах, так легко подставив плечо, подпирает и удерживает от падения хрупкое строение. Богатырь спасает хрупкое строение – это аллегория.
Святой Франциск непохож на истощенного аскета. Он силен, молод, розовощек, что называется, «кровь с молоком» (может, похож на самого художника?). Подбоченившись левой рукой, он ладонью правой руки легко ставит на место покачнувшуюся папскую резиденцию. Святой Франциск напоминает Геракла, державшего на плечах свод небес в отсутствие Атланта. Сновидение реальнее жизни, его знаки яснее того, что перед глазами. Грязный полубезумный монах со вчерашней аудиенции на самом деле – спаситель церкви, титан. Недаром, проснувшись поутру, Иннокентий III благосклонно принял бродягу-монаха и подписал буллу, учреждающую орден.
Мир сна и яви, чуда и обыденности для Франциска, как и для Джотто, равны, равнореальны. Все ра́вно явлено и документально. Никаких сомнений в происходящем. Случиться может все, если открыт слух Всевышнему для молитвы. Но какой силы веры и чистоты должна быть энергия молитвы! Такая молитва исцеляет, рушит стены врагов, изгоняет демонов, усиливает свет.
Собор города Ареццо, написанный Джотто во фреске «Изгнание демонов», и сегодня выглядит так же. Это документ времени. Он узнается издали и вблизи вытянутостью, кристаллом апсиды, деталями архитектуры. Такая документальность места действия усиливает правду чуда. Этакий неореализм XII века в Италии. Перспектива ландшафта и города, идущая на вас, а не от вас. Все очень точно. На эту итальянскую перспективу старых городов жаловался Андрей Тарковский. Он говорил, что тоскует по просторам и равнинным пространствам России. От архитектурной, идущей на тебя плотности ему было душно. Но именно эту «плотность пространства» прекрасно использует в декорациях сценического действия своей драматургии Джотто. В «Изгнании демонов» из Ареццо святой Франциск молится, стоя на коленях. Но молитва его столь чудотворна, что монаху, стоящему посреди авансцены, стоило взмахнуть рукой – и все демоны с воем посыпали прочь из города. Молитва буквально порождает чудо изгнания. Все картины, фрески Джотто можно рассматривать как угодно долго. Они подробно описывают действие, где важна любая деталь. И каждая деталь равно реальна – равно чудесна.
Честертон в своем исследовании о святом Франциске замечает, что для него не было понятия природы «в целом», но было важно каждое дерево: «брат-дуб», «сестрица-роза» и т. д. Красота «сестры-ласточки» на фоне синего неба. Точно так же пишет мир Джотто. В «Проповеди птицам» или «Открытии источника» движение фигуры «братца» к «сестре-воде». Весь мир одушевлен, и нет, не может быть второстепенности в том, что входит в мир Божьего творения.
Идеи Франциска в стиле живописи Джотто – уникальное взаимораскрытие философии и искусства. Нет ничего странного в том, что два гениальных современника – Данте Алигьери и Джотто Бондоне, флорентинцы, – создают каждый свою vita nova. Для Джотто его театр живописи, стиль, герои, отношение к деталям близки философии добра и духовного равенства перед лицом Бога, природы и вечности. Франциск был свободен, независим мыслью, словом, действием. Джотто был таким же. Думается, что подлинным последователем Франциска стал именно Джотто, а не братья францисканцы. Джотто, как и Данте, и Франциск, создан был Господом в единственном экземпляре, а все последователи, как и братья францисканцы, совсем другое дело.
Картины Джотто всегда диалоги на сцене. Диалоги внутренние – героев между собой. И диалоги внешние – с нами, зрителями. Он первый, кто чудо «явления» раскрыл через реальное действие. Состояние невесомости заменила сила земного притяжения на сцене жизни, на земле. Посмотрите на фрески. Не герои похожи на ангелов (см. «Оплакивание Христа», «Бегство в Египет» и др.), но ангелы тяжелы и плотны, подобны людям. Они страдают, ликуют, плачут, они наши хранители и подобия. Можно сказать проще: основой композиции картин Джотто впервые становится литературный рассказ. Изображение подобно слову, несет словесную нагрузку. Для живописи эпохи Возрождения, начиная с Джотто, причинно-следственное видение изобразительного рассказа становится тем, что мы называем театром.
Фрески в Ассизи, как и фрески в Риме, Римини, Милане, Неаполе и всюду, куда приходила веселая ватага «Джотто со товарищи», были результатом артельного труда. Но манеру Джотто, то есть стиль, задавал лидер. Постепенно мы начинаем отличать руку Джотто от работ, написанных учениками. Но здесь, в Ассизи (да и в других работах), это не важно. Такова норма художественной жизни Средневековья. То же в России: есть «школа Андрея Рублева», но есть и «Троица», написанная только Рублевым. В XVII веке – «школа Рубенса» и Рубенс. Была «школа Казимира Малевича». В нее входили великие имена и адепты супрематизма. Но был «Черный квадрат», и это работа Малевича. И у Джотто есть работы, о которых мы знаем, что они написаны самим мастером. Речь идет о церкви на Арене в Падуе. Она названа так потому, что была построена на месте старой римской арены для боев гладиаторов. Это принцип очищения места, где пролилась кровь невольников и первых безымянных христиан. Одновременно это и тема изгнания торгующих из храма, потому что любая арена имела тотализатор. Церковь в Падуе примерно в 1300 году приобрел богатый человек и меценат Энрико Скровеньи. И в 1303 (или 1304) году он пригласил художника расписывать стены. Джотто приехал в Падую один, и пока его товарищи по цеху дописывали старый заказ, он, не теряя времени, приступил к подготовке стен для росписи и даже начал писать. Небольшая романская капелла имеет один неф и арочные стены. Церковь уютная и дает возможность хорошо рассмотреть фрески, надолго погрузившись в драматургию театра Джотто, где так важны мелкие подробности действия в его истории Христа и Марии.
В нижнем правом углу церкви Джотто написал сцену поцелуя Иуды. Русская живопись этот сюжет не пишет. Поцелуй Иуды – сюжет трагический, предательский, как бы переломный внутри «страстей Господа». После поцелуя все уже бесповоротно стремительно движется к развязке, к суду Пилата и Распятию.
Сегодня в литературе тема поцелуя Иуды как символа ненависти и предательства трактуется по-разному. Иудин грех, дескать, прощен. Он, Иуда, выполнял понятый им одним, негласно переданный приказ Христа. Иуда повесился на осине, на которой, как известно, повеситься невозможно, и т. д. Но Джотто был человек простой. Он жил в XIII веке. Учитель, в его конкретном случае Чимабуэ, сотворил его как личность, дал выход его гению. А у отца Джотто пас овец, за коим занятием и познакомился с ним Чимабуэ. Предать учителя?! Того, кто тебя сотворил? Допустим, это локальная мораль того времени, когда учитель был отцом духовным и творческим. Но есть и общая мораль, христианская. Пушкин в XIX веке писал: «Как с древа сорвался предатель-ученик…», и заканчивается это стихотворение словами: «Лобзанием своим насквозь прожег уста, в предательскую ночь лобзавшие Христа». Для Пушкина вопрос о предательстве разночтений не имел.
На фреске Джотто фигуры Христа и Иуды, поглощающего своим объятием Учителя, – центральные. Они главные действующие лица трагедии, происходящей на наших глазах. Как в классической драматургии, действие имеет три уровня: главные действующие лица – Христос и Иуда, герои эпизода – фарисей и Петр, и большая разнохарактерная массовка.
Действие намагничено общей эмоцией напряженного внимания к тому, что происходит в центре толпы. Посмотрите на окаменевшие в ожидании развязки лица. Одна деталь удивительна: латник обутой тяжелой ногой в давке наступил на босую ногу юноши с факелом. Но напряжение так сильно, что юноша не чувствует боли, не замечает ее. Это состояние можно назвать «общим психологическим действием». В эпоху церковных канонов? Практически невероятно. Но и это не главное. Жесты фарисея и Петра, если последить за траекторией их движения, пересекаются на лицах Христа и Иуды, очерчивая некий центр центра. А линия плаща Иуды еще более подчеркивает и выделяет их лица. Вот где главное: Иуда еще не поцеловал Христа, он лишь приближает лицо. Все происходит за мгновение до поцелуя. Все подвешено в паузе. Иуда максимально приблизил лицо и даже вытянул губы, но остановился. Он заглядывает в глаза Учителя, он ищет какого-то ответа для себя и не находит его. Лицо Христа прекрасно, спокойно и непроницаемо. Какая разница портретов! Христос прекрасен – Иуда уродлив. Открытое чело, золото волнистых волос, сильная шея. У Иуды шеи нет вовсе, поросячьи глаза под вогнутым лбом неандертальца. Историческое, этическое, драматическое, психологическое действие описаны контрастом типов лиц и личностей. Как много сразу нового! На то и новое, что все и сразу. На то и гений, чтобы переводить часы на другое время. Боги места – стрелочники, их дело – переводить стрелки часов с одного времени на другое.
У Джотто категория времени очень важна для художественного действия в его театре. Оно течет в реальном действии. Но… Иуда еще не поцеловал Христа, он только собирается это сделать. Художник все и всех намагничивает на эту паузу. Текущее действие вдруг замерло. Замерли люди. В темном небе остановилось хаотическое беспокойное движение факелов, дубинок, алебард. И вдруг… Вдруг раздается в мертвой тишине напряжения резкий, протяжный ликующий звук. Звуки рога слоновой кости, в который трубит, надув щеки, некто из толпы. Это звук Воскрешения. Ангелы оповещают о Воскрешении, подняв трубы вверх. Олифант (рог) специально бел – это слоновый бивень, украшенный золотым орнаментом.
Авангардные чудеса Джотто на этом не кончаются. Его многофигурная композиция не помещается на исторической сцене. Справа и слева линия режет действие прямо по лицам участников, потому что тех, кто хочет здесь быть, много больше, чем вмещает площадка. Джотто будто говорит нам: сюда, в эту точку высокой трагедии, к уникальному для человечества поучительному действию, стекаются многие, но не всех вместит в это время это место.
Неподвижная, пребывающая вечность становится сложным действием во времени. Из «кисти Божей» художник Джотто сам стал драматургом, режиссером и актером своего изобразительного сочинения. «Я, Джотто Бондоне, свидетельствую, дорогие мои соотечественники, что дело обстояло так…» – как бы говорит художник.
Глубокая вера – не помеха смелому новаторству. На сцене Джотто случается много дивных событий. «Бегство в Египет», говоря языком сцены, – интермедия между двумя полными страстей событиями. Ослик («брат-осел») с человечьей мордой и грустными глазами бережно везет своих седоков. Кто еще в искусстве писал животных с высокой душой, покорных жребию людей? Может быть, гениальный грузин Пиросманашвили? Джотто пишет брата и друга осла, оседланного подобно коню. Он несет дорогую ношу – сосредоточенную красивую молодую мать с младенцем. Младенец тихо покачивается в качелях полотенца, и мы видим узел, которым связаны концы полотна. Этот узел не подведет. Иосиф идет впереди и уже почти уходит в боковую кулису со своим спутником. За осликом с драгоценной ношей следуют юные спутники в кожаных ботинках. Они тоже общаются между собой. И только Мадонна замкнута и сосредоточена на внутреннем своем состоянии. Посланный Отцом Небесным ангел указывает путникам дорогу. Условная гора образует подобие шатра над матерью и сыном. Процессия мерно движется. Сейчас скроется Иосиф, потом осел с ношей на спине, потом другие путники, и сцена опустеет. Возможно, этот сюжет, который будет множественно повторяться в живописи, Джотто написал первым в западном искусстве. Торжественность и бытовая простота достоверности и, главное, это понятие, развернутое во времени на сцене, с изображением движения-действия, дороги… Фрагмент мирного, хотя и тайного пути, фрагмент истории из детских лет Спасителя, незавершенность действия. Они идут… Джотто – художник неожиданностей, которые кажутся естественными.
А как прекрасны у Джотто женщины! Сильные, со здоровым нежным румянцем, золотом кос, статью. Они серьезны и чисты. В только что описанной сцене «Бегства в Египет» Мария сидит верхом на муле не как мужик, а женственно спокойно. Драгоценный сын ее мерно качается в такт движению в самодельном гамаке из полотнища, и Джотто показывает со всеми подробностями, каким узлом завязано полотнище, демонстрируя степень надежности. И все торжественно, гармония и счастье наступают, когда они все – Мадонна с младенцем, пастух, Иосиф, мул, бык, овцы, козлик и ангелы – собираются вместе в пещере хлева, который стал им приютом и жильем в момент Рождества младенца. Это счастливый момент остановки времени, временной паузы, точки истины, после которой время станет называться «новой эрой» («Рождество», церковь на Арене).
Творчество Джотто Бондоне бесценно в национальном и мировом искусстве. Скажем даже смелее: искусство живописи как действия, события, происходящего на тех или иных подмостках стран и времен, будет продолжаться в европейском искусстве до середины XIX века, до появления импрессионизма. Так что Джотто действительно «новая жизнь» и новая эра искусства посредине мира.
Среди учеников Джотто были талантливые, вроде Тадео Гадди, Гильельмо из Форли. Вазари также называет Симоне Мемми, флорентинца Стефано и римлянина Пьетро Каваллини. Перечисленные ученики Джотто были родом из всех сторон Италии, а эпоха, в которую они творили, то есть XIV век, в искусстве называется «треченто». Было много и хорошо выученных мастеров. Как и Джотто, все они должны были владеть разными умениями: и лепкой, и живописью, и архитектурой. Так Джотто сам в 1330 году выполнил заказ своей родной Флоренции и рядом с кафедральным собором Санта-Мария-дель-Фьоре поставил стройную и нарядно инкрустированную в стиле самого собора «кампанилу» – колокольню.
Современники знали, чтили и любили Джотто. Они оценили его, и о нем записано при жизни немало историй в сборнике новелл «Фацетии». О нем писал Джованни Боккаччо в своих новеллах «Декамерон» (новелла LXIII). Джотто был весел, любил шутку, деньги. И деньги ему платили охотно. Он был «здоровым» гением. Таким же ясным, крепким, монументальным и сентиментальным, какой была его живопись. Стиль Джотто, подражание ему, занимает собой век «треченто». Но настоящими, хотя порой и не прямыми последователями были те, кто жил много позднее. Не думаю, чтобы Рембрандт, «гений места» других времен – XVII века, знал Джотто. Но, может быть, именно он, один из немногих, понимал психологическое значение и напряжение «повисшего времени», паузы, как основного механизма композиции. Помним ли мы эту паузу «Ассура, Амана и Эсфири» или «Блудного сына»? Джотто так делал на рубеже XIII и XIV веков. Что же касается «сцены» как действия исторического и жизненного, то Джотто к ней вернулся спустя много времени после римских предков. Вернулся, открыв «театр жизни» на подмостках истории. Конечно, устройство сцены, реквизит переставляли, меняли, но все же подмостки, поставленные Джотто, всегда оставались. Исчезла только его цельность, его явное или неявное францисканство, его доброта и здоровье.
Джотто умер в своей родной Флоренции в 1337 году и был похоронен с почестями в Санта-Мария-дель-Фьоре. Но только столетие спустя, стараниями и на деньги Лоренцо де Медичи, «в знак поклонения» в соборе был установлен монумент, изваянный скульптором Бенедетто да Майано со стихами Анджело Полициано, поэта Возрождения, написавшего еще песню «Мы дети Примаверы» (то есть гимн Возрождения). Стихи же на мемориале Джотто звучат в переводе так:
Я – это тот, кем угасшая живопись снова воскресла. Чья, столь же тонкой рукой, сколь и легкой была… …….……………………………………………………….. Джотто прозванье мне. Чье творение выразит это? Имя мое предстоит долгим, как вечность хвалам.Полициано не ошибся, не переоценил. Люди тогда (любили они друг друга или нет) умели ценить и понимать своих предшественников и современников.
В капелле Скровеньи на западной стене, по обычаю, написана фреска Страшного суда. Справа праведники возносятся, слева грешники низвергаются в царство сатаны. Среди праведников ближе всего к центру фрески, внизу, у подножья Креста Голгофы, стоит коленопреклоненная фигура. Человек. Он передает ангелам то, что и есть его деяние пред Всевышним. Человек этот – Энрико Скровеньи, а предмет – миниатюрная точная копия церкви в Падуе на Арене (капеллы Скровеньи). Мы видим и западный портал входа, и базилику, и красивый граненый алтарь. Скровеньи одет в платье зажиточного горожанина и принятый в те времена головной покров шапочкой, в которой изображается Данте.
Как хорошо понимает Джотто, что значит дар Скровеньи перед лицом вечности! Просвещенные деньги, вложенные в бессмертие. Он первый оставил столь великую память просвещенности.
Те, кто служат бессмертию, также становятся бессмертными.
«Поцелуй Иуды»
Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.
Арсений ТарковскийЭти стихи Тарковского – идеальный эпиграф для рассказа о художнике Джотто. Прежде чем перейти к его фреске «Поцелуй Иуды», попробуем понять, кто такой был художник Джотто ди Бондоне. Почему именно этот эпиграф, почему именно это определение – «два берега связующее море, два космоса, соединивший мост»? «Я посредине мира» – это очень важные слова, которые характеризуют не только Джотто, но и всю эпоху, в которую он жил.
Середина его жизни совпала с рубежом двух столетий – XIII и XIV. Эпоху эту принято во всей мировой культуре называть эпохой Данте и Джотто, потому что Данте и Джотто были современниками. Когда говорят «эпоха Данте и Джотто», подразумевают то, что именно эти два гения (а они были подлинными гениями) определили собой как бы вершину эпохи, как бы высшую точку ее развития. Их творчество, вся их деятельность, сами их личности – средоточие духовных идей этого времени.
В то же время, если отвлечься от Джотто и Данте, не выделять их как фигуры, определившие время, нельзя рассматривать эту эпоху как нечто посредственное. Этот период принято называть Проторенессансом (у специалистов в ходу термин «треченто»). Проторенессанс – то, что предшествовало Возрождению, проложило ему дорогу. Это, конечно, очень условный тезис, потому что сам по себе этот период времени не менее знаменателен, чем начало Возрождения (кватроченто). Эта великая эпоха действительно соединила два космоса. В Европе происходили бурные события, настоящее кипение пассионарных страстей, время личностей с избыточной энергией: борьба, свершения, завоевания, Крестовые походы, политические битвы, взлеты литературного гения, невиданные ранее формы архитектуры, начало увлечения античностью, расцвет городов – невероятно насыщенная социальная и культурная жизнь. Увлекаясь эпохой Возрождения, мы часто забываем о треченто, о периоде XIII – начала XIV веков. А ведь это было удивительное, бесподобное время.
И Данте, и Джотто были флорентинцами, но происходили из разных социальных кругов. Это во все времена имело значение, да и сейчас, вероятно, имеет. Джотто, как сообщают источники, был то ли сыном крестьянина, то ли сыном кузнеца. Что касается Данте Алигьери, то он потомок старинного рода. Сам Данте очень любил свою родословную и связанные с ней сочинения, согласно которым его род восходит к некой римской династии, которая стояла у основания города цветов – Флоренции. Он был настоящим старым аристократом с римскими корнями, а его предки строили Флоренцию. Но, конечно, не в этом дело. Есть такое выражение: «Бог бросил кости». И когда речь идет о гениальности, то она не знает никаких социальных границ и социальных градаций. Эти два человека просто проживали разную жизнь. Жизнь Данте была полна политических страстей, испытаний и завершилась смертью в изгнании. Джотто, напротив, прожил необыкновенно счастливую жизнь: в почете, благополучии и достатке и с красивым концом. И каждый из них по-своему, но очень полно выразил свою эпоху.
В те далекие времена, когда они жили, Флоренция нисколько не была похожа на тот город, куда сегодня ездят миллионы туристов со всего мира. Она была похожа на средневековый город небоскребов. Из тех зданий, которые находятся во Флоренции сейчас, мы могли бы узнать, наверное, только баптистерий и строящуюся церковь Санта-Мария-дель-Фьоре, то есть кафедральный собор. Что же касается всей остальной Флоренции, если мы посмотрим на пейзажи городские, урбанистические пейзажи задников картин художников XII–XIII веков, то мы увидим то, что отчасти сохранилось сейчас в небольшом количестве городов. Она вся состояла из очень высоких башен, которые мы могли бы назвать средневековыми небоскребами. Даже сейчас непонятно, как в них жили люди. Башни стояли очень плотно и очень тесно друг рядом с другом и, вероятно, имели оборонительное значение: буквальное воплощение поговорки «мой дом – моя крепость». Улицы были очень узкими, и город показался бы нам сейчас совершенно фантастическим. Из-за того, что земля была очень дорогой, строения занимали небольшую площадь и тянулись очень высоко вверх. Люди поднимались по лестницам: внизу были лавки, наверху они жили. И вот в одном из таких домов жил Данте, а в другом доме, вероятнее всего, и Джотто. Но города эти были очень культурные, в них кипела необыкновенно бурная политическая жизнь. Поэтому наши герои были не только гениями, но и людьми своего бурного, странного и фантастического времени.
Говорят, гении опережают время. Может быть, действительно опережают в том смысле, что до сих пор для нас обе эти фигуры имеют абсолютное значение. Другие герои этого времени не так известны и значительны, а вот эти два имени действительно сияют, как великие звезды эпохи треченто. Они до сих пор нужны и важны, их комментируют, а другие уже ушли в тень истории. Данте и Джотто были людьми, выразившими свое время полностью, до конца, как бы не в частичном, а в полном алфавите времени.
Чем же замечателен был художник Джотто, что же он такого сделал удивительного, что мы награждаем его такими высокими эпитетами и говорим о нем как о мосте, соединившем два космоса? Наш современник философ Мераб Мамардашвили когда-то сказал: «Джотто вышел в трансцендентный ноль». Эта сложная фраза заставила его слушателей смеяться, но, немного подумав, мы решили, что точнее сказать нельзя. Джотто начал с нуля: то, что он сделал в искусстве, или то, что он предложил искусству, до него никто никогда не делал. И может быть, в этом смысле каждый гениальный человек выходит в трансцендентный ноль: Микеланджело, Поль Сезанн, Казимир Малевич – они начинали с нового, с самого начала, с нуля. И вот в этом смысле Джотто вышел в трансцендентный ноль, потому что о нем можно сказать совершенно спокойно и уверенно: именно с Джотто Бондоне начинается современная европейская живопись.
До него в европейском мире принята была икона, или византийская живопись. Биограф итальянских художников, сам художник и историк искусства Джорджо Вазари сообщает нам легенду, бытовавшую в то время… а может быть, это и правда было так, что Джотто был учеником художника Чимабуэ. В музее Уффици рядом висят две картины, две мадонны: Мадонна Чимабуэ и Мадонна Джотто. Когда вы смотрите на эти картины и сравниваете их (даже если вы ничего не знаете об искусстве, а просто смотрите на одну картину и на другую), для вас очевидна разница не только между двумя художниками, но и между двумя эпохами, между двумя совершенно разными принципами. Точно так же очевидна разница, когда вы смотрите на картину художника-импрессиониста и, например, на картину классициста Жака-Луи Давида. Вы отмечаете абсолютную разницу: они по-разному видят этот мир, они по-разному видят форму, они по-разному понимают то, что они видят, у них разные задачи. Вот то же самое и здесь.
Картины Чимабуэ необыкновенно изысканны, необыкновенно изящны. Можно сказать, что он художник не просто византийский, средневековый – он художник готический. Его Мадонна бесплотна, складки ее одежды изумительно красиво, декоративно драпируются, у нее долгие пальцы, ее длинные руки не держат младенца, а делают знак, что они его держат. Ее лицо изображено согласно принятому в византийской живописи канону: восточный тип, узкое лицо, долгие глаза, тоненький нос, печаль во взгляде. То есть это плоская, бесплотная, каноническая, условная живопись иконы. Это лик, а не лицо, не тип личности. Лик находится над личностью, вне телесного, он выражает суть как бы духовного символа – Марии с младенцем. А рядом висит икона (точнее, уже картина) Джотто. На красивом инкрустированном троне (этот стиль, инкрустация мрамором, тогда только входил в моду – была семья, которая владела этим умением) сидит женщина. Широкоплечая, мощная, молодая, с румянцем во всю щеку, она крепко держит руками крепкого младенца. Прекрасная белая рубашка подчеркивает ее тело, ее телесность, ее мощь. Она спокойно смотрит на нас, в лице ее нет страдания, оно полно высокого человеческого достоинства и покоя. Это уже не Мадонна, это уже не икона Богородицы, это уже мадонна в итальянском позднем смысле и понимании этого сюжета: это и Мария, и прекрасная дама. Есть сведения, что в XIV, и даже в XIII веке во Флоренции, а может быть, и в Европе было общество, которое называлось «Общество поклонения Богородице, прекрасной даме». Прекрасная дама Джотто уже выражала определенный тип внешности, который он находил прекрасным. Она уже была конкретным женским типом, а не условным выражением канона иконы.
Одним словом, когда вы смотрите на работу Джотто, даже если вы в первый раз пришли в музей, в первый раз столкнулись с этим именем, для вас совершенно ясно, что перед вами совсем другое искусство, совершенно другое видение мира: дерзость, смелость, готовность к новому дыханию. Это время было заряжено могучим интересом к жизни, к политике, к будущему, оно было готово к переменам и ждало их. И Джотто никогда не был неинтересен, никогда не был осуждаем, никогда не был гоним. Напротив, он был ценим, любим и прославлен своими современниками.
Недалеко от Джотто висит еще одна картина очень известного в те времена художника, его имя было Дуччо. Будучи современником Джотто, Дуччо все-таки писал в принятой тогда византийской манере, модной, очень хорошо усвоенной и широко используемой художественными школами. Вообще представить себе, что Чимабуэ, Дуччо и Джотто – это люди одного времени, очень сложно. Как сильно Джотто отличается от них!
Надо еще сказать об одной очень тонкой вещи, к которой Джотто имеет прямое отношение, которая во многом определила его поведение в жизни, его отношения с людьми, его видение мира. Всякий большой художник показывает не какую-то тему или предмет, а привносит с собой целый мир, то есть очень широкое освещение пространства, внутри которого он живет. Джотто был именно таков, с ним входил мир. И если мы вернемся к его Мадонне, к этой царственной особе с принцем-наследником на руках, то увидим, что перед ней стоят коленопреклоненными ее пажи – ангелы, которые восторженно смотрят на нее и держат в руках букеты. Эти букеты, цветок к цветку, лепесток к лепестку, – настоящий художественный гербарий. Это реальное, любовное отношение к изображению природы, пронзительная любовь к цветам. И вот здесь мы подходим к тому, что лично мне очень дорого в фигуре Джотто – это его связь с популярным тогда и очень интересным движением францисканцев. Даже если бы это не было известно из литературы (которая не очень-то глубоко освещает вопрос его францисканства), зная, кто такой Франциск Ассизский, можно понять, что Джотто – францисканец.
Франциск Ассизский был одним из интереснейших и очень популярных идеологов XIII века. Вообще XII и XIII века, когда на сцену истории приходит Франциск со своей единственной жизнью, со своим единственным учением (кстати сказать, и сегодня очень интересным и популярным), – это было время расцвета научной, интеллектуальной, художественно-поэтической жизни Европы. Это было время, когда жили великие, можно даже сказать, величайшие, гениальнейшие схоласты. Это было время не теологии в чистом виде (то есть теологии византийской), но время высокой европейской схоластики, когда носители идей полемизировали между собой и были крупными учеными. Они жили внутри очень интегрированного в интеллектуальном и духовном отношении пространства. Вероятно, в этом была их сила. Это было время, когда жил Альберт Великий – первый, так сказать, законный европейский доктор Фауст. Он был не только великим знатоком Аристотеля, комментатором Аристотеля, Платона, античности, но он был также алхимиком, магом. То есть был человеком, который занимался лекарствами, точно так же, как Фома Аквинский, как испанец Доминик Гусман, который создал движение доминиканцев. Они были современниками и экстраординарными личностями. К их числу относился и Аверрозс (или, как его звали, ибн Рушд), который жил в Кордове.
Для того времени в Европе было четыре крупных города с населением, приближающимся к 100 тысячам человек: Кордова, Палермо, Париж и Флоренция. Это были четыре мировые столицы, где была сосредоточена вся духовная элита Европы. Конечно же, головой всему была Болонья, потому что в Болонском университете учились все. В Болонье, кстати, умер Доминик Гусман. В Болонском университете учился Данте. Подумать только: 10 тысяч студентов в Болонье в конце XIII века! Это в одной только Болонье. Во Флоренции было немногим меньше – 6 тысяч студентов. Откуда эти сведения? Из книги замечательного знатока этого времени академика Тарле «История средневековой Европы» и книги «Данте», которую написал Илья Голенищев-Кутузов, – лучшей, видимо, книги о великом поэте. Эти авторы прекрасно описывают жизнь той эпохи. Это очень важные сведения, потому что все эти люди не в пустоте родились, они были производным от времени. Просто они были гениями, то есть выразили свое время с наибольшей полнотой, в этом все дело.
Итак, наш герой был францисканцем. Франциск Ассизский, конечно, отличался от всех вышеназванных людей, потому что он принципиально не был ученым человеком. Он не был ни как Бернард Клервоский, он не был даже как его последователь, который стал главой францисканского ордена после смерти Франциска Ассизского, – святой Бонавентура. Святой Бонавентура был настоящим францисканцем, аскетом, он умер от голода. Между тем именно Бонавентура, будучи алхимиком, создал пищевые добавки! Он был первым создателем пищевых добавок, занимался лекарствами, лечил своих сограждан, очень много занимался едой, диетологией, питанием, но по своим убеждениям он был аскет. Францисканцы – нищенствующий францисканский орден. А вот сам Франциск Ассизский ученым не был. Идея Франциска Ассизского может быть выражена одним-единственным словом – «любовь».
Тогда весь мир воевал, это было время расцвета Крестовых походов, время борьбы императорской и папской власти, люди убивали друг друга просто на любом диспуте, за каждое слово, делили власть в Европе, разрывали ее на части. В это время во Флоренции был разгар битвы гвельфов и гибеллинов, сторонников императорского или папского протекторатов. За этой борьбой стояла политика, за всем этим стояли деньги, за всем этим стояла торговля – ровно то же самое, что и сейчас. И, конечно Франциск Ассизский, который проповедовал нестяжание и любовь, очень отличался от всех. В его устах слово «любовь» в переводе с понятия на действие означало понимание: давайте поймем друг друга, нам надо понять друг друга, давайте любить – понимать друг друга, не колотить друг друга, а понимать. Известно, как Франциск Ассизский этой любовью, этим пониманием как бы обнимал весь мир. Для него все были братья, он первый говорил: пробежал брат мой заяц, брат мой волк, брат мой медведь. Сейчас в сувенирных лавках продаются маленькие скульптурки с изображением Франциска Ассизского в окружении братьев – лиса, волка, медведя, и всегда с букетом цветов в руках.
То единственное литературное произведение, которое приписывается Франциску Ассизскому (было написано им или записано за ним), прекрасно исследовано человеком XX века, очень интересовавшимся Франциском, – английским писателем Честертоном. Он очень много пишет об этой поэтической прозе Франциска Ассизского «Цветочки», о дыхании божьем, глазах божьих на земле. Франциск Ассизский проповедовал любовь.
Надо добавить еще одну любопытную деталь: любовь и понимание Франциска Ассизского, нестяжание и жажда любовной близости с людьми, принципиальное неимение ничего лишнего, принципиальный аскетизм – все это привело к очень интересному культурному феномену, к появлению обширной переводческой литературы. Именно тогда была создана самая большая гильдия переводчиков, потому что перевод с языка на язык был жизненно необходим. Европа сама по себе была многоязыка, к тому же она вобрала в себя арабскую литературу и культуру, которая тогда находилась в расцвете. Арабская культура была диффузна по отношению к Европе, она проникала в Европу. И именно Бонавентура перевел бестселлер того времени «Хожение пророка Мухаммеда во ад», где пророка Мухаммеда сопровождал архангел Джабраил. Это был подлинный бестселлер – детектив, приключенческая проза, которой зачитывалась Европа, зачитывались испанские короли. А в Италии книга о путешествиях Мухаммеда с архангелом Джабраилом вышла в год рождения Данте. На этом примере можно судить о том, какими тонкими путями происходит взаимопроникновение культур – не только в наше время, но и в те времена не менее, чем сегодня.
Это были процессы воистину великие, и это было время самостоятельное, а не просто подготовительное. Какое же оно подготовительное, когда оно давало такие великие результаты? И войны, и любовь, и борьба, и легенды, и поэзия, и искусство, и увлечение античностью – и это все было перемешано… Мы, пожалуй, живем в кругу слишком жестких и установившихся суждений о прошлом. Но во всяком случае Джотто был настоящим францисканцем. Это становится понятно не только тогда, когда вы смотрите на его работы, но и потому, что именно Джотто принадлежит огромное количество картин, посвященных Франциску Ассизскому. Он оставил житие Франциска Ассизского, историю Франциска Ассизского в церкви Франциска в Ассизи.
Здесь надо рассказать об одном интересном образе Франциска Ассизского. Это картина, а не икона. Точнее, это икона и картина, потому что художник – «два космоса соединивший мост». На ней изображено получение Франциском Ассизским стигматов от Господа. Сейчас эта картина висит в Лувре. В жизни Франциска Ассизского произошло одно очень интересное событие. Некий дворянин и богатый человек, его звали Орландо де Кьюзи, очень любил Франциска и предложил ему в подарок гору. Гора называлась Алверно и находилась в Апеннинах. Францисканцы были принципиально неимущими и нищими людьми и денег они брать не могли. Но про гору в уставе их ордена ничего не было сказано, и Франциск Ассизский принял от Орландо эту гору, часто ходил на нее и там молился. Он очень любил своих учеников, вообще любил людей, был контактным, словоохотливым, но на гору он всходил один.
Мы часто будем возвращаться к понятию «гора». В контексте искусства или литературы гора – это ось земли, вершина, место преображения. Именно с горой Фавор связан сюжет из жизни Христа – тема преображения на горе Фавор, свет фаворский. Можно бесконечно рассказывать о том, что такое гора в традиции мировой культуры и мировой истории.
Итак, по всей вероятности, некто Орландо де Кьюзи подарил святому Франциску гору. То, что с ним случилось на этой горе, и то преображение, которое произошло, вполне вписывается в мировой контекст того, что есть волшебная гора, потому что именно там он получил стигматы от Спасителя. И эта картина как раз изображает получение святым Франциском стигматов, а Спаситель показан очень интересно и необычно, так его не изображали ни до, ни после. Он изображен в виде шестикрылого серафима: он, как в шубу, одет в эти перья, как будто он в какой-то овчине, но на самом деле это шесть лохматых крыльев. У Пушкина есть замечательный текст о шестикрылом серафиме. Именно шестикрылый серафим производит очень решительные действия по преображению:
И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул.То есть серафим здесь – начало преображающее. Знак «серафикус» – это знак действия. Знак «анжелюс» (или «ангелис») – это знак чудотворной молитвы. Пушкин описывает явление шестикрылого серафима и рассказывает, какие действия тот над ним произвел.
Шестикрылый серафим точно так же действует на картине Джотто. Когда он пронзает Франциска лучами, то оставляет ему эти пять стигматов. Мы видим, как красные копья входят в тело святого Франциска и он преображается: он приобщается в этот момент к высокому таинству через получение стигматов. То есть он уже преподобный, он уже святой, он приобщен к таинству.
Но вернемся к основной теме – картине Джотто (вернее, его фреске), которая называется «Поцелуй Иуды». Эта фреска выделяется из всего его огромного творчества, потому что, может быть, в ней он проявил себя максимально, раскрыл себя и свое творчество полностью. Когда он свою земную жизнь прошел до середины, именно ровно до середины (он родился в 1267 году, а умер в 1337), где-то в 1303 году он получил от мецената из Падуи Энрико Скровеньи замечательное предложение – заказ расписать маленькую церковь, которая была построена в городе Падуе на римской арене.
На этом стоит остановиться. Вопрос: где ставили церкви, например, в России? Их строили там, где захочется, или всегда были какие-то специальные места для строительства церкви? Конечно, в специальных местах, и совсем не там, где на Западе. В России ставились церкви: холерные (то есть на месте эпидемии), на местах, где были чудотворные мощи, где были какие-то явленные чудеса. То есть никогда в случайном месте церковь не ставилась. Было четыре или пять критериев, согласно которым решали, где можно ставить церковь.
Свои критерии были и на Западе. И одним из важных мест, где ставили церковь, была римская арена, потому что до Рождества Христова на римской арене губили христиан. Их туда привозили и всячески над ними издевались за их веру, поэтому римская арена всегда была местом невинно пролитой христианской крови и страданий за веру. Поэтому церкви ставили на аренах – и для того, чтобы очистить эти места, и для того, чтобы показать торжество. Когда-то христиан гнали, унижали, издевались над ними, но все равно истина и свет в конце концов торжествуют.
О постройке этой церкви есть разные сведения. Одни источники говорят, что церковь была построена где-то в самом конце XIII века или к 1300 году. Но есть и другие сведения, что эту церковь построил сам меценат Энрико Скровеньи. Внутри церкви на западной части портала находится большая фреска, написанная Джотто, – это фреска Страшного суда, где показаны добрые дела и злые деяния. И в том месте, где изображены добрые дела, мы видим портрет Энрико Скровеньи, который предстал перед Господом, держа на ладони эту самую церковь Скровеньи. То есть находясь внутри церкви, мы видим на фреске изображение мецената с церковью на руках и видим, как она выглядит. Если мы находимся в Падуе, то можем, конечно, и обойти вокруг самой церкви. Она небольшая, как это всегда было принято в Италии. Итальянское церковное строительство очень отличается и от французского, и от английского своей склонностью к романским формам. Церкви в Италии строили небольшие, с толстыми стенами, которые всегда расписывались. Как правило, это маленькие пространства. И вот эту небольшую и очень красивую церковь меценат и предложил расписать Джотто.
Один из биографов Джотто, Джорджо Вазари, оставил очень интересные сведения. Он говорит о том, что Джотто приехал расписывать падуанскую церковь, ненадолго опережая свою компанию, то есть своих товарищей. Как в Средние века на Руси Андрей Рублев писал «со товарищи», точно так же и на Западе церкви расписывал художник со своей художественной бригадой. Сохранилось очень много сведений о школе Джотто, об этих его сотоварищах. И даже новеллы Боккаччо, и даже целый цикл новелл «Фацетии» – маленькие рассказы, которые рассказывают о Джотто, о его веселом нраве, о том, какой он был балагур, острослов, как он был не столь хорош собой, сколь обаятелен и общителен. И какое это было всегда веселое дело, когда эти художники приходили в город расписывать церковь. В этих рассказах Джотто предстает как «здоровый гений» – гений, но с нерасщепленной душой, с душой цельной францисканской, ликующей, любовной… Итак, он приехал до своих товарищей и начал расписывать эту церковь в Падуе на Арене поначалу один. То есть кроме станковых картин, о которых шла речь («Мадонны», и «Франциска Ассизского», которое он писал сам), есть какие-то фрески, которые тоже принадлежат его кисти.
И та фреска, о которой пойдет речь, «Поцелуй Иуды», – это фреска, которую он, конечно, писал сам. Это не только одна из немногих его абсолютно авторских работ, как «Троица» у Рублева, но еще и работа, которая очень полно раскрывает и личность этого художника, и то, как он писал, какой это был отважный, смелый человек. По всей вероятности, он, как и Франциск Ассизский, даже и не подозревал, до какой степени он авангардист. Но это был настоящий авангардист и футурист для рубежа XIII и XIV веков. Осмелюсь даже предположить, что то, что сделал Джотто в живописи, продержалось в европейском искусстве до импрессионизма, и вот почему.
Чимабуэ и Дуччи были византийскими иконописцами, и византийская школа превалировала в Италии, потому что Италия (особенно северная часть Тосканы) очень долгое время была частью Византийской империи. И именно Джотто создал то, что на современном европейском языке называется композицией. А что такое композиция? Это то, как художник видит сюжет. Художник как бы очевидец, который представляет себе, как это происходило. То есть художник сам является сценаристом, режиссером и актером в своих картинах. Его картины – это некий театр, в котором действуют актеры, а художник словно говорит: «Я там был, я при этом присутствовал, а было это так…» – и начинает рассказывать, как это было. Но мыслимо ли это для средневекового сознания? Говорить «я это видел, а было это так»? На картине должно быть то, что сказано в Писании, а не то, как ты это видел. То есть художник отвечает за то, что он пишет, и отвечает за то, что было это именно так.
«Поцелуй Иуды» – это фреска, написанная очевидцем действия. Какого действия? Если говорить сегодняшним языком, то можно сказать, что театрального, а может быть, и кинематографического. И пожалуй, это даже не театральное действие: оно чуть более расширенное по идее своей. Джотто – первый, кто поставил на подмостки, на авансцену с обозначением кулис и задников, своих актеров, исполняющих роли: Христа, Иуду Искариота, воинов, апостола Петра… Он говорит: «Это было так». Изобразительное искусство как театр, то есть как действие, которое происходит на ваших глазах в определенную единицу времени, а не в том вневременном, безразличном абстрактом пространстве, которое есть обязательная принадлежность иконы. Время в иконе – время бесконечное, вечность: действие происходит на золотом фоне, оно нам является откуда-то из того пространства, из золотого фона, это явление. А у Джотто действие – живое, историческое, конкретное, с главными героями, героями на второстепенные роли и массовкой.
И когда мы смотрим на фреску «Поцелуй Иуды», мы сразу выделяем глазами центр композиции. В этом центре происходит главное драматическое событие. Мы видим, как Иуда, обняв Христа, сомкнув за его спиной руки, поглощает его. Эти две фигуры и есть центр композиции. И композиция, если в нее всмотреться, становится центростремительной: от кулис она все нарастает и нарастает по энергии действия, приближаясь к центру. А потом от центра становится центробежной и разбегается вновь не только к кулисам, но стремительно движется вверх колосника. Мы видим справа и слева двух героев второго плана на репликах. Мы видим справа, как вошел первосвященник Иерусалимского храма и показывает пальцем на Христа. То есть если мы проследим за движением его пальца, мы как раз упремся в лицо Христа. А слева мы видим апостола Петра, который, хоть и отрекся трижды, пока трижды пропел петух, но все-таки вытащил хлебный нож и этим ножом отрезал ухо рабу первосвященника. И мы видим, как он с этим ножом кидается вперед, но путь ему преграждает толпа. И если мы проследим за направлением руки и за направлением ножа, то увидим, что эти линии сходятся над плащом Иуды – на лицах. Поэтому можем сказать, что центром композиции являются даже не две фигуры, соединенные вместе, а два лица. И вот с этой точки и интересно прочитывать эту композицию – как драматическое действие, взятое в момент наивысшего напряжения. Интересно прочитывать ее и как центр драматургической композиции, и как центр театральной композиции, где есть и герои, и массовка.
Если вы внимательно посмотрите на эти два лица, которые (именно лица, а не целые фигуры) являются центром композиции, то увидите разницу в их трактовке. Благородное, прекрасное лицо Христа, золотые густые волосы, светлое чело, спокойный взор, и эта чистая шея, такая колонна шеи… серьезное, сосредоточенное, прекрасное лицо. Так изображать Христа – как героя, как изумительно красивого человека – будет в дальнейшем, сто лет спустя, итальянское Возрождение. Это не изможденное, измученное страданием, истекающее кровью на кресте от копья Лонгина тело, это не умученная плоть, – это прекрасный мужчина, юный, полный сил, с красивыми завитыми золотыми волосами. И к нему приближает свое лицо некто, похожий на черного кабана, черного поросенка. Если лоб у Христа выпуклый, то у Иуды вогнутый, как у неандертальца, и маленькие глазки под нависшими лобными костями, всматриваются в его глаза. Это и есть самое интересное – то, чего в европейском искусстве вообще практически никто не делал: когда центром композиции являются даже не эти два лица, а когда центр композиции перенесен на внутреннее психологическое состояние. В центре находится то, что происходит только между этими двумя людьми, – безмолвное объяснение, объяснение глазами. Снизу – толстый, нескладный, уродливый, отвратительный тип Иуда Искариот, он всматривается в лицо Христа, он ищет для себя какого-то ответа. Не оправдания даже своему поступку, а чего-то другого, чего он не знает, но хочет узнать, что является причиной его страшного падения. А Христос не отвечает ему взглядом, Иуда ничего не может прочитать в его глазах. У Христа спокойное лицо, он не презирает Иуду, но спокойно смотрит на него, не отвечая ничего, отражая его взгляд. Это называется пауза.
Вот эта зависшая пауза лучше всего удается в кино и в театре, особенно в современном театре, в театре Чехова. Нам кажется, что происходят очень бурные действия, а на самом деле действие останавливается в кульминационной точке, оно все подвешено к паузе, к молчанию, к секунде до того, как Иуда поцелует Христа. В трактовке Джотто он его не целует. Он только приблизился для того, чтобы его поцеловать. Здесь что-то такое есть, что понятно только двум людям и больше никому. Здесь есть такое объяснение, которое только между двумя людьми, и оно главное, потому что поцелуй – это уже следствие, это уже точка, это финал. А вот драматургия, настоящая драматургия, она в этом психологическом выявлении, выяснении отношений в паузе.
Вообще в мировой драматургии пауза – вещь крайне редкая. После Джотто искусство стало искусством композиции, то есть действия и рассказа: художники стали рассказывать или показывать, а не изображать знаками, символами. По силе того, что есть пауза в картине, с Джотто может сравниться только Рембрандт. У Рембрандта, который жил в XVII веке, к таким психологическим паузам как бы подвешена внутренняя главная драматургическая идея картины. Это видно на его картине «Ассур, Аман и Эсфирь», которая находится в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Там именно действие, остановленное на паузе: уже сказала она, еще ничего не решил Ассур и уже понял ответ Аман, и между ними пауза. Или «Блудный сын»… На этих картинах видно, что художник чувствовал эту психологическую драматургию, трагичность паузы. Когда человек, художник, до которого вообще ничего такого не было, делает такие вещи, – это действительно мост над бездной, соединивший два космоса.
Итак, камень брошен в воду, от него начинают расходиться круги. Композиционный и психологический центры картины идеально совпадают, они связаны между собой единым узлом. Если вы посмотрите картины европейской живописи, вы увидите в дальнейшем, что не всегда композиционные центры и центры психологического действия между собой совмещены, они иногда специально разведены. Но в данном случае это монолит, где все вместе. А дальше начинают расходиться круги по воде: Петр, который готов отрезать ухо, фарисеи, стражники, которые пришли с колами и копьями. Надо сказать, что поцелуй Иуды из четырехчастного Евангелия описан в трех частях. Он описан в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Иоанна этого сюжета нет. Но тот сюжет, который мы видим на картине «Поцелуй Иуды», описан в Евангелии от Матфея: именно у Матфея описана эта толпа, которую привел за собой Иуда Искариот. И они не просто пришли, они были с копьями и дубинками, то есть они были вооружены. Джотто это показывает – этот перст, указывающий на Иисуса: «Его брать!» Иуда дал знак, он сказал: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его».
По францисканским и евангелическим понятиям поцелуй – это не просто приветствие. Это братское объятие: я поцелую брата своего. Магдалина целовала ноги Христа и тем очистила себя от греха. А Иуда был учеником, привеченным учителем. Он поцеловал Иисуса и извратил, вывернул наизнанку высший акт приязни, братства, человечности – поцелуй. Как написано было в одном апокрифическом византийском тексте об Иуде: тогда дьяволы вили ему веревку, хохоча. А у Пушкина есть стихи:
Как с древа сорвался предатель ученик, Диявол прилетел, к лицу его приник, Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной И бросил труп живой в гортань геенны гладной… Там бесы, радуясь и плеща, на рога Прияли с хохотом всемирного врага И шумно понесли к проклятому владыке, И сатана, привстав, с веселием на лике Лобзанием своим насквозь прожег уста, В предательскую ночь лобзавшие Христа.Пушкин тоже эти тексты знал, он прекрасно владел мировой культурой и мировой культурной мыслью. Текст был известен и Джотто, текст был известен потом и Пушкину: христианская культура – культура большого пространства, она была сквозной, она была очень хорошо известна, сейчас мы ее сильно подрастеряли. И вот мы второй раз упоминаем имя Пушкина именно потому, что он, много веков спустя, находился в пространстве той же культуры. Его размышления, этические и моральные, были о том же, о чем и у Джотто.
Джотто был уже человеком абсолютно нового европейского сознания и нового подхода к картине, к плоскости. О Джотто всегда пишут определенные вещи, это даже стало немного ироническим. Что открыл Джотто? Перспективу. Это очень смешно представлено в «Амаркорде» у Феллини. В школе учительница по искусству ест кекс и запивает кофе на уроке и говорит: «Что создал Джотто?» И ей в ответ хором и поют: «Джотто создал перспективу». Так вот, никакой перспективы Джотто не создал. Это неправильное убеждение. Он не перспективу создал, он создал другое пространство картины, где под пространством следует понимать действие происходящее. И это действие не просто происходит как историческое действие, оно происходит и как психологическое действие, оно происходит как энергетическое действие – в данном случае можно даже это слово употребить. Мы видим, как к Христу приближаются кольцом люди, вошедшие в Гефсиманский сад, где до того Спаситель молился о чаше, прося Отца своего, чтобы он дал ему силы пройти страсти свои до конца. И вот когда кончилось моление о чаше, они вошли в Гефсиманский сад и взяли его, арестовали под руководством Иуды Искариота.
Что могло быть страшнее для такого человека, как францисканец Джотто, чем предательство учителя? Вообще ничего! Это предать Чимабуэ, который был его учителем, потому что учитель больше, чем отец. Отец – тот, кто дал жизнь, а учитель – тот, кто сотворил душу твою, кто сотворил тебя как личность. Это очень важно: учитель – творец, демиург. Кстати, это очень вообще серьезная часть западноевропейской философии и педагогики – учительское творение человека. Учитель творит, он помогает тебе найти себя, помогает тебе встать на твой путь, как Чимабуэ в случае с Джотто. Мог ли он когда-то предать Чимабуэ, могли бы его предать его ученики? Это самое страшное предательство, какое только может быть. Они переходили из партии в партию: Джотто то работал как художник на гвельфов, то он брал заказы гибеллинов – это не имело значения. А предательство учителя – это очень важно, это самое главное, самое страшное, вот это надо заклеймить. И толпа поэтому: она присутствует при событии экстраординарном, при событии, когда учитель предан учеником своим. Учитель любил его, он ему отдал часть себя. И эта толпа вошла… и не просто вошла: она вошла в ночи под темным небом. Горящие факелы колеблются вправо и влево. Вы чувствуете это движение – движение на фоне неба, и нестройное движение этих дубинок и копий, волнение и наэлектризованность толпы.
Что интересно в массовке: она отнюдь не индифферентна, если вы посмотрите внимательно, то заметите, что в ней очень разработан почти каждый участник. Там есть просто невероятно переданные состояния! Справа от Иуды, в правой части картины, есть одна очень любопытная пара. Фигура, одетая в малиновую пелерину, – военный человек в железных поножах, и у него от напряжения шея вытянута, рот открыт и глаза выпучены: он напрягся и смотрит. И если посмотреть в нижнюю часть фрески, то видно, что он своей металлической поножей наступает на голую босую ногу молодого человека, который стоит с факелом и смотрит сосредоточенно, он весь – внимание. Воин очень сильно придавил его железной пяткой, но этот молодой человек даже не дрогнул: он не чувствует боли, он даже внимания не обращает, что на нем стоит мужчина в железном доспехе – так он напряжен, так сосредоточен. Как найти такие детали? Не в эпоху, когда искусство уже привыкло работать с такой драматургией, а в те времена, когда оно еще ничего этого не знало?
Джотто был первый, но и последний, потому что он не только поставил, но и решил огромное количество задач. Он не только создал композицию: «я, Джотто, это решение драматургическое вижу так, вот мои действующие лица, вот мой хор». Он еще разрабатывает психологический аспект, когда показывает в одном действии многовременность. Посмотрите внимательно на картину – на ней действие происходит здесь и сейчас, в данный момент, в данную минуту, в данную секунду. Время подвешено к минуте, еще секунда – и можно расходиться, все кончено: спектакль окончен, тигр съел дрессировщика, все довольны, расходимся по домам и обсуждаем. Но пока этого еще не произошло, это напряжение мгновения, на которое все намагничено.
Второе время – это время историческое, потому что Джотто нам показывает историческое действие. Это один из центральных эпизодов истории Христа, который входит в страсти Господа. Но художник нам показывает и время вечности, безграничное. Как он это делает? Края фрески режутся просто по лицам и по фигурам. Можно предположить, что там еще много-много людей: очень много, полный город, полная страна, полный земной шар… их столько, что они просто не вмещаются туда. Вы можете представить себе, какое огромное количество людей видит это действие из другого пространства и другого времени. Интересно также и то, что действие происходит на авансцене, но вы видите, что герои окружены людьми. То есть если бы вы посмотрели на фреску сверху, то вы увидели бы, что это как бы круг, разделенный на две части, и что там тоже очень большое количество людей. Это выходит за пределы сюжета, это больше, ваше воображение должно вам подсказать, насколько это больше. Но здесь есть одна тонкость, просто невероятная: на самом заднем плане есть одна фигура, которая как бы сдвинута чуть от оси центральной фигуры вправо, чтобы ее было хорошо видно. В профиль к нам парень с надутыми, как шары, щеками. Он смотрит в небо и трубит в олифант, то есть в рог из слоновой кости, инкрустированный золотом. Он трубит вверх, единственный на этой фреске. Что это означает? Воскрешение из мертвых. Когда ангелы трубят вниз – это набат, Страшный суд, а когда они трубят вверх – это воскрешение из мертвых. Именно это подразумевает художник. Джотто показывает – Иуда еще не поцеловал Иисуса, а там уже трубят воскрешение из мертвых, славу бессмертия.
Если так разобрать каждую из его фресок, то каждая из них вызывает столь же большое изумление и недоумение. Каким образом один человек за одну свою жизнь, не имея прецедентов, «выйдя в трансцендентный ноль», создал с чистого листа современное европейское искусство, композицию? Композицию как действие, как причинно-следственную связь, как временное действие, насыщенное разновременностью и очень большим количеством психологических оттенков? Вот почему мы и говорим, что все европейское искусство было театральным, просто в этом театре переставляли декорации, мебель. Вот почему мы говорим о том, что до импрессионизма в искусстве господствовало то, что открыл Джотто. В живописи импрессионистов герой – уже не человек, героем картины импрессионистов является свет. Они ушли от драматургического действия, к которому мы привыкли в живописи за столько лет. У них предметом живописи становится свет. Это не лучше и не хуже, чем то, что было до них, это просто факт. До середины XIX века главенствовал язык Джотто. Под языком мы понимаем не конкретный способ изображать фигуру, а самую суть – появление абсолютно современного искусства с возможностью нового прочтения каждый раз. Мы видели в своей жизни много одних и тех же сюжетов, которые повторяются, сквозных сюжетов. Но дело не в самом сюжете, а в его трансляции, в комментарии к нему, в том, как этот сюжет изложен художником, в том, как он к нам обращен, как мы в нем лично участвуем с нашим собственным опытом. Поэтому композиция – это исполнение некоего сценария, данного художником как очевидцем, как участником событий.
На примере «Поцелуя Иуды» мы видим, в чем состоял замысел Джотто. Эта картина очень ценна не только своими художественными качествами, она ценна своим глубоким этическим смыслом. После Второй мировой войны появляется очень много литературы, которая говорит, что Христос сам дал приказ Иуде, намекнул ему, что он должен это сделать. В одном французском романе Христос буквально говорит ему: и тогда в веках ты будешь верным, я первым, а ты верным. Здесь все вывернуто наизнанку: Иуда верен, потому что прислушался к тому, что ему сказал Иисус. Но ведь это не так! Он предатель, он совершает предательство. Для Булгакова это предатель в скрипучих желтых сандалиях, с тридцатью сребрениками в руках. Он алчен, он безобразен, он попался на агитку шпионки, за которой он там ухаживал. А для Джотто предательство учителя – это самый страшный грех, которому нет прощения. И он дает посмотреть на этого человека близко, посмотреть на его физическое уродство. Он первый раз физическое уродство отождествляет с уродством нравственным, а физическую красоту и совершенство с красотой нравственной совершенной. Джотто намечает тот путь, по которому пойдет эпоха Возрождения, когда всегда Иуду будут изображать уродом, как на картине Леонардо да Винчи, как на картине Гирландайо. Это вообще всегда уродливое существо. Для этих людей другого варианта поступка не существовало: он был единственный и такой страшный, что предателю остается только повеситься на осине.
Сам Джотто при этом, как мы уже отмечали, был человеком в жизни очень контактным и веселым, и писатели того времени оставили нам его остроты и сборники его острот. Изображений Джотто нет, но Вазари и Боккаччо сообщают, что он был весел, доброжелателен, широк, щедр, прекрасный семьянин и что всегда с ним приходило веселье. Он и его товарищи карнавально входили в город, били в барабаны, ехали на ослах. Джотто был карнавальный итальянец, здоровый и гармоничный человек.
Он очень много работал при дворе неаполитанского короля Роберто и дружил с ним, и у них происходили разговоры, которые были записаны. Однажды, в жаркую погоду, Джотто писал портрет неаполитанского короля или что-то делал для него, и король сказал ему: «Ах, Джотто, если бы я был тобой, я бы сейчас пошел и немного отдохнул». И тогда Джотто ему ответил: «Ах, ваше величество, если бы я был вами, я бы тоже сейчас пошел и немного отдохнул». Он не лез за словом в карман.
Когда Джотто вернулся к себе во Флоренцию, он возглавлял там цех художников, пользовался почетом, получал от Флоренции очень большие деньги как главный художник Флоренции. Он был на зарплате Флорентийского государства.
Во Флоренции Джотто построил кампанилу, то есть колокольню. Эта колокольня находится совсем рядом с Санта-Мария-дель-Фьоре, кафедральным собором Флоренции. Гораздо позднее Брунеллески построил над собором тот купол, который мы видим сейчас, а тогда церковь выглядела несколько иначе. Джотто построил кампанилу. Собор можно рассмотреть, находясь внутри этой колокольни, и точно так же саму кампанилу можно посмотреть из собора. Она напоминает очень красивый кристалл, который поднимается рядом с Санта-Мария-дель-Фьоре, и украшена замечательной инкрустацией. Это инкрустация очень богатая, насыщенная, там использован мрамор разного цвета. Примерно то же можно видеть в Сиене и во всех городах треченто, где был принят поздний византийский стиль, связанный с внешней нарядностью. Тогда еще не произошло полной трансформации архитектурных форм, от поздней готики к Леону Баттисте Альберти, к Брунеллески, к великим философам новой ансамблевости. Архитектура треченто отличается другими чертами: фантазией, выдумкой, необыкновенной нарядностью, праздничностью. Это очень стройная, строгая, красивая колокольня. Когда Джотто умер, он был похоронен в Санта-Мария-дель-Фьоре, там находится его усыпальница. Этим ему была оказана самая большая честь, какая только может быть оказана.
У Джотто была семья, у него было восемь детей. Старший сын тоже стал художником. Джотто знал весь тогдашний мир, он действительно был прославлен. Время понимало, кто он, принимало его и ценило. Это была оценка не только признанием, она выражалась и в денежном эквиваленте, потому что Джотто был очень богатым гражданином. Когда время ждет нового, оно оценивает это. В случае с Данте дело не в том, что Данте не был прославлен как философ, поэт и теолог. Дело в том, что Данте был втянут в гущу политической борьбы и оказался в изгнании в Равенне. И, конечно, в будущем Флоренцию осуждали за изгнание Данте, особенно поэты XX века, которые посвятили много строк этому горькому хлебу изгнания.
Гениальные мастера – носители определенных идей, но кто знает, что такое гениальность? Человек не может гением стать, он им рождается, и хорошо, если он себя осмысляет, а еще замечательнее, если это понимает и видит время. Джотто Бондоне – редкая фигура: он был и временем ценим, и во времени остался, как величайший художник, как человек, начавший с нуля. Сто лет спустя после его смерти знаменитый поэт Анджело Полициано написал стихи. Он был известным поэтом эпохи кватроченто и членом академии Лоренцо Медичи. По желанию Лоренцо Великолепного рядом с саркофагом Джотто была сделана посвященная ему скульптура – памятник. И Анджело Полициано как бы от лица Джотто, как это было принято, написал: «Я, Джотто, покоюсь здесь, и имя мое будет прославлено в веках». Это очень важные слова, потому что это люди, которые уже и мыслили исторически. Для них человек был фигурой истории, а не только пантеон христианских или языческих богов или святых. Это был другой космос. Век схоластики становился веком гуманизма. И Данте, и Джотто – великие схоласты того времени, такие же, как, например, Абеляр, Бернард Клервоский или Бонавентура и, конечно, как Франциск Ассизский.
Сила их еще была в двуполярности. Они были, с одной стороны, все еще люди той эпохи, которая представляла мир неразделенным, еще не расчлененным, когда господствовало учение о единстве мира, где человек не может быть центром, а в центре – Творец, Создатель, Спаситель. С другой стороны, уже наступала эпоха гуманизма, которая в XX веке была выражена словами «я человек, я посредине мира», но точно так же она была выражена и в творчестве Данте и Джотто.
В 1921 году, когда было 600-летие со дня рождения Данте, отец Павел Флоренский сделал большой доклад. Павел Флоренский – величайшая фигура нашего российского Ренессанса, он был физиком, математиком, философом, который написал великую диссертацию «Столп и утверждение истины». Он был великим теологом. Можно сказать, что он был человеком того времени, когда жили Джотто и Данте, только в XX веке. А они были людьми XIII–XIV веков, но могли бы быть в XX. Все они – фигуры интегральные. Флоренский был математиком и физиком, и он смог сделать то, чего другие не могли: он пытался вычертить ту модель космоса, которую предложил Данте в своей поэме. И он ее вычертил. Гуманитарный человек этого сделать не может, а гениальный математик мог это сделать. Космос Данте – это уже не эвклидова геометрия, космос Данте – это уже искривляющийся космос, то есть модель современного представления о космосе. Так смыкаются точки прошлого и будущего, те самые мосты, соединяющие два разных космоса.
Традиция западная и восточная
Греко-православное и латино-католическое христианство
Между традицией западной и восточной есть очень большая разница. Одна традиция выросла из греческого корня, а вторая – из латинско-римского, и они создали две абсолютно различные культуры, которые существуют и по сей день.
Мы являемся духовными детьми античного мира. Мы без него ничто. Наше наследие есть античность – это Греция и Рим, это понимание того, что есть человек. Это вопросы и задачи, которые человек ставил перед собой: кто ты есть? познай самого себя! Античность создала главное – она создала театр. Не искусство и философию, а театр: Эсхил родил театр, он был создателем театральной системы. Греческая античность создает духовное наследие.
Рим же сделал нечто другое – он построил государство, его современную интерпретацию. Он не занимался театром, потому что римляне только смотрели театр, в жизни вели себя театрально, но прежде всего они были людьми стадиона. Римляне создали государство, они создали правовую культуру, республику с сенатом, создали империю. Они создали современные формы жизни, а искусство обслуживало все это.
Рим оболгали. Римляне не были бездельниками, лентяями, пьяницами и обжорами. Как бы смогла нация бездельников выстроить такую культуру и такую империю? В одном только Риме перепись общественных зданий была начата еще при Октавиане Августе и велась на протяжении двухсот лет. Она была завершена в I веке н. э. В Риме по этой переписи было 865 общественных бань. Что они делали в этих банях? Мылись? Нет, они мылись дома, потому что у них вода была проведена в дома. Баня – это был образ жизни.
Благодаря водопроводу, сработанному рабами и дошедшему до наших дней, в Риме не было эпидемий. Там были такие фильтры, что они пили эту воду, купались в фонтанах. Сколько было фонтанов в Риме? 1760.
Есть такой вопрос: отчего погибла Римская империя? Обычно говорят, что Рим погиб от варваров. Нет, он погиб сам от себя, Рим сам себя разрушил. Бродский в пьесе «Мрамор» замечательно показал этот процесс гибели. Они сами назначали командующими в армии не римлян и давали права не римлянам.
Но вернемся к воде. Муратов писал: «Рим – это шум падающей воды». В шестиэтажных инсулах жили с водопроводом. Инсула – это дом с бесплатными двух- или трехкомнатными квартирами со всеми удобствами, которые муниципалитет давал людям, объявившим себя безработными. Кроме квартир давали еще двух бесплатных рабов, чтобы человек мылся в банях, ходил на стадионы и создавал римскую жизнь. Бесплатными рабами назывались вольноотпущенники, и занимались они тем, что сидели на земле, то есть возделывали ее. Римляне были любителями садовых приусадебных участков. Многие служили в армии 25 лет, чтобы им затем дали дом с садиком. У них была богиня Веста, покровительница домашнего очага, и был бог Вертумн – бог яблоневых садов. Вольноотпущенники сидели на земле, кормили семью и продавали излишки на базаре. Еще они ухаживали за детьми, пускали деньги в рост.
Когда в 325 году на Никейском соборе был принят Символ веры, была объявлена война ереси. Один из самых главных вопросов был о воде. Что такое вода? 865 общественных бань. Кроме этих бань у них было 11 терм, по одной в каждом округе. Чтобы построить баню, нужно было иметь деньги, прийти в сенат, доложить там, как эти деньги были заработаны. Если они были получены честно, то ты мог строить баню и ты становился героем. На фронтоне бани писалось твое имя. Наши Сандуны – это жалкое подобие римских бань. Женщины тоже стоили бани и ходили в них. А термы строили только императоры – это было только их занятие. Так для чего существует в Риме вода? Для цивилизации, а также для удовольствия и наслаждения.
А христианство сказало: нет! В Афоне, где находится первый христианский монастырь, монахам запрещено было купаться даже в одеждах. Вода – это самая сакральное, что есть. Это другая философия, другое отношение к воде. Когда-то Аверинцев гениально ответил на вопросы: «А куда подевались водопроводы? Что такое прогресс? Почему сейчас нет таких водопроводов?» Он ответил на это: «Никакого прогресса нет и быть не может! Есть то, что культуре в данный момент требуется». Им нужна была вода, и они ее получили. А другим вода не нужна. И все, что было, заросло, исчезло, потому что надо все поддерживать в надлежащем состоянии. Когда вспомнили об этом, оказалось, что поздно – цивилизация воды была утрачена. Разрушено водоснабжение, невозможно орошение любимого участка, заработанного службой в армии или купленного. Теперь воду можно брать только из колодца и столько, сколько нужно. Капля воды содержит всю информацию – всю сакральную информацию. Это принципиально. Точно так же принципиальное отношение к вину и хлебу. Для христиан это кровь и плоть, их нельзя бездумно есть и пить.
В этом и есть цивилизационные принципы. Но христианский мир, принявший единый Символ веры на Никейском соборе, повторил его уже полностью после смерти Константина, когда стала развиваться христианская цивилизация. Хлеб, вода, вино – это принципиальные вещи, это отношение людей к миру вокруг них и друг к другу. Римляне не придавали им сакрального смысла – только бытовой, житейский. Христиане же специально берут символы старых ценностей, но заполняют эти сосуды новым содержанием. И это новое содержание держится до сих пор. С одной стороны, есть традиция и символы, а с другой стороны, они имеют множественность смыслов. Христианский мир, центром которого стала, естественно, Византия… как ехидно заметил Бродский: «Константин просто перевез банк к монетному двору». Так вот, христианский мир с самого начала не был единым.
Вопрос о том, как возникли разные ветви христианства, требует отдельного разговора. Но есть один интересный факт: почему-то все начинается в пещере. Где родился младенец? В пещере. Допустим, в данном случае есть объяснение: это были бедные люди, которые не смогли найти себе в Вифлееме пристанища, и нашли его в овине, в пещере. Но есть и другие аналогичные примеры. Откуда появляются дети при рождении? Из пещеры. И даже сам бог Зевс родился в пещере, на Крите: мать спрятала его там от ревнивого супруга. Эту пещеру и сегодня можно увидеть – так же, как пещеру в Вифлееме, к которой стоит очередь. Они сохранились.
Пещера – это всегда тайна. Поэтому все рождается в пещере.
Когда Тонино Гуэрра задумал памятник Андрею Арсеньевичу Тарковскому, он делал его в пещере. Закрыл наглухо двери и сказал: там тайна. И там правда тайна. Нам надо пересмотреть фильмы Тарковского спустя несколько лет, и мы увидим многое, чего сейчас не замечаем.
Возрождение – это тоже пещера, и поэтому всякий момент рождения – это тайна. Интересно, что первые росписи, которые нам известны, тоже находятся в пещерах, в Пиренеях. Кто их там написал, когда? Все зарождается в пещере и в андеграунде. Может хоть один человек или один теоретик ответить на вопрос: а что такое пещера? Нет, не может. Никто не может сказать, как родился в этой пещере Христос. Мы знаем все и ничего. А самое главное – мы не знаем, ни как зародилось христианство, ни когда это произошло. Такое множество теорий!
Есть ортодоксальная теория, прописанная во всех учебниках, не станем ее тут повторять. Но есть и масса других свидетельств, например кумранские рукописи. Как быть с ними? Это подлинники? Подлинники. Хотя некоторые говорили, что это подделка, фальшивка. Интересно, кто мог бы ее сделать? Сунуть в эти кувшины, запечатать сургучом – еще тем, дореволюционным, и спрятать в той пещере. Так как же быть с кумранскими рукописями? С этими ессеями, у которых был Учитель Справедливости? Забыть и не обращать внимания? Кому надо – тот пусть читает, но считаться мы с этим не будем? У нас написана история. Мы будем ей следовать?
Вот почему вопрос о возникновении христианства – сложный вопрос. И тем не менее, какой бы он ни был сложности, факт остается фактом. Христос был или нет? Скорее всего, был. Я не сторонница диалектики – все, о чем мы говорим, свидетельствует о том, что диалектики не существует. Она нам нужна для того, чтобы существовала причинно-следственная связь и чтобы мы могли как-то осмыслять себя и пройденный нами путь. Но, безусловно, существует очень серьезная вещь – это импульсы человеческого сознания. Это то, что происходит, как написал Арсений Александрович Тарковский, «при свете озарения». В эти моменты меняется сознание человека, меняется не диалектически, а дискретно.
Возьмем, к примеру, партию большевиков. Где она зародилась? В подполье. Но долго в подполье сидеть невозможно: любое подполье, как и пещера, – это девять месяцев, и потом мы рождаемся. Большевики взяли «Аврору» и выстрелили в 1917 году, и в этот момент родились.
Так и христианство – оно сидело в подполье, прошло все мучения подполья, как и те же большевики. У Ленина было много паспортов, грим, усы… он был актер высочайшего класса. Моя родственница, директор музея Андрея Белого, занимается проблемами сознания. Она приводит в своей книге о Ленине интервью с Крупской. У нее спрашивают: «Любил ли Владимир Ильич природу?» Надежда Константиновна отвечает, что да, очень любил природу. Они однажды в Швейцарии совершали прогулку по горам и взошли на какой-то холм, и Надежда Константиновна сказала: «Посмотрите, Володя, какая красота!» А он ответил: «А все-таки, какая Плеханов сволочь!» Это не анекдот. У Ленина перед глазами был только Плеханов.
Так вот, сначала было подполье, из которого вышли революционеры. А было ли подполье у якобинцев во время Французской революции? Ведь самое интересное – это то, что происходит в подполье, а не тогда, когда из него выходят. Вот этот андеграунд – самое интересное: явки, ставки, фальшивые имена, тайные собрания.
И первые знаки христианского искусства находятся именно там, в так называемых римских катакомбах. Что же такое христианское подполье? Оно существовало не только в Риме, но даже в Риме никто на этот вопрос ответить не может.
Исследователи сейчас имеют две или три версии. Одна версия заключается в том, что христианское подполье существовало в коммуникационной системе. Это система фантастическая! Всем известно, что внутри Рима был еще один Рим, и он находился в этих коммуникационных системах. Как туда попадали люди? Через люки, которые и сейчас мы видим на улицах. Только у римлян там было намного чище и светлее. Это было что-то вроде метро, и именно там собирались раннехристианские общины.
Но самое интересное заключается в том, что они хоронили там своих великомучеников и епископов. И благодаря этому мы имеем в катакомбах реальные захоронения первых великомучеников. Они, конечно, сделали там вентиляцию – римляне плохо строить просто не могли. И в этих катакомбах христиане читали какие-то тексты. Вопрос в том, что именно они читали? Ведь четырехстолпное Евангелие было написано только в VI веке. Так что им еще было 600 лет до появления этих текстов. Они не знали, что они читают. Само христианство родилось идеологически: по-настоящему оно родилось в борьбе с ересью. То есть ересь родилась до вероучения. Так же было и с наши подпольем, с троцкистами и с меньшевиками: там гудела борьба! И в раннем христианстве были очень интересные ереси. Сейчас трудно точно сказать, кто из святых, которые там похоронены, к какому направлению принадлежал, но факт остается фактом.
Историю делает сама история, нам она не доверяет. И она словно специально устраивает для нас какие-то представления, исторические фейерверки, чтобы поставить на место историческую ситуацию.
Например, один такой фейерверк связан с Адрианом. Адриану не дали поставить алтарь Христов в Пантеоне. Почему? С точки зрения истории было рано. Если бы его поставили, все было бы кончено, никакого христианства бы не возникло. Точнее сказать, оно было бы, но совсем другим.
Надо было подождать еще, до тех пор, пока, наконец, маховик разгонится как следует, чтобы их меньше преследовали, меньше вешали, меньше мучили. И к тому моменту, когда приличные римляне уже не могли видеть все то, что их окружало, они стали христианами.
Здесь надо остановиться на двух моментах. Это, во-первых, Адриан, который лишился «божественного» титула и из-за этого уехал в Грецию. И во-вторых, император Диоклетиан. Император Диоклетиан был гениальный человек, абсолютно не совпавший со своим временем. Как говорил Лев Николаевич Гумилев: а что делать бедным пассионариям, если они не совпали со временем, где им место? Получается, что только в сумасшедшем доме. Как пел Высоцкий: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».
Что делать пассионарию, что делать гениальному человеку Диоклетиану? Он был благороден, он даже не хотел один управлять империей, он взял своего друга Максимиана в помощники. И тот вместе с ним ушел в отставку. Они вместе взяли престол и вместе вышли в отставку. Максимиан не подсиживал ни его, ни кого-то другого. А вот племянник Максимиана, Константин, стал делать Византию. Он был сыном генерал-губернатора и наместника Британии. Константин воевал в Галлии, и Диоклетиан с Максимианом решили оставить престол ему, энергичному воину, а сами удалились от дел и занялись садоводством.
А ведь до этого Диоклетиан хотел укрепить империю, издать законы, возродить армию. И когда он решил сделать последний рывок, то стало ясно, что это абсолютно ни к чему не приведет, и силы покинули его. Выяснилось, что жена его – христианка, любимая дочка – христианка, жених дочки – христианин. Сердце его разрывается, а он римский император… И Диоклетиан сделал удивительную вещь, исторически гениальную. Он даже не представлял, что совершает исторически-гениальный поступок.
Как преследовали христиан? Их группой загоняли на стадион, а дальше – у кого на что хватало воображения: к ним выпускали диких зверей и прочее. А у Диоклетиана возникла идея, как у настоящего большого государственника: судить христиан как врагов народа. И их стали судить, то есть устраивать политические процессы с дознанием. А они говорили: нет, не отрекусь! Им угрожали расправой, мучениями, но они держались своей веры. Все это происходило публично, театрально, велись протоколы – это же Рим! Две трети всех существующих христианских мучеников сделал император Диоклетиан, на индивидуальных судебных процессах. И святого Каллиста, и святого Себастьяна – главного нашего героя всех времен, у которого в катакомбах мы находим все его приметы и захоронение.
Так что же сделал Диоклетиан? Результатом этих индивидуальных политических процессов стало то, что мы помним имена. Когда христиан уничтожали в коллективе – нет, а когда индивидуально – помним. Существуют протоколы, они стали основой новой литературы, которая называется «жития святых». Эти жития появились на основе документов. Документы дают очищенный образ, воспаривший, подлинный образ нового героя.
Диоклетиан вместе с Максимианом практически создали всех христианских великомучеников! Когда христианство дошло до России, нам тоже стали нужны национальные святые, а их нет: все они Диоклетианом сделаны. И Ярослав, правивший Киевским государством, выбрал для этой цели двух своих братьев, Бориса и Глеба, которых якобы убил Святополк Окаянный. Они знать ничего не знали ни про какое христианство. После того как их убили, Ярослав тут же устроил похороны. И это он создал им замечательные биографии: два юных царевича из Вышгорода, они не успели ни жениться, ни нагрешить. Никого не убили, греха за душой не имели. Чистые, хорошие, милые юноши, любимые дети своего отца, убитые Святополком Окаянным. Но он ли их убил? Мы этого не знаем. Однако дело было сделано, и первые русские национальные святые, которые стали очень любимы, были выдвинуты из собственной семьи Ярослава Мудрого. До этого были только ранние христианские мученики, созданные Диоклетианом.
Очень интересны биографии святого Георгия и святого Себастьяна, не только их великомученичество и допросы, которые вел Диоклетиан, но и сама их судьба. Потому что святой Георгий – это восточный святой, а святой Себастьян – западный. Хотя оба они были молодыми полковниками, закончившими военную академию, из аристократических семей. Они были своеобразными декабристами того времени, только их повесили, а не сослали в Сибирь.
Когда Диоклетиан сказал, что он уходит в отставку, то идея Пантеона уже оформилась. В 305 году Диоклетиан удалился от дел и засел в своем огороде. В 313 году он тихо умер, копая огород и стараясь забыть свое имя и вообще все-все-все. Но, как мы знаем, история осталась.
В 308 году, когда христианство вышло из подполья, его готовы были поставить наряду с другими верованиями и богами. В 324 году, за год до того, как был принят Символ веры, христианство было объявлено по существу единственной правящей религией Рима. В 325 году состоялся знаменитый Никейский собор. Это было очень важное событие: победа над арианством, которое утверждало сотворенную природу Бога-Сына. Ария сослали, и на Никейском соборе был принят главный Символ веры, то есть Троица, утверждающая равенство Отца и Сына.
Константин Великий в 330 году основал Константинополь, а умер в 337 году. И он принял христианство сам, на смертном одре. Парадокс: наихристианнейший из королей принял христианство на смертном одре из рук арианского епископа Евсевия. Константин вообще плохо разбирался в религиозной политике, а Евсевия, в отличие от других священников, знал давно. Но ему это забыли и простили. Самое главное, что он был крещен в 337 году, а в 330-м основал Константинополь.
В 381 году Церковью приняты религиозные эдикты. Конец IV века в книгах называют ранним Средневековьем, но в это время еще только идет формирование религиозных идей, возникает твердь духовная. Поэтому эдикты выходят один за другим. Христианство утверждается как единственная религия. И теперь оно так же агрессивно относится к так называемым ересям, как раньше ереси относились к христианству: теперь преследуют язычников, пока только сажают в темницы. Вот так интересно все обернулось.
Итак, подведем итоги. Первые признаки христианской культуры были катакомбные. Это произошло тогда, когда искусство находилось в андеграунде, то есть на нелегальном положении. Потом, в 308 году, оно вышло из катакомб, а на Никейском соборе, в 325 году, принимается единый для всего христианского мира Символ веры – Троица. Это самое главное в христианстве – Троица, которая говорит о равенстве Отца и Сына.
Что включает в себя ранний христианский мир? Не следует путать его с более поздним и современным. Прежде всего, это – Греция. Это полуостров Афон, представляющий собой узенький язычок суши. Первый интернациональный монастырь – это монастырь греческий. Там впервые сложилась литургия и десятиголосное пение, не поддерживаемое музыкальными инструментами, – ирмос.
Самой активной частью этого христианского монашества на Афоне были болгары, армяне и грузины. Армянская церковь – самая старая, Григорианская, Новоапостольская. Она на 300 лет старше российского православия.
Вообще, церковная общность (а в ней была удивительная внеэтническая союзность – христиане, копты и римляне) – это «первый христианский этнос». Именно такое, идеальное определение Византии первым дает Лев Николаевич Гумилев, применявший к вероучению понятие этнической принадлежности.
Христианский этнос… Что значит этнос? Этнос – это общность традиций, единое духовное поле. Гумилев не говорил, что это географическая или историческая общность, он говорил: это духовная общность.
Катакомбное служение проходило на латыни, а новое – на греческом языке. То есть изначально создались две интересные идеи – одна латинская, а другая греческая. Греческая, естественно, потому, что Византия – это греческая колония. Италия имела единый язык – старую латынь, классическая латынь изучается и сегодня аптекарями, юристами, а также учеными людьми. Греческая идея совсем другая. Италия – это место общего языка и территории. Это латинская культура, содержащая в себе, как говорят современные генетики, очень сильный корень. Да, у них происходила генно-этническая передача от гуннов и галлов, но ее не стоит преувеличивать. А что касается Византии, то она была очень многоязыкой и не имела единого языка. По-гречески писали, вели службу, но на базаре по-гречески не говорили. Это и есть первый христианский этнос, о котором говорил Гумилев, то есть не общность с историко-генетической традицией, а общее духовно-культурное пространство, которое объединяет людей. Россия наследует эту традицию, и мы называем ее ортодоксия.
Латинская традиция связана с развитием христианства в другом ареале. В Средние века для Западной Европы классическими странами являются Италия и Франция, а для Восточной Европы классической страной является Россия. И дело вовсе не в том, что турки в 1425 году вошли в Константинополь и от него не осталось ничего. Культура может существовать, но она перестает развиваться. Если мы возьмем арабскую культуру, то увидим, что она развивается с VIII по XVII век, пока не завоевывают север Индии. Это последний взлет, а потом что? Потом самовоспроизведение, самоплагиат и ничего больше. Художники, звездочеты, врачи – все осталось там, а мы обманываем себя. Люди, строящие сейчас мечеть, даже не знают, что она из себя представляет.
Важный момент в европейской христианской культуре – это вторая половина VI века, когда складывался четырехстолпное Евангелие как единая евангелическая система для всего христианского мира. Но главным является период с VI по IX век, а не с IX века. То, в чем мы сейчас живем, начинается в VIII веке. Средневековье окончательно формирует себя к VI веку. Россия приняла христианство в X веке, но все начинается с рубежа VIII и IX веков, в том числе и традиции.
Мы живем в типичном Средневековье. Мы живем внутри христианской культуры, а арабы – внутри своей. Третья мировая религия – буддизм. Является ли он средневековой религией? Вернее, не религией, а этической философией? Будда жил в VI веке до н. э. Что это было за время? Кто тогда еще жил? Пифагор, Конфуций, Лао-цзы – они все жили в одно время. Это что-то вроде внутриутробного развития: оформление идей, становление, явление и наконец их предъявление. Но на все это нужно время. Тот факт, что буддизм был уже в VI веке до н. э., совсем не значит, что это был тот же буддизм, что есть сейчас в Америке. Есть внутриутробное состояние, завязь.
Самым гениальным среди этих людей был Конфуций, потому что его империя стоит до сих пор. А от Пифагора остались легенды и «Пифагоровы штаны».
Вспомним важные даты. Если в 325 году состоялся Никейский собор, где был принят Символ веры, а в 337-м умер император Константин, то в 382 году, то есть в самом конце IV века, единое христианское церковное сообщество разделилось на восточное, с центром в Византии (в Константинополе), и западное, с центром в Риме (что вполне законно, катакомбы – катакомбное христианство), во главе с Папой – наместником Бога на земле.
Остановимся на главном событии того времени. Итак, 1054 год. В конце IV века Церковь определяется как двоесущность. И только в середине XI века совершается, так сказать, «бракоразводный процесс», когда, наконец, Западная и Восточная церкви делят между собой имущество.
Когда умер пророк Мухаммед, прямо перед его гробом моментально раскололся исламский мир. Наследники Мухаммеда не смогли поделить его духовного наследия, потому что речь шла о составлении Корана. И эти духовные распри существуют до сих пор – это шииты и сунниты. Вы знаете, что они просто истребляют друг друга, словно они неверные. А это – кровь! Между ними – кровь, которая не кончается никогда. Средневековье продолжается. Если суннит во главе исламского государства, то шиитам конец. Но ни один мусульманин, даже самый радикальный, никогда не скажет: эту мечеть (или этот дворец, или эту медресе) строили сунниты или шииты.
Я ставила такие эксперименты и спрашивала разных людей. Например, интересная история была на Кипре. Там, с одной стороны, замки крестоносцев, потому что это одно из основных тамплиерских гнезд, а с другой стороны – мусульманство. Оно особое с точки зрения эстетики. Постройки там лишены той красоты, которая характерна, скажем, для среднеазиатского мусульманства – изумительного, изысканного, цветного, или для южно-испанского, где тоже все невероятно красиво. А здесь все напоминает цветом песок, неотчлененность от песка. На вопрос о том, кто это строил, люди ничего не могли ответить. Они просто не знают. При этом разногласия там идут всегда, и очень бурные.
Сунниты и шииты друг друга режут до сих пор, а культура у них единая. А вот православные и католики – две совершенно различные культуры, хотя в христианском мире откровенных, открытых столкновений, когда брат идет против брата, не было. Кто-то, возможно, скажет: «А как же Варфоломеевская ночь?» Но дело в том, что там были протестанты с католиками, а не католики с православными. Протестанты – это та же самая католическая церковь, это внутренние дела католиков. В Европе протестантизм – это XVI век. А был ли в России свой протестантизм? Да, только не в XVI веке, а в XVII, при Алексее Михайловиче – старообрядцы. Это раскол внутри Церкви, и в этом отношении раскол протестантский похож на старообрядческий. Как ученость и настоящее просвещение на Западе произрастают из протестантизма, точно так же в России просвещение произрастает из старообрядчества. Все, что имеет отношение к российскому просветительству: русские университеты, железные дороги, учебные заведения, знаменитое русское коллекционерство – это все староверы. От Павла Михайловича Третьякова до Щукина и Рябушинского – это все староверческие дела. Но это дела внутрисемейные, внутрицерковные.
К концу IV века, к 380–390-м годам, создается ситуация очевидности, что есть два христианских центра. Только в конце IV века все это начинает проявлять себя открыто.
Историю Средних веков пишут поспешно, не подумавши, дробят ее на периоды: очень раннее Средневековье, совсем раннее Средневековье, совсем не раннее Средневековье, совсем среднее Средневековье… А это совсем не так: разные регионы развивались по-разному. Италия развивается по одному сценарию, северные страны – по другому, и византийско-русское направление тоже развивается не так. Другими словами, нельзя дробить историю на среднее и раннее Средневековье.
Окончательный раскол, который произошел в 381 году, никогда не приводил к вооруженным столкновениям, чтобы христианский брат пошел на христианского брата. Когда Тарик ибн Зияд открыл ворота для арабов и для мавров на Пиренеи, когда началось мусульманское завоевание, армия состояла из негров, арабов, евреев и византийских наемников. У Гумилева совершенно гениально описано, как прошла византийская часть со знаками креста: она шла себе спокойно вместе с арабами в Испанию. Они друг друга не переносили, но открытых столкновений не было.
В 1054 году (кстати, в год гибели Киевской Руси, это еще и год смерти Ярослава Мудрого) происходит невероятное событие для всей мировой культуры. Невероятность этого события заключается в том, что произошел восьмой Вселенский собор. Этот собор стал последним. На нем произошло размежевание папской Церкви (или Латинской, или Западной) и Церкви Восточной (или Греческой, или Православной).
Сформировались два абсолютно разных стереотипа сознания. Это была серьезная политика, но самое главное то, что стереотипы сознания сегодняшнего дня, национального сознания, или то, что мы называем ментальностью, формировались именно тогда, когда в результате «развода» церквей было поделено «имущество», их духовный багаж.
Фактически раскол произошел значительно раньше, потому что к XI веку западный европейский мир совершенно оформился через создание Западной Римской империи, через Шарлеманя, через Карла Великого, через рубеж IX–X веков. Все произошло значительно раньше, потому что западный мир оформился своей цеховой системой. То, что произошло тогда, имеет прямое отношение к нам сегодня.
Собор шел два года, и столько же времени они убивали друг друга: травили, пропитывая страницы ядом… и в результате разошлись по трем вопросам.
Первый вопрос – очень специфически-церковный. Это вопрос таинства причастия. Что такое причастие для человека? Что такое отпущение грехов для человека? Причастие, отпущение, исповедь. Это – путь человека, это очень интересное движение человека. По этому вопросу православие и католицизм абсолютно расходятся.
Два остальных вопроса – искусствоведческие. Они спорили по вопросам искусствознания.
Главный вопрос, стоявший перед ними: что можно и что нельзя изображать в искусстве? Вы этого не прочитаете ни в одной книге. Между прочим, это вопрос, из-за которого убивали друг друга гораздо чаще, чем из-за вопросов теологических. По вопросам теологическим договорились достаточно быстро. А вот по вопросам искусства – нет. Этот вопрос оказался роковым.
Западная традиция говорит: в искусстве можно изображать все. Латинская формулировка такая: изображению подлежит все то, о чем рассказано или упомянуто в обеих книгах Библии – Старом и Новом Завете. Дерево упомянуто, мандрагора – можно и их.
Например, в Евангелии упоминается история предательства Христа Иудой. Евангелисты Матфей и Иоанн хорошо описали эту страшную историю. Западное искусство изображает ее свободно. Тема предательства – это одна из самых важных тем. А православие говорит: нет, ни в коем случае изображению это не подлежит! Никогда и ни при каких обстоятельствах. Изображать можно только то, что является праздником. Праздники – точка истинного, церковного и духовного торжества.
Для изображения отбирается праздничный ряд, который в дальнейшем становится основой иконостаса. Только то, что входит в праздник, а что не входит, то изображению подлежать не может, даже во фресках. Особый смысл имеет деисусный чин со Страшным судом. Таким образом формируется средневековое художественное сознание, формируется через семантику храма и иконостаса.
Решение Вселенского собора до сих пор никто не пересматривал. Если Петр I в XVIII веке объяснил, что кроме сакрально-религиозного искусства существует искусство светское, то оно идет параллельным курсом. Религиозное искусство остается изографическим и не может отступить от канона.
Изображение Тайной вечери в православном искусстве до XVIII века, до Петровской реформы, было только одно. И Распятие только одно. Первое «Распятие» было написано Дионисием на рубеже XV и XVI веков! А что такое XVI век? Умирает Тициан, на подмостки вышел Шекспир. Раскол идет уже полным ходом. Дюрер умирает, Леонардо умирает в начале XVI века. А Дионисий в первый раз изображает Распятие незадолго до этого. И что интересно, это Распятие висит в Третьяковской галерее и показывает распятого Христа как птицу. Это изумительное изображение – вот Он, подобно птице, отлетает с креста. Он бестелесен. Вообще бестелесен. У него нет плоти, нет рук, нет ног, это какая-то легкая птица.
Когда начинает складываться традиция изображения только православных праздников? Очень рано. Еще в Византии, когда она стремилась к изображению именно тех точек истинного торжества, куда входят только церковные праздники. Можно изображать все праздники, какие есть. И еще, конечно, покровительственных святых и Богородицу. И кроме того, праздники, связанные с богородичным культом, такие как Благовещение, Рождество – так называемый богородичный цикл.
Уже с IX века в Византии начинает складываться самая главная часть церковного нутра, потому что наша основа, опора всегда внутри. Все самое главное находится внутри. Например, русская архитектура очень любила белый камень. Она говорила: тело безгрешно, грех – в голове и сердце! А если он там, то, пожалуйста, и все остальное – тоже внутри. Поэтому сердцевина – самое главное в православии. Эта традиция начинает формироваться от Византии: сердцевиной храма является иконостас. То есть уже само строение русской церкви семантически необыкновенно интересно. Самая законная и серьезная задача, за которую боролись на восьмом Вселенском соборе, – это была настойчивость в отношении изобразительного искусства, его идеологичность, его идейность. Право на изображение имеет только праздничный ряд, поэтому иконостас и состоит из праздничного ряда икон, а также деисусного чина.
Вот примеры сюжетов, описанных в Евангелии: как Святое семейство бежало в Египет, как Ирод истреблял младенцев. На Западе эти сюжеты изображают часто. В православии их изображать нельзя, так же как поцелуй Иуды и Тайную вечерю. Или такая идиллическая вещь, как «Отдых на пути в Египет». Встреча Иакова с Рахилью, жертвоприношение Исаака… Почему нельзя это изображать? Это все очень серьезные события. Спор был очень жестким, каждый защищал свои бастионы. В православии принято изображать только то, что является точками абсолютного, истинного торжества. Нет этого кровавого пути, а есть только знак, водруженный на вершине.
Посмотрите на Дионисия: здесь уже все связано с общепринятым каноном, это XVI век. Это то, о чем шла речь: посмотрите, какой Он тонкий, такой бестелесный, как птица – ни боли, ни страдания, как будто Он даже не прибит. Он – просто силуэт в этих белых пеленах, и рядом ангелы.
А что на другой стороне – у католиков? Что касается западного искусства, то оно предлагает то, что исключено у русского. Оно предлагает внутриконфликтное изображение, драматургию.
На Западе тему поцелуя Иуды всегда любили обсудить. Почему? А вот почему: бдительны к дьяволу должны быть все и каждую секунду, напряжены и собраны. Должно быть привито сопротивление человека злу, бдительность по отношению к соседу. Это должна быть тяжелая, конфликтная, серьезная ситуация, в которой принимают участие все.
Речь не о том, кто хуже, а кто лучше. Речь о том, что Восточная христианская церковь идет одним путем, а Западная христианская – совершенно другим. Когда эти пути были намечены, обозначены и названы своими именами? На восьмом Вселенском соборе. После него собираться еще раз было уже не нужно. Россия идет по пути провозглашения очень высокой чистой успешности. Она несет это. Но самый главный вопрос, и это нас тоже касается: что можно, а что нельзя изображать в искусстве? Вот простой пример. Все говорят: все-таки соцреализм, как при Сталине, это нехорошо. Но откуда взялся этот соцреализм? Его кто-то придумал? Нет, это продолжение прошлого – право на изображение в искусстве только точки торжества. Победы, вожди, стахановцы, стахановки, завершение строек… Только финал, только торжественный финал. А Страшный суд будет на другой стороне.
Более того: вся история русского искусства, в другой форме, всегда продолжает эту традицию. Мы говорим: «Вот эта традиция, которая сначала развивалась как церковно-византийская или церковно-греческая – это глубоко духовная традиция». Это действительно духовная традиция. Обозначенная в своем языке в XI веке, она явилась и продолжалась до начала XX века. Подчеркнем – до начала XX века, когда Россия была интегрирована в другой процесс, соединившись с процессом духовных трансформаций. Это был диффузионный процесс. А потом, когда мы снова отделились, то сказали: мы единственная на земле страна, которая будет строить ЭТО. И как только мы отделились, мы не придумали ничего нового, а сразу вернулись к этой традиции.
Очень часто внешнюю похожесть принимают за внутреннюю традицию, а на самом деле внешняя похожесть или непохожесть – это вопрос изменения формы во времени. А духовные традиции очень устойчивы. Как устойчивы античные традиции, так устойчивы и христианские. Разве мы живем не в христианском мире? У нас сейчас расцвет православного христианства. Если показывают пояс Богоматери, то очередь выстраивается до Лужников. Это о многом свидетельствует. Собственно говоря, при советском диктаторском режиме была духовная традиция, которая еще ближе подходила к классической.
Прежде чем говорить о том, что Россия имеет отдельный путь, сначала надо подумать, потому что существуют духовные традиции на почти не осознаваемом уровне. Когда их сейчас кто-то озвучивает, это настолько грубо звучит, что все в тебе протестует, но на самом деле это очень серьезные вещи.
И еще один вопрос: кто такая женщина? Вопрос очень серьезный: это было определение сути Богородицы. Богородичный культ существует и там, и тут. Почему вообще возник вопрос «Кто такая Богородица»? В современной теологии есть наука, которая занимаются этим вопросом, называется она «мариология».
Вопрос требовал ответа, потому что пришло время оформить институт Церкви, как в понятийном, так и жизненном смысле. Они два года убивали друг друга на Соборе, по одному вопросу не договорились, по другому не договорились и разошлись по сторонам.
Православие постановило так: Богородица есть Приснодева. Всего два слова, самое точное церковное определение – Приснодева Богородица. Посмотрите на икону Владимирской Божией Матери. Это византийская икона IX века, написанная в Византии после иконоборчества Комнинов и привезенная на Русь. Владимирской она называется потому, что Андрей Боголюбский из Вышгорода под Киевом, где она находилась в резиденции киевских князей, перевез ее во Владимир. Именно владимирские князья установили в России богородичный культ.
Сейчас на иконе написано, что она XI века, но это неправда. Эта датировка скорее политическая, чтобы подчеркнуть, что икона написана на Руси. Но на самом деле это византийская икона IX века. Икона эта содержит формулу: что такое Приснодева. Приснодева – это образ абсолютной чистоты. Прежде всего, это женское начало. Оно определяется через понятие мироочищения. Женщина – это мироочищение, непорочность, жертвенность и покровительство. Слово «Богородица» идет вторым, а первым – Приснодева.
Эта икона является основой канона для женского церковного изображения. Но не только церковного, а вовеки веков женского. Вот художник XX века Петров-Водкин: разве он икону пишет? Он пишет новую женщину революционного Петрограда, которая держит руку определенным образом, защищая ребенка.
В Богородице самое главное – образ: Приснодева, то есть девственность. Понятие «Девы» подразумевает главное качество – чистоту. Церковь Богородицы ставят в чумных местах: считается, что она очищает место. На всех местах, где случались эпидемии чумы, пожары, другие бедствия, – на этих местах ставилась богородичная церковь: Рождества Богородицы, Вознесения Богородицы, Успения Богородицы. Это вопрос чистоты.
Она с архангелом Михаилом ходила по аду. Это очень известный большой эпос, поэма IX века, которую в Европе хорошо знали и которая называлась «Хождение Богородицы по аду». Богородица с Михаилом босая ходила по аду и видела страдания людей, видела греховность человека, поэтому и стала заступницей людей перед Богом. Она взяла в свое сердце всю горечь человеческой трагедии. Она впитала ее в себя и несет в себе. Она есть дева и одновременно есть жертвенная матерь.
У Нее всегда изображение девственно-девичьего облика, очень точно сложившийся иконографический тип. Узкое лицо, узенький тонкий нос, почти нет рта – то есть нет чувственных черт. Огромные глаза, узкие тонкие руки… Как писал протопоп Аввакум: «Персты рук Твоих тонкостны». Вот у Нее тонкостны персты. Это облик именно необычайной чистоты, девичества, нежности, нетронутости. Всегда в ней сочетаются два возраста – возраст девичества и возраст уже Той, которая полна невероятной печали, потому что, держа Младенца на руках, Она Его уже отдала.
Это традиция женского милосердия. Женщины, рожайте, терпите, молчите, милосердствуйте, покровительствуйте – в этом ваша миссия. В милосердии, покровительстве, чистоте, рождении и жертве. Куда шли все великие княжны во время войн? В лазарет. Это традиция понимания, что есть женщина.
Это феноменальная икона, каноническая. Посмотрите, как изумительно изображен Младенец: Он не отделяется от Ее тела, не отделяется от Нее, нигде не выходит за Ее пределы. Он еще от Нее не отделен. А вместе с тем Он – в царственном гиматии, потому, что Он уже Царь Небесный, Он уже Верховный судья. Она невинна и юна, и уже жертвенна, и Она уже прожила свою трагедию, и Она уже отдала. А Он, как бы еще не отделившийся от Нее, но уже воин, царь, защитник.
Это единственный в русской иконографии сюжет, который называется «Умиление» или «Взыскание». Он обнимает Ее за шею и прижимается щекой к Ее щеке. Но вы видите, что Она на Него не смотрит? Она только Его взяла и прижимает к себе, но уже на Него и не смотрит, потому что Она уже видит то, что будет. Это очень глубокая игра со временем и с сущностями. В этой иконе полностью выражена формула, о которой шла речь: Она есть Приснодева Богородица.
Есть еще одно очень интересное каноническое изображение Богородицы, оно называется «Знамение». Это самое древнее изображение. Считается, что этот канон создан апостолом Лукой: когда Она стоит в плаще и держит руки так, как изображено на иконе, то Она – и Богородица, и защитница. Это изображение еще называется «Нерушимая стена». Оно выполнено мозаикой на внутренней апсиде в Киеве. Из четырех апостолов Лука был покровителем искусств, живописцем, и художники называли себя «цехом святого Луки». Считается, что он писал Ее дважды, с Младенцем – один раз.
В термах Диоклетиана в Риме находится исторический музей. И там, на втором этаже, на камне выцарапано гвоздем или каким-то ножом изображение, датированное I веком. Она стоит, руки распростерты, на Ней молитвенная еврейская одежда – талес. Неизвестно, сделал ли это изображение Лука или кто-то другой, но там находятся самые ранние изображения, какие только есть в христианском мире. Это действительно I век. И ни в одной книге этого изображения нет.
Очень интересно то, что здесь подчеркнуто не только Ее нежное девическое лицо, изумительное, почти детское, с огромными глазами, с одной стороны, беззащитное, а с другой стороны, с такой защитой. Этот канон внимательно исследовали. Шел спор о диске, который здесь изображен: является ли это проекцией того, что Она уже несет под сердцем? Но есть другая версия, ее высказал Вагнер, один из величайших специалистов по владимирскому искусству. Вагнер считает, что это похоже на спроецированный откуда-то луч. И правда, это больше всего похоже на какую-то проекцию извне, как диск, будто бы наложенный на Нее. И так же распростерты руки. Она – защита, объятия миру. И Он из Нее выйдет, но это и есть непорочное зачатие. Не нужен Гавриил, не нужен даже вестник – это спроецировано в Нее откуда-то. В этом гениальность канона.
Изначально таких изображений в западной культуре быть не могло, потому что там другая формулировка: не Приснодева Богородица, а первое слово – Богородица, второе – Царица Небесная. Слово Приснодева отсутствует. Он – Царь Небесный, Она – Царица Небесная. Младенец слаб плотью, но сильный духом, а Она – Царица.
И благодаря этому определению возникает сюжет, иконографический канон, которого в России никогда не было, нет и не будет. На Западе он с самого начала возник и всюду у него есть дорога. Все художники его писали, он присутствует во всех соборах, на всех витражах и называется «Коронование Богородицы». Как только на Западе стали писать иконы, их Богородица сидит на них со своим младенцем, спокойная, держит своего очень квадратного и толстого ребеночка на колене, а ангелы стоят рядом с букетами. Или так: два облака, на одном Она – нежная девушка, на другом Он – прелестный юноша, то ли принц, то ли жених Ее, то ли суженый, то ли сын.
Культ прекрасной дамы – вот главная духовная революция в Европе, и не в эпоху Возрождения, а начиная с IX века, хотя раскол на две ветви христианства состоялся в XI веке.
Пели ли в России кому-нибудь песни трубадуры? И были ли они в России или нет? Где этот культ служения прекрасной даме? Где эти тамплиеры с мечтой в глазах о прекрасной даме и с розой в руке? У нас никогда не было трубадуров, у нас в литературе не было «Дона Жуана». Чтобы был дон Жуан, должна быть женская тема – по крайней мере Лаура или донна Анна. Его не культивируют, потому что нет женщин. Кого ему соблазнять? И Дон Кихота не может быть. Пусть у него был 42 размер обуви и огромные руки, но в воображении у него была Дульсинея.
У нас даже нет просто романов о любви, нет этой литературы. Уходит, ускользает главный нравственный стержень. Об этом писал Лев Толстой, когда выводил в книгах женщин-разрушительниц – Анну Каренину, Машу в «Живом трупе».
Что сделал Толстой с бедной Элен Безуховой? Она умерла от болезни. Но самый трагический образ – это Анна Каренина. Это не женщина, это разрушительная сила: писательница, наркоманка… погубила русскую нацию в лице двух ее величайших представителей: армии и государства. Ее любовник был любимцем армии, красавцем, род хороший имел, был честен, прямодушен. А Каренин чем плох? Это же замечательный был человек: он простил ее, плакал. Это шутливое рассуждение, конечно, но сама проблема очевидна. Если вы мысленно пролистаете содержание романов и статей Толстого, то поймете, что его занимал только женский вопрос и героиней его романов была только женщина и никто больше.
А где же образец для подражания? Есть ли он? Разумеется, есть: это Наташа Ростова, это княжна Марья с прекрасными глазами. Она, может, и нехороша собой, но сколько у них у всех детей было?
Толстой жил на сломе веков. Блок уже заявил про Прекрасную Даму: «Ты в синий плащ печально завернулась…», «По вечерам над ресторанами…» До начала XX века это нетипично для русской культуры, для православной культуры. Получилось из этого что-нибудь? Нет, и не получится никогда. Ухаживать за дамами не принято. Они не Прекрасные Дамы, они должны рожать, хорошо варить щи, делать котлеты, обмывать, обтирать и молчать. Стоит ли напоминать, что было при Советском Союзе? И Чернышевский с его знаменитым «Умри, но не давай поцелуя без любви». Чернышевский последовательно соблюдал все традиции православия и в книге воплотил свою мечту.
Все это мост над бездной. Мы смотрим на икону – что за ней стоит? Величайшие духовно-культурные традиции, которые сдвинуть с места невозможно. К искусству нельзя относиться формально. Оно – вещь не формальная. Из культуры ничто не исчезает бесследно. И Пушкин пишет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Пушкин создает образ Татьяны Лариной. Он был действительно гениальным писателем и действительно русским писателем, несмотря на совершенно немыслимое смешение кровей. И он как раз и доказывает, что это вопрос не этнического начала, а духовной традиции, духовного наследства: не обязательно нужно родиться русским, чтобы быть подлинно русским писателем. Он был подлинным русским писателем, создав всю русскую литературу. И в «Капитанской дочке» он удивительным образом запечатлел эту богородичную традицию.
Часы времени: как формировалась национальная идея
XVII век – это эпоха формирования национального сознания и в России, и в Западной Европе, и в Англии. Просто они идут разными путями, беря начало в конце XVI века. То есть тесто заквашивалось во второй половине XVI века, а испеклось все в XVII. Но для нас особенно интересна в этом отношении Франция. Процесс обретения формы и ритуала во Франции оказался таким полным и устойчивым, что продолжает сохраняться и сейчас, представляя собой антибиотик, предохраняющий эту страну от распада. И если в Голландии идея носит характер бытовой, то во Франции и национальный характер, и бытовая сторона – это форма национального сознания. Они были готовы к самостийности.
Французы в результате длительных междоусобиц, постоянных внутренних разборок, внутреннего противодействия друг другу, себя почти уничтожили. И, когда началась протестантская резня, Франция оказалась в ситуации раскола и беспощадной борьбы за власть. Французы истребили сами себя, они, можно сказать, достали ногами дна. И здесь очень важным был приход к власти сына Генриха IV Наваррского – Людовика XIII, о личности которого до сих пор идут споры. Мнения о нем сильно различаются. Но рядом с Людовиком оказался выдающийся человек, и он оценил этого гениального человека, временщика, фаворита, канцлера, кардинала Ришелье. Почему считают, что Жанна д’Арк имела в своем сердце Францию, а Ришелье нет? Он имел не меньше, потому что его жизнь была посвящена спасению и становлению Франции. У него была идея.
Была ли идея у Петра I? Да, была, и каждый может ее определить. Заключалась она не в том, чтобы открыть окно в Европу – это всего лишь поэтическая формулировка. Идея заключалась в том, чтобы перепрыгнуть через пропасть времени и консерватизма и соединиться с дающими новую жизнь артериями. Создать школы, регулярное обучение, создать профессии корабелов, заводчиков и, наконец, научить людей чему-то. Преодолеть пропасть, перевести часы времени. И Петр перевел их.
Ришелье сделал то же самое, что и Петр. Он оставил великого преемника, который не был французом, а был итальянцем, но не меньшим патриотом Франции. И если Ришелье сделал это благодаря опоре на Людовика XIII, создавая идею его абсолютизма, то Мазарини подставил спину Людовику XIV. Французы любили его. При нем вел свою деятельность Кольбер, поистине гениальный человек, который начинал свою карьеру еще при стареющем кардинале Ришелье. У этих людей была политическая идея, которая претворялась через непреклонную волю, через непреклонное действие, и они были связаны не своими интересами, а интересами страны. Это были люди бескорыстные. И политическая идея была осуществлена в результате деятельности Ришелье и при поддержке Людовика XIII, который не сам родил эту идею, но он помогал Ришелье, хотя и часто ссорился с ним.
В чем состояла эта идея? В том, что Францию, истерзанную внутренней борьбой, надо было поднять и вдохнуть в нее жизнь. Франция тогда была в состоянии хаоса, преодолеть который пытался Генрих IV, делая те или иные шаги. Но это ему не удалось, потому что его идея преодоления хаоса не опиралась на принцип порядка и системности.
Петр I хотел создать государство как систему. Он хотел, чтобы его система была одета в определенный наряд. Он построил новый город, наметил каналы, как в Италии. Но мы живем в России, и Меншиков все деньги от каналов положил себе в карман. Там должны были быть каналы, которые могли бы уберечь Петербург от наводнения, и в то же время они должны были напоминать Голландию. Но Меншиков присвоил деньги, а что мог сделать Петр? Наказать его, больше ничего. А результат работы остался. Петр хотел, чтобы перед ним была система, школы обучения, красивые и умные люди. Он создал систематическую армию, стрелецкое прошлое он простил только Петру Толстому. А кто такие были стрельцы? Те же мушкетеры, босяки, армия наемников. Петр и Ришелье создали регулярную армию: с полками, единой военной формой. Ришелье запретил дуэли, чтобы люди себя не истребляли из-за кружки пива или из-за того, что кто-то кого-то локтем задел, да и просто потому, что кровь молодая играет.
Ришелье создал регулярное государство, которое называется Франция, а в культуре – классицизм. Это не характеристика, а порождение регулярного сознания. И исследование французского классицизма – то же самое, что исследование русского классицизма. Ю.М. Лотман, великий мыслитель, сказал так: «Русский классицизм – это мечта всех Павловичей о порядке».
Суть деятельности Петра – установление регулярности. Регулярность должна быть во всем. Например, в этикете – это тоже проявление регулярного государства. Создается ритуал поведения: снимать друг перед другом шляпу, кланяться, улыбаться. Создается регулярная классическая идея, связанная с этикетом и с правилами во всем. Какова духовная идея классицизма? Она связана со служением и чувством долга. Для Петра I системной идей была архитектура, и он построил ту столицу, что мы видим сейчас. Когда идет разговор о классицизме, то речь идет о стиле. Стиль – это единство всех компонентов культуры, не искусства, а всей культуры. Если нет единства, то это нельзя назвать стилем, поэтому стилей очень мало. Например, Греция создала ордер – появился стиль. В России эта схема не очень работает, здесь есть лишь мечта о порядке. При Петре построили Петергоф, Петербург, а дальше что? Тьма. Леблон – первый архитектор в мире, создавший универсальную архитектуру, то, что называют сейчас типовыми проектами. Сам Петр построил в Летнем саду по проекту Леблона дом и жил там. Петр предпочитал маленькие дома, Меншиков себе больше построил. В столице по плану Петра проложили улицы, вдоль которых должны стоять дома, фонари, магазины с вывесками. Была даже предусмотрена одежда для тех, кто будет продавать пирожки. Таким образом, Петр начал с архитектуры.
В России это вообще обычный сценарий: за пятилетку перескочить в новую систему, без всякой диалектики. «Кто был ничем, тот станет всем». Или, как замечательно написала Ахматова: «Хвост запрятал под фалды фрака…» Фрак надели, а под фраком-то хвост есть! Когда придворные на собирались ассамблею, Петр им специально выдал книжки, как себя вести. Общение – это ритуал, которому нужен классицизм.
Во Франции, где этот стиль зародился, вся ортодоксия классицизма сохраняется. Впрочем, там тоже были попытки выйти из классицизма: у французов был свой противовес – Оноре де Бальзак (отнюдь не Гюго, который был чистым классицистом). Бальзак был и Толстым, и Достоевским – так же, как Марсель Пруст, но это ничего не изменило.
В России же все иначе. Сам Петр не мог долго выдержать этикет. Сначала все было по плану: участники ассамблеи за две недели на стульях все спали – парикмахеров не хватало, мылись старательно, хотя не очень умели это делать. Петр расшаркивался и целовал дамам руки… до второй рюмки. В России весь этикет длится только до второй рюмки, до третьей не доходит – ломается. Поэтому в итоге ничего не получилось, но попытка была. Главное, что предполагает системность, это соблюдение формы. Классицизм – это форма, регулярность, выраженная как форма. Но как примирить с классицизмом такой типично русский феномен, как желание поговорить по душам? Заметьте, что пьяницы очень любят философско-религиозные разговоры. Это в национальном характере, и это вступает в противоречие со стилем, с условностью общения.
Итак, классицизм – это прежде всего идея государства и порядка, и он выражает себя в архитектуре, а не в изобразительном искусстве.
XVII век – век живописи. А во Франции, где создаются идеи системности, господствующий стиль выражает себя через два вида культурной деятельности: архитектуру и театр. Театр в его современном смысле и значении создан во Франции, во второй половине XVI и первой половине XVII века. Живопись французского классицизма не достигла особых высот, это просто портреты. Вот театр – это новая мода, потому что народ не настолько грамотен, чтобы много читать (он будет много читать позже), а театр – место общественное, и театр обращен ко всем. Только во Франции в эпоху расцвета классицизма театр имел такое же значение, как в античной Греции. И конечно, на вершине театра стоит Мольер. Он создатель всего современного театра. Не Шекспир создал театр, он создал литературу. Он был историком, создал образ мира, а театр как таковой создал Мольер.
На мой взгляд, именно театр определяет архитектуру, а не наоборот. В архитектуре есть сцена, есть театрально-сценически выстроенное пространство. Например, Версаль – это очень большой театр. До сих пор поражает театральность Парижа: он строился, перестраивался, но он сохранил свою верность классической традиции, соблюдению театральности в архитектуре – как всего города, так и отдельных элементов. В любом месте Парижа вы всегда находитесь в театре: куда бы вы ни повернулись, куда бы ни посмотрели – вы находитесь на сцене.
Уже к концу XVI века сложилась фантастическая, уникальная традиция – это традиция французов проводить время в кафе. Они там читают, совещаются, пьют вино и кофе. Принцип французских кафе уникальный и единственный, и он больше всего выражает идею классицизма. Человек всегда или зритель, или актер: французские кафе открыты, и все сидят перед стеклом и смотрят на театр жизни. Вы всегда сидите так, чтобы быть наблюдателем жизни. Это свойство только французского кафе, и французы следуют этому принципу до сих пор. Только начиная с Ван Гога, то есть с конца XIX века, очень изменилось отношение художника к человеку: начали писать то, что никогда не писали, кроме Рембрандта, – одиночество. Тема фантастического одиночества, разорванных связей становится преобладающей в искусстве. Картина «Абсент» – это картина-манифест.
Казалось бы, эта тема, очень камерная, очень частная, напоминает малых голландцев. Но у них вы видите контакт с пространством дома, который очень многоречиво описан, и контакт с миром вне дома – через свет, через предметы. Человек в мире не одинок: героиня музицирует, вот-вот придут дети, няньки, служанки. Можно вообразить все что угодно. У Пикассо уже все иначе. Пикассо – это величайший пророк, второго такого мыслителя нет. У него пространство для человека исчезает, остается только угол, в который он втиснут. Человек в коконе, внутри себя, главная идея – отторженность от мира. Это кукольный театр, имеющий мнимый мир. Чувство космического одиночества – черта, присущая XX веку. Малевич и Пикассо – величайшие пророки. И их пророчество не свершилось, оно только свершается: мир еще не осознал всей глубины их ясновидения. Мы только на подступах к пониманию Малевича. Пикассо связывает себя с прошлым, и оно имеет для него большое значение. Нет такого художника, у которого бы не было связи, но Пикассо связан со всем мировым творчеством.
Однажды мне посчастливилось побывать на выставке Пикассо. Начиналась она с его «ауканья» с античностью (он делал копии античных слепков, когда ему было восемь лет) и заканчивалась она этим же. Когда вы смотрите Пикассо-мальчика или подростка, у вас в голове только одно: такого быть не может, это поистине дар божий. Мужчина с агнцем на руках – образ, который идет через эпохи, начиная с ранней античности и музея на Акрополе. Там стоит скульптура молодого человека с нежным, отроческим телом, вытаращенными архаическими глазами и агнцем, которого он держит за ножки. Это жертвоприношение. У них на шеях колокольчики. Жертву слышно по колокольчику. Жертву обязательно видно: она идет как жертва. Потом это стало гениальным христианским образом пастыря, несущего на руках паству. Добрый пастырь – первое изображение Христа: он изображен с ягненком, потому что он пастырь, который пестует свою паству, при этом он сам жертва. Одновременно: и пастырь, и жертва. И Пикассо делает несколько вариантов этой работы. Для него это одинокое несение ответственности. После войны Пикассо бросил все, оставил семью и уехал в разрушенный маленький городок Валлорис, где десять лет, как простой рабочий, поднимал город один, своими руками. Он жил в простом доме, ел в забегаловке. Он один восстановил керамику и создал там основу для своей керамической промышленности, открыл магазины. Когда в Каннах показывали «Летят журавли», Пикассо специально ездил из Валлориса посмотреть этот фильм.
Еще Пикассо поставил на площади скульптуру «Человек с ягненком», то есть с агнцем (ее копия находится в доме Пикассо в Париже). Это был его долг, или его подвиг в средневековом понятии. И он был в этом одинок. Он сам взял на себя эту работу и сделал ее. Он выступил с одной из самых сильных программ – одинокого подвига, творения жизни – одиночества во всех его проявлениях. Он обнажен – он без времени, и несет эту ответственность. От этой небольшой бронзовой скульптуры в центре площади нельзя оторвать взгляд. Эта тема одинокого мира, мира в себе, до Пикассо была присуща Рембрандту.
Но вернемся к классицизму. В основе идеи классицизма лежит сверхгениальная футурологическая мысль Ришелье о создании мира как умопостигаемого порядка. Это и есть модель Вселенной. Она имеет центр, размечатель и человека, который является частью этого мира. Есть часть организованной Вселенной, которая просматривается и имеет ясность и организованную композицию. Пространство организовано, в отличие от самоформирующегося пространства.
Все мировое искусство на протяжении всей его истории – это искусство двух типов, создаваемых двумя категориями людей. Условно можно обозначить их как «трезвенников» и «пьяниц», или «сумасшедших». И эти два типа, два стиля сменяют друг друга по очереди. Классицизм сменяется романтизмом. Романтизм – это искусство «пьяниц», несдержанных натур. А классицизм – это искусство трезвенников. Искусство развивается по этому закону: то культура трезва, то пьяна.
У нас есть замечательный художник, которого мало кто любит, – Андрей Платонов. Есть писатели, которые все объясняют, а есть те, кто считает, что все объяснить невозможно. Ты находишься внутри какого-то необъяснимого самообразования и тебе хочется понять, где ты находишься. Таков Платонов – один из самых главных «трезвенников» всего мира, идеальный передовик, герой классицизма.
Начиная со второй половины XVIII и до первой половины XX века Франция является абсолютным авангардом изобразительного искусства, она создает эталон. Начало этой эталонности было положено в XVII веке гениальным человеком Кольбером вместе с Ришелье. Он сказал, что Франция будет богатой и законодательной. Она должна производить то, чего не производит никто, а именно предметы роскоши, и экспортировать их. Это была финансовая идея, и Франция стала экспортировать предметы роскоши. Начиная с XVIII века, несмотря на Наполеона и революцию, Франция создала то, без чего нормальный мир невозможен. Франция создала тех, кто работает, тех, кто дает работу и тех, без которых невозможно ни то ни другое. Она создала огромную армию труда и французскую аристократию. Без аристократии культуры быть не может. Но нужна именно аристократия, а не нувориши, которые детей учат японскому и китайскому языку. Аристократия – заказчик всего: ей нужны лошади для выездов на прогулку, нужны одежда, кружева, духи, картины, предметы роскоши. И нужны те, кто будет все это создавать и обслуживать. Когда в обществе пропадает аристократия, пропадает и культура. Для демократии нужна культура. Аристократы – труженики, только они трудятся иначе. Они не бездельники: они учатся, знают языки, умеют играть, танцевать, обучают своих детей манерам. И должно быть еще одно состояние общества – это богема. Без аристократов и богемы нет культуры. Но настоящая богема – это не те, кто употребляет наркотики. Это свободные люди: художники, писатели, поэты, артисты. Надо понимать, что представляют собой аристократы и обыватели, и понимать, что это все одинаково почетно. И как только французы уравновесили эти три части, культура стала быстро развиваться. В России тоже появилась аристократия и богема, и культура тогда сильно рванула вперед, но это продолжалось недолго.
С токи зрения общественного сознания демократия прекрасна, но для искусства она катастрофична. Искусству нужны законодатели. Люди искусства – это определенная каста. Франция XVIII, XIX и начала XX века – образцовый пример абсолютного культурного процветания. Диктатура – это тоже плохо: это крышка, которая надевается на общество сверху, закручивается, и под ней все сгнивает.
Аристократия и богема между собой всегда находят язык, это было описано в XIX веке. Жак-Луи Давид был первым художником, который сказал: «Я делаю искусство революционного классицизма». Именно так: не просто классицизма, а революционного классицизма. А мы говорим, что у нас социалистический реализм. Но по сути это одно и то же, и одинаково неясная формулировка: почему классицизм революционный – непонятно. Не будем вдаваться в оценочные категории. Когда речь идет о фигурах масштаба Петра I или Наполеона, нельзя применять категорию «люблю – не люблю». Есть Россия допетровского и послепетровского времени, и есть Франция донаполеоновского и посленаполеоновского времени. Это люди, которые перевели часы исторического времени. То же можно сказать об Александре Македонском: до него была история государственная, а после него – всемирная. Когда Наполеон был школьником, он в своей тетрадке по географии написал: «Остров Святая Елена – очень маленький остров». Это удивительно! Есть некая загадка, некое до-знание, интуиция, до-интуиция. Вот почему такие люди очень любят гадалок. И Наполеон окружал себя такими людьми. Они же влияли на мир.
Конечно, крушение наполеоновской империи для Европы стало страшным ударом. Стендаль написал потрясающую книгу о Наполеоне, его огромной армии, о людях, которые почитали его и участвовали в его необычной захватывающей жизни, и о том разочаровании и мировом стрессе. А этот стресс длился долго. Людей охватывало беспокойство и они начинали заниматься переменой мест. Молодые люди находились в стрессе от оборванных мечтаний. Началось интересное время, которое можно назвать «галлюцинаторным временем» или «временем пьяных». Во всем мировом пространстве ампир хоть и остался, но стал наполняться другим содержанием. Наступила постнаполеоновская эпоха, это очень быстрый переход из одного времени в другое. Можно сравнить этот процесс с ситуацией в России, когда за один день выяснилось, что царя больше нет: вчера был, а сегодня уже нет. И Бог вчера был, а сегодня уже нет.
Для жизни человека, для его сознания, для его поведения это очень тяжело. Французская литература уделяет большое внимание этой теме. В то постнаполеоновское время очень многие сказали: «Нам надо на Восток. Там Шахерезада, гаремы, султаны, там курят кальян, ходят в таких-то и таких-то одеждах». И начинается эпоха увлечения Востоком. Людям надоела буржуазная современность, захотелось чего-то другого. И люди поехали на Восток. Это были молодые люди из хороших семей, денди с каменными лицами и немигающим взглядом, огромное количество богемы и тех, кто им прислуживает. Походили, поохотились, посидели у султана, но сколько можно? Пописали стихи «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» и начали заниматься археологией. Европейская археология обязана своим происхождением повальному европейскому увлечению Востоком. Наполеон проложил дорожки в Египет, с его пирамидами и фараонами, и в далекую чудесную Индию. Последствия были поразительными. Эпоха, которая начинается в постнаполеоновское время, условно называется эпохой романтизма. Классицизм сменяется романтизмом через ампир, возникают новое настроение и интересы. Направлений много, и они разнообразны, но только не те, что перед носом. Король Артур интересен, Каролинги, далекая Индия с ее чудесами, Китай, Северная Африка – верблюды, пески, и, конечно же, Греция. И в Европу хлынули передача мыслей на расстоянии и спиритические сеансы. Началась интересная жизнь.
Николай Гумилев в 1913 году поехал в Африку по этим же причинам. И хотя это был уже немного другой исторический период, но в России он наступил именно так. Что касается Гумилева, то, хотя он и был ярчайшей личностью русской аристократической и богемной элиты, внимание было направлено в сторону Анны Ахматовой. Она его, грубо говоря, перепела, потому что именно она сказала: «В России надо жить долго». Она жила в России долго, и она очень точно делала себе биографию. Гумилев долго не жил. Трудно сказать, кто из них обладал величайшим даром поэта, потому что Ахматова свой в себе развила в течение времени, но личностью Гумилев был выдающейся. Золотое оружие за храбрость имели только два человека в России – Гумилев и Лермонтов, а это многое означает. Лермонтов юношей получил свое золотое оружие, и он типичное дитя наполеоновской эпохи русского и мирового романтизма.
Теперь обратимся к французскому романтизму и его величайшим представителям и в живописи, и в литературе, и в поэзии, и в музыке, потому что романтизм был не только в живописи. Романтизм – это состояние души, это способ жизни и смерти. Это не было направление в искусстве, как принято считать, это состояние души. Чахотка, дуэли – это способ жить и умирать. Романтизм не художественный стиль, хотя общие черты есть. Если основная идея классицизма состоит в том, человек – солдат единой армии, то романтизм индивидуалистичен.
Из картин, созданных в духе романтизма, становится ясно, как ломается кулисно-театральная схема композиции. Из ясной, обозримо-внятной она становится динамической, стремительной, диагональной. Яркий пример – Айвазовский, романтик постнаполеоновского времени, и его «Девятый вал». Сюжет картины – кораблекрушение. Появляется любимейший герой в романтизме, который отсутствует в классицизме, – стихия. А где самая главная стихия? В море. Буря. Стихия воды, моря необузданна и не имеет хозяина. Человек – только щепка. Айвазовский с его картинами на морскую тематику был очень коммерчески успешен. Во многих квартирах и сейчас висят полотна Айвазовского. И сколько среди них подделок! При этом он, конечно, избранник определенной публики. Но он – единственный из русских художников, который является основателем этого поиска романтического образа стихии.
И еще одна важная вещь для романтизма: дуют ветры, вздымаются волны, но еще это призраки прошлого. Этот тон задали Байрон и французы. У Байрона было особое отношение к морю. Известно, что он переплывал Ла-Манш. Он законодатель и гениальный человек. Байрон создал образ свободного движения внутри свободного мира, поиска изобретения и образы главных нетленных путешествий. Он первый человек, написавший роман в стихах. Это человек, который много времени провел на Востоке.
Но у Байрона еще есть замечательные стихи, которые так волнуют всех романтиков:
Ньюстед, в башнях твоих свищет ветер глухой, Дом отцов, ты пришел в разрушенье! Лишь омела в садах да репейник седой Пышных роз заглушает цветенье.Вот это и есть призраки прошлого. Величайший смысл в романтизме. Экзотика:
Не говорите больше мне О северной красе британки; Вы не изведали вполне Все обаянье кадиксанки.Это удивительно, конечно, – такой взрыв и совершенно новый источник. Так же, как Айвазовский, это самое настоящее романтическое явление в общемировой тенденции, которая и в России очень велика, просто мы не отдаем себе в этом отчета.
А романтизм живописный? Когда мы начинаем говорить о романтизме, то почему-то вспоминаем Брюллова, а ведь он на самом деле совсем не романтик. У него романтическая тема Помпеи – крушение мира, а выстроена она по железным законам классицизма. Брюллов по манере своей классицист, хотя темы у него были романтические. А Саврасов, Васильев – художники эпохи романтизма. И корреспондируется с ними русская поэзия, в первую очередь Пушкин.
Романтизм есть общеевропейская тенденция, связанная с постнаполеоновской эпохой, которая взорвала культуру. И этот взрыв был невероятным, с колоссальной энергетической отдачей в разные стороны. Создались новые направления в науке. Археология была и до этого, но археолог Винкельман входил в состав богемно-аристократического течения в культуре, которое называлось «Буря и натиск». Винкельман был идеологом этого направления. Тогда же были созданы «Разбойники» Шиллера, а потом Пушкин сделал Дубровского – русский вариант шиллеровского разбойника. Надо было иметь такой аналитический ум, который был у Шиллера и у Пушкина, чтобы сказать: если человек, даже самый прекрасный, встает на путь разбоя, грабежа и насилия, по каким бы романтическим побуждениям это ни происходило, он становится разбойником. Дубровский имел самые хорошие намерения, он сделал это из-за любви, а получилось, что он разбойник. Величайшие умы говорят: человек должен контролировать себя, чтобы не перейти за грань.
И хотя Франция является классической передовой страной всей культуры XIX века, начиная с романтизма (и Мюссе, и Теофиль Готье, и Жорж Санд, и Виктор Гюго, и парнасская школа поэтов, и потрясающие художники), но туманный Альбион вовсе не был отсталым. Во-первых, там был Байрон. Во-вторых, там сложилась гениальная поэтическая Озерная школа, во главе которой стоял замечательный поэт Вильям Вордсворд. И живопись англичане создали уникальную через романтическую школу. Самое главное – они создали стиль, который до сих пор не утратил актуальности. Сами англичане любят его и считают его стиль лучшим на всех уровнях. Их философом был теоретик Джон Рескин, которым они восхищались и которого очень уважали. Его школа оказала влияние на мировую культуру. Она для англичан является выражением национального эмоционального сознания.
Постнаполеоновское время создает единое историческое пространство не только в Европе, но и во всем мире. Наполеон был настолько неординарным явлением для истории, что своими действиями перевел часы. Необъяснимая личность. Можно только догадываться, чем было наполнено пространство этого человека, который, будучи нищим капралом с итальянской кровью корсиканца, пришел к величайшему астрологу Лапласу, чтобы заказать ему собственный гороскоп, что было в достаточной степени необычным. И вот однажды Лаплас созвал свет французского общества в свою астрологическую обсерваторию. Они сидели, пили кофе, вели пустячные разговоры, курили, обсуждали новости и никак не могли понять, почему этот великий астролог пригласил их к себе. Но потом они услыхали скрип старых деревянных ступенек и поняли, что к ним идет кто-то еще. И тогда Лаплас сказал: «Господа, вы слышите скрип этих ступеней? К нам поднимается самый великий человек Франции и мира. Судьба Франции идет к нам». Дверь открылась, и вошел маленький человек в разорванном мундире. Когда Лаплас сделал его гороскоп, в нем было все! Вся кривая его судьбы, включая время его падения, – двойная Лилит. Наполеон получил этот гороскоп. Он жил и стал военным стратегом, оставаясь непонятной личностью, всегда окруженный еще более странными людьми. У него была своя гадалка, астролог. Почему-то люди такого класса жаждут знать, что их ждет завтра. Черчилль был таким же – ироническим, циничным человеком. У этих людей столь сложный внутренний мир, наполненный сложными знаниями о себе, о мире, что им обязательно нужны компасы.
Сначала было барокко, потом революционный классицизм, потом классицизм академический, потом романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, авангард… У нас все разделено по годам, но в жизни так не бывает. Мы классифицируем все, чтобы иметь перед собой целостную картину. Однако можно с уверенностью сказать, что смена тенденций, духовных или художественных идеологий, требующих своего выражения в литературе, в науке или живописи, идет в определенном ритме. И ритм этот до сих пор сохраняется, с поправкой на историческую ситуацию или на национальные особенности. Посмотрим, например, на явление экзистенциальности после войны, когда говорят: наступает новое время во всем мире. Но что такое это новое время? Кто это сейчас знает? Рубеж 1943–1944 годов – это война в переломе, война на сломе. В 1944 году уже было все ясно. Папа римский издает энциклику, о которой мы сейчас забыли. А там сказано, что отныне наступает абсолютно новая эпоха. Старая эпоха закончена, поэтому церковь в 1944 году в Ватикане отпускает грехи всем: фашистам, коммунистам, всем, кто участвует в этом безумии войны, всем крайним идеологическим столкновениям… и даже Иуде.
Начался поток совершенно новой литературы, которая объясняет, что такое коммунизм. Это страшный, крайний левый диктаторский режим, в котором люди не могут выбирать своей судьбы и поступков. Они не вольны. Они могут думать что угодно, но у них нет выбора и жизни. Они действуют в соответствии с определенным диктаторским режимом. То же касается фашистов. Но энциклика рассматривает все это именно с этой точки зрения, потому что неизвестно, какова была ситуация с Иудой. Полностью переворачивается концепция зла, и теперь говорят, что он был к этому приговорен, а без него ничего не получилось бы. Поэтому был сон апостолов, и Христос их предупредил. И во время сна происходило моление о чаше и «Отче, не оставь меня». А потом самый верный Петр первым и предал, пока трижды прокричал петух. Он несчастный человек, которому была предложена такая миссия. По поводу этой трагедии написано огромное количество романов. Петером Ваером была написана оратория и поставлена на Таганке. Подсудимые и судьи. В первом акте обвиняются одни и судят другие, а во втором они меняются местами. Еще там было сказано, что больше общей коллективной ответственности и безответственности нет и все отвечают каждый сам за себя. И следует знаменитая акция Нюрнберга, которая была опубликована в журнале ЮНЕСКО. Еще два человека открыли законы регулировки генетической наследственности. Они получили Нобелевскую премию, но сказали, что отдать в руки человечества свое открытие не могут, потому что человечество находится в таком младенческом состоянии, что тут же использует данные знания против всех людей. И без разницы, у кого в руках это окажется.
В этот же момент появляется Сартр и начинается новая эпоха – сдвиг сознания, новая ступень. Это хаос. Мы не можем собрать воедино то, что происходит в нашей стране: то же самое, только с поправкой. В 1953 году умирает Сталин, и у нас начинается новая эпоха – из лагерей выпускают людей, начинается новая литература. Все то же самое, только с отставанием, только со своим привкусом, со своим оттенком, и называется это «постсталинское время». Исторический процесс вошел в ноль, и не нашего ума дело – думать, как им управлять. Внутри этого процесса всегда есть дрожжи, общие явления, на которые идут ответы.
Вернемся к английскому романтизму. Он был одной из последних попыток привлечь к жизни растворяющуюся, исчезающую, умирающую культуру. Английская элита это сделала, вызвала ее из небытия. У нас эту роль выполнял Гумилев. Что это была за попытка романтиков? Люди, которые переживали внутренний кризис и растерянность, потеряли почву под ногами, решили реабилитировать, выбросить из себя и внести в жизнь рыцарский романтизм. В картинах английских прерафаэлитов снова на арене истории появляется настоящий идеал рыцарственности. Это называется «вопль у бездны на краю». Все осыпается, и это последняя попытка утвердить темы, которые вот-вот должны исчезнуть и раствориться навсегда. Это рыцарские идеалы прекрасной дамы, рыцарского служения. Историю прочитывают в этом контексте, вспоминая о некоем короле, основателе династии Капетингов по имени Гуго Капет, который полюбил служанку и стал ей служить. Она стала королевой, основоположницей рода Капетингов. В этот список входит и король Артур. Именно в этот момент начинается вся идеология артуровского цикла. В России это была идеология сказочных богатырей и королей на картинах Васнецова и т. п. Идет попытка уцепиться, схватиться за полусказочную, полустертую, но необходимую для предъявления обществу культуру, попытка вернуть его к ценностям, абсолютно утраченным и так нужным обществу.
Необыкновенная литература начинается во всем мире. Обретает популярность Шарлемань, Карл Великий. Памятник ему поставлен в конце 60-х годов, потому что это было необходимо. Подобные процессы идут во всем мире, внутри этого разлитого в европейской традиции непременного, обязательного требования вернуть культуре представление о рыцарстве, мужчине-рыцаре и, конечно, обязательно прекрасной даме, потому что все стало обрушиваться. Замечательные слова написал Анатоль Франц. Он пишет: «Женщины, я предупреждаю вас, бойтесь эмансипации – она для вас губительна и смертельна». И сам же отвечает на вопрос, почему они перестали быть тайной и к ним потеряли интерес: «Я с ужасом предвижу те страшные времена, когда какой-нибудь нахал вам не уступит место. Кем вы были? Вы вспомните, кем вы были! Вы были искушением Святого Антония в пустыне. Вы были тайною. Что вы делаете? Что вы нацепили на себя эти чулки?!»
Это появляется даже в России, которая четко следовала очень жесткой православной традиции, где Богородица есть Приснодева, а не Царица Небесная, и ее дело рожать, терпеть и просить. В России появляется именно этого типа романтик, занимающий собой пространство русской поэзии – Александр Блок, который обращался к прекрасной даме. А кто стоит за этим образом – неважно, хоть сама дочь Менделеева. Между тем эта женщина мало вписывалась в трафарет – огромная, большая, похожая на отца, конкретная, несчастная и талантливая. Она написала лучшую книгу по истории балета. Она была умницей и образованным человеком для своего времени. Когда Блок понял, что он сделал с ней, было уже поздно. И начинается движение прекрасной дамы. Блок пишет «Розу и Крест» о Бертране, Гаэтане и прекрасной даме. За всем этим стоит идеология: в Англии она охватила людей просто поголовно, в России – на невероятном уровне, о Франции и Италии нечего и говорить.
Здесь еще важен момент смотрения, рассматривания картин. Они висят в музее, от всего оторванные. Подходят люди, смотрят и говорят: ой, какие наряды! какие женщины! Это надо же, чтобы так повезло, чтобы женщина была с таким овалом лица, с такой копной волос, с такими русалочьими глазами. И пишут только ее.
И художники специально возвращаются к средневековым мотивам, возвращаются к витражам. Блок выдумал свою даму, а у художников была живая модель. Картина Константина Сомова «Дама в голубом» – разве это не прекрасная дама?
Поздний романтизм – конкретная, единая идеология, которую называют возвращением рыцарского идеала. Некоторые мужчины стараются следовать этому образцу. В России, так же, как в Англии и во Франции, идет возрождение сказки. В семьях стали воспитывать детей, изменилась сама система воспитания. Мальчикам стали внушать рыцарские идеалы. Вошли в кровь литература и живопись. Когда мы отдельно приходим смотреть картины, они являются выражением национальной идеи времени, прекрасного стиля, возвращением или попыткой вернуть обществу сознание и отвернуть от машины социализма. И за этой идеологией стоят розенкрейцеры – конкретно, а не абстрактно. В России розенкрейцеры были людьми высшего общества и миллионерами. Это очень элитарное явление. Многие люди, даже историки, путают масонов, розенкрейцеров, жидомасонов. На самом деле все очень просто, только нужно это знать. Происходило возрождение розенкрейцеровской ложи (а это международная ложа, в основе своей розенкрейцеровская), то есть креста и розы, а именно – рыцарей и прекрасных дам.
Фамилии Розенкрейцер не существует, это проекция розы в центр креста собора. Это символ, который на самом деле является возвращением тамплиерской традиции. Никто не помнит, кто такие были тамплиеры, никто не помнит их походы. Все смешалось в головах людей благодаря миллионам книг, потому что эта идеология для культуры и политики не менее серьезна, чем, например, социализм. Розенкрейцеры отчасти победили в мировой гуманитарной идее, а социализм в конкретно взятой стране. Не следует их смешивать. Кто в России стоит во главе?
А.М. Пятигорский серьезно исследовал эту тему. И он отчетливо пишет, как исследователь, почему он этим занимался и почему этим занимаются все крупные ученые. Идеология розенкрейцеров – это та база или те внутренние крепления, на которых вырастает романтизм, служение прекрасной даме, рыцарская культура в Европе и на Востоке. Не будем называть это затасканным словом «тайное общество». Оно, по-видимому, даже не было тайным. Но к нему принадлежали люди, во главе которых в России стояли два очень знаменитых человека: Михаил Иванович Терещенко и отец писателя Набокова. В доме Набокова в Англии был культ рыцарства, и вырос он тоже среди этого культа. Блок в своих дневниках пишет о Терещенко. Он написал «Розу и Крест» для Терещенко, а тот поправляет его, потому что Блок недостаточно глубоко вошел в культ розенкрейцеров. Но Блок был поэтом, а поэты свободны от культов. Эта идеология очень отличается от идеологии любого общества, в том числе масонского. Резенкрейцеры оторвались от каменщиков и от строителей. У них была своя культурная задача. Они занимали очень большие посты, их фамилии произносили вслух, эти люди были очень богатыми.
Вся возрождающаяся в позднем романтизме художественно-поэтическая литературная традиция внутри самой себя несет розенкрейцеровскую идею. Например, когда впервые в Европе были опубликованы «Нибелунги», легенда, выдаваемая за реальный эпос, стала достоянием европейского чтения. Однако реальный эпос о Нибелунгах совсем другой. Конечно, Нибелунги имеют большое влияние на немецкий романтизм и на мировое сознание, но с ними считаться не надо. Это явление разлито. Это последняя попытка людей вернуть культуру к традиции упорядоченных высоких отношений. К сожалению, розенкрейцерам было предписано дистанцирование от политики, это было в их уставе. Поэтому они возродили дуэли и у них был внутренний мужской обряд. Это была мужская ложа, гуманитарно-культурная. Сам Терещенко был смотрителем императорских театров, и когда он эмигрировал, он все возродил уже там. Киевский мультимиллионер, тративший средства на культуру, помог ему в этом возрождении.
Один из героев Пятигорского, Вадим Сергеевич, делил людей на героев места и героев времени и считал, что розенкрейцеры – это герои времени, а не места. Вадим Сергеевич говорит: «Можно соблазниться занять место в русской Думе, но я не соблазнился ничем и никогда, потому что я человек места, я люблю дождь, клумбы под дождем, излучину Москвы-реки». Но он тоже был рыцарем. И их глава, их идеолог – человек, на которого они молились, который создавал теорию, что надо отображать вечность и быть рыцарем времени, а не места. Так же, как вдруг Блок написал: «Мы разошлись с Терещенко», а Терещенко написал: «Меня не устраивает его поведение». Но Блоку безразлично: он поэт, он арфа времени. А прения между ними были жесткие.
Джон Рескин не скрывал своей принадлежности к миру розенкрейцеров. Он написал книгу и рассказал, каким должно быть искусство. В эпоху расцвета античности философия, или концепция мироздания, соединяла между собой космос, природу, Бога и человека.
О чем еще пишут эти художники? Для немцев особое значение имеют «Нибелунги». Данте Алигьери был «наше все» для розенкрейцеров, потому что он опубликовал эту концепцию – новая жизнь с Беатриче и другие картины из его жизни. Зрители не задумываются, почему именно король Артур, почему Святой Георгий, почему Данте, почему женщины изображены в виде Беатриче. Так и называется картина Россетти: вытянула шею, закрыла глаза – Beata Beatrix (Блаженная Беатриса). У немцев до сих пор публикуют и читают детям готические сказки. Почему? Потому что сказки – это воспитание. Если ты рыцарь и поцелуешь лягушку, то она станет принцессой. Или спящая красавица, к которой приходит рыцарь. Примеров достаточно. В наполеоновское время у нас картина пишется по заказу партии и правительства. За всем этим стоит какая-то невидимая плотность. Мы любим женственную красоту. И таких примеров масса.
Когда начался тяжелейший кризис ренессансного сознания, сознания гармонического, сознания, когда человек именно слышит Бога, к чему это привело? К появлению Мартина Лютера, но разве за ним стоит культура? Не надо путать примитивную идеологию с тем, что пунктиром написано в ноосфере. Что было самым главным в кризисе ренессансного сознания? Адамиты. Апокалиптики, все пишут апокалипсис. Они говорят: «Мы люди нового времени, мы пришли провозгласить новую эпоху!» – и все пишут «Поклонение волхвов». Через 150 лет это «Поклонение» уже никому не будет нужно. Или его пишут с точностью наоборот: волхвы – жулики, а Иосифу на ухо говорят: «Тикай!» Там совершенно другая позиция. Кого ни возьми, все пишут «Страшный суд».
Нет вульгарной идеологии. Это всегда сегодняшний день.
Европа в эпоху гуманизма, а это XIV–XVI века, имела три таких мощных школы. Главной была итальянская, потому что Италия – это универсальная перестройка сознания. Именно там происходило сооружение модели нового представления о мире. Это, прежде всего, новое понятие архитектуры и архитектурного ансамбля. Строительство всегда демонстрирует представление времени о модели мира. На самом деле это и есть диагностика того, как Италия развела архитектурную ассамблею.
А что сделал Петр с самого начала? Дело не в том, что он приглашал голландских художников и шкиперов. Дело в том, что Петр дал нам новую модель. Его деятельность развивалась с 1709 года, в 1725-м он умер, а модель уже стояла. И не просто стояла: она уже очень громко заявила об абсолютно футурологическом новом авангардном сознании как о новой модели мира и России. Каким образом? Петр в XVIII веке сделал при помощи Леблона и Трезини то, что потом стали делать только в начале XX века – типовую архитектуру. Они до нее додумались, потому что она была срочно необходима, чтобы предъявить модель упорядоченного государства. Вот это сделал Петр, и не в Нидерландах, а в России.
В Германии новой архитектуры не было. Всюду строили итальянцы, и мир пошел за ними. И хотя орга́н был изобретен в Нидерландах, вся музыка шла из Италии. То же можно сказать о поэзии. Тут ничего не поделаешь, как и с архитектурой. И только поэтому Италия в своем концентрированном напряжении духовной гениальности, духовного преобразования в это время потянула весь мир за собой. Поэтому в Северной Европе и на той территории, которую мы сейчас называем Германией, подобного не было. Но это не значит, что эти процессы не были мощны.
Немцы не художники, так же как и англичане. У них с XVII века появляется музыка, но у итальянцев она появилась раньше. Еще они философы и поэты. И когда на Патриарших прудах у известного господина, допытываясь, кто он по национальности, спросили: «А вы не немец ли?», тот ответил: «Пожалуй, что да».
В 1450 году (это приблизительная дата) в Германии произошло величайшее событие, которое сыграло большую роль в европейском духовном опыте. Что же произошло? Некто Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. Мне довелось увидеть в городе Сантарканджело-ди-Романья большое колесо, которое сделал еще Леонардо, лично. И это колесо работает до сих пор. Это нечто вроде утюга, который разглаживает лен. Если это колесо сломается, то его вряд ли кто-то сможет починить. Но это все неважно по сравнению с печатным станком. Ведь из-за того, что его изобрели, было созвано собрание всех главных цеховиков, мастеров-каменщиков, что стояли во главе готического строительства. И они сделали заявление, что с этой минуты строительство соборов закончилось и цеха каменщиков распускаются. Почему? Потому, что готический собор с его концепцией мироздания и с комментариями к этой концепции, которая представляла собой символико-пластическое или скульптурно-символическое насыщение собора, есть великая тайна. И эта эпоха тайны готического свода, когда его насыщали знаками и символами вселенской модели мира, отношений между человеком и Богом, закончилась. Теперь каждый может писать, что хочет. Станок заработал. Что первым немцы начали печатать на этом станке? Игральные карты! Дьявол бросил карты миру. До этого играли в кости, которые считались благородной игрой.
У Альбрехта Дюрера было одно любопытное качество: он всегда выигрывал в кости. У него была мечта хоть когда-нибудь проиграть. Как его называли соотечественники? Как относились к нему? О нем думали то же самое, о чем в XX веке писал Томас Манн: считали, что он – Фаустос. А доктор Фаустос – немецкая идея. Вазари, который писал только об итальянских художниках, сделал исключение для Дюрера. Дюрер достиг небывалых высот, какие только доступны человеческой личности. Но если вы посмотрите его работы, то увидите, что у него там какой-то сброд: все его герои играют в карты. И у Караваджо тоже. Кости остались игрой аристократов.
Самая интересная история о картах хорошо описана Казановой в его мемуарах. Карты и карнавал тесно связаны между собой. С распространением картежных игр появились шулеры, крапленые карты. Но в Германии, благодаря печатному станку, развивается та тема в искусстве, которой не было в Италии. В этом немцы обогнали остальных: это создание печатной графики, особенно гравюр и офортной графики. Очень редко это иллюстрации, в основном рисунки. Настоящая графика – это Германия. Появился новый язык массового общения – плакаты, листовки. Изобретение станка, возможность печатанья и создание нового языка множительности – ничего подобного в мире не было. С этим достижением не может сравниться ни компьютер, ни фотоаппарат.
1450 год отмечен еще одним обстоятельством. Это год посланий к Папе, потому что с точки зрения адамитской философии изобретение печатанья – это начало апокалипсиса, так как одним из признаков конца света является одурачивание народов при помощи печатного станка. А самое главное – развитие массового галлюцинаторного сознания, именно так они это и называли: печатание было приравнено к наркотику. С этого момента в искусстве начинается новая тема – тема апокалипсиса: и у Микеланжело, и у Дюрера, и у Леонардо. Где то, что движет колесо? Это печатный станок. С Германией многое связано: появление нового антологически-рокового, художественно-рокового и трагического мировоззрения, движения к финалу. Апокалипсис как идея обретает конкретные черты. Это происходит не только в немецкой культуре, но и в нидерландской, и в итальянской. Эта идея постепенно завоевывает пространство, как саранча. Но Господь спас человечество, дав Германии объединиться только в XIX веке.
О Венере Милосской сложены легенды, и все ходят в Лувр, чтобы посмотреть на нее или на «Джоконду». Те, кто не может пойти в Лувр, смотрят справочник, правда, при этом ничего не понимая. Мы очень часто смотрим на вещи, но не понимаем того глубокого смысла, что был в них вложен, потому что они существуют для нас только в той мере, в которой мы о них знаем, и не больше. Но самое главное – это то, что мы вообще не знаем культурного контекста, в котором они создавались и в котором родились.
Важны не только конкретные вещи и предметы, важен контекст культуры: чем тогда была сама жизнь, какой она была интересной, как она складывалась из совершенно разных вещей. Например, цеха, которые были основой всей европейской жизни, от раннего средневековья до сегодняшнего времени, – это и есть тот самый контекст. И тогда не было никакой разницы между теми, кто делал сапоги, красил ткань или строил соборы. Разница была только в том, что одни вещи живут дольше других. Но между мастерами разницы не было и нет, потому что нет разницы в отношении к тому, как человек делает саму вещь. Конечно, со временем мы, глядя на великие соборы и скульптуры на этих соборах, пытаемся их рассмотреть поподробнее. Мы начинаем анализировать и обсуждать то, что видим. Но нами уже потеряна та удивительная магма и материя, из которой этот собор рождался. Все это потеряно настолько, что сейчас, когда мы начинаем пробиваться к этому сквозь наше незнание, у нас голова идет кругом. Мы совершенно по-другому начинаем воспринимать культуру прошлого и вынуждены признать: оказывается, Средневековье напрасно называют темными временами. Оно было абсолютно гениальным!
Это удивительное время Гумилев называл «великим европейским пассионарным всплеском». По идее Л.Н. Гумилева, именно в IX веке на Западную Европу падает та самая толчковая пассионарная ситуация, которая создает необыкновенный эффект. Теорию Гумилева многие принимают и очень многие не принимают. И это настоящая трагедия для одного из величайших мировых историков. Он предложил миру свою историческую концепцию, основанную на теории пассионарности. Возможно, концепция неправильная, но о ней стоит поразмыслить, прежде чем сказать: «Неправильно!» Гумилев и сам признавал, что не понимает природу этого толчка. И хотя Гумилев пользовался теорией Вернадского, он утверждал, что эти толчки, эти пассионарные возбуждения дают такой же эффект, какой хлыст оставляет после себя на теле: после удара хлыстом по коже это место тут же вспухает. И Гумилев говорил: «Это – космическая энергия. Это – удар из космоса, рассчитать который невозможно».
Эти толчки носят в достаточной степени неожиданный ударный характер. Есть места, в которых их никогда не было, например, Англия. Эта страна никогда не находилась в зоне пассионарного толчка. А что же там происходило? Гумилев написал по этому поводу – грубовато, правда, но точно: «Ее принесли во всемирных мешках норманнские завоеватели». В 1066 году состоялось завоевание Англии норманнами, и они принесли с собой пассионарность. Возьмем Россию: большинство аристократических родов имеет татарское происхождение – Юсуповы и прочие. А английские аристократы имеют норманнское происхождение: Байрон, Черчилль – это все норманны. Гумилев считал, что там, где происходит толчок, начинается возбуждение. Создаются определенные условия, при которых возникает возбуждение культурное, возбуждение личности и происходит некое неожиданное чудо рассвета. Его книга об этом процессе называется «Этногенез и биосфера Земли». В этой книге рассматривается каждая страна в отдельности, рассказывается об этих зонах возбуждения, даются хронологические таблицы. Там говорится о том, что страной или стороной наиболее частого пассионарного исторического возбуждения по неизвестным причинам является Китай. Если в Англию эта пассионарность пришла как результат норманнского нашествия, то в Китае она была пять или шесть раз.
Есть такая история о Конфуции. Когда у Конфуция спросили: «Учитель, а что ты скажешь о будущем?», он ответил: «Птица Феникс давно не возрождалась на Аравийском полуострове, и Лошадь-Дракон давно не выходила из воды. Боюсь, что все кончено».
В переводе на наш язык имеется в виду пассионарное перерождение. Птица Феникс – возрождение, как и Лошадь, выходящая из воды. Это означает, что все начинается с начала. И Конфуций боится, что все кончено, потому что не видит нигде этой точки пассионарного возмущения. И даже если Гумилев не прав, он предлагает хоть какой-то вариант размышлений и доказывает это в своих книгах.
Однажды, когда я была в гостях у Гумилева, он спросил: «Куда это вы все торопитесь? Побудете 45–50 минут и все – вас нет». – «Я ведь все записываю и боюсь, что через 50 минут нашего разговора ничего не вспомню». Он засмеялся и сказал: «Сидите. Если поймете, когда будете записывать, что что-то забыли – позвоните и я снова расскажу».
На курсах, где я тогда работала, директором была женщина, которая не признавала Гумилева. На предложение пригласить его, чтобы прочитал студентам лекцию, директор вспылила: «Что?! Гумилева? Он сумасшедший! Он вообще не ученый». – «Не надо! Он – не ученый, он – сумасшедший, мало ли у нас не ученых и сумасшедших. Вон, вы своих марксистов зовете, они тоже сумасшедшие и не ученые, а почему же вы не хотите такого интересного человека пригласить?» Директор подумала и согласилась: «Хорошо, на вашу ответственность. Если что-нибудь случится, отвечать будете вы, а я никогда не приду на его лекции». – «Идет!»
Еще книг его не было, а наши студенты его уже слушали. Почему в разговоре о Средних веках так важен Гумилев? Потому, что Средневековье никогда не было мрачным, оно было великим и гениальным. И таких эпох в истории Европы – мощных, гениальных, талантливых – было много, а мы до сих пор не можем все это осмыслить.
Для мира и для людей плохо, когда происходит пассионарный спад. Тогда все становится полным нолем. А когда возникает пассионарное возбуждение, то и люди становятся очень мощными, и страсти кипят нешуточные. И Гумилев очень точно указывает это время, которое начинается с Каролингской империи, когда Карлом Великим были созданы совершенно феноменальные условия. Например, Гумилев объяснял, что в России пассионарный толчок был связан с Куликовской битвой, когда образовалось Русское государство. Произошел мощнейший пассионарный толчок, и появилось очень много пассионариев: Сергий Радонежский, Рублев и такие, особенно страстные и немыслимые, как Никон, протопоп Аввакум, Петр I. Это все попадает в ту пассионарную волну, которая очень активно действует, по его расчетам, на протяжении тысячи четырехсот лет. Потом она начинает спадать. И вот как раз в этот период необыкновенного, просто потрясающего пассионарного состояния складывается совершенно удивительная атмосфера, которая породила западноевропейскую культуру.
Если вы откроете абсолютно любую книгу, которая называется «История искусства», то сразу обнаружите некое деление, крайне необходимое для тех, кто первыми писали историю искусства. А кто первым писал историю искусства? Когда она родилась и потребовала такой бесполезной, ненужной и глупой профессии, как искусствоведение? Первая книга по античному искусству была написана в XVIII веке гениальным человеком, которого звали Иоахим Винкельман. И что удивительно, она до сих пор интересна. Он первый, кто все систематизировал. А что это значит? Он сделал естественный процесс жизни искусственным, поделил на клеточки. Немцам нет и никогда не будет равных в мире, потому что они трудяги и систематисты. Они все последовательно расписали: и какие были века, и кто когда жил-был, вот это ранний романский стиль, а это романский стиль, а вот тут поздний романский стиль, а здесь готический.
Разумеется, в реальности этого нет. Это делается для системности в голове. На самом деле этого деления не существует, потому что те же итальянцы всегда оставались на уровне романского стиля, и никакого другого у них не было. Как он у них сложился изначально, так они и остались его приверженцами. Они испытывали влияние Византии в разных областях, но основа – романский стиль. И даже когда они в эпоху Возрождения инкрустировали свои соборы цветным мрамором в византийской манере, все равно они остались романскими соборами. У итальянцев нет готики. У них есть одно или два здания, которые они выдают за готику, но это все не то. Итальянцы сразу перешли к эпохе Возрождения, которая создает совершенно новое искусство, не отказываясь от романского стиля.
Итальянцев очень интересуют стены. Почему эта тема стены? Потому, что на стене можно рисовать картинки. И когда мы приходим в романскую итальянскую церковь, то мы приходим, чтобы посмотреть на эти картинки. И все итальянские художники являются приверженцами стены. Даже тогда, когда уже наступил XVII век, появилось еще одно чудо романской стены – это гений Караваджо. И сейчас мы ходим по Риму и ищем те церкви, те соборы, где есть роспись Караваджо. Поэтому нельзя говорить о том, что романское искусство кончилось. Как оно может кончиться, если оно так фантастически цветет?
А вот где существует классика – так это во Франции. Она дает абсолютное представление о том, что такое классика средневековой жизни, классика средневековой культуры, потому что Франция и создала ее. Это идеальная страна Средневековья. И надо знать о том, как Франция расставалась со своим Средневековьем: мучительно, со слезами, с трагедией. Произошло это благодаря супергениальному политику, равного которому во Франции никогда не было, который вывел страну в новое пространство, в новую эпоху, в новую историю, вынул ее из того, что она так любила. И этим человеком был кардинал Ришелье. Он это сделал, потому что основой французской средневековой идеи было рыцарство.
Франция создала идеальную рыцарскую культуру, которая пошла по всему миру. Не англичане, а французы возродили культ идеальных рыцарей, особенно такого, как король Артур. Великий английский писатель Томас Мэлори написал книгу «Смерть Артура» на основе французских легенд. Это гениальная книга, потому что Мэлори в XV веке собрал все легенды о короле и осмыслил их. До него об этом писал француз Кретьен де Труа, и он же записал историю про Тристана и Изольду. Все это – рыцарская культура, и именно Франция создала фантастически идеальную рыцарскую культуру. И неважно, что они плохо пахли, потому что плохо мылись, неважно, какими они страдали болезнями, потому что пили из немытой посуды. Не имеет значения, что они презирали основы гигиены. Может быть, в бытовом смысле для современных людей это некрасиво. Главное то, что дошло до нас, – рыцарская культура в разных ее проявлениях.
Она действительно стала складываться при дворе Карла Великого. А он на самом деле был Великим. Он был прекрасным законодателем. При нем создаются первые образы рыцарственного служения. В его законодательном сборнике (или, иначе, кодексе) была одна великолепная запись. Если вы доносите на своего соседа, то в тюрьму садитесь вы, а не он. До тех пор, пока не выяснится, написали вы правду или нет. Если вы написали неправду, вам отрубали правую руку, которой вы писали. А в XVII веке стоило только дунуть в щель, как тут же брали того человека, на которого дунули. Вот оно, падение рыцарской культуры! А что делали с врачами, которые плохо лечили? Спаси бог, если ты оперируешь, а больной у тебя умрет! Лучше обе руки самому себе отрезать или вообще врачевать не ходить. Вот таким был кодекс Карла. Это был не просто идеальный гражданский – это был идеальный рыцарский кодекс. Поэтому при нем сложилась гениальная идея отношения вассалов к сюзерену и великий миф о великом рыцаре Роланде.
К этому моменту складывается очень серьезный рыцарский кодекс и в Испании, потому что она переживает реконкисту, отвоевание территории у мавров, которым руководит великий Сид, – это все равно что Минин и Пожарский для нас.
Этот рыцарский кодекс был великой вещью. Он создал основы, а до нас дошли следствия. Это отдельные фрагменты готической культуры и того, что мы извлекаем из этой культуры в музее Клюни в Париже. Но этого мало, рыцарский кодекс был целой культурой. И если в Италии она носила один характер, то во Франции – совершенно другой.
Я была на похоронах Тонино Гуэрра. Это были не похороны – этот процесс похоронами назвать нельзя. Это было все равно что попасть в Зазеркалье. Это была настоящая итальянская мистерия на государственном уровне, и заключительным аккордом, которым завершалось действо, стал момент, когда жена сжигала его в печи в крематории. Она рассказала, как сидела около окна и смотрела, чтобы пепел был только его – она очень боялась, что там могут что-нибудь перепутать. Потом она собирала совком весь пепел в урну, чтобы, как она выразилась, «ни пылинки не осталось», а потом его захоронила. Он оставил распоряжения о том, где его похоронить. Его дом примыкает к стене, которая одновременно является не только стеной его дома, но и стеной разрушенного замка герцога Сигизмунда Малатеста. Когда Гуэрра был жив, он постоянно выяснял с ним отношения, по-соседски серьезно. Там фигурировал счет чуть ли не за корову. Сигизмунд входит в число рыцарей, у него есть свой герб, на котором изображен слон, свидетельствующий о том, что он является потомком Сципиона Африканского. А рыцари безумно дорожат своей родословной! И Тонино велел похоронить себя в стене Малатеста. Надо сказать, что дом у него построен террасами, и на самой верхней, в стене этого рыцаря, выдолбили круглую дырку, поставили пепел и закрыли его большим толстым стеклом. Зачем? Чтобы Тонино всегда видел свою родную Романью. Но из окон его дома и так видна Романья, как в фильме Бертолуччи «Ускользающая красота», потому что Бертолуччи там его и снимал. Они соседи. Однако Тонино велел поставить свой пепел еще выше, чтобы видеть не только землю, но и облака. Это все традиции, и очень серьезные. Очень прочная культура. Не верьте тем, кто говорит, что Европа замерла, с ней что-то стало, она куда-то ушла, как Венеция под воду. Ничего подобного. Венеция, как и Европа, никуда уходить не собирается.
Когда мы говорим про рыцарскую культуру, то говорим, что тогда была создана основа текста, в который входит полное описание жизни и стиля. В культуре рыцарство заявило о себе очень сильно. Например, в новом религиозном образе. Латинское католичество предъявило миру новый религиозный образ, заменивший Христа как мужчину страдающей женщиной. И главной сразу стала прекрасная дама. Что должен рыцарь делать прежде всего? Поклоняться прекрасной даме и защищать ее. Была создана оппозиция, которой и поныне занята вся мировая культура – это тема выяснения отношений с женщиной. Во французской культуре главным является женское начало, то же самое – в итальянской. А кто создал прекрасную даму? Только рыцарская культура. У прекрасной дамы, в свою очередь, есть патрон. И этот патрон – Дева Мария. Поэтому ей посвящены многие соборы. Этот культ Девы Марии определяет духовное направление рыцарской средневековой мысли.
Постепенно сформировались рыцарские ордена, которые не просто отличались друг от друга: перед ними стояли совершенно разные задачи. Впрочем, их история мало известна. Но они создали великую европейскую поэзию, потому что рыцари-барды, заимствованные по образцу из кельтской культуры, стали носителями большой литературной мысли. Они делились на историков, рассказывающих исторические факты, на певцов любви – это они сложили песню альбу, которая является основой всей лирической поэзии Европы, и на сказителей.
Франциск Ассизский никогда таковым не являлся: он был Джованни Бернардоне, а Франциском его называли потому, что он пел французский шансон. Он был поклонником провансальской поэзии. Пронзительный, гениальный сюжет… Начнем с того, что он похитил девушку Клару из своего города. Он позже помог ей основать орден кларисс. Невозможно себе представить! Он, будучи монахом, похитил сначала Клару, а потом ее сестру – одну за другой, в течение недели. Но никто не зубоскалил: все знали, что это любовь к прекрасной даме. И вот шли они однажды втроем, одетые в рясы, и пошел снег. Им было холодно и нечего было есть. Они встали под сосной, и Франциск начал петь им провансальские песни трубадуров. Только благодаря этому культу был создан культ лирической поэзии в мире – песня о любви. Во Франции и Италии эта песня называется «Песня утренней зари». Этот культ создает определенную литературную ментальность.
К сожалению, в России никогда не было той европейской традиции, что была построена на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. В России нет ни одного любовного романа. Мужчины вели и ведут себя дурно, и романов настоящих – ни любовных, ни эротических, ни мессианских – не существует. Нет этой темы любви в русской литературе: это просто невозможно. В мире, где не существует культуры отношений между мужчиной и женщиной, не может быть такой литературы и поэзии. Это не преувеличение, это факт, просто мы мало знаем и не интересуемся этой темой. Что у нас есть? Только хрестоматия по средневековой литературе.
Но то, что мы об этом не знаем, не значит, что этого нет. Это все было. И конечно, то, что осталось от средневековой литературы, – это первые любовные мемуары, написанные в XII веке. Их написал великий теолог и ученый Абеляр. Какая это литература! И что же случилось с Абеляром, с этим профессором теологии и носителем новой идеи? Его поймал Бернард Клервоский, который был очень серьезным теоретиком проевропейского военного рыцарства и строителем западноевропейской культуры, и кастрировал его за то, что тот соблазнил свою ученицу Элоизу, очень образованную и симпатичную девушку. Абеляр преподавал, преподавал и… все! Бернард ему тогда и сказал: «На коленях стоять должен, как перед Мадонной, а ты, негодяй, что сделал? Вот я тебя изловлю!» Сказал и сделал. Правда, потом они помирились, и Абеляр даже стал великим ученым в Сорбонне. Какие биографии!
Но важнее всего с этой точки зрения прочитать Данте – «Новую жизнь» и «Божественную комедию». «Новая жизнь» – совсем небольшая книга, и это тоже любовные мемуары. В ней он описывает большое любовное приключение, свою любовь к Беатриче, и рассказывает о том, как он оберегал ее имя. Она была дамой не простой, и он делал вид, что совершенно ею не интересуется. Специально ходил на банкеты, где она присутствовала, его сердце замирало, но он упорно продолжал делать вид, что она ему неинтересна. И чтобы это доказать обществу, даже начал ухаживать за другой женщиной. И до такой степени увлекся этим обстоятельством, что всерьез влюбился и они стали любовниками. Когда ее мужа перевели на службу в другой город, он стал туда ездить. И вот он пишет: «Что же это такое? Любовь небесная. Любовь земная. И любовь земная перевешивает». Он хотел любить понарошку, а получилось все наоборот. Но тут вдруг Беатриче умерла. Это было обычным делом, тогда часто умирали молодыми. Прекрасная дама должна умереть вовремя. Если она не умерла вовремя от чахотки, то она уже не годится на роль прекрасной дамы, это уже лжедама. От чахотки они умирали быстро, потому что не заботились о гигиене. Часто также умирали от сифилиса. И когда Беатриче умерла, с Данте случилось нечто невероятное. Он пишет о том, что она от него уходит, и он стал перед выбором: лелеять и беречь в себе образ его музы и прекрасной дамы или спать со своей любовницей. И то, и другое не получается. И он принял гениальное решение, правильное, о котором и написал в своей книге. Рыцарская культура дала свой невероятный культурный резонанс, и самым блистательным, высшим и глубоким проявлением этого резонанса стало вот это огненно-мужское поведение.
Крест и роза: символика готического собора
Практически все соборы имеют один и тот же план – это вытянутый прямоугольник.
Давайте рассмотрим, как устроен готический собор. Он имеет трехчастное деление. Нижняя часть называется «корабль». Заходя в готический собор, вы заходите на корабль. Средняя часть собора называется «трансепт», а верхняя часть – это алтарная часть. Именно на корабле собирается паства и сидит здесь, а корабль направляет высший Кормчий. Тема корабля – это символ из западноевропейской мысли. Вспомним, что говорили про Сталина? Наш рулевой и кормчий! Эта формула родом оттуда, Сталин просто подменил понятия. И это не случайность.
Трансепт – это нейтральная территория, ничья: она не Его и не наша, она выпадает в трансовый ноль. Это метафизическое место встречи Его и нас. А посередине находится самая главная точка, она называется «пуповина трансепта». Если вы зайдете в любой западный собор, то увидите, что именно над этой точкой и возводилась игла готического купола. Почему? Раньше в этой части собора, в боковых «карманах» размещали исповедальни – сейчас их почти нет. Это были места встречи Бога и человека. Человек должен был очиститься от грехов, и вся грязь выходила через эту точку пуповины. Вспомним, как Мандельштам писал:
Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой древний бред, — Башни стрельчатой рост! Кружевом, камень, будь, И паутиной стань, Неба пустую грудь Тонкой иглою рань!Вот именно здесь и находится эта стрела: место, где душа. Это в алтарной части витает дух, а корабль – тело, но середина отдана душе. Между ними огромная связь. Тело и душа связаны, а дух нет. Василий Великий, главный теолог, говорил: «По молоду душа голосит телом, а по стару – наоборот». Душа и тело – история житейская и история душевная. А дух… Лучше всего написал Булгаков – то место в книге, где он описывает разговор Иешуа с Понтием Пилатом:
«– Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? – спросил, очень оживившись, развязанный.
– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!
– Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, ты очень ошибаешься.
Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
– Я могу перерезать этот волосок.
– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?»
Перекрест в соборе означает не только трансепт, он означает еще одну очень серьезную вещь. Центральная часть собора всегда имеет вид креста. Он может быть выполнен в разных вариантах и имеет перекладину. Пуповина указывает нам не только на то, что здесь находятся исповедальни, но и на то, что в этом месте происходит связка души и тела. Здесь находится портал.
Если вы посмотрите наверх, то увидите, что там находится витражный круг – главный круг, называющийся «роза». Проекция этого круга находится на полу. И попадая в средокрестие, она создает соединение креста и розы. Прямо в центре души. Поэтому католический собор по смыслу и плану есть идеальное пересечение Креста и Розы – рыцарского символа или, в переводе на наш язык, розенкрейцеровской идеи. На самом деле никакого человека по имени Розенкрейцер никогда не было. Это не имя и не фамилия – это мысль, великая мысль: сердце Девы, Дева Роза в центре Креста. Тема Креста и Розы. И тот каменщик, что строил этот собор, должен был обязательно выразить эту мысль не только снаружи, но и внутри собора. Поэтому на иконе изображают Мадонну, которая сидит и прижимает к груди розу. Если есть изображение розы, то это есть изображение женского начала, а роза, положенная на грудь креста, является точным символом эпохи мужской и женской борьбы и их платонической нежности.
Поэтому люди, когда строили соборы, выстраивали в камне целые проекции идей и знаний. Эти люди были в высшей степени учеными: они не только знали искусство уникального строительства, но и знали смысл того, что строилось. Главной основой этого строительства являлась вертикаль, устремленность вверх, одновременно и очень сильная, и очень слабая, грубая и очень нежная. Почему? Ответом могут служить слова Мандельштама:
Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианства робость, С тростинкой рядом – дуб и всюду царь – отвес.Вот этот отвес и видимость хрупкости входят в основную идею, которую каменщики закладывали в свои творения. Готика ведь не имеет тела – она бестелесна. Она имеет только звук, свет и цвет. Романская культура тело имеет, а готика – нет. Готика, как алхимия, – искусство превращения камня в кружево. Кто все это строил? Об этом никто и никогда не знал и не знает до сих пор. В архитектуре это называется «тайной готического свода». Помимо того, что свод можно сравнить с кружевом или паутиной, он есть вертикаль – идея мнимой хрупкости. Но эта хрупкость пережила очень многое и многих, она очень сильная. Вся готическая идея основана на этой вертикальности и утонченности. Весь европейский мир во всем, что бы он ни делал, стремился к вертикализму. Город создавался из домов, устремленных острыми крышами ввысь, с узенькими улочками, а весь центр города должен был занимать огромный собор.
Все готические соборы несут в себе очень глубокий смысл. Места, на которых они строились, были местами серьезными. Каждый собор обязан был иметь подле себя университет и являлся источником тайных знаний. Кем конкретно была придумана конструкция собора – неизвестно. Это и интересно во французской готике – она анонимна. Итальянское Возрождение – авторское, там все имеет свое имя: «Я отвечаю за свое произведение! Это мое творение! Это я создал!» А готика авторства не имеет. Никогда, ни одного имени! Иногда попадаются псевдонимы, но на самом деле готика безымянна.
Это принцип, потому что над всем стоит охрана знаний: все должно быть сокрыто и никому не ведомо. Это единственное условие, при котором все может быть сказано. И этот главный принцип называется «символический концептуализм». Есть такое знаменитое направление, но на самом деле это та основа, на которой выстраивается вся средневековая культурная база. Эта основа проявляется абсолютно во всем. Остались только знаменитые страницы из того удивительного руководства, где примером служит изображение круга, который, как известно, является главным началом, и в который вписаны фигуры, имеющие свое цифровое, фигуративное и символико-мистическое значение. Например, одна из самых распространенных фигур – пятиконечная звезда, вписанная в круг.
Вообще, для цеха каменщиков, для тех основоположников эти фигуры имели чисто рабочее значение. Фигура для них была конструктивна и типична. Как вписать фигуру, если строишь огромное здание? Оно так переусложнено по своей конструкции, так немыслимо, что для того, чтобы это все держалось, необходимо было знать, как все крепится друг к другу. И поэтому у них существовала целая наука, которую они могли доверить только посвященным – тем, кто мог это делать. Основа любого готического здания – нервюрные своды. Они должны были присутствовать обязательно и не фрагментарно. Посмотрите на них: как они сложены, эти нервюрные маленькие колонны, словно пучки нервов, как переплетенные пальцы. Но как будет стоять эта колонна, если подпоры все вынесены наружу? Здесь требовалось сделать большие и сложные расчеты. Вот в этом и есть феномен Средневековья: эти строители были настоящими учеными… а мы говорим «темная эпоха»!
Собор – это книга. И внутри, и снаружи она рассказывает об очень многом. Каждый фрагмент должен был иметь сцепку со всем остальным. Вот и приходилось это все складывать сначала конструктивно, фигуративно, на уровне символического концептуализма, как пустое сооружение, и только потом оно начинало обрастать конкретными материальными формами.
Интересно и другое: настоящий католический собор представляет собой музыкальный инструмент. Обратите внимание, что происходит со звуком, когда вы стоите внутри него. Звук идет сверху. Это необыкновенный феномен акустики. Орган помещается на западном портале, внутри, на линии. Там же находится и хор. Но вы никогда не слышите звука с этой линии, а только сверху, потому что почти каждый камень, из которых сложен собор, имеет отверстия, как в органе. Собор – это пространство, где вы должны находиться не только внутри этой нематериальности, этого света и цвета, но и обязательно внутри звука. Без этого нахождения внутри звука никакой собор немыслим, потому что он безголосый. Именно так цех каменщиков, имевший очень высокий градус цехового значения, строил эти здания. Одни умирали, на их место приходили другие, но продолжали строить по тому же плану и на том же уровне знаний. Они могли что-то улучшить, но работа все так же оставалась анонимной. В эти цеха нельзя было попасть случайно, «по блату», как мы сказали бы сейчас: или ты способен к этой науке, или нет.
С XI века (на этот счет есть свидетельства) цех мастеров начинает называть Творцом не Сына Божьего, а Отца. Другими словами, мастер, который может создать шедевр, становится Создателем. Они очень рано стали применять этот термин к цеху каменщиков, и мастера начали носить с собой специальный знак с вышитой на нем буквой «М». Потому что если ты создал шедевр, ты сотворил некий мир, создал или смастерил его. Ты – Мастер. Это самое высокое звание, которое мог получить художник. И оно сохранялось довольно долгое время не только за теми, кто был строителями готических соборов.
Александр Моисеевич Пятигорский в своей книге «Кто боится вольных каменщиков» попытался описать обряды принятия в цех каменщиков. Главный ритуал, который потом так или иначе стал перерождаться в масонское посвящение, с этими перчатками, завязанием глаз, с легендой о Хираме, поначалу означал присвоение высочайшего тайного знания. Ты можешь быть принят в мастера. Ты станешь не строителем, а мастером-созидателем, но только при одном условии – если ты сдашь экзамен на звание Мастера. Если ты экзамен сдать не можешь, тебя никто не тронет, но ты будешь работать каменщиком, подмастерьем или прорабом. Для сдачи того экзамена требовался необыкновенно высокий уровень подготовки и талант. И всякий идущий на экзамен знал: он сдает экзамен на шедевр. А шедевр – это то, что никто ни до тебя, ни после тебя создать не может. Только лично ты.
Это были работы чисто технического плана. Перед ними ставили огромный алфавит этих символов и смотрели, как экзаменуемый с этим справится. И если он вообще не может выточить рукой шар из кости, его туда и близко не пустят. Выточить шар рукой – это низшая ступень, это не ступень Мастера. Только при очень высоком уровне художественной подготовки те люди могли шить такую одежду, делать такие стулья, необыкновенные украшения, которым XVIII век и в подметки не годится, и строить такие соборы. Они были мастерами, то есть умели все делать и знали мистико-символический или символо-концептуальный смысл предметов мира: от Вселенной до того, как вставить жемчужину в колье.
Впервые оказавшись в Риме, много лет назад, я стала считать и записывать количество и типы архитектурных кирпичных кладок Колизея. Такие наблюдения не описываются ни в книгах по архитектуре, ни в книгах по искусству. И это было настоящим потрясением – осознать, какими технологиями строительства они пользовались. Там оказалось семь различных типов кладки! А на самом деле их, вероятно, намного больше. Ведь кладки – это не только украшение, это важно с точки зрения техники строительства. Кроме этого, там применялся римский бетон, который мало чем отличается от нынешнего. Там есть одна очень интересная кладка, которая потом, в Византии, была принята за основу. Делалась она из плинфы – это тоже кирпич, но только не маленький: это такие большие красные плиты. Иногда эта кладка сочеталась с камнями или с булыжниками, и тогда получалось нечто вроде пирога: сначала идет булыжная кладка, потом с плинфой, потом опять булыжник, и опять плинфа. Это все в Колизее применено.
Задача рождает технику или техника подсказывает задачу? Сложно сказать. Это как клубок: за какой конец начинаешь тянуть, то и получаешь. Но за какой бы конец вы ни тянули в этом случае, все равно получаете феноменальную технику строительства.
А что осталось от Византии сейчас? Очень мало: как мир визуальный, как мир предметный она разрушена, ее нет. Не осталось византийских храмов, не осталось зданий. Все это разрушилось вихрями истории. От Византии осталось лишь духовное, книжное наследие.
Много лет спустя я путешествовала по Равенне, где строил византийский император Юстиниан. И там обнаружилась та же римская кладка! Ее использовали для строительства, только теперь она имеет другое содержательно-духовное наполнение, потому что это не ипподром, а церковь. Но технология та же самая. Лев Николаевич Гумилев, гениальный историк, которого мы не знаем, не ценим и не понимаем, замечательно определил Византию. Он сказал: «Византия – это первый в мире христианский этнос». То есть Византия – это религия, единое религиозное поле, то поле, что объединяет культуру. Сколько там было национальностей, то есть этнических групп? Они сами не знали. Говорили на ста языках, то у них один язык становился главным, то другой. И перенос столицы связан с тем, что ромеи провозгласили себя другой, новой империей. Какой другой? В духовно-историческом отношении? Но кирпич-то они кладут все так же. Двигаемся дальше – и приходим в Древнюю Русь, в Киев, в Святую Софию. Киевская Русь – это плинфовое строительство. И что от нее осталось? Ничего. И когда на русских иконах изображают Византию – на любых иконах, то церковь на них рисуют красного цвета. А ведь русская церковь белого цвета. Почему же на иконах она красная? Потому, что плинфа – красный кирпич.
Посмотрим на икону «Сражение суздальцев с новгородцами». Это первая и одна из немногих так называемых исторических русских икон, сохранившая память о том, как суздальцы бились с новгородцами. Само по себе это очень любопытное историческое событие, потому что суздальцы с новгородцами так никогда и не встретились. Они заблудились в лесах и битвы такой не случилось. Но новгородцы, в отличие от суздальцев, сразу запечатлели это неслучившееся событие в качестве великой победы и сделали икону.
На верхней части (или ряде) иконы изображен мост через Волхов, Византия, условно красная София и купцы, что привезли византийскую икону Богородицы. И прямо на мосту через Волхов новгородцы принимают икону, которую византийский патриарх персонально посылает Новгороду, в их новгородскую Софию. Теперь они обеспечены и защищены. И потом, когда показывается сама битва, как показаны суздальцы? Они показаны как невоспитанные люди, потому что выехали для переговоров на лошадях и шапки не сняли. А шапки на них татарские – басурманские. Что касается новгородцев, то они шапки сняли, то есть они представлены здесь как хорошие люди. За спинами суздальцев – лучники да арбалетчики, которые стреляют в крепость новгородскую, и все стрелы летят прямо в Богородицу. Не в кого-то, а в Богородицу, потому что она новгородцев защищает и на себя все принимает. В самом низу иконы, в самом нижнем ряду, показано, как из ворот детинца выезжает новгородская рать – и суздальцы бросаются врассыпную. Им пришел конец, и их приравнивают к неверующим, потому что шапки у них странные.
Но для нас здесь интересно в первую очередь то, что Россия, когда она осознает свою отдельность и начинает свое культурное отдельное существование, игнорирует строительство Киева. Игнорирует византийское строительство. Она переходит к белокаменному зодчеству, к белокаменной кладке. Владимир, Новгород – белокаменные города. Только Киевская Русь – плинфовая, и она все еще очень связана со своим источником. И Киевская Русь имеет мозаики, то есть то, что было характерно для Рима и для Византии. А Россия уже мозаик не имеет. И когда в 80-х годах XIX века царь Александр III заговорил о православии и о его истоках (то есть о Византии), то строить стали из красного кирпича! На Красной площади можно это увидеть. Стиль Александра III – первый модернистский стиль. Красный кирпич – это очень серьезно: это то, как культура общается с материалом.
Греки были гениальными архитекторами, но не строителями. Они создали ордерный периптер. Они создали ордерную архитектуру, которой пользуется весь мир, вплоть до сегодняшнего дня, – то есть они создавали идеи. Рим делал то, чего у греков в помине не было: для римлян главное – это гражданское зодчество, то есть жилые дома и дворцы.
Соборы – таинственная книга Вселенной
Обратимся теперь к иконостасу и к тому, как святые христианской церкви заняли свои места в католическом иконостасе и в православном.
Например, два современника, два героя: святой Георгий и святой Себастьян. Оба – молодые люди, красавцы, оба – римские аристократы, принадлежащие к лучшим римским семьям, оба дослужившиеся до чина, говоря современным языком, полковника или подполковника – и это в свои 23–24 года. При императоре Диоклетиане, одном из лучших римских императоров, был создан весь пантеон наших великомучеников. Их сделал Диоклетиан. Что делать императору, если у него христиане в его собственной любимой семье, под носом? Он придумал решение и подал пример всем: Диоклетиан создал прецедент индивидуальных политических процессов, именных процессов. Раньше процессы были безымянные: христиан сразу группой отправляли в клетку с тиграми. В СССР в 1937 году тоже начались именные процессы. И этим двум аристократам говорят: «Отрекитесь!» А они в ответ: «Не отрекаемся!»
У Высоцкого есть замечательный рассказ о том, как во МХАТе ставили «Анну Каренину». И вот в этой истории шел рассказ от имени одного маргинального типа о том, как он смотрел этот спектакль. Он рассказывает: «Выходит Анка. Баба – во! Все у нее – во! Ну, ты помнишь, у нас на Привозе в Одессе Маруся рыбой торговала? Точная копия! Выходит Вронский. Парень – во! Все у него – во! В общем – герой Советского Союза. И он говорит: Анка, дай! Она ему говорит: Нет! Он снова: Анка, дай! Нет! Да! Нет! Да! Да!.. И под поезд». Примерно так же мы любим политические процессы. Эти процессы записывались. И вот перед судом предстали два молодых прекрасных парня, надежда армии, любимцы императора. Одного спрашивают: «Ты христианин?» – «Нет!» – «Ты христианин?» – «Нет!» Его под колесо. «Ты христианин?» – «Да!» И под поезд.
Но самое интересное, что когда они вели эти персональные политические процессы, они вели их как на сцене театра – при зрителях, публично, и записывали все показания: и женские, и мужские. И эти показания, записанные на судебном процессе, превращались в первые жития святых. Этот документ? Документ. Подлинник? Подлинник. Великомученика? Да. Переписали в житие.
Вот так император не только создал в христианстве имена великомучеников, но еще и ввел традицию все это записывать. И при нем возник новый вид или жанр историко-биографической литературы – жизнь замечательных людей, ЖЗЛ.
Здесь встает вопрос: почему один из молодых людей является любимцем Восточной церкви, а другой – Западной? Георгий – любимец Восточной церкви. Его очень любят грузины и армяне. Что касается русских, то он просто изображен на гербе. А где можно увидеть Себастьяна в православии? Нигде. И в иконостасе его нет. Георгий, правда, в западной культуре встречается тоже: его любят ирландцы. Почему он попадает в ирландскую мифологию? Он змееборец, а ирландская любимая тема – это борьба с драконами. Драконы живут в Ирландии, и туда едет рыцарь, чтобы стать героем. Лучше, если драконы будут многоголовые. Поэтому змееборство Георгия сращивается с романтикой готического фольклора. И вот дальше начинается самое главное. Почему все-таки Себастьян не признается православием? Его история такова: его поставили перед фалангами. Он командовал шестью полками, а потом его поставили перед его же офицерами, и каждый пустил в него по стреле. Почему бы не принять его? Нет, не нужен. Потому что у Георгия есть посмертная чудотворная жизнь: он, воскреснув, свершает некие высокие подвиги освобождения людей. Он появляется то там, то тут. Помните, как он от дракона освободил город? У него есть имя: Змееборец и Освободитель. У него есть посмертный высокий ранг подвига. А у Себастьяна ничего этого нет. Что же с ним произошло? В него стреляли, стреляли, да не достреляли. Один из его полковых товарищей утащил Себастьяна в катакомбы, а там были те, кто мог врачевать. И он выжил, и стал епископом. У него было свое послушание. Он был великим христианским деятелем. Но нам в православии такие истории не нужны, они не популярны. Понимаете, какая тонкость? Нет подвига! Нет подвига очищенного, а есть епископ.
И такая расширенность рамок католической идеи очень большая: право на изображение имеет все. У колодца встретился кто-то с кем-то – и это становится хорошим сюжетом. А разве для России может быть сюжетом парень, встречающийся у колодца с девицей? Для иконостаса не годится библейский сюжет, где цветет куст, в колодце вода, а рядом – любовь. Художественное мышление выстроено на конфликтной драматургии, оно конфликтно-драматургическое. У западной культуры есть характерная особенность – она имеет во всем театр. Главное искусство на Западе – театральный мир, искусство театра – театра во всем.
Что такое искусство как театр? И как не театр, а что-то другое? Это удивительно интересно, когда в основе лежит драматургическое сознание. Тогда поцелуй Иуды и Тайная вечеря должны существовать. В драматургии обязательно наличие зла, тьмы, другого полюса. Западная культура обязательно имеет в качестве одного из героев тень. Поэтому у них такое количество рассказов про тень и очень четкое понятие зла.
Сами судьбы церквей совершенно противоположны. Хотя Западная церковь и складывается как церковь с папой во главе, но она многоукладная, многоордерная. В ней огромное количество орденов: францисканцы, бенедиктинцы, доминиканцы, иллюминаты, рыцари-храмовники, иоанниты… И это только при первом приближении. И на все есть разрешение папы. Имеется огромное количество монашеских орденов, у каждого ордена есть свой устав. Есть единая церковь под шапкой-тиарой, но эта церковь имеет многогранность уклада.
Православная церковь укладности не имеет. В православии есть черная церковь, то есть монашеский постриг, и светская священническая церковь. Другими словами, есть церковь и монастырь, только эти две категории. Культура, таким образом, с самого начала съезжается на своих ногах и разъезжается далеко друг от друга и совсем не имеет между собой никакого соединения. Попытки найти политический консенсус всегда очень плачевно заканчивались.
Латинская церковь имеет два направления, два рукава: один непосредственно латинско-итальянский, а второй западноевропейский. Или, если сказать совсем упрощенно, она имеет рукав итальянский и рукав французский. И то и другое – церковь католическая, но они очень разные и ведут себя по-разному. У них совершенно разные художественные традиции. Италия не имеет тех форм, которые есть в западноевропейской идее. И те места, куда пришли католические монахи (то есть Латинская Америка), преобразованы не на итальянский манер. Латинская Америка – католическая на французско-испанский манер.
Итальянская церковь по существу представляет собой сарай. Это называется базилика. Отдельно к базилике приставлены кампанилы и отдельно выстроены крещальни – баптистерии. Но базилика нужна итальянцам для того, чтобы покрасить стены. Для них главное – чтобы была стенка, где они могут писать свои картины. За этим мы и ездим в Италию – смотреть итальянские фрески. Пытаться поделить все это на романское искусство и на готику было бы категорически неправильно. Готика не сменила здесь романский стиль. Романский стиль как был, так и остался: не исчез, не выродился. Романское искусство – это искусство стены, это искусство крепости, которая состоит из стен, и церкви, состоящей из стен. На всю Италию есть один не романский собор в Милане, и тот ложный: это ложная готика.
Посмотрим на планы латинских соборов. Все они построены по одному и тому же принципу: некая базилика, в центре крест. Хотя они все разные, но в то же время они все абсолютно одинаковые. Их архитектура сравнима только с египетскими пирамидами, и ее больше нет в мире. Итальянская архитектура внешне проста, там главное то, чем она насыщена внутри, то есть фрески великих мастеров. Фасады бывают разными.
Что касается западной архитектуры, то это все уникальная архитектура, природа которой таинственна и невероятна. Это архитектура имеет одну и ту же идею, один и тот же план в центре. План называется «вытянутый латинский крест» и всегда имеет внутри себя троичность. Первая часть называется корабль – очень важное место, где сидят люди. Другая часть, где находится центральная перекладина, называется трансепт. Третья часть, идущая после трансепта, – алтарь.
Интересно сравнение с кораблем. Эта знаменитая стихия англичан: корабль в ночи, великие заблудившиеся корабли, корабли-призраки. Тема блуждающего корабля, проросшего, ставшего на якорь. Как называли Сталина? Наш кормчий и рулевой. А почему его так называли? Потому, что он управлял людьми. Все люди находятся на корабле, все люди – пассажиры. Поэты-романтики все время писали про корабль. Почему? Потому что корабль имеет очень глубокую поэтическую аналогию. Когда Себастьян Брант впервые написал свою поэму «Корабль дураков», он писал корабль на мели – вставший корабль, проросший до мачты. И он все там же, просто мы оглохли и ослепли, и вместо него мы видим другого героя: господина Пфенинга.
Но остановимся на важной части собора, которая называется трансепт, то есть трансцендентная часть – это место метафизической встречи человека и Бога. И середина трансепта есть пуповина. Когда вы смотрите на собор снаружи, то видите над собором шпиль или купол. Он всегда возводится над пуповиной трансепта. Таким образом, трансепт – это место не человека. Транцепт – это душа.
Когда только начали строиться православные храмы, у них был свой трансепт – подкупольное пространство. Для России трансепт имеет большое значение в любом храме. Но здесь трансепт, или поперечная черта, стал не пространством, а плоскостью. Транцепт как бы сплющился, и место, где стоят молящиеся, превращается в вертикально ставший трансепт. И в России это называется иконостасом – место метафизической встречи мира божественного и человека. Это принципиально и очень важно. Иконостас – это трансепт, там всегда происходит встреча, и поэтому мы никогда не смотрим на иконостас. Иконостас внутри нас, мы стоим перед ним, и он всегда смотрит на нас.
Нет ничего более странного в архитектуре, чем готическая архитектура. Деление романского искусства не есть деление временное. Это деление принципиальное, идеологическое. Это деление на итальянское и не итальянское, деление на стену и без стены, что очень важно.
Посмотрим на собор Парижской Богоматери и Реймсский собор.
Мы уже знаем, что любой храм состоит из трех частей, и это очень хорошо видно по собору Парижской Богоматери. Первая часть – нижняя, которая соответствует кораблю, – портал. Собор представляет собой классический образец латинской архитектуры, которая называется портальной архитектурой. Первый этаж представляет собой порталы, которые обязательно соответствуют кораблю. Над порталом находится галерея королей – всегда над порталом, здесь или в другом месте, в готическом соборе должна быть галерея королей. Когда вы стоите перед собором, то на вас смотрят короли, то есть на вас смотрит сама история. Александр Македонский – единственный из язычников, кто был принят и Восточной, и Западной христианской церковью. За то, чтобы фигура того или иного лица находилась в галерее, идут целые войны. Сколько было споров из-за Наполеона! А в галереях есть короли или папы, которых никто уже и не помнит. Там должен быть де Голль: его сначала поставили, а потом сняли. Можно ли их разглядеть? Никогда! Никто бы и не узнал, что в галерее стоит та или другая историческая личность, если бы нам об этом не сказали. Но они там есть: стоят каждый в своей нише, в своем историческом футляре, и смотрят на нас. Они ничего друг о друге не знают, их разделяют века, и между этими скульптурами крайне редко происходит общение. Они все, как правило, стоят одиноко.
Вторая часть называется «роза» – это трансептная часть. Готический собор имеет форму креста. Если эта часть проецируется на корабль, то роза проецируется на пуповину трансепта, то есть в центр креста. Идея состоит в соединении креста и розы или, в переводе на советский язык, идея этого собора заключается в розенкрейцерстве. Скорее всего, фамилии Розенкрейцер никогда не было. Хотя возможно, что и был когда-то такой человек, еврейский банкир или ростовщик. Но на самом деле розенкрейцерство – это мистическая идея католицизма. В Лувре, в отделе средневековых икон, можно увидеть Богоматерь – красивая молодая женщина, очевидно беременная, в красивом платье темно-красного цвета с золотом, блондинка с кудрявыми волосами. Одну руку она положила на живот, а в другой держит розу, прижав ее к сердцу. Можно заключить, что эта Богоматерь – прекрасная дама розенкрейцеров. Историки искусства очень часто не в состоянии сцепить между собой разные элементы в единый культурный текст. Если мы пишем про архитектуру, то пишем про архитектуру. Никто и никогда не связывает очевидности и не синтезирует материал.
Величайший собор мира – это Реймсский собор. Это главный собор, в нем венчались на престол. Здесь тоже есть роза, а галерея королей вынесена наверх. Не случайно Клод Моне постоянно писал именно этот собор. Здесь все такое ажурное, и не видно, где кончается архитектура и где начинается скульптура.
Надо еще отметить, что французская церковь рогата: у нее два рога наверху, которые соответствуют алтарной части. А в готических соборах Англии, Шотландии, Ирландии это звонницы, там находятся колокола. Именно там жил Квазимодо, герой романа Виктора Гюго. И еще нам всегда кажется, что они не достроены – все соборы, даже очень разные между собой. Почему нам так кажется? Потому, что не достроены колокольные башни. Только их достроить нельзя. Башню достроить нельзя: башня познания не достраивается.
Совершенно не верится, что все это не просто придумано, продумано и, конечно, выстроено. Кто придумал такую архитектуру – без стен, с вынутыми стенами и сводами, внутри ни одной подпорки? Лучше всего сказал Мандельштам:
Как некогда Адам, распластывая нервы, Играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает себя снаружи тайный план, Здесь позаботилась подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого бездействует таран. Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианства робость, С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.Стен нет нигде, они заменены витражным стеклом. Почему? Что такое витражное стекло? Стекло пропускает цветной свет, и в соборе всегда стоит радуга. И этот эффект называют эфирным телом, которое является двойником физического тела. Душа, дух, тело и эфирное тело – четыре элемента собора. И это проходит через цветные витражи, которые несут на себе все, что можно изобразить по закону восьмого Вселенского собора.
Так кто же строил эти соборы? Мы не знаем этих людей, они анонимны. До нас дошли очень интересные документы-чертежи, потому что соборы и все их элементы были вычерчены и размерены циркулем. Остались толстые книги с чертежами. Если посмотреть на эти фрагменты, то все в них достойно удивления – все вычерчено. Но дело не только в вычерчивании, оно имеет некую очень глубокую внутреннюю магическую силу и волю. Одного чертежа мало. Сколько бы раз вы ни были в этих соборах, вы не можете сказать, что вы их рассмотрели. Прежде чем строить собор, нужно было выстроить университет. Так была построена Сорбонна. В Шартре был знаменитейший университет. Кто его строил? Если обратиться за ответом к книгам, ничего узнать не получится. Однако попробуем ответить на этот вопрос. В Западной Европе все делали цеховики: строили, делали, пекли, шили, красили сукна, валяли сукно. Запад создал цеховую систему. И эта система, цеховая демократия, держит мир до сих пор.
Мы знаем одно, что идея собора – это тайный план. Это идея Розы и Креста. А строили соборы так называемые каменщики, был такой цех. Многие считают, что это делали масоны, но на самом деле никакого отношения масоны к строительству соборов не имели. Масоны по отношению к каменщикам самозванцы. Мы называем себя демократами, но это не демократия. И те тоже называли себя масонами, но каменщики тут ни при чем. И пользовались масоны атрибутами каменщиков. Цех каменщиков – это был цеховой орден, так же как был орден иоаннитов. И каменщики прежде всего были великими учеными. Если сравнить с музыкой, то можно сказать, что этот цех состоял из одних Рихтеров. Они были гениальными учеными и архитекторами. Кто изобрел и построил в Шартре огромные фабрики стекла? А иначе где можно было бы взять такое количество стекла? Тут нужна индустрия, а чтобы создать ее, нужна инфраструктура. А сколько нужно материала, хотя бы того же самого кирпича!
Тот, кто делал кирпич, не знал, что с ним будут делать, и тот, кто клал его, не знал, что он строит. Над этим всегда стоял кто-то, кого называли Мастер, с большой буквы. Любой глава цеха, даже если он красил сукно в красный цвет, тоже назывался Мастер. Мастер Иоганн, Мастер такой или сякой… А как его на самом деле звали, никто не знал. Мастер всегда анонимен. Откуда он? Ниоткуда. Он из какого-то пространства. В эпоху рассыпанного культурного кода Мастер всегда сидит в сумасшедшем доме, потому что он и его свидетельства об истине никому не нужны. Мастером называли Альбрехта Дюрера. Немцы вообще подсчитали и решили, что он шестой доктор Фаустос. Многие из них и сейчас так думают. И все те люди, которые строили, назывались мастерами. Почему они так назывались? Потому что для них был важен Бог-Отец, то есть Творец. Мастер должен был не только многое знать, но и быть анонимным. Мастера строили, брали себе учеников, поэтому и возводились университеты (надо иметь в виду, что это не были университеты в современном понимании слова). Когда ученик получал звание Мастера, он тоже мог взять себе ученика. И эти соборы строились веками.
Собор – это музыкальный инструмент, а точнее, орга́н. Соборы сделаны по принципу органа. Орган находится в западной стене, там же, где и галерея королей, это называется линией хора. Звук должен подниматься и обрушиваться впереди. В соборах достигали потрясающего акустического эффекта. Бах писал музыку в первую очередь для церкви, а мы его воспринимаем как композитора. Благодаря тому, что сама по себе идея строительства по своей задаче изначально была очень сложна, то была стерта и грань между искусством религиозным и светским. Она не могла не стереться, так как строили ученые. А ученые в те времена назывались алхимиками. Все католические соборы выстроены алхимиками. Они были очень разными, но одно их объединяло – строительство. Алхимия вообще наука синтезированная: они должны были знать математику, архитектурное построение, химию, теологию.
Откуда у них были эти знания? Латинская образованность в западной культуре никуда не пропала. Римляне были гениальными строителями. И основой образования всегда являлись математика, геометрия, богословие, риторика и латынь – это средняя школа.
В 855 году женщина стала римским папой – знаменитая папесса Иоанна. Она занимала это место в течение трех лет, до 858 года. Правда, потом ее вычеркнули из списка пап. Про нее все известно: умная, мужеподобная, как Жанна д’Арк, пристроилась в университет в Оксфорде, познакомилась с испанцем, который потом взял ее в наложницы. И никто понятия не имел, что она женщина, а не мужчина. Она стала настоятелем доминиканского монастыря на целых десять лет. Она сделала прекрасную ученую карьеру. Ее в этом монастыре боялись страшно. Такая нравственность, мощь, злость, дисциплина! Но когда она уже заняла папский престол, пока она сидела и смотрела, как ей ноги целуют, испанцы прислали человека, который ее узнал и стал шантажировать. Женщина есть женщина. После нее для пап придумали стул с дыркой, чтобы больше не ошибаться. На этот стул садится претендент на папский престол, и трое человек входят и смотрят, мужчина это или женщина.
До середины IX века, разумеется, в основе формирования цеха каменщиков стоял уклад. Была специально выделенная группа больших ученых, которых финансировали работу, а иначе как это все построишь? Какая индустрия!
Цех каменщиков ставил соборы по всему миру. Их бригады обслуживали весь мир, но в 1450 году они выпустили специальное распоряжение о роспуске своего цеха, потому что заработало книгопечатание. Соборы – это таинственная книга Вселенной, которую прочитать до конца никто не может, она всегда оставляет место для познания. И началась новая эра, совсем другая цивилизация.
Зачем нужны были эти соборы? В них была духовная мощь. Надо помнить имя, которое мало освещено и которому уделяют мало внимания, а ведь это один из величайших деятелей мира – Бернард Клервоский. Он был бенедиктинцем, крайне неприятным персонажем – чистый иллюминат, и очень серьезным человеком. Именно он был крупнейшим философом и идеологом того времени. Его философия и идеология были связаны с тем, чтобы сделать латинскую культуру и латинскую церковь гегемоном мира. Это была его задача – показать, что такое тот мир, который мы называем западноевропейским католицизмом. До него таких амбиций ни у кого не было. Ему принадлежит огромное количество инноваций. Именно он организовал орден тамплиеров и поставил во главе родного брата и двух кузенов. Это было семейное дело. У него была очень ясная и понятная задача – забрать гроб Господень, взять над ним контроль и привезти из Иерусалима старые книги по строительству. И тамплиеры Первого и Второго крестовых походов привезли много книг, в том числе и книги царя Соломона, о которых ходит много легенд. Бернард был заинтересован в создании памятника через себя, свою семью и свою идеологию западноевропейской цивилизации.
Бернард ликвидировал то, чего в России придерживаются до сих пор. Он был великий реформатор. Он создал прекрасную даму, ликвидировав границу между искусством светским и религиозным. Он из Богородицы создал женщину, назвав ее Мадонной, или прекрасной дамой. Любимый сюжет XII–XIII веков – «Коронование Богородицы». Выглядит это так: сидит молодой человек с молодой девушкой, она – блондинка, одета как принцесса, и он – молодой красавец. До Куликовской битвы 200 лет, Владимирская Русь на дороге в этот момент. Все уже в расцвете, и этот сюжет есть показатель нового культа – Царицы Небесной. Если искать имя этого идеолога, то вот оно – Бернард Клервоский, как позже Карл Маркс и Ленин. За идеологией всегда кто-то стоит. Но есть еще широкий пласт, потому что Средневековье – это тема Любви и Креста. Блок написал поэму «Роза и Крест», но он ничего в этом не понимал, и у него вышло неудачное произведение. В трансепте, в пуповине сердца креста, прекрасная дама. Она и сердце Бога, и душа Бога. Здесь видна связь с совсем другим слоем.
Каменщики не были стихией, они входили в цех и строили горизонтальный мир цеховой Европы. И они должны были быть идеологами, теми, кто эту систему выстраивает. Точно так же, как фараоны, которые строили пирамиды. Поэтому мы сравниваем готические соборы с древнеегипетской архитектурой. Сколько лет пирамидам? Никто не знает. То ли 10, то 20 тысяч лет до н. э.
Они артикулировали свой мир как мир цеховой, потому что все было раздроблено, государства небыло. Главный центр обмена валюты находился в Шампани: там была ярмарка, и все ехали туда. Мир объединяла торговля, это была база, на которой все стояло. И была великая идеология: мы над всеми. Была власть крестоносцев. А кто они такие, если смотреть на них взглядом сегодняшним? Мафия. Они все были миллионерами. Они были Соединенными Штатами Европы. У них в руках были все деньги. Они создали свой особый христианский мир. И это продолжалось до тех пор, пока Филипп IV не пожег их на костре, на свою голову. Он был жадный и глупый недоучка, а они взошли на верх и сказали: «Вам не дожить до конца года».
Скажем несколько слов о наговоре на тамплиеров. Мы должны становиться умнее. Наша история должна нас чему-то научить. Если нам нужно людей уничтожить, мы о них можем сказать все что угодно и оболгать их так, как нам это надо. Тамплиеры говорили, что они зад друг другу целовали, и мы им верим. Это такая сторона нашей психики, очень сильная и живучая. Культура эпохи Возрождения – это культура именных гениев, а культура предшествующая – культура анонимных гениев. Она абсолютно гениальна. Там, где тайна, сильно нарастает подводная часть. А нам надо заниматься надводной.
Создание художественного языка: готика, Китай, Древняя Русь
Исследование древнейших скальных росписей производит грандиозное впечатление. Кто это мог сделать? Фрески этих животных сделаны так, что вы смотрите на оленей, быков и одновременно видите и скульптуру, и живопись. Только в качестве объема использовалась фактура стены: чтобы нарисовать тело животного, нужно было сначала выискать нужные объемы в стене. И все эти росписи представляют собой необыкновенное соединение скульптуры естественного рельефа с живописью или живописными контурами. Да еще и цветные рисунки попадаются. Какими красками их делали? Неизвестно. Вероятно, это были какие-то пасты. Поэтому это залезание в глубь времен, к истоку может носить характер констатации. Мы можем только констатировать, но мы не можем анализировать. И мы не можем работать с этим материалом. Он не поддается анализу, и ни на один вопрос нет ответа, только возможность описать факт и где-то, весьма примерно, установить время. Так было, когда нашли фрески с изображением марсиан: сначала перепугались, а потом сказали, что это подделка. Но кто и когда это подделал? Ответа нет. Поэтому существует табуированная зона в искусстве.
Мы так рады, что у нас есть Интернет, и нам кажется, что мы держим Господа Бога за бороду. Ерунда! Это борода держит нас. Мы не можем ответить практически ни на один вопрос. Наша возможность о чем-то судить условно начинается с античности. Лучше всего с нее начинать. Хотя, конечно, она начинается значительно раньше – в древнекитайской культуре. Там мы хотя бы ее видим и можем проследить черты военной, общественной и художественной истории. Но вы никогда не можете соединиться с тем, что не имеет текста или контекста. Герасимов сказал: «Вот, это есть. И алтайский человек был».
После войны некий профессор Маттео устроил выставку. Каталог этой выставки находится в Ленинской библиотеке, это раритетная вещь. Там была представлена коллекция странных камней, собранная перед войной – тогда, когда занимались росписями в пещере Альтамира. Представьте себе камень – просто камень, как стена. Вы на него смотрите, а на нем изображена кошка. Можно сказать, что это игра природы, однако у кошки инкрустированные зеленые глаза. А рядом с ней то ли волк, то ли собака и человек. Обычный человек, не косой, не кривой – самый обыкновенный. И таких камней было много. Была выдвинута гипотеза, что собственно человек в том круге понятий, который у нас сейчас существует, начинается с того момента, когда он и его сознание отстраняются от природы. Когда он говорит: «Это Я, а это не Я, это кошка». А пока он говорит: «Это Я, и дерево тоже Я», он не может осознать, что «это не Я, а это Я», и поэтому он не может ничего изобразить. Потому что все искусство есть осознание. Это не только осознание типа «мне нужна крыша над головой и одежда», это осознание «кто есть я в мире, в котором живу». В этот момент сознание расчленяется и превращается из интеграционного в дифференцированное. Все, что мы знаем и помним, – это все есть только одна область – область нашего сознания. Как только сознание покидает нас, все перестает существовать. Мы впадаем в несознательное состояние.
Сегодня необыкновенно прогрессивным и очень актуальным считается английский философ XVII века Томас Гоббс. Он написал несколько философских работ. Одна из них называется «Общественный договор». О чем он пишет? О большом споре с другими философами. В частности, с ним спорил – не напрямую, а посмертно – Кант. Он вел с ним диспут, потому что у Канта есть идея о том, что человек рождается с врожденным нравственным чувством. Гофман хохочет над Кантом, когда пишет роман «Житейские воззрения кота Мурра». Этому Мурру было свойственно врожденное чувство нравственности, и он это чувство декларировал. Он был большим патриотом, потому что нравственное чувство включает патриотизм, и, обладая этим достоинством, пел гимны своей родине: «О, моя родина, мой чердак, какое здесь замечательное сало и дичь!» Когда его хозяин понял, что кот слишком патриотично относится к чердаку, то сделал животному выволочку. Кот Мурр был котом ученым, и гениальный Гофман раскрывает три уровня духовности: это уровень кота Мурра, уровень его хозяина маэстро Абрагама и уровень великого музыканта и поэта Крейслера.
Гоббс пишет, что человек не рождается ни с каким нравственным чувством, это исключено. Есть только общественный договор. Общество обо всем договаривается. Оно заключает внутри себя некий договор: кто есть мама, кто есть папа, кто есть Бог, правительство и т. д. Врожденных нравственных чувств у человека нет. Если бы матери не воспитывали своих детей, а выбрасывали их на помойку, то дети считали бы кошку своей матерью. А так ребенок знает, что есть мама и она любит его, кормит грудью, кашей, что-то рассказывает, он все от нее получает, таким образом создается биологическое поле. И общество, и государство заботится о вас, если соблюдается общественный договор. Не имеет значения, заключен этот договор в каком-то племени тумба-юмба или с Английским королевством. Какая разница? У тумба-юмбы свой общественный договор, у королевства свой. А если общественный договор перестает соблюдаться или существует лишь видимость этого договора, но он не соблюдается, тогда человек впадает в натуральное состояние. И когда человек впадает в это состояние, он теряет все, что так прекрасно декларировал. Он теряет связь, и тогда человек человеку становится никто. Это и есть натуральное состояние. Гоббс пишет как Свифт – очень смешно. Писатели в Англии писали одинаково, у них был парадоксальный язык. Каждый человек должен знать, живет ли он в общественном договоре или уже в натуральном состоянии. Если внимательно читать Гумилева, то можно понять, что на него большое влияние оказал Гоббс.
Теперь обратимся к французской готике. Главной особенностью западной культуры является то, что она ориентируется не на Сына, а на Отца. Православие же ориентируется на Сына, забывая об Отце. И произнося формулу «Во имя Отца и Сына», православные на самом деле имеют в виду только Сына. И искусство, и общественное сознание имеют в виду только Сына. Но в европейском сознании сохраняется оттенок арианской ереси. Оно ориентируется не столько на Евангелие, сколько на Библию. Библейских сюжетов больше, чем евангельских. Завет Старый до Завета Нового – это представление о договоре Отца и Сына.
Западная культура вообще имеет концепцию-идею, отсутствующую в восточном опыте: это идея Творца, то есть того, кто сотворил. И поэтому они так его и называют – архитектором, Мастером Вселенной. Это его официальное прозвище: Великий Мастер, архитектор, инженер Вселенной, который создал все это при помощи циркуля, угольника, а также весов, материи и времени. Поэтому главное изображение Господа называется Мастер. Цеховая система на Западе, то есть изначально вся идея универсально-цеховой системы, связана прежде всего с почитанием ремесла и мастерства. Главное – уметь делать, быть мастером, архитектором. Чтобы испечь булку, тоже нужны весы. Чтобы сшить сапоги, нужны инструменты. Мастер ты или не мастер, но цеховое дело – это дело священное, богоугодное. Поэтому средний класс становится главным в обществе.
Войны, разорения, пожары, насилие – все это было, но цеховая система выстояла, потому что была главная вертикаль, связанная с навыками умения, развития формы знания и познания. И поэтому, когда была создана высшая лига, она стала цехом мастеров-каменщиков, или цехом мастеров-строителей. Это тайная лига, потому что она постигает божественное знание, идущее через науку. Вот тогда и стало принято изображать Его с циркулем.
Готовальня становится, с одной стороны, инструментом, а с другой – эзотерическим алтарем, священным местом. Для Булгакова высшей лигой мастеров были писатели – именно они были истинными носителями божественного, и поэтому своего героя, явившегося из анонимного пространства, он одевает в халат. Мастер Дюрер тоже изобразил себя в халате на автопортрете 1500 года. Он пришел ниоткуда и ушел в никуда, потому что в то время, когда жил Булгаков, представители высшей лиги могли сесть в сумасшедший дом. Булгаков был больше других связан со средневековыми идеями, пронизан ими, и у него было огромное уважение к тому, что есть мир знаний и познаний, мастерства и творчества.
Эта высшая лига была неким абсолютным знаком цивилизации мира. Так же египтяне оставили абсолютный знак своей цивилизации: они сделали консервную банку. Они построили консервную банку необыкновенной прочности и создали машину времени. Археологи открыли банку, а там утка фаршированная, словно вчера приготовили и положили. Так египтяне нам сообщили: «Мы не только умели строить, мы много чего еще умели. Мы умели сохранять продукт, потому что у нас были холодильники». Как они это делали? У них был фаянс. Они делали специальную форму, потрошили мясо, начиняли его травами, закрывали. В форме было отверстие, через которое выкачивали воздух, создавали вакуум и заливали отверстие воском. Прошло 10 тысяч лет, а эту фаршированную утку можно есть. Это знак не менее важный, чем пирамиды. Такой же знак – крем, который тоже сохранялся 10 тысяч лет, и рецепт его сохранился – в книге «Всемирная энциклопедия медицины и косметологии». Книга эта была написана в тот момент, когда ощущалось крушение мира и была необходимость оставить знаки.
Вернемся к готическим соборам. Как они строились? Их строили мастера, у которых было много знаний. Они берегли свои секреты от невежд и от неправильного использования. В основе всех знаний лежала магическая геометрия. Это замечательная наука и сегодня она снова возвращается к нам. Это означает только одно: мир снова возвращается к попытке интегрировать знания и соединить их вместе. Если у меня отнимается рука, то дело может быть в моей голове или пятке, а не в самой руке. Если болит палец, возможно, ты болен весь. Медицина и все науки снова возвращаются к философии единства мира и единства его сотворения. Что демонстрируют нам планеты? Совершенную геометрию, совершенную скульптурность и совершенные движения. Все связано между собой. Для культуры, где исповедовалось христианство, главным было единство Отца, Сына и Святого Духа как творческого потенциала, потому что Святой Дух и есть потенциал. Без Святого Духа ни художественного, ни научного потенциала не бывает. И это высшее представление о своей христианской цивилизации строители выразили через свои великие соборы, посвященные Богородице.
Познать собор невозможно. Вот Страсбургский собор: вы не можете разглядеть и познать элементы портала. Галерея королей вынесена наверх. Почему? Потому что очень высокий центральный портал почти закрывает Розу. Он очень высокий и у него необыкновенная глубина. Взгляните на козырек портала: здесь видны ступеньки, и на каждой из них кто-то или что-то сидит. Но кто или что – об этом знает только тот, кто их делал. Этот собор в принципе равен вселенскому разуму, то есть вы своим разумом его познать не можете и объять его не можете, только обойти, да и то с трудом: на это надо потратить очень много времени. Этот собор – образец вселенского совершенства, но для готики, а не для итальянского средневекового искусства, потому что там важна стена, на которой можно рисовать, хотя не всегда понятно, что именно на ней нарисовано.
Это характерно для западноевропейской культуры: вы никогда не знаете, что перед вами. Потому что это архитектура в той же мере, как и не архитектура. Она дематериализована, это огромная дематериализованная масса: «Кружевом камень и паутиной сталь». Вы не знаете, архитектура это или скульптура, потому что скульптуры на ней столько, что она, собственно говоря, от нее неотделима. По этим принципам развивается западная культура. Это принцип поклонения Отцу, архитектурно-инженерному одушевленному предмету, а в эстетическом плане – принцип поклонения синтезу. Это абсолютный конструктивизм. Скульптуры западного искусства крайне важны и разнообразны: это и изображение животных, слонов, бегемотов, медведей – весь мир, сотворенный Богом, включен сюда. Кто сидит на ступеньках? Все, что сотворил Господь, включая гадов наземных и водных, и, разумеется, разнообразных химер. Все они предусмотрены в образе творения, и они находят свое место Страсбургском соборе.
Архитектура носит прежде всего мысль конструктивную, построенную на глубочайшем познании, к которому мы должны приближаться – к великому Архитектору Вселенной. Архитектура построена на основании магической геометрии.
Французские готические соборы насыщены снаружи, но лаконичны внутри. У немцев по-другому: у них всего много и внутри, и снаружи. Но мера насыщенности есть только у французов: внутреннее пространство здесь организовано иначе, оно предоставлено свету, который проникает через оконные проемы, и музыке.
На Западе грань между чисто религиозным и светским изображением изначально стерта. Право изображения имеет все, что относится к обоим Евангелиям: кошка так кошка, дерево так дерево, – все имеет право на изображение, потому что все сотворено Великим Архитектором.
Но культура развивается по определенным законам. Процессы, которые шли внутри нее в середине XV века, были таковы, что сами руководители цеха мастеров, строителей-каменщиков, должны были закрыть этот этап, понимая, что срок строительства этих соборов закончен. А вот скульптура развивалась очень мощно и присутствует во все времена.
Христианство, будучи единым, распадается на разные ветви: в одном случае делают акцент на Отца – Архитектора Вселенной, а в другом случае – на Сына. Эта особенность не исчезает со временем, она в генетике культуры. То же можно сказать об отношении к женщине: оно различно в разных культурах. Соборы начинают строиться в XII веке. Собственно говоря, немного раньше – в XI, и параллельно с этим создается и национальная культура.
Карл Ясперс считается одним из самых крупных исследователей процессов культуры XX века. Он проследил одну странную закономерность, которую он назвал «осевое время». В VI веке до н. э. было осевое время, потому что одновременно жили многие выдающиеся личности: Пифагор, Конфуций, Лао-цзы, философы милетской школы и другие. Идеи некоторых из них благополучно дожили до наших дней (например, учение Конфуция), идеи других заняли в истории менее заметное место. Но все эти люди – одно поколение. Разница между некоторыми из них составляет лет пятьдесят. А что для Китая пятьдесят лет? Ничтожно малый срок.
XII век – это тоже осевое время. Трудно сказать, почему именно этот период. Бытует мнение, что романская культура к этому времени устала. Но это не так: никто не устал, никто никому не надоел. Причина, вероятно, кроется в чем-то другом. К тому же этот век – осевое время для разных стран и обществ. Россия тоже начинается с XII века: в этот период создается русское зодчество и русский художественный язык, потому что это век создания художественной языковой школы. В Италии, во Франции, в Германии складывается цеховая культура, появляются цеха мастеров.
Но вот рухнула Киевская Русь – и рухнула киевская культура. Почему это произошло, куда ушла культура? Дело в том, что строили тогда из плинфы, мастера были приезжими, мозаику тоже привозили – на Руси не было смальтового производства. После гибели Киевской Руси все начали заново.
А самое интересное то, что в XII веке начинается грандиозное формирование национального художественного языка в Индии и в Китае. Отвлечемся от русского искусства и обратимся ненадолго к Китаю того времени.
Китайцы не религиозны, по сути у них нет религии. Но у них есть кое-что более значительное вместо религии – это философское учение, конфуцианство. У них есть легенда-идея, которая, по их мнению, относится к 3024 году до н. э. На берегу желтой реки Янцзы сидел человек и медитировал на воду или облака. Погрузившись в глубокую медитацию, он увидел, что из воды кто-то вышел, и это была лошадь. Она имела цвет, который они называют «никакой» (для Китая цвет имеет большое значение). Лошадь блестела и переливалась на солнце так, что определить этот цвет было нереально. Кроме того, у лошади был очень длинный хвост. Три с половиной раза она обошла вокруг этого человека, и он рассмотрел на ее спине рисунок – таинственные знаки, которые он тут же срисовал. Когда в XVIII веке об этой истории стало известно в Германии, немецкий физик Лейбниц, который был одновременно математиком и полиглотом, написал китайцам письмо о том, что в этих знаках есть смысл, до которого они не могли дойти своим умом, следовательно, не они сделали это открытие. Китайская академия наук ответила резко и не стала углубляться в спор. Это письмо немцы хранят до сих пор. Но наш гениальный Ю.К. Щуцкий, который был сторонником Лейбница и считал, что это все приписали Фу Си, посвятил этой теме большую работу. В 1938 году Щуцкого расстреляли, но он успел перевести многое. И в частности, он успел разобрать все эти знаки.
Знаки такие: небо всегда изображается как круг или как шар, потому что небо безначально и бесконечно. Небо имеет два цвета: синий – это низвергающаяся с неба вода, оплодотворение земли, и черный – цвет света. Свет в Китае изображается черным. Черная тушь – основа письменного языка. Китайские императоры в черной шапке Итак, небо круглое, а вот земля, наоборот, квадратная. Четыре времени года по три месяца. Столько же у земли ориентиров – четыре: север, запад, восток и юг. На этих словах можно построить гениальнейшие сооружения. У земли два цвета: желтый – цвет стихии, и красный.
Теперь попробуем построить на этих данных храм. Для того, чтобы выстроить самое семантическое сооружение, какова должна быть форма храма? Круглая, как барабан. Вот так и построен в Китае Храм Неба – круглый храм. У него три крыши, потому что число неба 3. Это число бога на всех языках. Какой формы крыши? Они тоже круглые. Итак, перед нами круглое здание, над которым круглые крыши. Какого они цвета? Черного. Здание стоит на фундаменте. Какой формы фундамент? Квадратный. У фундамента два цвета: сам квадрат желтый, а верхняя часть алая. Потом, согласно преданию, один маньчжурский император привез туда драконов и приложил ступеньки по четырем сторонам света. Храм Неба выстроен в соответствии с определенными правилами, и его легко узнать на расстоянии. Этот храм – гениальное воплощение азбуки, алфавита.
Итак, национальное китайское строительство начинается в XII веке с утвердившейся философией. Китайцы не буддисты, они не нуждаются в этой религии.
В Европе осевое время – это великие соборы, росписи и создание национального художественного изобразительного языка. Арабская архитектура в XII веке тоже переживала расцвет.
Можно выделить и другое осевое время, которое хронологически находится очень близко и к нам: это рубеж XIX–XX столетий, когда по всему миру происходит создание всех форм современного художественного языка. В этот период родился футуризм – у всех сразу. Когда в Россию приехал Маринетти, который считается основателем футуризма, его ждали, как бога с циркулем. Но оказалось, что ничего нового он сообщить не может: все это уже известно и без него. Так же и в XII веке начинает создаваться новый художественный язык.
Древнерусское искусство – одно из самых загадочных явлений в культуре. Оно формируется как национальный язык и форма, так же, как и на Западе, где был свой стиль.
Задолго до Москвы уже существовали три совершенно разные школы: владимирская, новгородская и псковская. Это была абсолютно новая культура, уже принявшая христианство, уже имеющая церковь и литургию, уже имеющая уклад и форму христианского художественного языка.
Существует ошибочное представление о том, что в древнерусском искусстве золотой свет пришел из Византии. На самом деле древнерусское искусство так же далеко от византийского, как Возрождение от античности. Византия послужила истоком, но ко времени зарождения новой христианской культуры на Руси от Византии уже ничего не осталось. Эхо Византии есть в Италии, на Кипре. Отличительная черта византийской архитектуры – плинфа, красный кирпич и церкви красного цвета. Но в Византии не было главного – иконостаса. Иконостас – это наше отечественное создание.
Возвращение иконы в Византию после иконоборчества началось только в IX веке, а до этого времени иконы были коптские, греческие. Поэтому мы можем говорить о том, что мы знаем греко-византийское искусство. В их церквях потолки выкрашены в черный цвет, и на этом черном есть небольшие медальоны. В Греции, так же как и в Византии, если и есть изображение, то оно мозаичное. То есть основные характерные черты архитектуры – плинфа и мозаика. А Россия – это белый камень, иконопись и живопись, это другие формы. Более того, все русские князья воевали с византийцами.
Ярослав готов был установить связи с кем угодно, но только не с Византией. Сам он женился на шведке, шведов привел в Москву. Одну дочь выдал замуж за норвежца, вторую – за французского короля Людовика: «Как тебе живется, королева Анна, в той земле, во Франции чужой?» Словом, устроил множество династических международных браков, но только не с византийцами. Почему так? Ведь в русских церквях византийская мозаика, плинфа, Ярослав с ними читает на одном языке… Но он не с ними. Это вопросы денег и сфер влияния.
Когда после смерти Ярослава Мудрого (а он умер в уникальное время – в 1054 году, когда произошел развод католической и православной церкви) мир раскололся, начинает быстро подниматься Владимирская Русь. Владимирские князья, князья боголюбской династии стремились сделать город Владимир прекрасной столицей и вокруг нее объединить русские земли. Владимир мыслился как столица государства, он находился в самом центре страны. И владимирские князья очень об этом радели, им очень этого хотелось, и для этого были все основания. И Византия здесь была совсем лишней. Нужны были другие соседи и другая дружба, что очень повлияло на искусство. Кроме того, согласно утверждениям М.М. Герасимова, восстановившего портрет Андрея Боголюбского, тот был сыном половчанки: лицо его было половецким. Поэтому были также очень сильны степные интересы.
Ярослав был невероятно талантливым человеком, хитрым, умнейшим политиком. Он понял, что у народа нет ни одного национального святого. Есть Катерина, Варвара, Николай, но они были нерусскими. Как же быть, если у правителя нет национальных святых? Надо их создать, и лучше всего – если они будут из собственной семьи. И Ярослав создал национальных святых, и они заняли важное место в православной культуре.
Ярослав сидел в Новгороде, где ему от отца достался престол, а киевский престол был у его брата. В Вышгороде находилась летняя резиденция владимирских князей. У Ярослава там было много детей от разных жен. И там же, в Вышгороде, жили отроки 14 и 12 лет, Борис и Глеб. Они вели мирную жизнь, никого не трогали, занимались соколиной охотой. Когда умер отец Ярослава, то его престол узурпировал Святополк. Ярослав пошел на него походом, мигом вышиб Святополка с престола и понял, что ему исторически повезло, потому что эти дети погибли от рук злодея. Если бы они остались живы, то Ярослав, вероятно, сам бы их убил. Теперь же злодеем становится Святополк, и отныне он зовется Святополк Окаянный. Ярослав быстро создал житие новых святых – в России всегда было легко создать нужный документ. В этом документе как будто бы написали, что сделали эти святые отроки, но даже из жития непонятно, что они сделали. Ясно только главное – то, что они были убиты. Написано было красиво, так что Ярослав быстро причислил Бориса и Глеба к лику святых. Они были так милы и так невинны – ничем не запятнанная биография. Мальчиков так прекрасно изображали, что их полюбили навсегда и они стали популярными русскими святыми.
Русские князья были очень похожи на византийских императоров и были привержены своим традиционным привычкам: любили свою традиционную жизнь, баню, охоту, выпить, ходить на медведя – по полной языческой программе. Ярослав за свое царствование многое сделал, но надо иметь в виду, что это была Киевская Русь, а национальная история русской православной культуры начинается с XIII века, после краха Киевской Руси, со смертью Ярослава, с приходом русских династий.
Русское искусство Образ идеальной духовной жизни
Духовный ландшафт русской культуры
Киевская Русь – это отдельная история. Это православное искусство в России, это плинфа, это Византия, это мозаика. Это большой многоязычный, многоукладный город, прообраз современного мегаполиса. И мы мало себе представляем его жизнь. Он сильно отличался от того, что мы знаем, даже от Константинополя, отличался своей пестротой. Ярослав сделал многое. Он, как Александр Македонский, Конфуций или Цезарь, создал за одну жизнь целую историю.
Но настоящее, самобытное древнерусское искусство начинается с Владимира. Династия владимирских князей была необыкновенно честолюбива, мощна и мечтала создать единую землю с общими традициями и культурой. Византия не входила в их расчеты.
Особенно интересна была жизнь боголюбского князя Андрея, степняка по матери, загадочно связанная с Владимиром. Он выстроил необыкновенное маленькое государство – город-государство. Не полис, как было на Западе, потому что во главе государства стоял князь. Сейчас от этого в России не осталось ничего, буквально ничего такого, что давало бы право говорить нам об истории или контексте. Мы можем только констатировать какие-то факты и выстраивать цепочки.
Величайший исследователь владимиро-суздальской архитектуры искусствовед Вагнер за свою книгу об исследовании Владимира получил Сталинскую премию. Но когда вы ее сейчас читаете, то выясняется, что он все описал, а вы ничего не понимаете, потому что представить себе, откуда там все это появилось, невозможно. Именно во Владимире и Новгороде сложился уникальный тип русской архитектуры, который называется «однокупольный четырехстолпный храм с позакомарным перекрытием». Вспомним однотипные готические соборы: это вытянутая базилика, очень большая, с трехчастным делением, с вытянутой апсидой и т. д. Точно так же выглядят варианты классического однокупольного четырехстолпного храма с позакомарным перекрытием: однотипные, почти не развивающиеся.
Отличие русской архитектуры заключается в том, что она не соборная, а церковная. Для нашей архитектуры характерна многоцерковность при малом количестве больших соборов. В Киеве это София, в Новгороде – София, Успенские соборы в Москве и Владимире, соборный храм Александро-Невской лавры в Петербурге. Соборов больших мало, а церквей много. И церковь не должна быть большой. Здесь принципиальная идея. Как выглядит церковь? Успенский собор кажется многокупольным, а на самом деле он однокупольный: остальные его купола не функциональные. Купол собора опирается на четыре столпа. Он с тремя алтарными апсидами, а может быть и с одним. Что это значит? Как это понимать? Можно взять владимирский идеальный вариант, классику. Что в нем интересно: внутренняя конструкция полностью совпадает с внешней. Интерьер и экстерьер полностью совпадают по значению. Этот храм специально-антропоморфный, что в архитектурной терминологии обозначает использованные антропоморфные значения: вот голова, шея, плечики, покров.
То есть существует такая очень глубокая мудрость относительно того, что храмы невелики, потому что мы сами и есть храм. Мы должны поместить этот храм в себя и держаться за эти поручни. Храм внутри себя или мы в храме. Это не отделенность, а очень глубокая и духовная архитектурная идея о сближении человека и храма. Храм изнутри специально выверен в этом движении однокупольности. Что изображено в подкупольном пространстве? Там всегда написан Христос Пантократор, который смотрит на вас сверху вниз с открытой книгой. Поэтому православные и говорили: «Что нам их католические храмы, протянутые в мольбе иссохшие руки аскетов? У нас же Бог специально спускается на нас». Здесь изображены охранники божьи – Святое воинство и княжеская дружина. Вообще эта тема вертикали богопомазания соединена или сплавлена с православием и представляет собой структуру сознания и ментальности. Вот голова здесь, Он – богопомазанник, и воинство, в которое он упирается. А куда воинство двигается? Туда, куда голова повернется. Вот и говорят: князь со своей дружиной в дорогу собрался. Это все модели одного человека, общества или государства. Раньше этой модели не было, в Византии совсем другая структура. Это национальная форма выражения. Ментальность включает в себя огромное количество элементов, которые выражают длительную духовную традицию.
Церковная архитектура не изменилась, она и не может измениться. Было несколько попыток отойти от основ, и тут же все возвращалось на место, иначе все рушилось: и храм, и вера, и государственный язык. Россия не может отойти от этой формы. И мы не понимаем, какой это гениальный семантический знак, символизирующий сразу все: ментальность, строение государства, наше строение духовное.
Купол поддерживается внутренними распорками или парусами, а дальше идут четыре столпа (именно «столпы», а не «столбы»). Что значит столп? Каждый столп связан своим парусом с евангелистом. Четыре столпа – это значит четырехстолпное Евангелие. И всегда изображение одно и то же: на парусах всегда евангелисты со своими мистическими знаками. Мы там – у основания столпа, идущего вверх. Перекрытие – это и есть отсутствие перегородок между куполом и карнизами потолка. Это дольмен, внутри которого мы находимся. Как только появляется перегородка – это модерн, и никуда не годится. Мы всегда находимся внутри этого пространства. И всегда стоя, потому что мы должны всем своим напряжением противостоять этому потоку.
Однажды я познакомилась с удивительным человеком по фамилии Сергеев. Он заведовал кафедрой математики в Военно-медицинской академии в Ленинграде. Это был человек с большими странностями, можно сказать, сумасшедший. Он ходил с большим плоским портфелем, в котором всегда были чистое полотенце и бутылка водки. Перед началом лекции он выливал на полотенце немного водки и вытирал им свое лицо и руки. Он приезжал на наши курсы читать лекции и рассказывал о феноменальных экспериментах, которые ставил в своей Академии: это были эксперименты с крысами по передаче информации на расстоянии, что очень важно для подводных лодок. И в частности, он нам сказал, что купол, сделанный полукругом, – это поздняя конструкция, а настоящее перекрытие – это луковка. И он говорил: «Это не луковка, это раскрученная капля. А что такое раскрученная капля? Это капля, которая создает максимально энергетическое пространство». В книгах ничего подобного не написано, об этом рассказывал только Сергеев. Ничто не случайно. Вот почему в церкви возникает колоссальная энергия. Поэтому люди здесь не должны сидеть, только стоять.
Церковь должна быть невелика. И она должна иметь столп, идущий вверх, словно дух Божий через Евангелие идет к нам.
Как и когда было сделано это, говоря упрощенно, изобретение – одно из самых великих открытий в мире, а именно форма античного храма? Всюду в книгах написано: золотое сечение. Но что это обозначает – не совсем понятно. Следующий вопрос: кто это сделал? В книгах пишут: примерно на рубеже VI–VII веков сложился и сформировался тип периптерного храма с колоннами. Но что значит «сложился»? Мы видим результат, но как и где это произошло? В Византии все совсем иначе, и материалы другие, а это греческий тип. Культура транслируется через личность. Но как сложилась эта форма храма – неизвестно. Чем отличается греческая культура от русской? Она по видимости та же, а по сути другая, ибо здесь эта мысль идеально кристаллизована и точно так же выражена в экстерьере.
Архитектура владимирская и новгородская различаются между собой. Там по-разному устроены пилястры. Здесь следует отметить один важный аспект.
Если взглянуть на план Успенского собора во Владимире, станет видно, что этот собор имеет ту же модель, что и московский Успенский собор. Дело в том, что Аристотеля Фьораванти – итальянского архитектора – тогда послали во Владимир, чтобы он сделал в Москве такой же собор, как там. Владимир мыслился как старая столица, а Москва – как новая. Поэтому и названы соборы были одинаково, и между собой они равны.
И что еще необыкновенно важно для особой истории России и русского зодчества, так это то, что идеальное национально-русское зодчество конгениально ландшафту. Оно всегда ландшафтно. Как выстроены русские усадьбы? Их никогда просто так не ставили. Их всегда замышляли, как естественно-неотрывные от природы дома. Даже если взять самый иностранный из всех русских городов Петербург, то и он отличался от западных аналогов своей ландшафтностью. Когда вы в Париже, то воспринимаете его как театр: вы всегда находитесь на сцене, он сценичен, он драматургичен и театрален. Но когда вы находитесь в Питере, вы всегда находитесь между водой и небом – он вписан в ландшафт. Это можно сказать обо всей русской архитектуре. Например, дом Пашкова – это тоже соединение с природой. Как ни изменились города, но куда бы вы ни приехали, вы чувствуете и видите это соединение. Храм придает осмысленность картине мира. Это черта лирическая, а русскому искусству свойственна лиричность. Обратите внимание на русскую поэзию: она всегда ландшафтна, все поэты – ландшафтники. Только так они воспринимают любовь, страдания, слезы, радость – только через природу и союз с ней.
Этим наша национальная культура стилистически, духовно отличается от западноевропейской культуры – своей связью с природой. Трудно сказать, что это такое, – неизжитое язычество или что-то еще. Это заметно, когда сравниваешь французскую и русскую поэзию. Французская поэзия построена на театре, а русская на природе. Все ее события связаны с явлениями природы, с временами года. И пронзительной чертой владимирской культуры является связь с ландшафтом, благостная чистота и красота православного зодчества. Такого разрыва между реальной и идеальной жизнью не было нигде, а искусство восполняет эту щель. Оно создает совершенный образ красоты и духовности. Оно как бы противостоит реальности, и это, конечно, видно в фильме Тарковского «Андрей Рублев».
Русский храм ставят не где придется. Есть три или четыре точки, где строят храмы. Храм очищает то место, где его ставят. Если в доме началась холера, то дом сжигали и на его месте ставили храм. Этой архитектуре свойственно такое количество дополнительных качеств, входящих в самую суть архитектуры, что мы все и не перечислим. Это сакральное пространство. Пожалуй, только мусульманская архитектура похожа на русскую своим отношением к природным качествам.
В новгородской архитектуре есть еще одна интересная черта, которая отличает ее от владимирской. Владимирской архитектуре присуща стройность, тут работает закон если не симметрии, то правильности соотношения. Все выверено идеально. У Новгорода этого нет. Во Владимире архитектура аристократическая, а в Новгороде – мужицкая. Иногда создается такое впечатление, что они, как дети, неуклюже лепили руками. С окнами полный сумбур: их просто делали там, где хотели. План один и тот же, но образ совсем другой. Чем это обусловлено? Владимир – аристократическое место, а Новгород – купеческое. Поэтому в Новгороде есть такое название для храма, как «Нередица», то есть не в ряду стоящий. Здесь очень развита тема свободного уличного зодчества: те, кто жили на одной улице, могли просто посчитать дома, скинуться и поставить себе храм – чтобы было не хуже, чем у тех, кто проживает на соседней улице. Это не меняет главной сути, ни пространства, ни пилястрового деления, речь только об оттенках. Как существуют языковые наречия, лексические, точно так же существует лексика храма.
Главное для Новгорода – окна. Чтобы понять, почему в Новгороде окна делали как кому захочется, нужно обратить внимание на освещение внутри православной церкви. Свет идет через окна, это свет горний: общий свет и свет, идущий к иконе. И новгородцы так устанавливали окна, чтобы свет шел со всех сторон. Во Владимире он идет, как и в Риме, линией, а новгородцы придумали, чтобы окна располагались по-разному. Поэтому у них освещение шло со всех сторон, поэтому всегда виден весь иконостас и все остальное. Они не боялись кривизны или неправильности – они ничего не боялись. А Владимир боялся, там было много правил.
Но во владимирской архитектуре есть нечто такое, чего в России не было никогда и не будет. Когда итальянский архитектор стал строить Успенский собор в Москве, ему сказали: нужна точная копия, но без скульптуры. Вся владимирская архитектура покрыта скульптурой. Что интересно, смысл этих скульптур нам до сих пор неясен. Мы не знаем подтекста. Причем масштаб этой лепки нарастает и нарастает, пока не достигает бредовых размеров в Дмитриевском соборе во Владимире.
В Успенском соборе скульптур мало, и они выполнены в виде масок. Что эти маски обозначают? Это необычное изображение церковных персонажей. Есть один персонаж на фасаде, повторяющийся в Дмитриевском соборе, – это Александр Македонский. Его изображение называется «Возношение Искандера», или «Возношение Искандера двурогого на небеси». Там есть грифоны, которые тащат корзину на небеси. Это все как знаки Зевса, знаки высшего могущества. Есть и другой персонаж, который в России имеет большое значение: это герой староверческого поэтического эпоса царь Давид, который играет на инструменте. Он был победителем, потом царствовал, а потом стал философом и поэтом. Он пророчил приход Мессии прямым текстом, как бы общаясь с Богом напрямую, ничего не описывая, а пророчествуя. Царь Давид изображается неоднократно.
Именно Владимир создал такой грандиозный прецедент зодчества. Если вы посмотрите на портал владимирской церкви или на скульптуру линии хоров, то вас поразит готика, там присутствующая. Это портал, вся глубина которого изрезана. Это напоминает веронский стиль. А самое любопытное, что повсюду изображены райские растения, а в нишах стоят святые. Такого в России никогда не было и не будет. Россия отрицает трехмерные скульптурные изображения, потому что они плотские, чувственные. Это перевод на какой-то эмоциональный язык.
Андрей Боголюбский был очень странным персонажем. Именно он, а не кто-то другой, привез икону Владимирской Божьей Матери на Русь: ограбил Вышгород и вывез ее. Храм Покрова – это храм Богородицы, и Андрей Боголюбский учредил в своем городе-государстве богородичный культ XII века. Он двигал национальную идею Спасителя в сторону соединения с западной политикой, а не с восточной. Почему? К тому времени восточная политика ослабела, влияние Византии закончилось. Земли нет, только сплошные интриги. А там, на Западе, все гудит: Крестовые походы к гробу Господню, огромные деньги, культ прекрасной дамы. Андрей торговал с Западом, знал обо всем этом. И он начинает все это устраивать у себя дома.
Разумеется, он нажил противников. Всем историкам известно, как он обожал и боготворил свою жену. Она единственная, кому он не изменял, хотя у них у всех были гаремы. Это были люди неустойчивых моральных правил, злоупотребляли всем, чем могли, но это не мешало им ставить церкви. Но вот Андрей любил жену и поплатился за это. У его жены было три брата, которым он все прощал. У него было много идей: он хотел в крестовый поход, ему было что предложить Западу в качестве военной помощи. И красоту он очень любил, и западный стиль. Но оппозиция, которой все это не нравилось, устроила заговор и натравила братьев жены на Андрея Боголюбского. Он был убит руками этих людей, а потом начался пьяный разгул с грабежами.
Когда братьев усмирили, то человек из той же семьи – Всеволод Большое Гнездо, который был просто замечательным правителем, продолжил идею боголюбских князей. При нем был достроен Успенский собор, хотя расписали его только при Рублеве. При нем также был построен знаменитый Дмитровский собор. И в своих мечтах он был аккуратнее. Когда вы приезжаете в Тифлис или Армению, вы видите парафраз архитектуры. И грузины говорят: ну, русские стали строить, как мы. Но если обратиться ко времени Андрея Боголюбского и сопоставить даты, то выяснится нечто другое.
Иконостас во Владимире в это время еще не сложился, но отдельные иконы XII века сохранились. Особое внимание следует обратить на одну икону, которая представляет собой очень старинный образец Богоматери Оранты («Знамение»).
Существует такая история. Из четырех апостолов один был живописцем. Это был апостол Лука, и он якобы дважды написал Богородицу. Одна из них – Одигитрия (Указующая Путь), а вторая – Оранта. Так ли это – никто не знает. В Риме, в Национальном музее, есть нацарапанные на камнях иконы I века – это факт. Никто туда не приходит, чтобы взглянуть на них, а там изображение Христа, Благовещение, Оранта без знамения и большое количество канонов. Но они не писаные, они выцарапанные.
Самый старый канон находится в Киеве, в Софии: это Богоматерь, которая называется «Нерушимая стена». Что это за канон? Он совмещает два и даже три самых древних сюжета. Это икона XII века, написанная очень изысканно, словно она сама как собор: голова, плечи – в ней есть рисунок собора. Профессор Алпатов написал на французском языке работу о драпировках на русских иконах. Он специально посвятил время этому вопросу и провел очень интересные параллели. Алпатов сравнивал драпировки античные, византийские и русские. Мы мало знаем об этом, но при взгляде на эту икону ясно, что она написана мастером, владеющим искусством живописи, и мастером словесной речи.
Что значит жест? Здесь сошлемся на замечательную работу Аверинцева, крупного специалиста по Средним векам. У него есть статья, которая называлась так: «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии киевской». Там есть мозаичное изображение, на котором стоит надпись: «Бог внутри Ея». Аверинцев говорит: «внутри Ея» – это внутри собора. Этот жест называется «нерушимая стена», это жест не только молитвы, это жест охраны. И Аверенцев пишет: пока Она вот так держит руки, ничего не случится, потому что образуется охранная энергия. Это жест Богоматери Оранта. Поэтому есть поверье, что пока Она в этой иконе, Киев будет стоять.
Киев очень любил один цвет в мозаиках, который очень любили в Византии и на Западе и который не любили и не использовали в России. Это сиреневый цвет, цвет фиалок. Что это за понятие? Аметистовый цвет, как и фиалки, и сирень, упоминаются начиная с Врубеля и поэзии Блока. Почему нет сиреневого цвета на иконах, хотя в Киеве он употреблялся? Потому что цвет икон всегда смысловой, текстовый. Это еще один текст. Есть цвет композиционный, или канонический, а есть цвет цветовой. На языке иконы красный цвет обозначает кровь, страдание, а также победу и любовь. Синий цвет означает печаль, страдание, а также небо и бесконечность. И эти два цвета страсти и страдания мешать нельзя. А сиреневый цвет создается как раз смешением этих двух цветов. Символисты очень любили сиреневый цвет. Поэтому если в Киеве Богородица в сиреневом, то здесь, в России, она в темно-синем с золотом.
Это первообраз – древнейший образ Богородицы-защитницы. У него два значения: Она и Богородица Приснодева, и Защитница. Здесь есть еще одно изображение, у которого руки точно так же поставлены. Может быть, это проекция? Диск спроецированный? Это идет изнутри или это спроецировано извне? Очевидно, и то и другое. Если Благовещение, то это спроецировано извне. Если ношение – это изнутри. На сердце, под сердцем. Это на Западе Богоматерь изображают с животом, а у нас нет таких приземленных подробностей. И это Знамение. Она и Защитница, и Знамение.
В иконостасе архитектура и живопись как бы спроецированы друг на друга, соединены своим смыслом и своей конструкцией. Это фантастический принцип. Иконостас развивается постепенно и отделяется, почти падает на край купола перед алтарем. Это великая стена, это трансепт, поставленный, как стена. И он смотрит на нас, а мы предстаем перед ним. Он всегда построен по определенным принципам, не имеющим вариантов. Если они соблюдаются, то тогда эта стройная идея стоит, а если из них выбивается что-то, то все ломается.
Все политические разногласия в России всегда сводятся к Петру I и Ивану Грозному. Есть мнение, что Иван Грозный был великий строитель. Но на самом деле великим был не он, а Борис Годунов. Есть так называемая «годуновская архитектура», это вторая половина XVI века, и это гениальная архитектура. Постройки, сделанные при Иване Грозном, шатровые. Возьмем, к примеру, Храм Василия Блаженного. Его центральная часть колокольно-вертикально-стрельчатая, повторяющая стрелу Коломенского, которая была возведена в честь рождения Ивана Грозного. Что там интересно, так это ландшафтная архитектура. Но когда вы находитесь внутри храма, то понимаете, что там службы никогда не будет: это пространство, где службы быть не может.
Когда говорят о Петре I, то не договаривают многое, имея в виду не стрижку бород, а ломку принципов этой ментальности. Конечно, он ничего не сломал, но сделал одну любопытную вещь. Искусство сакральное было единственным изобразительным языком. Петр ввел еще один язык – язык светский. Он привез в Россию язык светского искусства, и здесь, в отличие от Запада, искусство разделено на сакральное и светское. И начиная с петровского времени к нам входит культура светского образа.
Если внимательно рассматривать все изображения русского искусства, мужские и женские, они сводятся к тому, что в женском случае изображение Умиления пишется в зависимости от того, где происходит это явление. Например, Томское Умиление: одному монаху в монастыре было явление Богородицы. Интересно другое, а именно то, что мужские изображения бывают двух типов. Одно – это изображения отроков, мужчин в отрочестве. Это Георгий Победоносец, Борис и Глеб, Касьян и Дамиан, Фома и отроческие изображения. Второе – это изображения старцев. То есть мужские изображения – это те, кто еще не грешил, или уже взошедшие над грехом. Во втором случае это никак не дряхлость или стариковство, это образ высшей мудрости, который выражают лоб, брови и бороды. Это очень типично.
Если взглянуть на русское искусство мельком, не глубоко, то можно обнаружить очень интересный феномен. Например, когда Крамской пишет портрет Третьякова, он пишет святого старца. Так же написаны и Толстой, и Достоевский. Посмотрим на портрет Третьякова: это человек второй половины XIX века, но у него характерный жест рук, выражающий замкнутость. Какие формы рук, пальцев, какая чистота! Крамской пишет Третьякова, но бессознательно наполняет портрет и другим смыслом.
Когда Толстому надо было показать восхождение к святости и показать настоящего святого воина, то он показал нам Андрея Болконского вне брачности. Толстой делает его настоящим русским святым Георгием, потому что вы его никогда не видите женатым. Болконский появляется, когда он уже не муж, а когда умирает, то он еще не муж. Он или был женат, или еще не стал. Он чист. А как он умирает! Толстой описывает его переход не через духовное великомученичество, а через высокое духовное очищение. Андрей Болконский – святой воин. И если проследить за тем, как Толстой ведет его линию и какие тексты вкладывает в его уста, то становится ясно, что писатель одной ногой уже стоит в XX веке.
Если русский художник пишет женщину, то ему все равно, какую женщину и какого времени он изображает: она обязательно будет ангелом или с ангелом в душе, она воплощает очищенность. Это верно не для всех русских художников, но для большинства. То же можно сказать о портретах Сурикова, Федотова, Боровиковского.
В Музее изобразительных искусств была выставка «Портреты XVIII века». Первое, что бросилось в глаза, – весь западный портрет очень щегольски написан. Они писаны высокой рукой, сильной школой, но ни один из них по содержательности, глубине и таинственности не смог сравниться даже с русским крепостным портретом.
Посмотрим на портрет беременной Прасковьи Жемчуговой. Он производит просто ошеломляющее впечатление. Это был заказ художнику Аргунову – написать парадный портрет. Только он не получился парадным. Мы смотрим на Прасковью снизу вверх, она стоит перед бронзовой колонной в изумительно красивом халате темно-красного оттенка с темно-синими полосами. На голове чепец, в руке белый платок. А лицо как у Богородицы – узенькое, со впалыми щеками, с огромными глазами, такое таинственное, с отлетающей душой. Она есть и ее нет. И она с этим животом, в этом пространстве, и перед ней бронзовый идол. Картина насыщена духовно-душевным драматизмом. Суриков хотел передать душевную драму боярыни Морозовой, но у него так не получилось, как в этом портрете. Здесь есть внутреннее свечение и абсолютная готовность к жертве – двойной жертве. Она уже сына своего отдает. Этот портрет написал человека из народа. Это особенность крепостного портрета: художники, писавшие эти портреты, одновременно и церкви расписывали, и иконы писали. У них имелись эти навыки – из человека создать ангела. Им хотелось видеть в человеке ангела.
Эта тенденция выражена и в поэзии. Анна Керн была никудышная женщина, но о ней написано: «Я помню чудное мгновение». И даже у Лермонтова, который не любил женщин, вы не найдете плохих слов в их адрес.
А интереснее всего то, что Малевич, когда писал портреты, тоже писал ангелов. И все равно, как он писал: он изображал чистоту, особую вычищенную безгрешность. То же можно сказать о Петрове-Водкине – человеке, которому выпало быть и русским, и советским художником. Даже портрет Анны Ахматовой – чистейший образец. Конечно, столпы покачнулись, когда Маяковский писал про свою женщину. Одно слово – футурист! Но когда Есенин пишет про женщин, слезы катятся сами собой. «Анна Снегина» – идеальные пейзажи, слезы на глазах.
Удивительная вещь, особая природа художественной ментальности: от времен старого искусства до самых последних событий на художнике всегда лежала особая миссия – больше, чем на художниках какой-либо другой страны. Очень жаль, что до Дягилева, до эпизода первой интеграции русского искусства в мировое пространство связей между культурой России и культурой Запада не было. Была связь в один конец – это русские художники за границей, в основном Россия в Италии. В XIX веке начали ездить во Францию, но резкого влияния не было. Запад не знал российского искусства.
Выставок до 1900 года не было, связей художественных не было, Россия находилась в художественной изоляции. А должна быть любая научная или художественная интеграция, то есть культурный багаж обязательно должен войти в состав мировой культуры. И когда мы начали входить в этот состав в начале XX века, то первое, что вошло, – это икона. И она произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Россия никогда не имела своей философии. Она имела только религиозную философию. Россия начинает получать философию только в начале XX века, и то не чистую, а литературно-социальную: это Лосский, Бердяев, Шестов. Философию в России или топят, или ставят к стенке. Карсавин вернулся и умер в лагере, отца Павла Флоренского утопили в море, Вернадского сгноили в тюрьме. Ленин был наш единственный философ. Других быть не может!
Когда умер Сталин, на его даче сделали музей и туда начали водить экскурсии. Как там было интересно! Мы узнали, какой у него был патефон, какие он слушал пластинки, как жил. Скромности был незаурядной! И не понимал разницы между репродукцией из «Огонька» и произведением искусства. У него была своя картинная галерея: он вырезал репродукции из журналов и лично помещал в рамку. Это, с одной стороны, трогательно, а с другой – страшно. И у него там стоял рояль. На этом рояле разрешалось играть только некоторым людям, а иногда приглашались артисты. Но больше всего он любил, когда на рояле играл Жданов. И когда тот умер, Сталин сказал: рояль убрать, играть больше некому. И рояль убрали – это нам рассказывали сотрудники музея. Так было и с философами: философов убрать, философ здесь только я, и мыслить больше некому.
В России не было философов, но она была необыкновенно одарена художниками.
Что отличает русских писателей, поэтов и художников? Профессиональный недостаток. Они не просто художники формы: они берут на себя и в себя все, размышляют, дают необыкновенно глубокий срез ментальной культуры и философии. Они очень содержательно нагружены. Русское искусство очень образно и мыслительно очень интересно. Это не означает, что западное искусство бездарно и бессодержательно. Просто мы не всегда правильно оцениваем свои качества и свои возможности.
Наша великая советская литература ничего нового не придумала, она только все упростила, все сделала элементарным. Если обратиться к советскому искусству, то можно увидеть, что оно продолжает эти традиции изображения святости, но только в предельно упрощенном виде, несколько убого, как в «Поднятой целине» или в «Молодой гвардии». Там же святые отроки изображены, но очень убого и прямолинейно. Почему исчез из жизни такой писатель, как Толстой? Его читать невозможно, как и Фадеева: очень убогий, упрощенный язык. А казалось, он описывает такие важные вещи, войну! Но там есть традиции изображения святых. И в этом упрощении эта идея может жить так, как она живет в Сурикове, в Петрове-Водкине, в картинах Решетникова. С предельно убогим упрощением до атома, когда исчезает все, кроме идеи святости.
Традиции образуют ментальность, ментальное поле культуры. И религия входит в традицию. Религия не может быть искусственно выделена, она является частью единого поля духовно-психологических ландшафтных традиций нашего бессознательного.
Русское художественное сознание
В искусстве самая важная проблема – ментальность. Это художественное сознание, которое формируется долго и долго длится. Меняя формы, оно не изменяется по сути. Это то, что называется традицией художественного сознания, культурой зрения и восприятия искусства. Все современные традиции во всем мире формировались в Средние века. Средневековье и создало фундамент сознания: это конфуцианство, буддизм, христианство восточное и западное, и даже индуизм.
Средневековые религии отличаются от дорелигиозного сознания тем, что дорелигиозное сознание является мифическим или языческим. Все религии подразумевают присутствие одного Учителя, который оставляет книгу, потому что Учителя без книги не бывает. Сам Учитель книг никогда не пишет. И Мухаммед никогда не писал: он что-то бормотал себе под нос, а за ним записывали. И Христос не писал. Был ли он вообще грамотным? Булгаков писал, что Христос знал много языков, был образованнейшим человеком. Но есть и другие мнения. Да и важно ли это было для него? Они ведь все трансляторы, их направили к людям, чтобы передать послание, их делом была проповедь. Допустим, он напишет, но кто прочитает эту книгу? Сколько человек? Они все были людьми пути, бродяжничали и проповедовали. А соборы – это скопление людей. И христианство для России является основополагающим фундаментом в ее мытарствах.
Что было до христианства? Что делали, когда принимали христианство? Первым делом сожгли всех Перунов. С чего-то ведь надо было начать? Утопить в Днепре, поджечь, чтобы и следа не осталось. Проходят века. Что надо сделать для антиалкогольной компании? Вырубить виноградники – тогда и пить будет нечего. Но это не помогло: алкоголики стали пить одеколон. Видимо, источник зла в другом.
Никогда в России не была и не будет изжита очень глубокая связь с природой. Перунов нет, и Перуны есть. В самой эстетике воплощения христианства, в самом художественном национальном образе живет этот дух слияния, начало природы и начало этического учения. Эти вещи соединены. На Западе совершенно иначе. Вспомним Владимир: сколько там на храмовом фасаде цветов, трав, птиц, разных диковин! А в Новгороде этого нет, Новгород не расшифрован с этой точки зрения. Все символы в Новгороде вжаты в стены, и они все до одного перунские. Во Владимире увлекались красотой, а в Новгороде – солярные символы. И еще в Новгороде на могилу до сих пор приносят котлеты и другую еду, которая полагается покойному. Новогород всегда отличался своей ересью, своей связью с природой, с перунскими образами. В Новгороде на каждой церкви изображено солярное колесо – солнце на ножках, как на рязанском орнаменте. Они просто впрямую говорят – Ярило. И на новгородских домах никаких красот, как во Владимире. Формы грубоваты, на материале след руки. Они не стеснялись своих пристрастий, Новгород жил отдельной вольной жизнью.
Для России архитектура очень важна, и она категорически делится на деревянное зодчество (это дольнее) и каменное (это горнее). Различие в материале принципиально: дерево – вещь временная, оно сгорает, а камень – вечный. Дерево – это смола, лес, тепло, семья, это связь с землей, с традицией. Сын женился – ставим дом. А церковь ставят для всех. Только в XVII веке, когда на Западе расцветает барокко, у нас в первый раз указом был построен теремной дворец и началось итальянское строительство.
Когда ставили церкви, дома, имения, всегда старались соблюсти принцип, что был в Древней Греции, – принцип гармонии между миром дольним и горним, чтобы и в душе была гармония. Искусство всегда противостояло реальности. Оно никогда не было нереалистичным. Оно противостояло и давало другой образец, как это гениально показал Тарковский. Поэтому если на иконе изображается всадник на лошади, то это не какой-нибудь конь, а сказочный, на тонких ногах, с гривой, хвост в кольцах, божественный, вечный. На нем нельзя пахать или воду возить.
Архитектура соединяет в себе две прямо противоположные вещи: саму архитектуру и костюм. Из чего шьем? Из какого материала строим? Если писать историю архитектуры, а не зодчества, то ее надо писать как развитие материалов. Греки строить не умели, но они были гениальными зодчими и создали ордер. У них был мрамор, который крошился. А вот римляне строить умели: они создали бетон и знали кирпичные кладки.
С другой стороны, именно архитектура и ничто иное есть самое идейное искусство, это концентрация идей, выраженная в сегодняшнем материале. Архитектура – не только материал, но и застывшая на века мысль.
По костюму можно сказать, какое тысячелетие на дворе. Одну из самых больших революций в костюмах произвели испанцы в XVI веке. Это было не модное законодательство, что несколько иное, а революция: они изобрели корсеты. Корсет был и в Египте, но он был другим. Испанцы же сделали мужской и женский корсеты. Потом этот корсет стал камзолом, и они надели штаны. До них носили лосины, а они предложили штаны, и их перестали носить только в XIX веке. А к чему крепились чулки? На машинках к корсету. Вся эта одежда у них была очень тесной. Итальянцы носили длинный и удобный плащ. А испанец стоит и не дышит в своем корсете, коротком плаще и неудобном воротнике. Когда показывают испанский театр и люди там метают шляпы – это смех. Шляпы метали французы! А испанцы не могли это сделать из-за корсета, и они придумали носить маленькие шапочки – беретики со страусовым пером. Так выглядит портрет испанского достоинства. Они создали гениальный семантический ряд. Они не могут ответить, им трудно говорить, и они только глазами делают знаки. Какая энергия внутри! Убить готов, а двинуться не может.
Наш костюм – это кодовый язык. Костюм и архитектура имеют одинаковую кодовую систему: это сочетание материала и абстракции. А русская культура, которая стала складываться только в X веке, так же, как и мусульманская, находится в кодовом языке. Встает вопрос: а где ставили строения – усадьбу, церковь? Это сочетание начала человеческого бытия и природы. Оно присутствует в русской поэзии по сегодняшний день.
Что замечательно в русской поэзии, так это то, что все это есть среди поэтов разных веков. У Баратынского – современника Пушкина, у Бродского – нашего современника, у Пастернака, Петровых, Завальнюка.
Вот, например, Баратынский:
А ты, когда вступаешь в осень дней, Оратай жизненного поля, И пред тобой во благостыне всей Является земная доля; Когда тебе житейские бразды, Труд бытия вознаграждая, Готовятся подать свои плоды И спеет жатва дорогая, И в зернах дум ее сбираешь ты, Судеб людских достигнув полноты…Как абсолютно и естественно слова связаны с очень философской мыслью о том, что такое закат жизни! Речь идет о человеке, но в словах и образах природы: плоды, жатва, осень. Эти стихи из цикла «Осень».
Другой пример – Мария Петровых. Она училась на одном курсе вместе с Арсением Тарковским. Мария – поэт 1920–1940-х годов. В основном она зарабатывала переводами и была очень знаменитым переводчиком с нескольких языков и интереснейшей женщиной.
Я живу, озираясь, Я припомнить стараюсь Мой неведомый век. Все забыла, что было, Может, я и любила Только лес, только снег. Снег – за таинство света И за то, что безгласен И со мною согласен Тишиною пути, Ну а лес – не за это: За смятенье, за гомон И за то, что кругом он, Стоит в рощу войти…Что это такое? О чем она пишет? Речь идет о том же, о чем и у Баратынского: человек заглядывает внутрь себя и пробует найти ответ на какие-то вопросы.
Леонид Завальнюк всю жизнь писал стихи, но ему было все равно, печатают его или нет. Когда ему были нужны деньги, он садился в машину и подрабатывал извозом. Это крупнейший философ, поэт, художник. Он всегда находился в диалоге с миром и природой:
Дерева вы мои, дерева, Есть любовь к вам, но есть и привычка Повторять просто эти слова: Дерева вы мои, дерева! …И простор, и надежда, и боль, И такое желание продлиться, Прорасти над судьбой, над собой, И с безумною бездною слиться. Нет молитв у меня, есть слова, Что порой бормочу я сквозь слезы: Сосны, клены, дубы и березы, Дерева вы мои, дерева!Какие у него стихи – философские, поразительно глубокие, когда он разговаривает с природой. Он был не только замечательным поэтом, он много рисовал.
Другое его стихотворение:
Под моим присмотром было два коня. Оба вдруг исчезли среди бела дня. Одного украли, а другой сбежал. Этого, второго, я очень уважал. Но промчались годы – миллиарды лет. Снится конь украденный, а сбежавший – нет. Снится, что мы едем. Снится, что поем. Снится, что мы вечны и всегда вдвоем. Тихий летний вечер, долгий, долгий путь… Снится, что на свете можно все вернуть. И сквозь слезы радости я шепчу любя: – Здравствуй, конь украденный, Друг ты мой украденный. Что бы ни случилось, я найду тебя!Здесь, в этих стихах, идет все та же сквозная линия. Все идет через природу. У Завальнюка верба – подружка, он просто часть этой вербы. Ему ничего не было нужно от этой власти. И ему было все равно, что о нем скажут, что о нем напишут. Он был полностью свободен!
А вот Бродский, «Рождественская звезда»:
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти: мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар, Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца…А здесь театр выстроен по-другому. Кулиса, масштаб, но все тоже самое, через метель, через звезду…
Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере, используй, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод – посуду, а что до пустыни, пустыня повсюду. Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере, огонь, очертанья животных, вещей ли, и – складкам смешать дав лицо с полотенцем — Марию, Иосифа, сверток с Младенцем. Представь трех царей, караванов движенье к пещере; верней, трех лучей приближенье к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал (Младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сини). Представь, что Господь в Человеческом Сыне впервые Себя узнает на огромном впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.Какая разная поэзия повсюду и какая разная театрализация! Но вся она об одном и том же. Мы можем осознать себя, свою историю, через посредника, который называется поэт. То же относится ко всей русской литературе в целом: к Гончарову, Толстому, Чехову, Пушкину. Такова суть и ментальность восприятия мира художниками. И когда мы говорим об архитектуре, о русском портрете, лирическом отношении к человеку, то подразумеваем идеальный ландшафт внутри человека, несмотря на то, что портреты могут быть разными.
Исторический мир, как и архитектура, имеет глубокий интимный знак и начало. Мы можем наблюдать удивительную вещь – это то, как русская живопись решает вопрос многофигурных композиций. Начнем с иконы «Битва новгородцев с суздальцами».
Эта икона в иконостас не входит, потому что туда входят только деисусный чин, праздники и избранные святые. Эта же икона написана по случаю, и мы можем назвать ее историко-героической композицией: она воспроизводит реальное событие: братья поссорились с братьями, суздальцы с новгородцами. Что-то не поделили и пошли друг на друга войной. Но, как известно, они заблудились в лесах и не встретились. Вернувшись домой, ни одна, ни другая сторона на эту тему не распространялась. Однако новгородцы оказались хитрее и создали икону на тему якобы своей победы. И здесь показана победа новгородцев над суздальцами. Эта икона гениальна и является историческим документом, очень характерным для России. Новгородцы первыми сказали: «Было сражение, и победа осталась за нами!»
В верхней части иконы рассказывается очень трогательная история. Здесь изображен мост через Волхов и новгородский детинец, Новгородский кремль. Кстати, он никогда не изображался, кроме лещадки. Лещадка – это скалообразные зубцы, совсем как у Джотто. Показан Новгородский кремль, София Новгородская, а из Софии вываливаются новгородцы и падают на колени, потому что из Византии привезли в город чудотворную икону Богоматери «Знамение». Вот византийцы передают новгородцам икону, вот новгородцы ее берут, затем увозят, а другие ее встречают. Одеты они замечательно: мы видим здесь новгородское платье. Икону встретили и поместили в детинце. Тут случалось неприятное – разлад с суздальцами, и новгородцы поехали на переговоры с ними.
На суздальцах татарские шапки, и по этому признаку сразу понятно, кто они. Новгородцы с ними договариваются, а суздальцы собрались в кучу и сразу начали стрелять. О том, что враждующие стороны просто не поделили деньги, ничего не сказано. Но зато суздальцы представлены изменщиками, они хуже басурман, потому что крещеные. Еще и говорить не начали, а выпустили сразу столько стрел! Но в новгородцев стрелы не попадают. И конечно, говорит икона, победа будет за Новгородом, потому что у новгородцев Борис, Глеб, Александр Невский и архангел Михаил. Это необыкновенная икона: как написаны лошади, всадники, татарские шапки, само действие! Показан моральный облик человека и моральный облик врага. И мы клеймим врага как изменника Родины и веры. Изменники всегда будут наказаны – вот суть этой иконы.
Точно так же Георгию Победоносцу не надо напрягаться, а достаточно взять спицу и убить дракона, потому что на его стороне правда и сила этой правды. И эта героическая интонация абсолютной победительности, потому что речь идет о защите глобальных ценностей. Это всегда проходит в больших исторических фильмах и композициях. Суриков очень это любил: это видно по картинам «Переход Суворова через Альпы» и «Боярыня Морозова». Хотя он и был человеком XIX века, но вся композиция этих картин построена на историко-героической мощи.
XVIII век эту тему не любил: он ее пропускал, фокусировался на совершенно других ценностях. Для XVIII века новой ценностью является открытие возможностей изображения человека. Большой ценностью является портрет. И даже когда Левицкий показывает «Чесменскую победу», то что мы видим? Парадный портрет Екатерины II. Через нее, через государыню, через личность художник показывает победу, которая видна на заднем фоне. XVIII век любит многогранно открывать все жанры портрета и впервые в живописи показывает пейзаж.
А начало XIX века уже совершенно другое. Этот век создает одну из грандиозных эпопей – «Явление Христа народу» Иванова. Это одна из самых красивых картин в России. И сама картина, и ее тема очень важны. В России всегда было две тенденции: та идея, которая показана на этой картине, и та, которая показана в «Боярыне Морозовой». Это тема очень глубокого христианского тезиса. Тема христианства никуда не уходит, она остается в самых великих произведениях. Это тема духовно-нравственного преображения, тема Сергия Радонежского, Куликова поля, Андрея Рублева, Феофана Грека, Кирилла Белозерского, Андроника Блаженного, Серафима Саровского, исихазма. Нравственное преображение – одна из главных тем русской монументальной идеи. Именно это описывает Лесков в своей повести «Чертогон». В этом отношении очень любопытна также «Смерть Ивана Ильича».
Тут, правда, вступает еще одна тема: нравственное преображение не в самих себе, а при помощи бомбы. Сейчас царя уберем, Столыпина уберем, еще в кого-нибудь стрельнем – и путь расчищен.
В случае с Ивановым интересно то, что он никогда не работал в России. Он, как только закончил Академию с золотой медалью, уехал в Италию и остался там навсегда. И написал он это полотно в Италии. Полотно огромное, и размер его мастерской должен был быть большой, чтобы не только вмещать это полотно, но и для того, чтобы художник мог постоять, посмотреть, подумать, подойти, сделать мазок кистью. Кроме того, нужно было место, чтобы писать натурщиков. Картина написана чистой масляной краской. Сколько пудов краски ушло! Откуда у него были деньги, чтобы написать эту картину? Ведь чтобы привезти ее в Россию, нанимали специально пароход, чтобы доставить ее не сворачивая. Все говорят: он был бедный, он так нуждался… Какая там нужда! Его мастерская находится рядом с домом, где жил Феллини, ее можно увидеть. Иванов жил в огромном доме с садом и мастерской, Он ел, писал письма Гоголю и всем остальным, ездил во Францию, в Нидерланды, любил посещать Германию. Так откуда эти деньги? Его содержала царская семья. И столько лет, сколько он писал эту картину, ему регулярно поступало золото, чтобы он мог закончить эту работу.
В его переписке с Гоголем много интересного. Гоголь жил рядом, в десяти минутах хотьбы спокойным шагом, и тоже был щеголем – за каждой вытачкой следил. Вот пишет Иванов Гоголю про русское преображение, а тот отвечает: «Друг мой, получил от тебя письмо. Два дня не мог прочитать – колики в животе были». Или: «Прочитал, но не мог вникнуть. Надо было часы золотые чинить, ходил к часовщику. Давай встретимся в кафе, поговорим о жизни».
Иванов был в Италии со своими единомышленниками. Там была очень большая группа живописцев, жили в том же городе и так же плохо, как и он. В основном это были немцы, но было много и англичан. Этих людей звали «назарейцы». Они образовали очень религиозную, очень идейную художественную группу, в которую входил Иванов, а также многие другие известные люди, например Каспар Давид Фридрих. Возглавлял ее Фридрих Овербек. У них была главная идея: любыми путями возродить монументальную идею национальной живописи и истинно христианское искусство. Это была задача начала XIX века среди таких грандиозных живописцев. Для Иванова возрождение – это просветление и просвещение народа. Он взял евангельскую тему и попытался показать нам, возможно ли преображение. Писал он ее практически всю жизнь и, пока писал, открыл пейзаж.
Это очень интересная картина. Если бы Рафаэлю сказали: «Напиши картину, как приходит мессия и являет собой знак духовного преображения», то тот бы первым делом посмотрел на размеры, затем взял бы бумагу, разметил ее и сказал: «Вот, светиться он должен тут. Потом, кто у нас проповедует? Он будет стоять по диагонали здесь. А теперь строим пространство так, чтобы оно было наиболее выигрышно для того рода послания». И только потом он бы сделал то, что сделал в «Афинской школе», и расставил бы людей так, чтобы они были на месте. Была бы решена главная задача.
Но у всех художников XIX века главная задача была иной, и они без конца говорили о ней. И когда Иванов начал рисовать картину, он совершил ошибку, как и Суриков. Эта ошибка есть и у современных кинорежиссеров, и у художников: они пишут этюды персонажей, кто как реагирует. А на что? Вот этого как раз и нет. На что он указывает? Здесь же ничего нет! Что представляет центр и из-за чего они были так потрясены? Иванов писал натурщиков. Писал и писал. И поэтому его творчество состоит из этюдов к этой картине. У Сурикова в «Боярыне Морозовой» тоже самое: картина состоит из этюдов к этой картине. Совершенное падение монументального искусства в XIX веке.
Когда подходишь к этюду Иванова, где вода написана просто гениально и парень выходит из воды, видишь, как это прекрасно. Но картина-то о другом! Что в ней действительно хорошо, так это то, как написан итальянский ландшафт: можно мысленно убрать людей и любоваться природой – и это будет преображение. Как он пишет дымку, свет, воду, отражение, деревья – это нечто невероятное! Поэтому сказать, что картина плохая или хорошая, нельзя. Она грандиозная, но на ней написано столько лжи, что деваться некуда. Если говорить правду, он, как художник грандиозный, искал одно, но нашел другое: он нашел новый способ изображения природы. Он нашел другие формы художественного мышления, очень прогрессивные. И скорее всего, для него самого его картина до конца не была ясна.
XIX век – век не фиксации итога, а наблюдения пути. Эволюция, которая происходит в нас в результате того, что мы к чему-то подходим. Происходит развитие прозы и романа. Это век «Мертвых душ» Гоголя. Это век долгого внимательного повествования, где наблюдается огромное количество различных форм изменений. А картина, как правило, создает выжимку, итог. Самое интересное, что вся героическая летопись русского монументального искусства была сильно идеологизирована, как и художники. Живописцы делились на две категории: на тех, кто писал портреты, и на тех, кто писал на религиозную тему. Это не французы, которые гордились тем, что они агностики и атеисты, и писали распад общества. Русские художники писали преображение. У них на первом месте была религиозная тема духовного преображения через просветление духа. И конечно, они все грешили способностью скорбеть за весь народ.
Когда Репин пишет своих «Бурлаков на Волге» – это скорбь за народ? Да. А зачем он писал? Затем же, зачем и Горький писал «На дне»: чтобы показать страдание народа. А народ просил его это делать? Народ когда-нибудь видел эту картину? Но мы же любим страдать вслух от лица народа и выражать полностью наше сочувствие соболезнованием.
Репин писал эту картину в Рыбинске – главном город бурлаков. Там жили интересные люди, которые занимались таким вот извозом. Зачем за них скорбеть, если они счастливы были? Там конкурс был на бурлаков, как в Венеции у гондольеров. У бурлаков были целые гильдии, они за работу деньги делили определенным образом, и извоз был просто необходим. Это был их труд, они эти деньги зарабатывали. Среди них были и пьющие, и нормальные люди. Репин хотел показать измученный народ, но поскольку он плохо себе представлял, что это такое, у него был голос с неба. Этим голосом был Стасов. Не Белинский и не кто-то другой, а именно Стасов посмотрел и сказал: «Все надо переписать! Решительно не тот цвет!» Стасов диктовал художнику, каким цветом стоит писать. Это все нам известно из писем и документов. Стасов гипнотически действовал на многих, в том числе и на Репина.
Репин был очень интересным художником, но все эти композиции в XIX веке имели очень большой изъян. Народ они не знали, чем живут – не знали и не понимали. Но им надо было проявить себя в качестве передовых духовных людей. И это осталось до сих пор, никаких изменений это не претерпело, особенно в области так называемых историко-героических картин. Это даже не традиция, а духовное страдание. Что при этом делать – неизвестно, поэтому в итоге проиграли все.
В России не всегда получался историко-героический жанр, потому что всегда на первом месте была идеология. XIX век – это не лучший период для монументального искусства. Сильным местом в это время была литература, и художники стали подделываться под литературу: «Выдь на Волгу: чей стон раздается над великою русской рекой?» И художники показывают эти стоны на Волге, но кому? Кто покупал эти картины? Их покупал Третьяков, который сначала держал их у себя дома, а потом назначил совет и передал городу.
В это время между западниками и славянофилами начинает разгораться спор о том, кто был Петр Великий. С точки зрения Ге, Петр был царь большой, но супостат.
Репин написал картину «Иван Грозный, убивающий своего сына». Это сыноубийство, и у России больше нет законных наследников. Но эта тема не может обсуждаться средствами картины.
И Ге тоже пишет картину «Петр допрашивает царевича Алексея в Петергофе». На ней царевич Алексей – ничтожество, бледная моль, немочь, худой, вялый, ни на что не пригодный человек. Череп у него странной формы. Кто такой царевич Алексей? Никто. А Петр? Может, и строг, но справедлив. Ге создает концепцию, матрицу этих отношений, выраженную иллюстративным образом.
Эту картину он написал так, как написали бы ее малые голландцы: очень реалистически, документально, показывая театральную мизансцену в интерьере. Он сделал ее специально так, как если бы мы сами присутствовали при этом допросе. Что здесь есть? Для Ге очень важен преображенский мундир Петра. Он пишет его очень скрупулезно. Эта картина – сценическая площадка и внутри нее происходит действо. Ее невозможно анализировать, ее можно только описать. А диалог просится сам.
С этой картиной связан еще один факт. Когда снимали фильм о Петре, то актеров подбирали согласно изображению на картине. Поэтому появился Черкасов. Художник задал гениальную матрицу: вот вам Алексей, а вот вам и Петр. И по-другому уже никто и никогда их не представлял. Ге предложил определенную историческую матрицу, и персонажи пошли гулять сами по себе.
В 1971 году в Музее изобразительных искусств проходила выставка. На этой выставке был специальный зал петровского времени, и там было пять или семь портретов Екатерины. Она не была похожа на актрису Тарасову. Все художники изобразили орангутанга: такая здоровенная бабища, с огромной грудью, с бровями, как у Брежнева. То ли художники хотели ей так польстить, то ли действительно она была так страшна, но на портретах в ней проглядывало что-то звериное. И еще там был портрет Меншикова, которого можно было узнать на расстоянии. Дальше – портреты Петра. Он там молодой: эти желваки, улыбка озорная, наглая, глаза наглые. Лента красная, плечо вперед, с вызовом. И что мы читаем под портретом? Цесаревич Алексей Петрович. Постойте, но он же должен быть таким, как на картине Ге! А картина говорит: нет, я таким никогда не был. Картина эта из Исторического музея, можно пойти и посмотреть: никаких подмен.
Поверьте, Алексей – точная копия Петра. Такой же энергичный, злой, белозубый, наглый, и такая же мощная энергетика.
У меня есть очень интересный сценарий под названием «Метафизика». Он был напечатан. Начало идет от того момента, когда первый граф Толстой ловил царевича на Западе. Царевич рвался к власти. Он не мог дождаться, когда отец помрет, а тот все живет и живет, хотя серьезно болен. Немецкие врачи держат его на перловке, потому что она необыкновенный продукт: в ней в большом количестве собраны витамины и природный энергетик. Царевич ждет смерти отца, а Петр все не умирает. Конечно, это был самый настоящий политический заговор.
И теперь понятна несостыковка в фильме. Зачем убивать Алексея, если он внешне выглядит так, как на картине у Ге? Зачем его казнить? Кто он такой? Инфузория, амеба – ни духа, ни мысли, ничего! А вот если он выглядел так, как на портрете из Исторического музея, то, конечно, у Петра страх был настоящий. Это был человек, подобный ему самому. И Алексей был чистым Петром I.
Писатели и художники XIX века занимали места историков и философов. Когда они писали картину, их интересовала не столько формальная или живописно-образная сторона вопроса, то есть живопись как таковая, сколько историко-идеологическая сторона. Они подменили собой в XIX веке философов.
Толстой вел переписку со своей теткой по очень важному для него вопросу: он хотел найти того, кто был первым графом Толстым, откуда у них титул и графский перстень. У него была мечта: он хотел, чтобы первым графом был некто Иван Толстой, святой, умерший на Соловках. Он его почитал и мечтал, чтобы основание рода Толстых было оттуда, и поэтому собирал материал о нем. Но когда Лев Николаевич узнал правду, то полностью охладел к источнику рода, потому что им оказался не Иван, а его отец – Петр Толстой. И когда он вник в жизнь Иванова отца, аппетит у него исчез совсем, потому что Петр Андреевич Толстой оказался стрелецким сыном. Петр I простил стрелецкое прошлое отца Петра Андреевича, а поскольку он был необыкновенно умен, послал его уже в зрелом возрасте учиться за границу.
Дальше история Толстого просто фантастическая. Он был послом в Стамбуле, вел восточную политику Петра. Умнейший человек, образован, но Петр I не был бы Петром I, если бы не делал то же самое, что и люди, подобные ему. Он сказал: «Ты стал европейцем, ты умен, дипломатичен. Излови моего мальца». Дал ему в помощники графа Румянцева, который на самом деле оказался чистым д’Артаньяном. У нас был свой д’Артаньян, и это граф Румянцев – чистейший мушкетер! И этот д’Артаньян вместе с Петром Андреевичем отправились искать Алексея. Когда они его привезли, подкупив Ефросинью и тещу Алексея, то есть мать первой его жены, Петр сказал: «Ну что, друг мой, тебе и следствие вести. Я организовал под тебя пыточный отдел».
В России пыточного отдела не было. А Петр I под Петра Андреевича Толстого организовал пыточный отдел и поставил его во главе. И вот он, просвещенный человек и сын опального стрельца, пытал Алексея. Там было что пытать: Петру надо было знать, с кем тот связался. Он же знал, что перед ним стоит он сам, только моложе. И он помнил свои дела очень хорошо. Так Петр Андреевич Толстой стал палачом. Но это было не все. Его унизили до конца. Рядом с ним был граф Апраксин. Все сторонники Алексея были лишены титулов и имущества, и графский титул Апраксина и все имущество его с царскими дворами были переданы Петру Андреевичу. И он получил перстень. Могло это понравиться Льву Толстому? А Иван был старшим сыном Петра. Влюблен был в отца, боготворил его. И когда, наконец, в результате Петр Андреевич Толстой был смещен и сослан на Соловки, то поехал туда вместе с Иваном. Там они и умерли. И перстень по завещанию был передал другому. Лев Николаевич, узнав обо всем этом, испытал разочарование и прекратил переписку.
Вернемся к Ге. Он же написал «Тайную вечерю», и на этой картине изобразил в образе Христа Герцена. Даже русские этому немало удивились, но Герцен есть Герцен, непререкаемая фигура. Маркс был на втором месте после него.
Художники были очень связаны с передовыми идеями, русской политикой, они занимались историей, страданиями народа, истоками и корнями. При этом они неплохо жили. И поэтому, когда они писали портреты или пейзажи, у них в этот момент включались рецепторы определенных восприятий, но как только дело доходило до исторических композиций, все тут же выворачивалось в другую сторону. Это конец XIX – начало XX века. В это время возникает замечательная богатырская тема Васнецова и Врубеля. Это очень интересная вещь.
Русские художники XIX века принадлежали к передовому социал-демократическому опыту. Васнецов этим не занимался и принадлежал к другому направлению: к поэтическому, модернистическому. Он входил в группу так называемых художников русской реалистической школы XIX века. Передвижники – это неправильное название: очень суженное, ограниченное и окончательно идеологизированное. Эта историческая тема разделена на две линии: документальную, как у Ге или у Сурикова, и мифологизированную. Это была эпоха национально-патриотического подъема, только они по-разному это понимали, занимаясь историей и страдая за Родину, и по-разному транслировали то, что понимают.
И Васнецов, и Врубель принадлежали к романтико-мифологическому крылу. Васнецов создал открытку на все времена – картину «Богатыри». Изначально предельно все упростил, до сознания той тетеньки, которая приходила убирать зал, и она стояла, смотрела, и ее охватывала оторопь. Он в этом смысле пошел дальше всех и создавал картины типа «Ой, цветет калина». А вот Врубель – это отдельный разговор, он один из гениальных художников-мыслителей в России. Он создал настоящий романический исторический язык. У Врубеля богатырь – это таинственная фигура, очень неожиданная. И все на его картине мерцает, переливается какими-то удивительными перезвонами и переливами цвета и форм. Представляется образ мифологического духа, Родины и леса. Конечно, это явление в живописи невероятного класса, и не только российского масштаба.
В Третьяковке висит работа Врубеля, портрет его жены. Как он сделан – нарисован или написан – сказать нельзя. Так же, как нельзя сказать, живопись это или графика. Все живописные техники, существующие на свете, перемешаны в этом портрете: уголь, акварель, пастель, живопись, цветная бумага – все! С точки зрения того, как он пишет и что он пишет, его имя можно поставить среди великих художников, начавших движение авангарда, независимо от того, любим мы его или нет. Конечно, кубистом он стал еще до Сезанна. Он открыл выразительность этих особых форм, он шел к своему кубизму откуда-то из витража: необыкновенная вещь – цветные кубики, все мерцает. Но Врубель такой был один, он был гений, но кончил в сумасшедшем доме. А Репин со своей идеей дожил до глубокой старости в Финляндии. Его гениально описывает Бунин: их споры, разногласия, их стремление к социальной справедливости и мечту о духовном преображении. Все это мешало им быть настоящими художниками. Они брали на себя очень многое, принимая роль философов, идеологов.
Православный иконостас и западная книжная культура
Посмотрим на икону «Спас в силах» ростовской школы конца XV века. Эта икона была сделана величайшими мастерами необычайного артистизма. Она представляет собой центр иконостаса – его сердце.
Центром всей композиции иконостаса является изображение «Христос в силах». Вокруг него по обе стороны располагаются Богородица, Иоанн Креститель, святое воинство и апостолы. Они представляют сердце деисусного чина. Христос всегда сидит фронтально и не смотрит на тех, кто его окружает. В руках у Него открытая книга судеб человеческих. Это есть онтологическое время, финальное, когда придет Страшный суд. В достаточной степени сложное время, касающееся истории, начала и финала. Когда оно наступит – никто не знает. Поэтому книга и открыта: мы себя приготовляем для этого.
Вспомним предание о сивиллиных книгах. Оно относится к дореспубликанской истории Рима. Однажды к великому царю явилась старуха – высокая женщина с кожей, похожей на коричневый пергамент. И шел рядом с ней кто-то, кто был мал ростом и похож на дитя, но у него была большая седая борода. И волочил этот кто-то за собой книги. Эта старуха объяснила царю, что в этих книгах запечатлена история человечества с ее финалом, история государств и судеб. Царь уставился на них и говорит: «Почем?» Старуха назвала цену, и царь сказал: «Ого! Таких сумм у меня нет». Старуха развернулась и ушла. Отойдя подальше от дворца, она стала жечь книги. Тогда царь вернул старуху и говорит: «Сколько?» Она называет еще бо́льшую сумму. Царь отказывается, и она опять начинает сжигать книги. Тот опять ее возвращает. Так повторялось несколько раз, пока в ее руках не осталось две или три книги. В библиотеке Ватикана находятся две книги, и всем известно, что это сивиллины книги, и никто не имеет права доступа к ним.
Нельзя сказать, что то, что Он держит в руках, и есть одна из сивиллиных книг, но это что-то подобное. Есть некая запись, и мало людей имеет к ней доступ: это великая тайна, которую нельзя знать. То, что Он помещен внутри деисусного чина, является откровением. И в отличие от всех остальных, Он изображен явившимся из другого пространства. Это пространство обозначено, и мы можем насчитать некоторое количество этих пространств: на этой иконе их четыре. Фигура, в которую Он помещен, называется «незримое присутствие». Он присутствует, но незримо: мы не видим Его.
Эта икона очень глубокая – и по содержанию, и по философскому значению. Если рассматривать ее как художественно-формальное изображение, то становится понятно, почему в России находится величайшая точка авангарда. Если мы представим себе, что здесь нет Иисуса, а есть что-то другое, то мы увидим примитивизм в чистом виде. Традиция – это более глубокая вещь, чем мы думаем. Искусство существует как рожденная временем гласность самих себя. Русское искусство скорбит и болеет за все человечество.
Посмотрим теперь на иконостас – высшую точку сакрально-философского и религиозного содержания – с точки зрения современного искусства.
«Троица» Андрея Рублева – это одна из самых великих наших икон и одно из самых великих мировых произведений. Почему мировых? Так же, как Давид принят православной церковью, так и «Троица» принята католицизмом. Именно рублевская, а не какая-то другая. Это всечеловеческое явление и по сей день. До Андрея Рублева Троица входит в иконостас как праздник и является главным символом веры.
Существует ветхозаветная Троица, имеющая два ряда изображения: самой Троицы под Мамврийским дубом и исторический ряд, в котором изображены Авраам, Сара и слуга, закалывающий жертвенного агнца. Ветхозаветная Троица дает сюжет, относящийся к ветхозаветному ряду. «Троица» Рублева, согласно записи, появилась, когда умер Сергий Радонежский, «во славу преподобного Сергия». Сергий нес собой идею объединения, и не только политического. Он был главным идеологом.
Это была заказная работа. И икона Рублева была одним из самых радикальных и авангардных поступков в истории искусства. Он самолично реформировал канон, который трогать нельзя. Он был смелым радикальным реформатором. И это называется канон Рублева, который был допущен на правах с ветхозаветной Троицей и утвержден Верховным собором. Она не похожа на ветхозаветную Троицу, потому что Рублев вернул этому канону не рассказ о Аврааме и Саре, а вернул ему изначальное понятие. Это случай уникальный: изображение не события, ставшего иконой, а чистого понятия. Ведь что есть Троица? Троица есть единство, неделимость и неслиянность.
Как выражаются эти понятия изобразительно? Понятие единосущности выражается в том, что, когда вы проводите черту по головам Троицы, то получается некая арка, в которой они заключены. Эта икона считается произведением искусства, потому что глубочайшее религиозное и мифическое содержание единосущности является понятием чисто внешним. Понятием коллегиальным, коллективным.
А вот неделимость – это понятие внутреннее. Оно – суть единства. Самое гениальное – это то, как Рублев определял неделимость. Это их единая сущность, и они сами есть жертвенные чаши. Композиция асимметрична. Троица должна иметь на столе трапезу: три чашки, три вилки, вино, хлеб. Здесь ничего нет. Это не чашка, стоящая перед ними, и не пиала, а чаша – символ, имеющий совсем другой смысл. Они не только неделимы, Троица – это понятие жизненной чаши. А внутри чаши что? Кровь. Цвет, идущий по всей иконе.
Рублев ничего не боялся. Он был убежден в своей правоте и дал понять, что он ни с кем не спорит и ничего не опровергает, он просто по-другому делает икону. Если перевернуть ее, то вы увидите форму колокола. Это еще одна тема – тема набата, Господнего набата.
Что касается неслиянности, то тут надо обратить внимание на то, как они сидят: они сферически вогнуты. И посмотрите на цвета. Этот голубой цвет называется «голубец», и Рублев вводит этот голубец в икону. О красках иконы замечательно написал отец Павел Флоренский. Он сказал, что цвет – есть рассказ об иконе. «Спас в силах» – там цвета власти, а здесь ведущим цветом является голубец – свет духа. Они и чаша, и набат одновременно, и делимы, и неделимы. И небо, и этот цвет объединительны. Правая фигура: зелень с голубцом. Зелень – это цвет тварности. Соединение тварности с голубцом – это одушевленно-одухотворенная деятельная природа, начало Бога-Отца. На второй фигуре плащ-голубец. Цвет земли связать с цветом жертвы – получается цвет Сына, и он является центральной фигурой. А вот фигура слева – легкая, в непонятном золотисто-прозрачном плаще. Его нельзя физически осязать. Это и есть «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Есть неделимость и есть триединство. Эту икону писала искуснейшая рука художника-виртуоза. Музыкальные линии одежды, выражающие Дух.
Всякое авторство в религиозных культурах должно быть растворено, произведения анонимны. Авторство появляется на Западе в XIV веке – как имя. Искусству дал имя Джотто. Это понятие, прямо противоположное анонимности. Анонимное искусство – это я, растворенный в идее жизни, а если я и есть мое имя, то это я отвечаю за то, что изображаю. Если художник пишет про Египет, то он как бы говорит: «Не обязательно, что так и есть. Это мне кажется, что так было. Это мое восприятие. Я – Джотто и думаю так!»
И вместо иконы появляется картина, где я – автор, режиссер и исполнитель. Я вам все исполнил, придумал и изобразил. Вариантов сколько угодно! Двери открыты.
Обратимся теперь к европейской книжной иллюстрации. Здесь можно увидеть фривольный сюжет: герои обнимаются, целуются. Над ними цветет куст, они вдыхают его аромат. У него на кисти сидит птица. О чем здесь идет речь? Это знаменитейший трубадур, который думал, что он охотник, а стал жертвой, – история о земных страстях человеческих.
Начиная с XII века появляются книжные иллюстрации и намечаются два пути и совершенно разные культуры. Россия, в отличие от Запада, не была книжной страной, вплоть до XIX века. Западники являются книжниками и создают книжную индустрию, в которой работают большие цеха переписчиков, существующие при всех университетах. Они являются частью цеха каменщиков. Это целая армия людей, получивших специальное образование.
Все зажиточные горожане имели собственные библиотеки. Библиотеки были благосостоянием, и владельца библиотеки считали состоятельным человеком. По его книгам оценивалось состояние. Собирать библиотеку – это входило в традицию раннего средневековья. Библиотеки были фантастические.
В XV веке выходит книга, которая называется «Смерть Артура». Она описывает с картинками Круглый стол и все фигуры, которые окружали Артура, дуэльный кодекс, который продержался до XIX века, – кодекс короля Артура. Там сказано, как должны вести себя рыцари на дуэлях, как они жили в замках, чем они занимались, как они одевались.
Есть книга, которая описывает нравы, материальную культуру и жизнь бургундского двора. Что такое бургундский двор? Бургундия тогда была независимым государством. У них были ткани, обувь, драгоценности, которые поставляли им Нидерланды, – их вотчина. А сама Бургундия была просто аристократической силой, законодателем. Тогда это называлось законодательством куртуазного мира. На иллюстрациях видно, как шикарно одевались дамы… а мужчины еще шикарнее! Можно рассмотреть, какие у них башмаки: они имели такой длинный мыс, что его иногда привязывали к кольцу, которое надевалось на палец, чтобы этот мыс поддерживать. Можно сказать, сами себя держали на ногах. Бургундцы определяли моду. В книге описаны их замки, то, как они едят, как спят. Еще они показывали сельскохозяйственные работы. От средних веков у нас частично осталась архитектура, а вот следы повседневной культуры находятся в музеях – пуговицы, браслеты… Но чтобы мы могли видеть историческую картину жизни, надо разглядывать иллюстрации. За ними стоит армия художников, те, кто делал краски, и т. д. Так что это была книжная цивилизация, так же, как наше время называют компьютерной цивилизацией.
Особый интерес в те далекие времена вызывала флористика. Это были просветительские ботанические книги. Флористика заменяла собой орнамент, это главная орнаментальная область того времени. Она была принята всюду и означала бесконечную радость бытия.
Прикладное искусство достигало высочайшего уровня. В Италии любили разукрашивать мебель. Ее расписывали разными изображениями – в зависимости от того, что там хранилось: штаны, платья и прочее. Отдельным направлением искусства были гобелены. Они как бы вобрали в себя флористику, и на них можно увидеть удивительные изображения цветов.
В книгах этот аспект культуры обычно опускают. Что есть художественная деятельность? Это прежде всего художественная цеховая индустрия, образы той цивилизации – выпавшая часть истории.
Мы всегда поставляли на Запад сырье: пушнину, лес, речной жемчуг. На Западе сырье обрабатывали, создавали продукт и продавали нам. Изменилось ли что-нибудь с того времени? Какая интересная вещь, которая не может быть духовной традицией…
Великий авангардист Андрей Рублев
Гений Андрея Рублева сегодня овеян великой славой отечественной и мировой культуры. Гений вообще предмет таинственный и анонимный. А Андрей Рублев был художником средневековым, чернецом, иноком, то есть человеком, который принципиально спрятал свое имя за растворенностью в иноческом имени – Андрей. И тем не менее и имя его, и работы дошли до нас.
Это настоящее чудо. Существует общепринятое мнение, что мы очень мало знаем о нем, что сведения чрезвычайно скудны. Но на самом деле они не только не скудны, но подлинным чудом является то, что мы знаем довольно много. Не только о его биографии, но еще более о его личности, что, может быть, для нашей темы значительно важнее. Существует общее мнение, что Андрей Рублев принадлежал к московской школе, то есть он происхождением своим был как-то связан с Москвой, хотя точно мы этого сказать не можем. А вот то, что он был выходцем из Троице-Сергиевой лавры, – вот это, безусловно, так. Вероятно, Андрей Рублев принял там постриг, был тесно связан с Никоном и Лаврой: работал там неоднократно, и собственно «Троица» также была написана в иконостас Троице-Сергиевой лавры.
Первое документальное упоминание об Андрее Рублеве относится к 1405 году. Андрей Рублев, который по исследованиям родился в 1360 или 1370 году, был уже человеком немолодым, ему уже было более 30 лет. Свидетельство 1405 года очень интересно. Троицкая летопись гласит: «Тое же весны почаша подписывати церковь Благовещение на князя великого дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета кончаша ю».
Это свидетельство имеет очень глубокое содержание. Во-первых, надо обратить внимание на то, что это была церковь великого князя. А кто тогда был великим князем? И вообще, что такое великий князь в Москве в 1405 году? Это был Василий I, сын Дмитрия Донского. О нем обычно говорят как-то вскользь, хотя это был человек незаурядный. И для того времени, и для жизни Андрея Рублева он сыграл очень большую роль, потому что Василий I был первым великим князем московским.
До него были просто московские князья. Отец же его, Дмитрий Донской, был владимирским князем, а не князем московским. И Василий I, когда получил этот титул, был венчан великим князем московским: это означало, что он как бы царь московский. Это человек, с которым связано было безусловное общественное и политическое возвышение Москвы под его эгидой. Он был довольно значительным полководцем своего времени.
Когда князь Дмитрий Донской в 1380 году одержал победу на Куликовом поле, это не означало, что татары прекратили набеги на Русь. Набеги продолжались, они очень портили жизнь, и Андрей Рублев был их свидетелем. Кроме того, сами российские князья между собой не ладили. Ситуация была крайне напряженная. Фильм Тарковского «Андрей Рублев» – величайшее художественное размышление, величайшее художественное свидетельство через века. Тарковский показывает и татарское нашествие, и великие братоубийственные распри.
Но все же Василий I сумел присоединить к Москве много земель. Он присоединил северные земли, Нижегородское и Муромское княжества, земли коми. У него были свои отношения с Литвой, он был женат на Софии, дочери литовского князя Витовта. И еще он был строителем. Это был просвещенный для того времени человек, волевой и властный. Человек, способствовавший не только возвышению Москвы, но и формированию вокруг Москвы больших земель. Именно Василий I в Кремле поставил свою церковь – Благовещенскую, и расписывать эту церковь пригласил тех людей, которые уже были хорошо известны как великие художники. Троицкая летопись перечисляет их имена.
И это прежде всего, конечно, Феофан иконник Гречин. Он не был лицом духовным, он был светским человеком. Он работал в Константинополе, потом в Феодосии, потом в Великом Новгороде, а потом он работал в Москве. Это было первое имя в России. Греческих византийских мастеров в России было очень много, было целое греческое или византийское подворье, они имели свою большую школу, свое письмо. Но Феофан Грек был все равно совершенно особенным человеком: он не только был знаменитым художником, но он был очень знаменитой личностью. Как в наше время ходят смотреть картины великих художников, так в то время люди приходили смотреть на иконы Феофана Грека. Особенно прославились его росписи в Новгороде.
В Новгороде Феофан Грек расписал много церквей: и Рождества Богородицы, и Федора Стратилата. Но самые интересные фрески находятся в Церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Они сохранились и доныне, их удачно реставрировали.
Среди росписей в церкви Федора Стратилата есть одна очень интересная фреска – это изображение старца, отшельника Макария, который жил в IV веке н. э. Феофан Грек пришел в Москву уже после Новгорода и осел там.
Тарковский в своем фильме очень большое внимание уделяет отношениям Феофана Грека с Андреем Рублевым, он показывает их диспут. Он показывает, с одной стороны, их признание одного другим, их художественное равенство, а с другой стороны, показывает их диспуты и исповедальческие отношения. По всей вероятности, все это действительно так и было, потому что в Троицкой летописи очень интересно перечислены художники: сначала написан Феофан Грек, потом старец с Городца, а уже потом Андрей Рублев.
Одним из самых фундаментальных исследований является книга Виктора Никитича Лазарева о Рублеве. Лазарев пишет, что, вероятно, Андрей Рублев был самым молодым. Прохор был старше, чем он (не случайно он назван старцем), и будто бы Прохор привел с собой Андрея Рублева. Не был ли Андрей Рублев учеником того самого Прохора? А вот то, что Феофан Грек взял именно эту артельную бригаду, а не какую-либо другую, точно свидетельствует о том, что Рублева он ставил рядом с собой, как и Прохора с Городца. Феофан, первая кисть того времени, не стал бы так просто работать над росписью каменной церкви Благовещения самого Василия I, великого князя. И поэтому эта запись в летописи такая короткая. Если в нее вдуматься, она перед нами открывает очень интересную картину жизни, отношений между людьми. Так что же делали эти люди – и Феофан Грек, и Прохор с Городца, и Андрей Рублев – внутри церкви Благовещения? Тем более, в летописи сказано, что летом того же года и закончили, то есть работали они только полгода, а сделали очень много. Когда говорили о том, что художники пишут церковь, это означало, что они делают и фрески, и иконы. В церкви Благовещения впервые в России был полностью расписан и сложен иконостас
До Благовещенской церкви полного иконостаса не было нигде – ни в России, ни тем паче в Константинополе, ни в Балканских странах (в Сербии или Болгарии), где в это время расцветала средневековая живопись. Как и почему сложился этот иконостас? Вряд ли мы можем ответить на этот вопрос. Но иконостас был создан – иконостас как чин, как определенный философский, смысловой даже мистический порядок распределения икон. И после церкви Благовещения иконы всегда именно так распределяются в иконостасе.
Иконостас имеет как бы членораздельность: он очень точно расчленен, у него есть центральная ось симметрии, и по этой центральной вертикальной оси симметрии всегда помещается одна и та же икона – «Спас в силах». Спас как изображение Христа в день Страшного суда: Он сидит в полный рост, смотрит вперед, на левую стену храма, где всегда изображен Страшный суд. У Него в руках открытая книга человеческих судеб. И он как бы незримо присутствует среди нас. Справа и слева от Него помещаются Богородица в определенной позе, с протянутыми к нему руками, Иоанн Креститель, их охрана, Святое воинство, архангел Михаил и архангел Гавриил. И далее разворачивается деисусный чин, который обращается к Спасителю с молением («деисис» в переводе с греческого и означает «моление»): они заступники за людей в день Страшного суда.
Третий ряд иконостаса – праздничный ряд. В России было принято изображать иконы православными праздниками, потому что к этому времени, по-видимому, уже сложился чин, литургия, сложилась служба. Уже были определены православные праздники. В нижнем ряду расположена икона, принадлежащая этому храму. Иконы переносные, но это все входит в трехъярусное или пятиярусное членение иконостаса, разделенного на правую и левую часть, на сильную и слабую.
Не будем сейчас рассматривать иконостас в подробностях, просто обратим внимание на то, что, по всей вероятности, впервые этот иконостас был создан в Благовещенском соборе. И он до нас дошел таким, каким он был сотворен этими художниками. Это настоящий переворот в искусстве, великое событие, потому что внутреннее содержание церкви приобрело дополнительно очень важную часть. Это весь божественный мир, обращенный к человеку: он смотрит на человека, и человек предстает перед ним. Может быть, именно с этого момента начинает развиваться древнерусская живопись. Не только фреска, но и живопись, потому что каждой большой церкви требуется свой иконостас со всеми его элементами.
Происходят удивительные события: Россия становится великокняжеским городом, Василий I – держателем сильной власти. В этом городе работают великие художники, и эти художники просто настоящие новаторы. Запись об Андрее Рублеве, связанная с Благовещенским собором, уже свидетельствует о нем не только как о художнике зрелом, но и как о художнике абсолютно необычном, участвовавшем в экстраординарном художественном событии. Конечно же, он был знаменит в свое время. Трудно сказать, как он относился к своей славе. «Кто знает, что такое слава!» – говорил Пушкин. Рублев был художником Средних веков, кистью в руках Бога. Кто может сказать, как он к этой славе относился? Никак, по всей вероятности, коль скоро он был монахом.
Надо еще сказать несколько слов об очень важном внутреннем союзе между людьми, которые вместе работали: между Феофаном Греком и Рублевым. Они были единомышленниками не только в работе над иконостасом, они были единомышленниками гораздо более глубокого толка, потому что все были связаны, вне всякого сомнения, с неким духовным центром.
Тогда духовным центром России был Радонеж, Сергий Радонежский. Очень жаль, что этой фигуре не уделяется достаточно внимания в русской истории, а ведь это одна из величайших фигур. Он был гениальным человеком. Он был не просто создателем Сергиевой обители, он был философом, и очень глубоким. Он был идеологом и общественно-политическим деятелем, потому что он был напрямую связан с Дмитрием Донским. Сергий Радонежский давал своих монахов для Куликовской битвы, он был связан со всей семьей Дмитрия Донского, с Юрием Звенигородским, с Андреем Рублевым. Его наследником был его ученик Никон Радонежский. Более того, у него была школа – единоверцы, единомышленники, люди одного с ним представления о том, что надо делать, как надо жить. Это были и преподобный Савва, основатель Саввино-Сторожевского монастыря, и Андроник, который создал и заложил Андроников монастырь. Между прочим, Андроников монастырь был очень стратегически важным местом в России: через ворота этого монастыря люди уходили в Орду, через эти ворота Дмитрий Донской после Куликовской битвы въезжал в Москву.
Андрей Рублев был также связан со Звенигородом, Саввой, Юрием Звенигородским и с Андрониковым монастырем, где он, может быть, умер, и где находится храм, который, вероятно, расписывал. Андрей Рублев был связан с Феофаном Греком.
Учеником и сподвижником Сергия Радонежского был Кирилл, создатель Кирилло-Белозерского монастыря. Он вез из Москвы книги, и среди них, как известно, была греческая книга по физике. Это были широко образованные и глубоко мыслящие люди.
Внутренняя связь между ними, внутренняя философия их отношений была еще более глубокой, чем то, о чем мы говорим. Достаточно широко известно, что и Сергий Радонежский, и Феофан Грек, и Андрей Рублев исповедовали особо высокую духовную практику. Эта духовная практика называется исихазм. По всей вероятности, они были связаны именно с исихазмом, потому что эта духовная практика имеет своими корнями раннее византийство. Одним из ее основателей был как раз тот самый Макарий, образ которого написал Феофан Грек на стене Церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде, очень редкое изображение в России. Сформулировал эти идеи некто Григорий Палама, который жил в Византии на рубеже XIII–XIV веков.
Что такое исихазм? Переводят его по-разному, но в общем-то это слово означает «молчание», то есть очень большая внутренняя сосредоточенность. Андрей Рублев в фильме у Тарковского молчал много лет. Правда, это молчание Андрей Арсеньевич аргументирует тем, что Рублев убил человека, который хотел обесчестить юродивую девушку. Но на самом деле молчание было в практике исихазма. Это молчание ведет к глубокой, очень духовной умной молитве, как они говорили, очень глубокому сосредоточению. Вообще исихазм проповедует самый высокий нравственный образ жизни. Это не только аскетизм, не только молчание, но и определенного типа поведение людей в обществе: повышенная ответственность за все, что они делают, контроль над всеми поступками.
Житийная литература о Сергии Радонежском говорит о том, что его, как и святого Франциска Ассизского, привечали все звери: и медведи, и лиса, и волк – все приходили к нему. В нем была такая энергия, такая духовная сила, сила притяжения всего вокруг, что даже зверь лютый, даже лиса, даже волк приходили к нему поесть хлеба на пне, сесть около него. Это тема взаимного притяжения, взаимного согласия, взаимного понимания, примера, который давали эти люди своим подвижничеством, своим поведением, своей несуетной речью, своим молчанием, а не ложным болтливым словом.
Как оно было тогда необходимо, и как этот исихазм необходим сейчас… Он необходим всегда, но особенно – в лихолетье, в эпоху тяжелых внутренних распадов и розни, когда брат идет на брата, когда один брат приводит татар для того, чтобы истребить другого брата. Русский князь ослепляет Василия II, выкалывает ему глаза, и тот становится Василием Темным… В такой ситуации требуются очень высокие примеры. И Андрей Рублев принадлежал к числу людей, которые исповедовали самый жесткий, самый высокий, самый требовательный к себе образ жизни. Это был такой противовес расхлябанности, разъезженности не только дорог, но разъезженности душ.
Поэтому, когда мы сейчас говорим о исихазме или об особых духовных практиках, в этом нет ничего напоминающего ереси, наоборот, это было тогда абсолютно необходимо. Самые светлые умы, самые большие политические деятели – те, кто призывали к единению, и те, кто призывали к пониманию, и те, кто хотел убедить других в том, что необходимо это согласие, необходимо это единение не только против внешнего врага, но против главного врага, того, который сидит внутри тебя. Они, конечно, следовали тем максимально высоким правилам, которые давала эта практика. Ее придерживались и Феофан, и Савва, и Кирилл, и Никон. Ее носителем был Сергий Радонежский. И вне всякого сомнения, она имела очень большое значение для личности и творчества Андрея Рублева.
Итак, летом 1405 года иконостас Благовещенского собора был закончен – великое событие и переломный момент в истории русского искусства. А дальше известно еще одно событие, о котором также существует свидетельство в той же самой Троицкой летописи. Это свидетельство, которое относится к 1408 году, говорит о том, что был Рублев приглашен во Владимир для росписи собора Пресвятой Богородицы, а именно Успенского собора, кафедрального собора во Владимире.
Вот фрагмент из летописи, который говорит об этом приглашении: «Того же лета мая в 25 начаша подписывати церковь каменную великую соборную святая Богородица иже во Владимире повелением князя Великого, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев».
И опять на расшифровке этого свидетельства Троицкой летописи стоит остановиться, потому что Прохор с Городца исчез из жизни Андрея и впервые появляется имя Даниила – его соавтора, его друга, человека, с которым он работал уже до конца своих дней. Имя Прохора больше не возникает, а вот Андрей и Даниил Черный создают артель, такую артельную корпорацию, с которой работают долгие годы. А впервые они начали работать с Даниилом во Владимире. Как раз фильм Тарковского во многом относится к росписям во Владимире и к татарскому нашествию в это время. На росписях во Владимире подробно останавливаться не будем, но кое-что сказать об этом надо.
Необходимо помнить, что Успенский собор во Владимире – это очень важное место. Он был поставлен в XII веке, до татарского нашествия на Русь, когда владимиро-суздальские князья мыслили себе Владимир как столицу и церковный центр для собирания русских земель. Этим занимались и Андрей Боголюбский, и Всеволод Большое Гнездо: они собирали все силы, все земли, они имели большие посольства в мире вокруг Владимира. И как знать, если бы не татарское нашествие, не был бы столицей России именно город Владимир? Но история свершилась иначе. И к тому моменту, когда Андрей Рублев работал в Москве, Владимир был уже городом бывшей славы, бывшим центром, и Василий был последним владимирским династическим князем. Но именно по образцу Успенского собора во Владимире, по его архитектурному эталону Аристотель Фьораванти построил в Москве главный кафедральный собор: Успенский собор в Кремле сделан точно по канонам владимирского собора.
И расписывать собор во Владимире – это была не только очень большая честь. Не могли поручить роспись этого собора художнику второй категории: конечно, это должен быть Андрей Рублев. Его имя уже понятно России, его гений художника уже оценен. И они с Даниилом Черным и с артелью проделали очень большую работу во владимирском Успенском соборе. Это кафедральный собор, это большой собор. Как сейчас больно смотреть на остатки фресок… Иконостас, который они с Даниилом писали, давно вывезен в Третьяковскую галерею. Фрески эти удивительные: есть в Рублеве особая художественная интонация, неземное чувство прекрасного, какая-то небесная гармония. И в цветовом, и особенно в графическом рисунке всех его композиций, на сценах Страшного суда, которые написаны на стене Успенского собора. Эти большелобые удивленные старцы судьи, они как бы есть и их как бы нет, они как видение божественного мира, они проступают к нам через стены. Такое впечатление, что они живут на грани двух миров: нашего и неведомого для нас. Возможно, так кажется из-за того, что прошло много времени и фрески эти реставрировались неоднократно, но впечатление они производят необыкновенное – трепетное, волнующее. Мы дышим и зажигаем свечи, а они гибнут, а они исчезают. Где решение вопроса? Закрыть церковь, соскоблить их со стен, дать им уйти, бесконечно реставрировать? Вопрос остается открытым. Но мы должны помнить: то, что именно Андрей Рублев и Даниил Черный работали в Успенском соборе – это безусловный факт. И то, что абы кто эту церковь расписывать не будет, – это тоже безусловный факт.
Андрей Арсеньевич Тарковский очень интересно рассказывает о татарском набеге, о княжьем предательстве, о великом стоицизме людей, обо всей этой атмосфере – гениальности, беспощадности, нищете, богатстве. Он удивительно емко все это передал. Люди, которые заказывали этим великим художникам свои соборы, потом выкалывали им глаза, чтоб они не сделали то же самое кому-либо другому. Когда эти мастера по белокаменной резьбе говорят: мы в Звенигород идем, к твоему брату, а им выкалывают глаза. Пусть никто больше не имеет того, что имеет заказчик! Противовес должен быть обязательно, и этим противовесом всегда является гений. И то, что нес на своих плечах художник того времени, – это было просто невероятно. Это пробивание времени сквозь века: искусство есть единственное, чем побеждается смерть.
Андрей заканчивает росписи во Владимире, и потом происходит набег хана Едигея. Тогда очень пострадала Троице-Сергиева лавра, очень пострадала колыбель Радонежа, был сожжен Троицкий собор. «Троица» была написана для Троицкого собора, почитание Троицы Сергием Радонежским – это почитание подлинного и основного Символа православной веры, принятого еще в 325 году Никейским собором. И Сергий Радонежский держится этих установок на единосущность – во имя Отца и Сына и Святого Духа. Равноправие, единство, взаимопроникновение, это абсолютное мистическое, божественное, религиозное, высшее согласие, которое должно быть отражено на Земле.
Свидетельства о жизни Андрея Рублева путаются. Есть версия, которой придерживается Виктор Никитич Лазарев: после того как хан Едигей разрушил и разорил Троице-Сергиеву обитель, была поставлена каменная церковь Троицы, которая стоит до сих пор. То есть церковь, которая стоит сегодня с мощами Сергия Радонежского, была построена после нашествия хана Едигея. И тогда Даниил Черный и Андрей Рублев были приглашены Никоном, верным учеником Сергия Радонежского, его единомышленником, для росписи Троицкой церкви. Виктор Никитич Лазарев считает, что Андрей Рублев начал расписывать ее следом за собором во Владимире. Но есть и другая версия, по которой церковь он расписывает примерно в 1425–1427 годах. Тут какой-то провал во времени – между 1409–1410 и 1425-м годами, это очень большой провал. Но некоторые исследователи творчества Рублева считают, что он по приглашению Юрия Дмитриевича Звенигородского расписывал церковь в Звенигороде. И результат его работы есть, потому что сохранились три створки поясного Звенигородского чина.
Трудно сказать, когда была написана «Троица». Возможно, что после того, как был поставлен Троицкий собор – год спустя, потому что должна была произойти усадка, а уже потом был написан Звенигородский чин. Возможно и то, что Звенигородский чин относится к более раннему времени.
Во всяком случае, стоит поговорить о звенигородском чине до того, как мы обратимся к «Троице». С Юрием Звенигородским Андрей Рублев был связан очень близко – точно так же, как Юрий Звенигородский был связан с Никоном. Юрию было пятнадцать лет, когда он получил благословение в Троице-Сергиевой Лавре, он даже хотел стать монахом, но его отговорили от этого решения, и он жил постоянно в Звенигороде. Звенигород был чем-то вроде виллы Медичи – культурным центром того времени, центром просвещения. Юрий все время поддерживал связь с Лаврой, он был духовным сыном Никона. Более того, он вместе с Саввой строил Саввино-Сторожевский монастырь и его соборы. Он очень радел о процветании своей земли, об искусстве. И когда Никон начал восстанавливать в Троице-Сергиевой лавре Троицкий собор, то деньги на восстановление дал именно Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский.
Между этими людьми была связь, которую мы бы сейчас назвали единомышленной, они были глубоко связаны внутренними убеждениями. Если выражаться в современных терминах, это были люди, которые очень хотели мира на своей земле. Это люди, которые были – не хочется говорить слово «патриотами», его сейчас как-то трудно произносить… Скажем иначе: это были люди, которые так радели о процветании своей земли, они так хотели ее образования, они так хотели ее процветания, что, когда всматриваешься в эти вековые лица, в их действия, ты осознаешь: это были очень современные люди, понятные нам. Тому времени нужны были подвижники, которые подавали бы пример своим поведением, своими поступками – как должно вести себя в этих сложных внутриутробных междоусобицах. Такие люди и сейчас нужны. Не то чтобы ничего не изменилось, но когда наступает лихолетье, нужны такие люди, какими были Андрей Рублев и его товарищи: они не только хорошо друг друга знали и доверяли друг другу, они не бражничали, они понимали, что нужно делать. Они были великими людьми высокого долга перед собственной совестью и перед своей жизнью, перед своими деяниями.
Юрий Звенигородский создал у себя замечательную резиденцию, и Звенигородский чин, который остался от Андрея Рублева, состоял, по всей вероятности, из семи створок – погрудных, больших. Три из них сейчас находятся в Третьяковской галерее: это архангел Михаил, это «Спас» – центральная часть и это изображение апостола Павла.
Итак, мы будем считать, что Андрей Рублев со своей артелью гостил у князя Звенигородского, своего друга, своего духовного соратника, и расписывал там храм Успения Богородицы.
Хотелось бы несколько слов сказать о том, какое количество церквей тогда в России было связано с богородичным культом. Это ведь тоже не случайно. Владимирский собор, Покрова на Нерли, Успенский собор, церковь Благовещения, церковь Рождества Богородицы – это все церкви, связанные с культом Богородицы, с культом женским, нежным, с культом любви. Не крови, не рати, а любви высокой, любви небесной, любви матери к сыну своему, любви матери, отдавшей в жертву сына своего. И это очень красиво, когда церковь называется именем Богородицы. В этом стремлении окрестить церковь, связать ее с женским началом есть попытка умирить, умиротворить, утихомирить разъяренных и одичавших людей.
Мы очень часто формально просматриваем историю, а ведь всегда за тем, что нам известно, стоит еще один текст, еще одно содержание. Мы совершенно не можем взором своим прорубить эту толщу времен, у нас существуют привычные сложившиеся стереотипы. Великая заслуга Андрея Арсеньевича Тарковского заключалась в том, что он попытался оставить рентгеновский снимок России. Он пытался воссоздать свой мир, свой образ России конца XVI – начала XV веков. Конечно, он был человеком XX века. Для него тема художника и истории, тема художника и власти была, разумеется, темой наиглавнейшей. Андрей Рублев не был придворным художником, но все-таки, хотя слова «придворный» для него и не существовало, он был связан всегда с большими великокняжескими заказами. Но это были люди, которые с ним мыслили одинаково. Они не были просто властелинами, а он не был просто чернецом. Он был послушником в Троице-Сергиевой лавре, в послушании у Никона, а как человек и как художник он держался на уровне самого высокого достоинства.
Вопрос о датировке – сложная проблема, которую нам трудно решить до конца. Книга призвана выяснить какие-то факты, сверить их, создать какую-то достоверность. Будем так считать, согласно неким соображениям, что Звенигородский чин был сделан до «Троицы».
Звенигородский чин был найден в сарае в 1918 году. В сарае! Столько веков где-то он просуществовал, а найден был в 1918 году в сарае. К 1918–1919 годам при Наркомпросе была создана специальная комиссия под руководством художника, реставратора, собирателя Игоря Эммануиловича Грабаря – комиссия по охране памятников старины и по реставрации. Но до 1918 года прошло много времени, а расписан Звенигородский собор был в XV веке. А что было с этими иконами с 1410 до 1918 года? На этот вопрос совершенно невозможно ответить, но Провидение их сохранило. Мы должны быть счастливы, что они у нас есть. Их могло бы не быть.
Когда вы смотрите на три сохранившиеся поясные иконы деисусного чина Звенигородского собора Успения Богородицы, то сравниваете их с работами иконостаса в Благовещенском соборе и, конечно, с Троицей. Это письмо, эти образы очень близки к тому, что писал Рублев, к его нежной склоненности голов, к тонкому, струящемуся, точному графическому абрису, но они более энергично написаны. У Спаса взгляд, прямо устремленный в глаза вам. Пристальный лик, твердо очерченные скулы. У Андрея Рублева замечательная манера писать глаз, как бы подводить его, выделять. И очень красиво написан архангел Михаил: там насыщенный малиновый цвет, малиново-фиолетовый, с голубым.
Итак, иконы были найдены в сарае в 1918 году – настоящее чудо, что они сохранились. А дальше мы знаем, что Андрей Рублев и Даниил были приглашены Никоном, настоятелем Троице-Сергиевой лавры, учеником Сергия Радонежского, расписывать Троицкую церковь, потому что Никон чувствовал приближение своего конца. Для нас это уже не удивительно. Это уже тогда не вызывало никакого удивления – то, что именно Рублев со своей артелью будет расписывать Троицкую церковь. Они писали все: и фрески, и иконостас. Существует такое мнение, что если Андрей Рублев писал Троицкий собор в 1411–1412 годах, то тогда иконостас был перенесен в новый Троицкий собор. Но другие исследователи думают, что он писал это в 1425–1427 годах. Виктор Никитич Лазарев считает, что в 1425–1427 годах был закатный час Рублева. Может быть, он писал это именно перед смертью Никона в Троицком соборе.
Есть интересные свидетельства. Например, оказывается, в Троице-Сергиевой лавре существовал свой историк. Его называют в одних случаях Прохор, а в других случаях – Пахомий Серб. И вот в летописи, связанной с житием Сергия Радонежского, есть указания именно этого историка Пахомия о том, что именно Андрею Рублеву было поручено написать икону Троицы, похвалу Блаженному Сергию. Существует связь через эту икону, «Троицу», между Андреем Рублевым, Сергием и Троицким собором. Из этого видно, что иконы говорят гораздо о большем, нежели о том, что на них изображено, потому что предметом изображения средневекового искусства всегда является только Евангелие. Для Запада это Ветхий Завет, очень во многом и Новый Завет, а для православия в основном Новый Завет и новозаветные праздники. Но существует разное понимание канона, в нем есть разные детали. За этим каноном прочитывается очень многое, с него можно считывать смысл, как вы считываете его со светской живописи. Он проступает, словно тайные письмена, – отношение художника с миром, к миру.
Феофан Грек написал святого отшельника Макария, заросшего с головы до пят волосами, с узкими черными руками, со светящимися глазами, этого мудреца, мыслителя, отшельника. Почему он его написал? Да потому, что он был духовно связан с линией Макария, самой высокой этикой поведения, высокой практикой. Отшельничество не означает, что человек просто сидит в пустыне и бездельничает. Нет, это особая тренировка души, тела, интеллекта, умной действенной молитвы, глубокого мышления.
Человек, написавший «Троицу», был зрелым человеком, гениальным художником. И еще это был человек какого-то необыкновенно широкого мировоззрения. Именно ему была заказана икона «Троица» во славу преподобного Сергия, и свидетельств об этом очень много. Имя его конкретно через заказчика было связано с именем Сергия. Иконам нельзя давать социально-политический смысл, вообще навязывать искусству наши сегодняшние политические идеи – это неправильно. Но в то же время нельзя сказать, что эти люди были настолько оторваны от своего времени, чтобы быть вообще вне всего. Конечно же, он создавал образ, который должен был бы соответствовать заказу, образу его учителя, его высокому строю души, его очень сильному и мощному действию в жизни.
Сколько уже написано о «Троице»! Трудно сказать что-то новое. И все-таки попробуем еще раз посмотреть на нее и, возможно, приблизиться к ней. Каждый иконостас – малый или великий, тот образец, который был дан в Благовещенском соборе, или тот, который уже совсем раскрыт в Успенском соборе в Кремле – обязательно имеет тему Троицы, это символ веры. Андрей Рублев вместе с Феофаном Греком практически создали иконостас. Иконостасу посвящены многие труды. У отца Павла Флоренского есть большая работа, посвященная иконостасу. Не будем сейчас углубляться в этот вопрос, отметим только, что икона Троицы в иконостасе присутствует обязательно. Существует не только праздник Троицы, но существует Троица как символ веры. И практически всегда до Рублева Троицу писали по совершенно другому канону.
Ее писали абсолютно иначе, по существу иначе, принципиально иначе. Это называется «ветхозаветная Троица». Эта икона повествует. Если икона может повествовать, то эта икона повествует: она имеет свою внутреннюю каноническую драматургию. Внутренний крест делит икону на три части, где нижний ряд отдан ветхозаветному событию. Ветхозаветная тема – большая редкость в православии, но в «Троице» она есть.
Праотцы Авраам и Сара бездетны. Любит Авраам Бога более, чем себя самого, служит ему. Однажды к дому его подошли три путника. Авраам принял их. Он прозрел, он увидал в них посланцев, он омыл им ноги, он служил им. И он, и жена его Сара. Они посадили их за трапезный стол. И он повелел слуге заколоть жертвенного тельца, для того чтобы подать к столу гостям. Поэтому если вы проследите центральную ось в ветхозаветной иконе, то вы увидите сначала внизу изображение слуги.
Но мы знаем, что такое ветхозаветная жертва, связанная с Авраамом и Сарой. Мы знаем, что такое агнец заколотый: ведь потом Господь будет испытывать Авраама. Он повелит ему привести его сына Исаака и принести его в жертву Богу. И Исаак занесет над ним нож, как слуга занес нож над этим агнцем… Господь испытывал Авраама, и Авраам принес в благодарность эту жертву взамен сына своего. Он готов был сына своего Богу отдать, потому что для него это было важнее. И вот эта тема жертвы проходит сквозь эту вертикаль. Подобно тому, как Авраам положил Исаака на жертвенный камень, Отец Сына послал во искупление грехов Адама. И поэтому по центру иконы обязательно центральная фигура среди ангелов, или среди этой Троицы, – Сын Божий. А над ним всегда дуб Мамврийский, потому что мертвый дуб, бесплодный дуб, который олицетворял бесплодие Сары, зацвел после того, как путники ушли, чтобы покарать огнем и сжечь грешные города Содом и Гоморру. Поэтому на иконе изображали ветхозаветный сюжет.
В Третьяковской галерее находится одна псковская икона. Там написано все: и Авраам с Сарой, красиво одетые, и в центре слуга, который закалывает беспощадно агнца, и трапезный стол, на котором чаши, кривые ножички, которым, видимо, ели мясо. И сидят к нам фронтально три ангела – одинаковых, абсолютно единосущных. И над ними символы: и лещадка, и дуб Мамврийский, и дом Авраама – Небесный Иерусалим. Все это написано насыщенным киноварным цветом – цветом славы, жертвы, крови, искупления.
В 1915 году, когда был расцвет открытий и увлечений русской иконой, писатель и поэт Максимилиан Волошин написал замечательную статью для журнала «Аполлон». Называется эта статья «Чему учат иконы». Там Максимилиан Волошин пишет о том, что иконописцы никогда случайно цвет не употребляли. Цвет в иконе всегда символичен, всегда несет еще один смысл. Не только изображение сюжетов и праздников, условное, символическое, каноническое, ликовое, но и цвет имеет очень большое значение. Вот эта икона написана красным цветом, иконной киноварью, это особый цвет, насыщенный, вязкий, густой. И золотые украшения на Саре: она, с одной стороны, написана очень празднично, а с другой стороны – слишком плотно, очень напряженно.
До Андрея Рублева Троицу по-разному писали. Есть, например, ветхозаветная «Троица» московской школы XV века. Какая там изумительная фигура Авраама, изящная, хрупкая, маленькая! И как он держит чашу, которую подносит путникам! Это очень изысканно, изящно написано. Троицу писали по-разному, но это всегда была трехрядовая икона, историко-онтологическим текстом отсылающая нас к теме жертвы. Главной темой в иконе Троицы была тема онтологической жертвы, ее принятия и того, что и Сын Божий также является жертвой. Каким надо было быть художником, будучи иноком и чернецом, какую надо было иметь смелость и внутреннюю свободу для того, чтобы написать эту тему Троицы совершенно иначе, по-другому осмыслить содержание иконы…
Рублев отсекает ветхозаветный ряд и сосредоточивает свое внимание только на изображении Троицы, но уже не путников, а трех фигур. Он сосредоточивает свое внимание на буквальном религиозном определении Троицы, на определении понятия, ибо Троица есть единство, неделимость и неслиянность. Это не сюжет, это понятие, и Рублев пишет Троицу как понятие: эти три ангела формируют это понятие.
По пропорциям эта икона написана удивительно. Престолы, на которых сидят ангелы, идут в край ковчега – и правый, и левый. Троица как бы заполняет собой все внутреннее пространство ковчега. Отмечено всеми исследователями (и Лазарев об этом пишет, и замечательный автор Демина), что основная образная, изобразительная тема этой идеи – это круг, сфера. Законченность, завершенность в космической сфере – единство, неделимость и неслиянность. И мы видим эту сферу, видим ее как бы стереометрически, как будто бы она помещена внутрь. Обратите внимание, что ангелы сидят, их спины упираются в край ковчега. И если мы проследим за этой линией, от спины правого от нас ангела в синем хитоне и в зеленом гиматии (если от иконы, то левого – это как посмотреть, хотя, когда описывают иконы, смотрят от иконы), мы ведем эту линию по плечу. Потом продолжаем ее по голове, до макушки (у них очень странные прически, как клобуки из волос), там линия передается среднему ангелу и чуть склоненной голове от нас левого ангела. Если б он сидел так же выпрямленно, то линия бы провалилась, но она просто точно замыкается и снова уходит в край ковчега. Вот эта сфера или, правильнее сказать, арка, создает ощущение их единства: Отца, Сына, Святого Духа, то есть то, что мы подразумеваем под словом «единосущность».
Если мы на улице сбиваемся в демонстрации, мы едины. Если мы думаем об одном и том же, смотрим в одном и том же направлении, мы едины. Это наше внешнее соитие, наша внешняя слитность, единосущность. Это понятие единства передает композиция иконы. Впрочем, слово «композиция» не очень подходит в этом случае: композиция – это нечто авторское, а это все-таки канон, тем более мистический канон.
Но более всего поражает то, как Рублев трактует другую тему, с каким глубоким проникновением в понятия, изложенные языком графики, языком рисунка, языком искусства. Это тема не единосущности, а неделимости. Понятие делимости/неделимости всегда внутреннее. А как же они неделимы? Проведем линию по голове правого от нас в ангела в зеленом гиматии, через его голову, абрис вогнутого, вовсе не имеющего никакой плоти тела. Затем через колено вниз, потом на колено левого ангела, через него, через голову – линия уперлась в края ковчега, и что мы видим? Мы видим точно вычерченную чашу. Это та чаша, о которой молился Отцу своему Сын в Гефсиманском саду. В роковой момент, когда Он обратился к своему Отцу со словами: «Да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Эта чаша находится в центре композиции «Троицы». У этой чаши чуть-чуть ассиметричная форма: она немножко сдвинута в сторону. Это неправильность, которая обязательно должна быть, неучтенный элемент, который придает всему этому художественное, внутреннее волнение, некий диссонанс. И вместе с тем, когда вы смотрите на предмет, стоящий в центре, вы не скажете «чашка», вы говорите – «Чаша». Именно так, с большой буквы, здесь все с большой буквы. И в чаше жертва, вы видите там жертвенную кровь.
Эта тема связана с сюжетом Тайной вечери, когда Христос говорит о предательстве, а апостолы в ответ: «Не я ли, Господи?» Но он уж их и не слушал, а просто начал создание единства, начал создание церкви, причастил их к чаше с вином. Чаша с вином стала чашей с его кровью, евхаристической чашей, и он каждого причастил через эту евхаристическую чашу. И поэтому эта чаша, которая стоит на столе, есть неделимость. Ангелы не вокруг нее, а они и есть эта чаша и неделимость. Ясно видно ее двойное содержание: центральная фигура, фигура Христа, как бы внутри этой чаши.
С точки зрения искусства это необыкновенно изысканно, изящно, совершенно недосягаемо по тому, как Рублев создал этот образ неделимости и неслиянности, какими лаконичными, простыми средствами, какими прозрачными и текучими линиями.
И наконец, последняя тема – неслиянность, которая для нас совершенно очевидна, потому что три фигуры совершенно по-разному охарактеризованы. Фигура, которая от нас справа, охарактеризована цветом травным, и тем цветом, который объединяет всю икону, знаменитым рублевским голубцом. Даже не говорят «цвет голубой», говорят «цвет – голубец».
Здесь есть вопросы, на которые у нас нет ответа. Например, мы знаем, что все краски, которыми писали художники, разводились на яичном желтке. Основой темперы было не масло, которое было изобретено в XV веке в Нидерландах, как гласит легенда, школой Яна ван Эйка, а желток. Но где же было взять столько яиц, чтоб эти иконостасы писать? Только плохие иконы пишутся на доске, а хорошие иконы пишутся на холсте, холст наклеивается на ковчежную икону рыбным клеем. И покрытие, к сожалению, темнеет, мало какая икона сохраняется до ста лет. В этом тоже одновременно большая трагедия, но и открытие: когда снимаются верхние потемневшие напластования, обнаруживаются внутренние, сияющие, закрытые, сохраненные потемневшим слоем. Откуда бралось столько рыб, чтобы варить из них рыбный клей, и столько яиц, чтобы делать из них краску?
У Тарковского показано, как художники в болоте ищут какие-то специальные камни и корни. Также египтяне между корнями лотоса добывали красители пурпура, а в античные времена краску добывали из специальной железы моллюска. Драгоценнейшие невыцветающие краски, этот голубец – это секрет, это тайна.
Теоретики могут только рассуждать о том, что такое голубец. Отец Павел Флоренский замечательно говорил о цвете как о чистоте, как о выражении нравственности, он говорил это о Рублеве. У Рублева это нравственный цвет, чистый. Вместо густой киновари Рублев предлагает нам лазурь голубца: не киноварь, не тема жертвы, славы, крови, а тема синего голубца, чистого неба, высокого духа. Это тема внеплотского, надмирного, всемирного, тема единого неба, единого голубца. Именно она объединяет все – и Сына, и Отца, и Дух.
На Отце зеленый гиматий. Очень правильно замечает Максимилиан Волошин: зеленый цвет – это цвет тварности, а Отец есть творец всего земного. Он мир сотворил, а Сын создал другой уровень этого мира – он дал ему нравственный закон, научил людей жить правильно. Он показал примером своим, что такое жертва во имя. На Сыне густой голубец – гиматий и хитон замечательного цвета, цвета пьяной вишни. Этот цвет соединяет в себе землю, которой писали (лики, длани и ноги писали землей), и киноварь – цвет земли и крови.
И наконец, Святой Дух. Это смесь голубого и еще какого-то призрачного, неуловимого цвета, который создает нечто совсем уже бесплотное.
Все трое очень индивидуализированы, и в этом выражается неслиянность.
Удивительно, когда исследователи пишут о второстепенных деталях как о второй роли в кино. Здесь нет ничего неважного и второстепенного. Посохи ангелов, один указывает на лещадку. Лещадка – это постоянный средневековый пейзаж. Это Голгофа, это кремнистый путь, о котором писал Лермонтов: «Выхожу один я на дорогу; сквозь туман кремнистый путь блестит». И дуб Мамврийский. Разве это второстепенные детали? Второстепенных деталей нет, их не бывает. Конечно, центром иконы всегда является лик. Икона – ликовая вещь. Но все-таки детали не второстепенны, все они имеют равновеликое значение. Это что-то вроде символизма, хотя слово «символизм» не очень подходит к иконописи. Это некие знаки, это нереальное изображение. Икона – это явление, а не описательное изображение. Она никогда не описывает, это другой способ передачи информации. Поэтому изображение помещено на золотом фоне, из которого все является.
Величайший историк искусства Михаил Михайлович Алпатов написал статью. Он сделал интересное исследование: проследил мотивы драпировок в античности, в византийском искусстве и в древнерусском искусстве. Он показывал эволюцию этих драпировок. И правильно пишут, что есть нечто эллинистическое, неоплатоническое в этой иконе, в воззрениях Рублева, хотя неизвестно, знал ли он это слово, знал ли об учении неоплатоников или нет, видел ли он эти античные драпировки. Наверное, нет, наверное, это драпировки, которые он усвоил из Византии, из византийского текста. Эти драпировки, то, как лежат хитоны, все это – кантиленная музыка линий, то есть бесконечно продолжающаяся, нескончаемая музыка. Мы можем углубляться в религиозное содержание иконы, но если посмотреть на нее как на картину, то и как картина, по своим художественным качествам, она гениальнейшее произведение изобразительного искусства. Это уникальное явление: взять понятие и превратить его в образ, а этот образ сделать до такой степени нежным, трепетным, очищенным, почти звуковым… или наоборот, не звуковым, а выразить в нем молчание, молчание исихазма.
Обратим внимание еще на одну деталь, чисто изобразительную, которая свидетельствует о невероятной художественной искушенности художника. Головы у всех ангелов склонены, а клобуки на них ровные. И от этого создается особая гармония: они не наклоняются вместе с головами. Конечно же, эта икона может быть написана только индивидуально. Она не может быть написана ни с Даниилом Черным, ни с какими сотоварищами и ни с кем другим. И она написана в память о Сергии.
Существует свидетельство одного замечательного человека о смерти Андрея Рублева и Даниила Черного. Они умерли почти одновременно. Об этом написал великий деятель, очень строгий блюститель нравственности Иосиф Волоцкий, живший в конце XV – начале XVI веков. У него есть работа о святых отцах. И в этой работе он пишет: «Ради этого Владыка Христос прославил их и в конечный час смертный. Прежде преставился преподобный Андрей, а потом разболелся и спостник его преподобный Даниил. И находясь при последнем дыхании, увидел он почившего Андрея во многой славе и с радостью призывающего его в вечное и бесконечное блаженство».
Так что, по всей вероятности, Андрей скончался раньше, в 1430 году. А сразу же после него умер его соавтор, друг и вечный спутник Даниил Черный. Есть сведения, что они оба работали в Андрониковом монастыре, расписывали там собор. Раньше там, во дворе монастыря, находился камень, который свидетельствовал о том, что именно здесь, на этом месте, покоится прах Андрея Рублева. Теперь камня там нет, и убрали его вовсе не случайно, а потому что нет уверенности, что он похоронен именно там.
Хотя все сходится на том, что похоронен он в Спасо-Андрониковом монастыре. Жизнь его проходила в Москве, за исключением Владимира, в кругу людей, которые разделяли одни и те же убеждения. И Савва, и Никон, и Сергий, и его сопостник Феофан Грек – это было некое братство. И была великолепная московская школа, которая отчасти возникла под влиянием Андрея Рублева. Это была школа с византийским уклоном, но расцвет национального искусства в конце XIV, в XV и в начале XVI века был великолепный. Московская школа создает не просто школу иконы, она способствует общему художественному расцвету Москвы.
По-видимому, имя Андрея Рублева никогда не было забыто. Есть очень интересный факт XVI века, который свидетельствует о том, сколь почитаемо было это имя в России. Это так называемый Стоглавый собор 1551 года, который был собран, как сейчас бы сказали, по инициативе Ивана Грозного и проходил с февраля до мая, то есть несколько месяцев. Этот Стоглавый собор 1551 года должен был упорядочить церковные дела, церковную службу. И на этом соборе, который был призван к очень серьезной государственной и церковной работе, было сто глав, потому он и назван был Стоглавым. В том числе там были слова, которые относились к Андрею Рублеву, где он был назван Ондрей.
В уставе Стоглавого Собора написано: «Писати иконописцем иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев».
Надо, как обычно, расшифровать, что здесь написано. Стоглавый Собор утвердил канон Андрея Рублева. Как писал Андрей Рублев, так и оставить. И как ветхозаветную Троицу писали греческие мастера – тоже оставить. Вообще в иконописи принято два канона, два типа прописи: и ветхозаветный, и тип Андрея Рублева. И это удивительное событие, когда художник Средних веков является официально признанной точкой отсчета нового направления в искусстве.
Иван Грозный взял икону из Троицкой церкви и одел ее дорогим окладом, таким образом она была спрятана. К этому моменту она уже изрядно потемнела, а он ее спрятал под оклад. А уж Борис Годунов сделал ей драгоценный дар, одел ее необыкновенными золотыми ризами с каменьями, и мы не видели больше иконы, мы видели только лики и длани, все остальное было закрыто, и лики темнели, темнели и темнели.
Собственно, рождение той иконы, которую мы знаем сейчас, постепенное: оно шло с 1904 года по 1925 год. 1904 год вообще считается годом открытия иконы для отечественной и мировой культуры, иконы как абсолютной художественной ценности. Общество, которое прошло через все искусы времени (к 1904 году уже был кубизм и все что угодно), было подготовлено к восприятию необычного для него искусства. Конечно, в 1904 году открытая или освобожденная от позднейших записей икона, созданная определенной школой реставрации, явилась в своей драгоценной красе. И она потрясла мир, она потрясла соотечественников. О ней стали писать. О ней писал не только Волошин, о ней писали Пунин, Грабарь, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Самые большие специалисты писали об иконе.
Икона обрела еще одно качество: предмет религиозно-церковного искусства становится произведением искусства, как картина. Время внесло корректировки, и это, наверное, правильно. Для художников Возрождения и Джотто, и Боттичелли, и Пьеро делла Франческа тоже были иконописцами. Однако мы воспринимаем их картины просто как живопись эпохи Возрождения. Это живопись необычайной красоты и точности, выверенной руки, выверенного глаза, высокого чувства, глубочайшей веры, особого отношения к цвету. И поэтому она оказала огромное влияние на искусство и впечатление производила грандиозное.
Но с иконой «Троица» особая история. Ее расчищали не единожды: в XIX веке чистили несколько раз, и в 1904 году снова отчищали. И особенно большая реставрация была проведена в 1918–1919 годах под руководством комиссии Грабаря. В Третьяковскую галерею эта икона пришла в 1929 году из Загорска, то есть из музея Троице-Сергиевой лавры. И с 1929 года она находится в Третьяковской галерее.
Иконе пришлось многое претерпеть, очень долог ее путь в шестьсот с лишним лет. Доска ветшает, краски, находящиеся под слоями записи, тускнеют, страдают от реставрации. И несмотря ни на что, когда вы входите в зал Третьяковской галереи, вы видите гениальную маленькую икону Успения Богородицы Феофана Грека, с такой глубокой трактовкой этой темы, а потом вы смотрите на «Троицу», – тогда вы понимаете, что вам в жизни повезло: вы видите одно из величайших чудес света.
С Андреем Рублевым связана целая эпоха в московской школе конца XIV – начала XV веков. С именем Андрея Рублева и с именем Феофана Грека связан великий расцвет русской живописи. Иногда даже это время определяют как первый русский ренессанс. И все же для нас Андрей Рублев остается в первую очередь автором великой «Троицы». И какое же чудо то, что до нас дошла не просто икона, а икона, соединенная с именем мастера.
Преображающий свет Феофана Грека
Нам с Феофаном Греком очень повезло. Не только потому, что он работал в России как раз в тот момент, который мы можем условно назвать первым русским ренессансом – на рубеже XIV и XV веков. Нам повезло еще и потому, что он расписал или принимал участие в росписях трех московских кремлевских соборов: Ризоположения, Архангельском и Благовещенском. Последний имеет для нас особое значение: здесь в 1405 году Феофан Грек работал над иконостасом совместно с Прохором с Городца и Андреем Рублевым.
Остановимся на одной работе Феофана Грека, которая была написана примерно за семь лет до его встречи с Андреем Рублевым (вернее, до их совместной работы над иконостасом). Это икона Донской Богородицы. Она была иконой чудотворной – как раз в Благовещенском соборе, который расписал Феофан Грек. Сейчас она находится в Третьяковской галерее.
Донская Божья Мать – это двойная икона. На ее лицевой стороне изображена Богородица в иконографическом типе «Умиление», с младенцем на правой руке. Специалисты утверждают, что на рукаве Богородицы тонким золотым письмом написаны слова 13 строфы 44 псалма о Богородице. Золотая надпись гласит: «Вся слава Дочери Царя внутри; золотою бахромой Она облачена и изукрашена». Вот в чем дело: золотые одеяния золотом испещрены. Сам образ Донской Богородицы соответствует тому, что о ней сказано: и лик ее был смуглый и овальный, а власы – цвета зрелой пшеницы. Рот алый, глаза формы плодов миндаля, а руки тонкостью истончены. Феофан Грек следует апокрифическому канону в изображении Богородицы. Он пишет ее не только необыкновенно нежно, но как бы очень точно следуя предписанному канону Умиления. И ноги в золотых сандаликах стоят на руке Богородицы, а другая рука сжимает свиток человеческих судеб – маленький синий свиток. Эта икона требует очень пристального рассмотрения, только тогда можно постичь ее подлинный смысл.
На обратной стороне находится другая икона, на которой мы подробно остановимся. Она называется «Успение Божьей Матери». Успение – это праздник. Он празднуется 28 августа по православному календарю и входит в обязательные иконы праздничного чина любого иконостаса. Сюжетная сторона Успения принадлежит апокрифу. Почти все, что связано в русском православии с мариологией, с темой Девы Марии, – это почти все апокрифическое. То есть это предание, это послание, сказание, которое создавалось в раннехристианское время, но не вписано в канон четырехстолпного Евангелия: сюжета Успения в каноне четырехстолпного Евангелия нет, это апокриф. Но апокриф очень точно описывает Успение Богородицы, мы всегда отличаем его не только в православной иконографии, но и католической. Католическая иконография тоже очень точно следует этому канону, даже в такой невероятной картине, как Успение, которая находится в Лувре и принадлежит перу Караваджо. Караваджо – художник уже совершенно нового времени, но мы все равно понимаем, что речь идет об Успении. Этот апокриф настолько глубок, что действует до сегодняшнего дня. Он безупречен по своему значению.
Однако вернемся к «Успению» Феофана Грека. Это очень интересная икона, единственная в своем роде. Мы говорили об Андрее Рублеве, что он был тем художником, который посмел преобразовать канон Троицы и вместо ветхозаветной Троицы создал Троицу совершенно другую. На Стоглавом Соборе ее было принято именовать новым каноном – каноном Андрея Рублева, где был отсечен весь ветхозаветный ряд и все внимание было сосредоточено на самой сути того, что есть Троица. Об «Успении» Феофана Грека можно сказать то же самое. Он преобразует канон Успения, и такого Успения мы больше не знаем.
Классический канон иконы Успения разительно отличается от Феофана Грека, это канон литургический. Икона Успения имеет четыре ряда.
В самом нижнем ряду такого классического, литургического, то есть очень полного канона Успения, принятого православным праздником, изображен некий Антипий Безбожник, который усомнился, что эта бедная женщина усопла (не говорят «умерла», потому что Успение – это нечто среднее между сном и вечным покоем, Она же воскреснет). И он не верит, что это Успение, и что это Богородица, и своими руками оскверняет ложе Богоматери, потянув ее за мафорий. Но он не успел этого сделать, потому что немедленно явился архангел Михаил и своим мечом отсек ему кисти. Если посмотреть внимательней, то вы никогда не скажете определенно, эти кисти отлетают от рук Антипия или они уже вросли на свое место. И еще вы видите, что почему-то нет крови. Ее нет потому, что, как только Антипий получил удар от архангела Михаила, от тут же очнулся и раскаялся в душе своей в содеянном. Он понял, осознал всю бездну своего падения, и поэтому руки ему вернули: его простили.
Следующий ряд находится в центре. Это ложе Богородицы, где покоится усопшая, а вокруг ее ложа большое количество персонажей. Здесь 12 апостолов, здесь первосвященники, Мария Египетская, другие люди – это те, кто пришли к ложу Богородицы. Всегда очень интересно изображены апостолы: они потеряли свой духовный центр, они потеряли Богоматерь, они растеряны, они сюда доставлены, но они не могут осознать то, что произошло. В их лицах читается растерянность, и только Петр и Павел уже служат службу за упокой.
В центре этой иконы, в очень интересной фигуре, напоминающей миндалину, вы видите Сына Божьего, который держит маленькую, как куколка, спеленатую душу Богородицы. Обратите внимание, что эта фигура пребывает здесь незримо: Сын Божий фронтально стоит к нам и держит душу Богородицы, но на него никто не реагирует, потому что он не виден окружающим – он находится в непроницаемом пространстве. Это очень интересная фигура, которой всегда посвящено много домыслов.
И последний ряд обязателен для Успения, он есть во всех Успениях – это ангелы, которые доставляют апостолов к месту Успения. Поглядите на полет этих ангелов, на то, как апостолы летят в облачках, похожих на платочек. Может быть, ангелы их не доставляют, а уносят? Есть такое двойное движение: или сверху вниз, или снизу вверх. Мы не можем понять направление этого движения, потому что действо на иконе происходит в некоем особом пространстве вечности. Не времени, а вечности. И они являются нам как некое чудотворное впечатление. По центральной вертикали мы видим вознесение в сфере уже преображенной души Богородицы и лестницу, которая идет в сферу небес – высшую сферу.
И если сейчас, после этого полного канона, вы посмотрите на «Успение» Феофана Грека, то увидите, что ничего этого у Феофана нет. Он решительнейшим образом отсекает все, и центром этой иконы становится только Он – Сын Божий, в том же закрытом миндалевидном пространстве, с душой Богородицы в руках. Каким властным жестом он держит эту маленькую спеленатую куколку! Очень интересно смотреть на эту икону, потому что весь нижний ряд представляет одинокая горящая свеча. По центру – ложе Богородицы, а она написана совсем по-другому, не так, как всегда: словно утюгом проглажена, словно вдавлена. Душа из нее вышла, и лежит просто одно одеяние. Апостолы напуганы: они столпились вокруг ложа и выглядывают из-за него – большелобые, светлейшие головы. Икона, а до какой степени точно и тонко Феофан Грек дает психологические характеристики, как он подмечает эти оттенки страха и покинутости! Но они не видят Сына, а Он ведь занимает все пространство иконы. Вообще-то главный Он – Он является восприемником ее души. А над ним очень интересный знак. Первое, что бросается в глаза, – это цветное пятно, алый знак Серафима, «серафикуса». Феофан Грек очень любил этот знак, он у него довольно часто повторяется. Если посмотреть росписи Церкви Спаса Преображения на Ильине улице, то там он замечательно написан. Даже в центре этого расправленного шестикрылья есть что-то вроде грозного лика.
Условно существует два типа молитвы и два высших знака: знак ангелический и знак серафический. Рублев – это знак ангелический, знак гармонии, тишины, совершенной прозрачности. А Феофан – это знак серафический, знак темперамента, действия, необычайной активности. Можно сказать, что икона написана серафически: он ее пишет так, что она очень отличается от принятого канона. Будучи самым настоящим иконописцем, следуя точно апокрифическому канону, он решительно реформирует канон Успения и ставит знак серафикуса над головой Спасителя, создавая образ активно действующего начала. Какие на Нем одежды золотые, как Он властно показывает эту куколку Богородицы – душу ее… Вот она лежит вся приплюснутая, из нее вышла душа, а Он, Сын ее, принимает свою мать, и Она становится Царицей Небесной.
В том, что Андрей Рублев преобразовал канон, был внутренний, глубинный смысл. То же самое нужно сказать и об Успении. Дело в том, что Феофан Грек был очень привязан к исихазму. Он был очень оригинален и очень интересен. А исихазм в своей основе содержал в себе тему преображения, преобразования. Смысл исихазма и заключался не только в высокой молитве чудотворной, но и в духовном преобразовании через духовную практику. Преображение человека начинается с его внутреннего преображения. Не случайно именно Феофану Греку принадлежит та икона, что находится в Третьяковской галерее, гениальная икона «Преображение», когда из фаворского света Спаситель поднимается на гору Фавор. Шли бесконечные споры о том, что такое «свет фаворский». Католическая церковь придерживается тезиса, что это свет, вошедший в Спасителя. Но есть другое мнение: это – внутренний свет, свет преображающий и Он является этим светом внутреннего преображения.
Феофан жил в эпоху Куликовской битвы, Сергия Радонежского, Василия I – русского государя, который был последователем и Церкви, и своего отца. Нужна была сила духа, сила личности, и исихазм давал пример поведения. Тарковский замечательно показывает Россию того времени: ее разъезженность, дикарство воюющих князей, раздирающих страну, нашествие Едигея… А ведь когда оно было, пожгли Благовещенский собор, в котором были росписи и Рублева, и Феофана, и их пришлось уже тогда реставрировать. Все эти процессы происходили одновременно. С одной стороны, все под угрозой Тохтамыша, Едигея и внешних врагов. С другой стороны, уже набухающая новыми силами Россия, мир, стремящийся к какому-то созданию единого духовного пространственного поля. Феофан Грек был сопричастен рождению новой культуры, авторитету личности художника, и не случайно о нем осталось такое количество свидетельств. Это было время, когда личность художника поднималась, когда ее усилия были необходимы, как у отца Никона или Кирилла Великого, который основал Белозерский монастырь.
Но если канон Андрея Рублева был все-таки определен как второй канон, то в отношении Феофана Грека такого решения принято не было. В этом и заключается исключительность этого канона, его цветовое решение. Это – канон, это – апокриф, и это очень личностно. Это почти беспрецедентно.
Тарковский был гением: может быть, он всего этого и не знал, но Солоницын в роли Рублева воплощает самую суть этой фигуры. Это тип очень мягкого русского человека, зрение которого направлено внутрь углубленного чувственного переживания, сострадания всем. И какой Сергеев в роли Феофана Грека – аскетичный, жесткий, размышляющий! Они как две стороны одной и той же идеи, как две стороны одного и того же времени, и они так дополняют друг друга, что даже через фильм «Андрей Рублев» в их размышлениях или вопросах, которые задает ангелический Андрей, и в ответах, которые дает Феофан, есть полнота описания времени, его величие и его бездорожье. Вероятно, такова сквозная линия исторической России. Это беспрецедентное явление – иммигрант, пропустивший всю боль и всю русскую историю через себя. Он был византийским греком, но он был и великим русским художником. Он был иконописцем, но он был великим живописцем. Он работал в принятом каноне, но вместе с тем это был человек, который очень смело реформировал канон, будучи не просто глубоко религиозным, а глубоко убежденным человеком. Он понимал, как важна духовная сила, вера и активность в той стране, в которой он жил. И это подтверждает только одну банальнейшую истину: во все времена эти качества дают великому художнику бессмертие.
Средневековье, самые известные герои истории
Авиценна Целитель, мудрец, странник
Его имя Ибн-Сина, но Европа зовет его Авиценна. Не злодей, не герой. Я бы сказала: интеллектуальное чудо. А его жизнь – словно перелистываешь страницы «1001 ночи». Он родился в 980 году, умер – в 1037-м. Много ездил, жил в разных местах. Скончался где-то в Иране, там и похоронен. Чем славен этот человек в истории?
Величайший медик, сравнимый с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки и его познания в этой области пригодились в эпоху Ренессанса. Трудно перечислить все таланты этого человека. Подчас природа являет свои чудеса, чтобы не забывали о ее могуществе, и тогда рождаются Авиценны.
Микеланджело считал, что «лучше ошибиться, поддерживая Галена и Авиценну, чем быть правым, поддерживая других». Такая оценка, скорее морального свойства, из уст великого гуманиста многого стоит. Специалисты спорят о количестве трудов Авиценны, причем называются цифры и 90, и 456. Очевидно, ему приписываются подделки, подражания – талантам всегда подражают. Самая гениальная его книга – «Канон врачебной науки». Но и другие труды вошли в историю, стали классическими – «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства»… Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. И когда – в XI веке! Писал Авиценна в основном на арабском языке. Но это вовсе не означает, что он – часть арабской культуры. Наверное, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, труды его становились достоянием всех цивилизаций.
И все-таки до сих пор спорят, чей он. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла не так давно монография «Ибн-Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII века о нем шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 1950-е годы отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нем написаны огромные тома, ученые до сих пор пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости.
Откуда мы знаем о человеке, который жил более тысячи лет назад? От него самого и его любимого ученика. И это, как кажется скептикам, дает почву для сомнений в его гениальности. Абсолютно беспочвенный скептицизм! Ибо молва, начиная с XI века бережно хранила память о его талантах, что и дало основание называть его гениальным ученым. Сохранился рассказ самого Авиценны о себе, о своем детстве. Остальное дописал Убайд аль-Джурджани, его любимый ученик, который провел с ним больше 20 лет жизни. Он сопровождал своего учителя, ведь Авиценна был бесконечным странником. Нигде не задерживаясь надолго, он шел по земле, стараясь как можно больше увидеть, узнать и понять. Гудящая, волнующая, одуряющая красками, запахами, звуками, безотчетно меняющая жизнь притягивала его, становясь не только мукой, радостью или печалью, но и предметом изучения. Он рассматривал ее словно под увеличительным стеклом и видел то, что не видели другие. Попробуем понять, почему в X веке могло появится такое чудо, как Авиценна.
Напомним, что X век – это время крещения Руси, на престоле Владимир Святославич, четвертый русский князь. А там, на Востоке, – Возрождение. Что возрождалось? Да примерно то же, что и в Европе во времена Каролингского Возрождения IX–X веков. Тогда при дворе Карла Великого, при дворе германских императоров Оттонов впервые после войн и хаоса Великого переселения народов интеллектуальная элита обратилась к истокам своей культуры, к античности, к рукописям – греческим, римским.
И примерно то же самое было на Востоке. В том культурном контексте, который породил Авиценну, сплелись местные традиции с наследием античным, образуя особый эллинистический вариант синтетической культуры. Авиценна родился близ Бухары. Известно, что по этим местам, чуть севернее, прошел великий Александр Македонский. Именно в Согдиане он устроил знаменитые 10 тысяч браков своих полководцев и воинов с местными восточными женщинами. Интересно, что только Селевк, один из сподвижников Македонского, сохранил свой брак и именно ему досталась самая большая часть державы. Вот эта держава Селевкидов и стала в IV веке до н. э. носительницей эллинистической культуры, впитав античность. С 64 года н. э. эти края стали римской провинцией. А Рим, как известно, – прямой наследник античной греческой или эллинистической культуры. С III века начала формироваться Восточная Римская империя – Византия, которая находилась в тесном торговом и культурном взаимодействии с Востоком. Так сплетались разные культурные корни, но получалось, что все они испытали влияние античности. В результате именно здесь и оказались истоки будущего восточного Возрождения.
Поход арабских завоевателей был коротким, арабов быстро прогнали. Завоевание началось в VIII веке и в том же столетии в основном и закончилось. Но язык, как это бывает в культурных процессах, остался и стал универсальным языком. Когда арабское завоевание удалось одолеть, отстояв свою культуру, тогда и начинается Возрождение.
Авиценна был не один. Персидский Восток – родина Фирдоуси, Омара Хайяма, Рудаки. На самом деле в поэзии, литературе, архитектуре и медицине людей выдающихся, знаменитых было много. Возрождались традиции древней восточной медицины, в каждом городе открывались больницы – своеобразные лечебные и исследовательские центры, где не только врачевали, но и занимались научными изысканиями, опытами, исследованиями. Возникают библиотеки – хранилища рукописей. Интеллектуальная жизнь становится напряженной и могучей. Наступает та пассионарность духа, о которой говорил Лев Гумилев, и благодаря которой становился возможным прорыв в будущее.
Авиценна (его полное имя – Абу Али аль-Хусейн ибн-Абдаллах ибн-Сина) родился в богатой семье. Отец, Адаллах ибн-Хасан, был сборщиком податей. Не самая уважаемая профессия, можно сказать, мытарь. Но при этом богат, образован, видимо, неглуп. Известно, что умер отец Авиценны собственной смертью, никто его не убил, не зарезал за злодеяния. Мать Ситара (что означает «звезда») происходила из маленького селения близ Бухары Афшана. В этом селении и появляется на свет Авиценна. Так звезда родила звезду.
Его родным языком был фарси-дари – язык местного населения Средней Азии. На фарси он писал четверостишья – газели, как их называли на Востоке, – по его выражению, для «отдохновения души».
Городок, в котором он родился, был оживленным, с большим шумным базаром, куда стекалась уйма народа. Здесь были больницы и школа, в которой мальчик начал учиться, очевидно лет с пяти, потому что к его десяти годам выяснилось, что в школе ему уже делать нечего. Там изучали языки – фарси и арабский, грамматику, стилистику, поэтику, Коран, который Авиценна к 10 годам знал наизусть. Это был так называемый гуманитарный класс. Мальчик еще не приступил к изучению ни математики, ни тем более медицины. Со временем он скажет: «Медицина – очень нетрудная наука, и к шестнадцати годам я ее освоил полностью».
Конечно, в его словах можно усомниться – мало ли что может сказать про себя человек? Но семнадцатилетнего Авиценну ко двору призывает сам эмир, прося исцелить от серьезного заболевания. И Авиценна ему действительно помог. Необычный был мальчик.
В доме его отца собирались ученые люди, исмаилиты – представители одного из течений в исламе. Их рассуждения были очень похожи на ересь, со временем их и признали еретиками. Они хотели очистить Коран от невежественных наслоений, призвав на помощь философию. Опасное занятие. Маленький Авиценна присутствовал при этих беседах, но повзрослев, не принял исмаилитский образ мышления. А вот его брат увлекся этими взглядами. Авиценна же официально остался в рамках ортодоксального ислама, хотя ортодоксом никогда не был.
Итак, к десяти годам в школе ему делать было особенно нечего. И вот – счастливый случай! Отец узнает, что в Бухару приезжает известный ученый того времени Патолли, тут же едет к нему и уговаривает поселиться в его доме. Он обещает кормить его, хорошо содержать и вдобавок платить ему жалование с условием, что ученый станет заниматься с мальчиком. Патолли согласился, и занятия начались. Очень точно сказал о годах своей учебы сам Авиценна: «Я был лучшим из задающих вопросы». И опять ему можно поверить, занятия с Патолли это подтверждают. Довольно скоро ученик стал задавать седобородому учителю такие вопросы, на которые тот ответить не мог. А вскоре Патолли сам стал обращаться к Авиценне, к маленькому Хусейну, за разъяснениями самых трудных мест из Евклида и Птолемея, и они уже вместе искали ответы.
В 15–16 лет юноша стал учиться сам. Его озадачила книга Аристотеля «Метафизика», которая там, в далекой Средней Азии, была переведена на несколько языков и неоднократно прокомментирована. Авиценна рассказывает, что он не мог постичь эту книгу, хотя, читая много раз, почти выучил ее наизусть. Судя по его рассказам, а потом по воспоминаниям его учеников, чтение и письмо были главными занятиями его жизни, и он наслаждался ими, являя собой тип высочайшего интеллектуала, которых время от времени порождает человечество. Об аристотелевском сочинении юноша узнал совершенно случайно. Однажды на базаре, рассказывает сам Авиценна, когда он бережно перебирал свитки, книги, рукописи, книготорговец вдруг сказал ему: «Возьми вот это замечательное произведение, комментарии к «Метафизике» Аристотеля некоего Фараби, восточного мыслителя, философа. Увидишь, какое это сокровище». Мальчик схватил эту книжку, это было то, что он подсознательно хотел найти. Авиценна был поражен, ему открылось то, над чем он сам тщетно бился. Тогда-то он и назвал Аристотеля своим учителем, проникся его представлениями о мире, мыслью о единстве и целостности бытия, сознания и духа, воспринял аристотелевские идеи о форме нашей земли, ее устройстве.
И шестнадцатилетний юноша начал заниматься… медициной. Разумеется, напрямую «Метафизика» Аристотеля к этому не толкала, а косвенно – да. Возможно, мысль Аристотеля о единстве материального, телесного и духовного оказалась для Авиценны определяющей, настолько важной, что привела его к делу всей жизни.
Когда Авиценна излечил эмира Бухары, тот разрешил ему пользоваться своей библиотекой. Надо сказать, что Авиценна лечил бесплатно, и награды более ценной для него не существовало. Книги, рукописи и свитки хранились в сундуках, в каждом – по какому-нибудь одному предмету или науке. И сундуки эти занимали много комнат. В городе говорили, что он просто с ума сошел от счастья. В своих воспоминаниях Авиценна написал, что «видел такие книги, которые потом не видел никто». Почему? Скоро библиотека сгорела. И злые языки распускали слухи, что это он, Авиценна, сжег библиотеку, чтоб никто больше не прочел эти книги и не смог сравниться с ним в мудрости. Трудно придумать большей глупости! Книги были для него святыней. Как мог он сжечь их!
С 18 лет Авиценна совершенно осознанно посвящает свою жизнь занятиям наукой. Он много пишет, и слава о нем крепнет. В 20 лет его приглашают на постоянную службу к хорезмшаху Мамуну II в Хорезм. Мамун II был одним из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, кого на своем пути встречал Авиценна. Этого правителя можно сравнить, пожалуй, с Лоренцо Великолепным. Он также собирал при дворе выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая развитие культуры и науки делом первостепенным. Он, так же как Лоренцо, создал кружок, который назвали Академией Мамуна. Там шли постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и Бируни, но побеждал почти всегда Авиценна. Слава его росла, он много работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. Он был счастлив.
И вот тут на горизонте его жизни появляется роковая фигура – султан Махмуд Газневи, создатель Газневийского султаната. По происхождению он был из числа гулямов, так назывались рабы-воины тюркского происхождения. Вот уж поистине из рабской грязи – в большие князи! Такие люди отличаются особенной спесью, обостренным честолюбием, своеволием, распущенностью. Прослышав, что в Бухаре собран цвет культуры, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Правитель Хорезма получил приказ: «немедленно всех ученых ко мне» – туда, в Персию, в нынешний Иран – ослушаться было невозможно. И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. Какое мужество, какое отчаяние! Ради чего? Чтобы не пойти в услужение к Махмуду, чтобы не унизиться и показать: ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки.
В пустыне его друг умер от жажды – не перенес перехода. Авиценна выжил. Теперь он снова оказался в западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя великолепное литературное созвездие, радостно принял Авиценну. Как похожи между собой деятели Возрождения, будь то в Италии или на Востоке! Для них главное – жизнь духа, творчество, поиски истины. На новом месте Авиценна начал писать свой величайший труд «Канон врачебной науки». Жил он в купленном для него доме – казалось бы, вот оно, счастье! Но жажда к перемене мест, страсть к путешествиям, к новизне гнала его всю жизнь с мест насиженных и спокойных. Вечный странник! Он опять уходит, снова странствует по землям нынешнего, центрального Ирана. Почему не остался у Кабуса? Среди своего круга людей, в собственном доме, не зная нужды и гонений? Мне не удалось понять его.
Около 1023 года он останавливается в Хамадане, что в центральном Иране. Излечив очередного эмира от желудочного заболевания, он получает неплохой «гонорар» – его назначают визирем, министром-советником. Кажется, о чем еще можно мечтать! Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что к службе он отнесся честно, тщательно вникал в детали и, как человек чрезвычайно умный и образованный, стал делать реальные предложения по части преобразования системы правления и даже войска – вот что удивительно! Но предложения Авиценны оказались совершенно не нужны окружению эмира. Там были свои министры обороны! Среди придворных плетутся интриги. Вспыхивает зависть и злоба – ведь врач всегда так близок к правителю!
Дело начинало принимать плохой оборот, стало ясно, что он в опасности. Некоторое время он скрывался у друзей, но ареста ему избежать не удалось. А тут сменился правитель, и сын нового правителя захотел иметь Авиценну около себя – слава его была слишком велика, а практические медицинские умения хорошо известны. Он провел в тюрьме четыре месяца. Заточение его не было безнадежно тяжким, ему разрешали писать. Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником вновь отправляется в путь. И оказывается в глубинах Персии, Исфахане.
Исфахан – крупнейший город своего времени с населением около 100 тысяч человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Алла Аддаула. Снова его окружает культурная среда, снова проводятся диспуты, снова течет относительно спокойная жизнь. Здесь он очень много работает, много пишет, по объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, время от времени освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина…
Авиценна спешил. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить и потому торопился. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. Например, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на здоровье человека. Авиценна был уверен, что существуют невидимые переносчики болезней. Но каким зрением он их увидел? Каким? Он говорил о возможности распространения заразных болезней через воздух, сделал описание диабета, впервые отличил оспу от кори. Даже простое перечисление сделанного им вызывает изумление. При этом Авиценна сочинял стихи, написал несколько философских произведений, где ставил проблему соотношения материального и телесного. В поэзии Авиценны очень емко выражено его стремление видеть мир единым, целостным. Вот его четверостишие в переводе с фарси: «Земля есть тело мироздания, душа которого – Господь. И люди с ангелами вместе даруют чувственную плоть. Под стать кирпичикам частицы, мир из которых создан сплошь. Единство, в этом совершенство. Все остальное в мире – ложь». Какие удивительные, глубокие и серьезные мысли! И какие грешные. Бога он понимал по-своему. Бог – творец, Он этот мир сотворил. И на этом, как полагал Авиценна, Его миссия закончилась. Думать, что Господь повседневно следит за мелочной суетой людей, участвует в их жизни, – это варварство. В этом были убеждены древние греки. Но Авиценна высказывает и еще более еретическую мысль: творение Бога было предначертано некой сверхбожественной силой. Что это за сила? Что имел в виду Авиценна? Возможно, уже тогда он думал о космосе? Таким людям, как он, подобные глубокие мысли были свойственны.
После того как Авиценне удалось бежать через пустыню, он долго скрывался от султана Махмуда. Правитель активно разыскивал беглеца и даже разослал в 40 экземплярах что-то вроде листовки или предписания с рисунком, изображающим Авиценну. А судя по тому, что удалось реконструировать по его черепу, он был красавец, без каких-либо особо ярко выраженных восточных, азиатских или европейских черт. Махмуду так и не удалось вернуть Авиценну.
Преемник султана Махмуда Масуд Газневи в 1030 году послал свое войско к Исфахану, где находился Авиценна, и учинил там полный погром. Авиценна пережил настоящую трагедию: был уничтожен его дом, пропали многие его труды. В частности, навсегда исчез труд в 20 частях «Книга справедливости». Это была одна из последних его книг. Может быть, как раз в ней содержались его итоговые, самые глубокие мысли. Но мы о них, видимо, никогда не узнаем. Не станут нам известны и обстоятельства его личной жизни – об этом нет упоминаний в воспоминаниях учеников или просто современников. Он писал о женщинах стихи, воспевающие красоту, гармонию и совершенство. И это – все.
Умер Авиценна в военном походе, сопровождая эмира и благодетеля своего Алла Аддаула. Как врач, он знал, что его организм исчерпал себя, хотя ему было всего 57 лет. Раньше он неоднократно лечил себя и излечивал. На этот раз Авиценна знал, что умирает, и потому сказал ученикам: «Лечить бесполезно». Похоронен он в Хамадане, там сохранилась его гробница. В 1950-е годы ее заново отстроили. Вот слова Авиценны перед смертью, переданные нам, потомкам, его учениками: «Мы умираем в полном сознании и с собой уносим лишь одно: сознание того, что мы ничего не узнали». И это сказал человек, с восторгом посвятивший познанию всю свою жизнь, энергию, молодость и здоровье.
Алиенора Аквитанская Бабушка средневековой Европы
Почему «бабушка»? Конечно, это метафора, и все-таки большая доля правды в ней есть. Потому что ее внуки, а затем и правнуки правили во многих государствах Западной Европы. В Англии, во Франции, на Сицилии (Сицилийское королевство), в Германии, в Кастилии – всюду были ее потомки. Эта женщина уникальна во многих отношениях и в этом – плодовитости – тоже. Она родила десятерых детей от двух королей – французского Людовика VII и английского Генриха II Плантагенета. Капетинги и Плантагенеты – а между ними Алиенора Аквитанская, дочь герцога Аквитании Гийома.
Аквитанский дом считался, и совершенно справедливо, пристанищем поэтов, трубадуров. Ее дед – поэт, отец – тоже поэт. Это особый край, Юго-Запад Франции, насыщенный солнцем, красками, яркой мощной растительностью, прекрасными виноградниками и, конечно, вином. Здесь всего в избытке, и радость бытия бьет через край. Герцогство Аквитанское огромное, самое большое во Франции в те времена и, очевидно, самое богатое. И вот в 1152 году, после смерти герцога Аквитанского, оно становится приданым Алиеноры, пятнадцатилетней девочки, скажем от себя – роскошным приданым. Алиенора – завидная невеста, от претендентов нет отбоя, короли, герцоги выстраиваются в ряд. Еще и потому, что она была официально признана первой красавицей Европы. Европа внимательно следила за ней и ее потенциальными женихами.
Почему ее звали так необычно – Алиенора? Дело в том, что, когда она родилась, в семье уже была Элеонора. Поэтому ее назвали «Другая Элеонора», от слова alienus – «другой, иной».
Итак, на редкость завидная невеста, красавица ждет жениха. И наконец его имя называют – это Людовик VII, король французский из династии Капетингов. Европа недоумевает. Капетинги откровенно бедны в то время, их земли – Иль-де-Франс – крошечное блюдечко между Парижем и Орлеаном. Когда французская знать выбирала первого Капетинга, учитывались многие факторы, в частности стремились, чтобы он не был сильнее других. Что-то подобное происходило и в России, когда выбирали Романовых. Начиная с 987 года Капетинги стали управлять Францией, хотя и не имели особенно сильной власти.
Постепенно ранние Капетинги шаг за шагом наращивали свое влияние. Особенно заметно это стало при Людовике VI, прозванном Толстым. Его умный и образованный советник аббат Сугерий сумел всеми доступными ему средствами добиться брака сына короля, тоже Людовика, и блестящей «аквитанской невесты». Прямо во время свадебного пира, который проходил в Бордо, пришло известие о смерти Людовика VI. Получилось, что Алиенора вышла замуж не за принца, а за молодого короля – Людовика VII. И вот к такой крошке, Иль-де-Франсу, присоединилась огромная и прекрасная Аквитания.
Прошло тринадцать лет брака, она родила детей, но это были три девочки и ни одного мальчика. И король потребовал развода, официально объяснив свое требование неспособностью жены родить мальчика, наследника. Событие невероятное само по себе в Средневековье, а для королевской семьи – еще невероятней. Католическая церковь не допускала разводов. Но Людовик все-таки добился своего. В чем дело? Почему? Как можно было добровольно отказаться от жены-красавицы, от ее приданого – Аквитании? Ходила молва, что все дело в ревности, ревновал он ее столь сильно, что жизнь стала ему не мила, и потому все здравые доводы перестали действовать. И он добился разрешения папы уже под другим предлогом – якобы внезапно было обнаружено слишком близкое между их домами родство. Чепуха абсолютная! Во-первых, где же он был все эти тринадцать лет?! А во-вторых, все королевские дома Европы в какой-то мере были родственны между собой. Но… с папой удалось договориться. И развод состоялся. Потеряна Аквитания. По феодальным законам того времени, родовые владения нельзя было отторгать, что свято соблюдалось. Только сыновья могли претендовать на ее земли. Сыновей не было. И она вместе со своей Аквитанией снова становится завиднейшей невестой Европы.
Напомню – ей двадцать восемь лет, и у нее одна забота – спрятаться, как бы ее кто не похитил, не выдал бы замуж насильственно. Она устала от семейной жизни, от постоянных беременностей, от этикета, от несвободы – у нее другой нрав, она Алиенора Аквитанская, этим многое сказано. И вдруг – граф Анжуйский Генрих, моложе ее на одиннадцать лет. Если в наши времена такая разница в возрасте супругов не слишком поощряется, то тогда это было неслыханно, греховно. Он же почти мальчик, какой он муж! Но вот тут настояла Алиенора, а в ней говорила любовь, возможно впервые испытанная, которая не знала преград. В 1152 году, очень скоро после развода с Людовиком VII, был заключен новый брак с Генрихом Анжуйским, союз, связанный страстным чувством.
Очень скоро оказалось, что он – антипод ее первого мужа. Тот был немного фанатичным в вере, много молился. Даже Крестовый поход для него – прежде всего не война, а паломничество в Святые земли… Как-то у Алиеноры вырвались слова о том, что Людовик VII – скорее монах, чем король. А страстная аквитанка искала в мужчине чего-то другого. И это другое она находит в графе Анжуйском. Через два года, в 1154 году, он становится английским королем Генрихом II, а это значит, что Алиенора снова королева, теперь королева Англии.
Генрих Анжуйский не был сыном короля. Его мать – Матильда, наследница английского престола из первой Нормандской династии, заключила договор со своим соперником, Стефаном Блуаским. Согласно этому договору, она отказывалась от притязаний на престол в пользу своего сына, Генриха Анжуйского. Эту перспективу, возможно, Алиенора принимала во внимание. Герцогская корона ей дана была от рождения, французскую она носила целых тринадцать лет, а теперь второй брак сулил ей корону английскую. И все-таки есть много оснований предполагать, что между Алиенорой и Генрихом Анжуйским, который в Англии стал править как основатель династии Плантагенетов, была страстная любовь. И главное доказательство этому – бешеная ненависть, которая пришла ей на смену.
Поначалу они неразлучны. Она участвует в государственных делах, подписывает документы, что было, кстати, не принято, они вместе принимают послов, гуляют по паркам, скачут на лошадях, всюду звучит их смех – супруги близки как никогда и счастливы. Одна беременность следует за другой, Алиенора рожает мальчиков! Европа в изумлении застывает, а потом, вероятно, разражается смехом – совсем недавно первый ее муж официально заявлял, что она неспособна родить наследника. И вот – пожалуйста, пять мальчиков подряд, один, правда, умирает в младенчестве. Она полностью реабилитирована. Но Генрих Анжуйский, совсем недавно такой любящий, начинает изменять Алиеноре и решает заточить надоевшую жену в отдаленном замке. Она провела в этом относительно почетном заключении целых шестнадцать лет.
Считается, что причиной была ее ревность к любовнице короля Розамунде. Очевидно, как когда-то ее первому мужу, это чувство не давало Алиеноре жить, стала тем кошмаром, от которого она не могла избавиться. Наверное, и Генриху приходилось нелегко, потому-то он и заточил ее в замке. Конечно, не в цепях она была и не в подвале – у нее был даже свой маленький двор, своя свита, но ее лишили того, без чего ей было невозможно жить – свободы. И еще одна непереносимая для этой женщины потеря – отсутствие общества. А потребность быть на людях, участвовать в разговорах, красоваться, обольщать – все это было свойственно Алиеноре Аквитанской в высшей степени. Потребность эту она сохранила всю свою долгую жизнь. А прожила наша героиня восемьдесят два года. Уникальный случай! Она не превратилась в дряхлую старуху, а была активна, деятельна, рассудительна до самого последнего вздоха. Когда ей было почти 80, она совершила путешествие за Пиренейские горы к своей внучке Бланке Кастильской. Бабушка забрала ее с собой во Францию и просватала за французского принца, будущего Людовика VIII. Брак состоялся, и Бланка Кастильская родила французам, наверное, самого замечательного средневекового правителя, Людовика IX, имевшего прозвище Святой (а такие прозвища случайно не даются).
Продолжу рассказ об уникальности Алиеноры. Родить десятерых детей – нечастое явление в королевских семьях. В восемьдесят лет путешествовать за Пиренеи отправится далеко не каждый – это совершенно очевидно. Носить три короны на одном веку – кто еще может этим похвастать? Алиенора прожила несколько жизней, как минимум три – одну во Франции, другую в Англии, третью в изгнании. Она была свидетельницей самого расцвета рыцарского века. И, думаю, именно Алиенора и ее любимый сын, Ричард I Львиное Сердце, стали символом женского и мужского начал в рыцарстве.
Ричарда Алиенора вырастила в Аквитании, обожала его с самого рождения, и он в юности очень ее любил. Трубадуры в честь своей правительницы слагали стихи и пели песни. Она прекрасно владела несколькими языками, знала риторику. Когда ей надо было бороться за освобождение своего сына из плена, она писала папе римскому: «В то время как мой сын, подобно Ахиллу, сражался под стенами Аккры, коварный Филипп Французский покинул его как предатель…» Так все и было, один сражался, другой покинул, но – какой стиль! Античный. На память приходит Гомер.
Ее молодость – зенит западноевропейского Средневековья. Рождается рыцарская литература, появляется роман о Тристане и Изольде, творит Кретьен де Труа. Но, как известно, после зенита движение возможно только вниз. Закат рыцарского века уже недалек. И жизнь, личная жизнь Алиеноры, ее судьба, как раз пришлись на этот взлет и падение, стали олицетворением их. Уже Филипп II Август во Франции осмелился попирать рыцарские идеалы, когда они помешали реальной политике. И Иоанн Безземельный, младший сын Алиеноры Аквитанской, пытается делать то же самое, хотя мало что умеет, демонстрируя вырождение рыцарства внутри семьи. Вообще, Иоанн – фигура для нее трагичная. Он родился нежданным, последним, и был он не таким статным, красивым, как его братья. Ричард Львиное Сердце с могучей гривой огненно-золотых волос, красив как бог, в бою – как лев отважен и силен, первым бросался на врагов, был страшен в индивидуальном бою, не ведал страха. И вместе с тем – маменькин сыночек. Она повезла Ричарда в Аквитанию, подальше от английского двора и там, среди стихов и песен трубадуров, ласкала, растила его. И он усвоил с младенчества поэзию и рыцарское поведение, став рыцарем не только внешне, но и по убеждению.
Интересно, что жизнь Алиеноры Аквитанской – истинный роман, увлекательный, полнокровный, яркий – в литературе, в искусстве примитивно и грубо упрощается. Мне всегда казалось это странным. Чего стоит только одно ее участие во Втором крестовом походе! Она проскакала большую часть пути верхом, какую-то часть ехала на повозках, но ведь от Парижа до Иерусалима около шести тысяч километров! Невероятная женщина! Во время Третьего крестового похода, одним из вождей которого был Ричард Львиное Сердце, она женила своего львиного рыцаря на Беренгарии Наваррской, снова не побоявшись отправиться в неблизкий путь за невестой. А дальше – многолетнее заточение. Как только умер Генрих II, взошедший на престол Ричард I ее освободил. Она вернулась нисколько не усталой, не сломленной и сразу окунулась в жизнь активную – политическую и личную.
Позже, в кино, литературе, театре ее представляют совсем не такой. Вот пьеса Джеймса Голдмена «Лев зимой». Генрих Плантагенет показан на склоне лет, ему около пятидесяти – для Средневековья старик. Ей шестьдесят три. Но она – молодая женщина и выглядит лучше его и чувствует себя бодрее, чем его очень огорчает. У нее, видимо, было железное здоровье – это отмечали очевидцы ее участия в Крестовом походе. Но в пьесе показана лишь одна грань ее характера, поведения и всего два дня жизни – Рождество 1183 года. Голдмен, который очень старается следовать исторической правде, смотрит на нее глазами главного персонажа – Генриха. Не того молодого, который страстно любил ее, а престарелого, измученного жизнью, уже пережившего свое чувство и ненавидящего супругу. В жизни она оказалась сильнее его. Оптимистичнее, смелее и значительнее. Это простить мужчина вряд ли может. Генрих ненавидит ее открыто, зло называя Медузой Горгоной. К ней плохо относятся и сыновья, которые ссорятся из-за престола, не зная, кому из них она станет помогать. Но это – совсем маленький кусочек жизни, взятой вне всего жизненного контекста. А такой взгляд – всегда нарушение правды. Нет ни трубадуров, ни Крестового похода. И в этой стареющей и не желающей стареть женщине совершенно не проглядывает та, молодая Алиенора. В жизни – все не так. Лучшая книга о ней написана француженкой Режин Перну, но это не вполне художественное произведение. Книга вышла на русском языке в 2001 году, и я очень советую ее прочесть.
Кроме официальной литературы и науки, которые ею занимаются, есть еще и молва об Алиеноре Аквитанской. Эти народные толкования иногда даже более интересны, ведь «нет дыма без огня». Мифы и легенды о ней начали слагать еще при ее жизни. Все они ее осуждают и в целом рисуют образ негативный. Во время Крестового похода она, мол, время от времени скакала впереди крестоносного войска, окруженная своими фрейлинами, в костюме амазонки. А это значит, что одна грудь должна была быть обнаженной. Для Средневековья это безнравственно. И мало того – сидела на лошади не боком, как подобает женщине, а верхом, и не в дамском седле… Нехорошо, некрасиво. Рассказывали, что у нее было несколько романов. Например, с бароном Жоффруа де Ранконом – знатным, видным, красивым, но оснований для того, чтобы поверить этому – а Режин Перну очень тщательно изучала множество самых разных материалов – нет. Молва, и все. А уж коннетабль Аквитании Сель де Брейль – это вообще вряд ли. Перну совершенно справедливо пишет, что он ниже ее рангом, для нее это было важно, она же носительница трех корон!
Наиболее подходящей по статусу фигурой мог быть ее молодой дядя Раймунд де Пуатье. Он красив и отважен, а это нравится женщинам. Встретившись во время Крестового похода, они много времени провели вместе. Но это могло значить совсем не то, что приписывала молва. Дело в том, что в детстве дядя часто бывал в их доме, она прыгала у него на коленях, а он играл с ней, маленьким ребенком. С тех пор они долго не виделись. Встреча с человеком, которого помнишь с детства, вызывает особые, очень теплые, почти родственные чувства. И доказать, что тут непременно разврат, – невозможно, да и нет таких доказательств.
Само ее появление в Париже, возможно, возмутило парижан – она уже пришла с некой молвой. На роскошном бракосочетании в Бордо они увидели очаровательную пятнадцатилетнюю девочку в пурпурном платье, красивую, яркую, совсем не забитую, не смирную и не стеснительную. Они-то представляли ее бледной, печальной, со слезами на глазах из-за разлуки с родиной… Ничего подобного! Она приезжает из мира солнца, вина, куртуазии, где, кажется, нет места унынию и печали, в Париж, который по сравнению с ее родиной – край северный, строгий, холодный. Юг и север Франции – Лангедок и Лангедойль – очень отличались друг от друга по культуре вплоть до XIII века. По существу это были две цивилизации. Юг испытал гораздо большее влияние римлян, чем север. И кроме того Париж вовсе не был затронут арабским влиянием. Северу был чужд Восток с его поэзией, гортанными языками, с его музыкой, тяготением к роскоши, шелкам, мехам, духам… И вот юная особа, выросшая в этой атмосфере, приезжает в Париж. Молва вполне естественно не одобряет ее, Алиенора со своими куртуазными привычками должна была показаться в Париже развратницей. Такой и показалась.
А потом – еще дальше на север, в Лондон, куда она прибывает королевой английской. Здесь традиция еще более строгая, чем в Париже, в ней сплелось англосаксонское наследие с норманнским, а Нормандия и ее жители – все-таки потомки суровых и бесстрашных викингов. Она прибывает в другой, суровый мир, довольно мрачный и холодный, а главное – совсем непохожий на ее родину.
Уместно будет вспомнить, что Аквитания, эта прекрасная земля, долго была независимой. Ее жители мужественно и самоотверженно боролись, стараясь сохранить свои самостоятельность и самобытность. Лишь в результате Альбигойских войн XIII века Север, наконец, расправится с этой цивилизацией. Алиенора, ушедшая из жизни в самом начале XIII столетия, оставалась аквитанкой – она впитала все соки этого края и никогда в своей жизни не изменяла особенностям, там приобретенным.
И вот народная молва творит образ Алиеноры. Какой? Она меняет любовников, отравила Розамунду, возлюбленную своего мужа Генриха Английского… Отравила ли? Никаких доказательств нет, но слухи упорно ходят. А как же?! Розамунда своя, из Уэльса. А эта – чужая, иноземка, разведенная жена французского короля. Молва враждебна к ней изначально. За то, что она из южной Франции, за то, что манеры не те, за то, что во время Крестового похода скакала не так, как положено, за то, что в походе у нее было очень много повозок с плащами, меховыми воротниками, платьями, и она их меняла, несмотря на усталость и невероятные трудности… Но она Алиенора Аквитанская, и у нее свой собственный стиль. Ну, как могла она в Константинополе не появиться в роскошном наряде? Ведь это византийский двор, император принимает их торжественно и пышно. Она, воспитанная в Аквитании, считает, что надо пышностью ответить и посостязаться с ней. А традиция севера Франции и Англии – другая, здесь царит дух умеренности и непритязательности. Здесь мужчины одеты в кольчуги, в дорожные грубые плащи, они неделями не слезают с седла, рубятся тяжелыми грубыми мечами, а на их лицах – выражение суровое и непреклонное. А она не похожа на людей севера ни внешностью своей, ни выражением лица, ни улыбкой. Остается только изумляться, как можно было в совершенно ином, чуждом мире оставаться самой собой! И в этом ее уникальность.
И тут, надо признать, – аквитанская закваска оказалась очень мощной. Не зря именно в этом крае куртуазии и рыцарства была сложена знаменитая «Песнь о Роланде», великий рыцарский эпос. Не зря именно там прижилась «альбигойская ересь». Этот край тяготел к большему вольнолюбию, открытости, взаимодействию культур. Именно туда с востока через Пиренейский полуостров прибывают знаменитые врачи, например Авиценна. Там роза ветров европейских культур.
И снова вернусь к Алиеноре. Конечно, это личность неоднозначная. Сильный характер, воля, одаренность натуры делали ее человеком не простым, экстраординарным. И потому отношения ее даже с самыми близкими людьми складывались трудно. Когда сыновья были детьми, она их любила, одного больше, другого меньше. Когда они выросли, все изменилось. Оказалось, что перед ней – люди с характером, не желающие становиться пешками в чужой игре. Все, включая бездарного Иоанна, были способны действовать самостоятельною. Сыновья дрались за власть. А уж если кто их и стравливал, так точно не Алиенора, а французский король Филипп II по прозвищу Август, сын от третьего брака того самого Людовика VII, который много лет назад развелся с Алиенорой.
Он мог бы быть сыном Алиеноры! Удивительный французский король, прозвище Август тоже случайно не получают. Начав править в 1180 году, он получил очень урезанную за счет английских владений Францию, а завершил свое правление в 1223-м, имея территорию в два раза большую, отвоевав английские эти самые владения во Франции. Каким образом это удалось? Хитростью и подначиванием сыновей Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Вот кто виртуозно владел придворными интригами, был редкостным лицемером и выдающимся для своего времени дипломатом! Он по очереди дружил с каждым сыном Алиеноры и предавал их в самую решающую минуту. Все Плантагенеты – старший сын Генрих, второй – Жоффруа, а также Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный – в какой-то момент своей жизни понимали, что обмануты Филиппом. Оказалось, дети Алиеноры люди довольно простодушные и доверчивые. Например, с Ричардом Львиное Сердце, истово и искренне стремившимся на Восток, Филипп II играл роль верного крестоносца. И вдруг этот ближайший и любимый Ричардом человек тайком убегает из-под стен Аккры, оставляя его одного. Ужас! Я представляю себе лицо Ричарда – он понимает, что надо мчаться в Европу, потому что Филипп отнимет принадлежащие английской короне французские земли. А как убежать, тут войско?! Что скажут о нем, великом рыцаре, его воины!
Так же предательски поступил Филипп и с Иоанном Безземельным. Иоанн никому не верит, особенно матери, которая хочет открыть ему глаза на французского короля. Он уверен, что Филипп – его главный заступник. Дело кончается, как всегда, предательством. Филипп вызывает Иоанна Безземельного в суд по обвинению в убийстве своего племянника, Артура Бретонского. Обвинение состряпано по слухам, никаких доказательств нет. Хотя Шекспир полностью принимает эту версию, считая ее доказанным фактом. «Ты причастен к убийству, явись на суд» – вот требование, предъявленное Иоанну. Совершенно потрясенный, он отказывается явиться, и тогда Филипп II Август снимает маску окончательно. Он начинает военные действия и отвоевывает значительные земли у англичан. Известие о падении в 1204 году замка Шато Гайяр, столь любимого Алиенорой, стало для нее смертельным ударом. По ее просьбе Ричард Львиное Сердце был впоследствии похоронен рядом с ней.
Ричард Львиное сердце Незаслуженно возвеличенный
Ричард Львиное Сердце – герой без страха и упрека! Рыцарь на белом коне… Кто же не зачитывался в юности романами «Айвенго» и «Талисман»! Кто не смотрел прекрасный фильм «Робин Гуд – король воров»! Ричард – невероятно популярный герой. Вот как пишет о нем Генрих Гейне:
В пустынной дубраве несется ездок, В роскошном лесистом ущелье Поет, и смеется, и трубит он в рог, В душе и во взоре веселье. Он в крепкую броню стальную одет, Знаком его меч сарацинам, То Ричард, Христовых то воинов цвет, И Сердцем зовут его Львиным…Вот такой прекрасный образ! Такого Ричарда мы знаем, им восхищаемся и любим. Некоторые считают, что «Львиное Сердце» – это литературный эпитет, который появился много позже и после смерти Ричарда. На самом деле нет. Он получил его во время Третьего крестового похода (1189–1192). Это время – важнейшая веха в его жизни. В 1189 году Ричард коронован английским королем в Лондоне. Сразу после коронации начинается поход, который оказался исключительно успешным – были захвачены Сицилия, Кипр, Аккра.
Скажу сразу – Ричард был необычайно храбр, складывалось впечатление, что страх вообще неведом ему. Необыкновенно сильный и развитый физически, он всегда оказывался в первых рядах, всегда рубился с преобладающим противником и всегда оказывался сильнее врагов. Известно, что однажды он поднял и бросил о землю недруга тоже не слабого десятка с оружием в руках и в латах весом сорок-пятьдесят килограммов. Да так, что тот едва остался жив. Это было абсолютно в духе Ричарда. Легенды еще более усиливали его мифологические черты, но они были у него и так – сила, храбрость, красота. Роскошная грива золотисто-рыжих волос придавала ему облик сказочного, былинного героя. Кстати, именно эти прекрасные волосы и невероятная отвага явились причиной появления эпитета «львиное сердце».
Он родился в 1157 году в Оксфорде, но вырос при дворе своей матери Алиеноры Аквитанской, в Аквитании на юго-западе Франции. Его отец очень скоро после женитьбы стал английским королем Генрихом II. Их брак поначалу был счастливым, супруги обожали друг друга, не разлучались даже тогда, когда того требовали дела государственной важности. Все сыновья, а их было пять, были рождены в любви и были желанными. Ричарда любили особенно сильно – он был красив от рождения, а красота никого не оставляет равнодушным, тем более родителей. Родившись в Англии, он фактически всю жизнь прожил во Франции. Умер в 1199 году.
Ричард был третьим сыном Генриха II Плантагенета, поэтому у него практически не было шансов стать королем. Но первые два брата умерли неожиданно рано – и дорога к трону оказалась открыта. Сразу после коронации он отправляется в Крестовый поход. Его манила слава, личная слава, ради которой он готов был умереть. Он рисковал жизнью постоянно! Первым бросался в строй противника, и смерть отступала перед таким безрассудством. Это удивительно! Ведь он был человеком набожным, правда, в меру, без крайностей, но жизнь человеческую ценил крайне низко. Как это сочеталось? Вера в Бога и безрассудная смелость, при которой жизнь не стоила и копейки! Трудно сказать, трудно понять.
У него была мечта, которая сильно кружила ему голову. Слава освободителя земель на Востоке – вот что не давало ему покоя! В Первом крестовом походе (1096–1099) эти земли были завоеваны западноевропейскими рыцарями, а теперь отбиты султаном Саладином, блистательным полководцем Востока… Победить Саладина, отбить Храм Гроба Господня – значило прославиться дважды и навсегда остаться в мировой истории. Вот какова была цель жизни английского короля Ричарда I. И в достижении ее Англия, королем которой он только что стал, мало его интересовала. Ее казна – вот что было для него крайне важно и нужно, просто казна и ничего больше. Он ее и использовал. Но как? Попросту обобрал. А когда Ричард попал в плен и Алиенора стала собирать деньги на выкуп, казна оказалась практически пустой. Но что интересно? Несмотря ни на что, он был любим в Англии. Его не просто любили – им гордились. Факт поразительный, но объяснимый.
Во-первых, люди любят победителей во все времена. И, увы, наша эпоха не является исключением. Звонкая военная победа – вещь привлекательная. Хотя какой он победитель, Ричард Львиное Сердце? Боролся вместе с братьями против отца, дважды его предавал, вроде бы пытался отравить французского короля Филиппа II, в Крестовом походе не победил, попал в плен. Вот она – реальность. Но тут вернее работает миф, легенда, чем правда. Правдой, если она неприятна, можно и пренебречь. А потом, это же век рыцарства. Для этой эпохи вполне понятен и по-своему прекрасен поступок английского короля в захваченной крестоносцами Аккре. Увидев в крепости, отнятой с большим трудом у турок, знамя герцога австрийского Леопольда, Ричард лично сорвал и растоптал его. При этом все знали, что войско Леопольда сыграло большую роль в захвате Аккры. Тем, кто видел, как Ричард расправился с герцогским знаменем, он заявил: «А ну, выйдите, кто посмеет мне возразить». Вот он какой победитель!
Ричард с детства впитал в себя атмосферу рыцарства. Его дед, отец матери Гийом Аквитанский, был знаменитым трувером – исполнителем собственных стихов. Считается, что именно с него начинается век миннезанга, время расцвета куртуазной культуры Юго-Запада Франции. Прадед тоже был трубадуром, и оба они пользовались любовью и известностью. Когда Ричард вырос, он поступил подобно матери – окружил себя плотной толпой трубадуров и поощрял тех, кто воспевал его. Например, Бертрана де Борна, великого певца рыцарства. Что же писал Бертран? «Как мне нравится звон мечей; как я обожаю, когда падают лошади, когда валятся раненые и убитые, и моря крови». Уж такой это был век. И поэтому Ричард Львиное Сердце считался победителем. Да и Ахилл-то, с которым его сравнивали, тоже хорош! Ведь не он же взял Трою, которую захватили лишь благодаря хитромудрому Одиссею или Улиссу.
Нужно сказать, что в жизни Ричарда был свой Улисс – Филипп II Август, французский король, хитрости которого хватило бы не на одну сотню правителей. Он не бился в открытых боях, но неизменно выигрывал в политических интригах. Филипп бросил Ричарда в Крестовом походе, а после смерти Ричарда у его брата Иоанна Безземельного отобрал почти все французские владения английского дома. И при этом и Ричард, и Иоанн считали Филиппа лучшим другом, не говоря о том, что все они были братьями.
Уже современники начали создавать миф о Ричарде. Вот знаменитая «Священная война», написанная Амбруазом. Автор – участник Крестового похода – имел возможность наблюдать за действиями короля ежедневно. Но если в хронике проскальзывает что-то не слишком благородное и героическое, то Амбруаз тут же старается оправдать Ричарда, объяснить, что, дескать, не виноват он, таковы обстоятельства. Между строчками «Священной войны» проступают и безмерная вспыльчивость, и несправедливость, и жестокость короля. Например, по его приказу под стенами Аккры были казнены две тысячи пленников. Но ведь это сарацины, безбожники! И значит, такой поступок не пятнает рыцаря. Амбруаз с гордостью восклицает: «Как овцы перед волком, разбегаются перед Ричардом его враги…» И далее отмечает, как великодушен был король к своему младшему брату Иоанну. Уходя в Крестовый поход и надеясь, что брат будет вести себя прилично, Ричард осыпает его дарами щедрой рукой. Щедрость – тоже отличающее рыцаря качество… Вот такой он, прекрасный герой рыцарской эпохи.
Думаю, его знаменитый меч рассекает время надвое, и расцвет рыцарства позади. Впереди – другое время. Ричард I, этот «поющий король», как назвали его в современном романе, этот трубадур с мечом в руках и бесстрашным сердцем, – именно он знаменует начало новой эпохи.
Интересно, как складывается его образ. С одной стороны – грубиян с тяжеленными кулаками, тысячами уничтожающий врагов и не знающий к ним пощады. С другой – сладкозвучный трубадур, воспевающий доблесть, честь, щедрость и женскую красоту. Ричард совмещает в себе, кажется, несовместимые черты. Так в народном сознании складывается полновесный, яркий и вполне живой образ рыцаря.
Наделяется ли эта личность идеальными чертами? Полагаю, да. Но идеализировали его именно потому, что он был очень похож на героя. Ричард Львиное Сердце нравился своей эпохе. В нем восхищало все – внешность, происхождение, поступки. Вот она почва для рождения героя, рыцаря, легенды! И в результате именно о нем слагались лучшие народные баллады, в результате именно он стал символом отваги и благородства.
Упомянем еще о некоторых обстоятельствах, неизменно вызывающих к нему симпатию и сочувствие. По законам той эпохи было несколько причин считать Ричарда несправедливо и очень серьезно обиженным, пострадавшим. Основная причина – предательство Филиппа II. Это он во время Крестового похода коварно бросил Ричарда под стенами Аккры и без предупреждения отплыл во Францию. Фактически предал. Предательство не прощалось ни в какие времена. И пострадавший от него – уже герой. Но война продолжается. Ричард продолжает сражаться на Святой Земле, бьется неистово за Христово дело и свою славу. А потом начинаются неудачи, и он заболевает лихорадкой. И в это время приходит известие, что Филипп готовит во Франции войну против него. Ричард мечется, не зная, что предпринять. Остаться в захваченной Аккре означало потерять свою страну, во всяком случае, многовековые владения английской короны во Франции…Что, что делать? И Ричард оставляет свои войска. Так поступит через несколько сотен лет Наполеон в Египте, а потом в Москве. И Наполеона обожают, обожают до сих пор!
По дороге обратно через Европу (Ричард I пробирался в Англию инкогнито) он попадает к австрийскому герцогу, чье знамя он когда-то растоптал. Тот решает свести счеты и берет Ричарда в плен, заточив короля в замок где-то на Дунае. А крестоносца, кроме как в бою, в плен брать было нельзя. Значит – нарушены высочайшие заповеди эпохи. И выходит Ричард – опять пострадавший.
Ричард как бы исчезает, никто точно не знал, где он находится. Уже в XIII веке появляется прелестная легенда про то, как он был найден. Некий трубадур бродил от замка к замку и пел балладу, сочиненную им вместе с Ричардом. И вот у очередного замка, пропев куплет, он услышал, как кто-то под самой крышей продолжает петь. «Ричард здесь!» – понял трубадур и рассказал это в своих песнях всей Европе…
Чтобы освободить короля, полагалось заплатить огромный выкуп. В Англии начался сбор денег. А французский король Филипп II вместе с братом Ричарда Иоанном платили, чтобы его не выпускали из плена! Это известно по документам. Платили за каждый дополнительный день, проведенный королем Англии в плену. И снова молва клеймит врагов Ричарда на века – предательство, предательство! Брат, родной брат и французский король, которого они оба считали ближайшим другом, который посвящал его в рыцари, и вдруг – такое страшное коварство! Что по сравнению с этим две тысячи казненных неверных, вспышки гнева, грубость и несдержанность, которые так свойственны Ричарду…
Предательство, коварство – все это ужасно, и нет этому никакого оправдания. Но а если на минуту забыть об обидах, наносимых Ричарду то французским королем, то австрийским герцогом, то собственным братом? Какого Ричарда мы увидим? Что за поступки он совершил?
Молодой человек, очень амбициозный, дважды участвовал в мятеже против отца, знаменитого английского короля Генриха II Плантагенета. В 1189 году в результате второго мятежа Генрих умер. Сразу после воцарения Ричард, обобрав Англию, отправляется в Крестовый поход, во время которого бесконечно ссорится с союзниками. Далее – перебил две тысячи заложников, оскорбил этого несчастного Леопольда Австрийского. За что? Отказался жениться на сестре французского короля – то есть публично оскорбил девушку… Хотя и здесь все не так просто и пару слов надо сказать, справедливости ради. Судя по всему, эту девушку сделал своей наложницей его отец, Генрих. Далее Ричард покидает свое войско, потому что его власти угрожает младший брат. Затем плен, выкуп, который собирали ради него, и пустая казна Англии. Меньше чем через год он начинает воевать во Франции, потому что Филипп угрожает его владениям.
И наконец, последнее. Смерть от заражения крови. Перед кончиной он назначает своим наследником… Кого? Безвольного и мало пригодного к управлению государством братца, известного негодяя Иоанна Безземельного. Зачем? Почему? Да потому, что Ричарду наплевать было на Англию. Вот Бретань – другое дело, сюда он посылает племянника, Артура Бретонского.
Что же это за человек такой – Ричард Львиное Сердце? Противоречивый, страстный, готовый на неожиданные решения. И может быть, отчасти этим привлекательный. А если говорить о предательстве, ведь и он, этот рыцарь без страха и упрека, дважды предал отца. Говорят, над этой семьей, над всеми ее членами, тяготело проклятие Мерлина, знаменитого средневекового колдуна, который как-то изрек, что пришли они от дьявола и к дьяволу же уйдут, ибо в этой семье сын будет восставать против отца, брат против брата. А если говорить об отношении Ричарда к Иоанну Безземельному, кажется, он хотел полюбить брата. Вот чем объясняется щедрый жест – передача престола Иоанну. Не то – сам Иоанн. В отношении него можно быть совершенно уверенным – никаких родственных чувств, только расчет и коварство. Это Иоанн позаботился о том, чтобы другого варианта не было в вопросе о престолонаследии. Ведь Артур Бретонский, сын Жоффруа, брата Ричарда и Иоанна, то есть их племянник, погиб при очень загадочных обстоятельствах.
Загадок немало и вокруг Ричарда. Например, после его возвращения из Крестового похода все ожидали, что он покарает, накажет Иоанна Безземельного за злодеяния. Ничего подобного он не сделал. Почему? И предательство, и история с пленом говорили не в пользу брата. И тут кроется какая-то тайна, никем не тронутая и немногими замеченная. Вряд ли любовь его к Иоанну была столь жертвенной. Тогда, быть может, он хотел сохранить образ Христова воина? Там, на войне, он был вспыльчив и гневлив, но, возможно, здесь, на родине, Ричард хотел предстать настоящим христианином, проявить гуманность?
Загадочна и смерть Ричарда. Известно, что в него попал стрелой некий рыцарь при стычке по мелкому поводу. А стрела, видимо, была отравлена. В советской литературе писали, что Ричард был убит на юге Франции «случайно пролетавшей стрелой». Хорош юг Франции, где случайно пролетают стрелы!
Нет, думаю, совсем не случайно она там пролетала. Ричард Львиное Сердце был на пороге войны с Филиппом Августом, а французский король очень боялся этой войны, он боялся и самого Ричарда, отлично понимая, как сильно ему навредил, и как может тот его ненавидеть. А раз так, лучше всего избавиться от него еще до начала войны. Кто знает, как она обернется! Найти рыцаря, который был бы обижен на короля, дело нетрудное. Вот он и нашел. Стрела вернее всего действительно была отравлена. И Ричард умер, несмотря на то, что рана была совершенно неопасна.
И опять легенды. Якобы, умирая, он просил близких не наказывать убийцу. Поистине королевский поступок! Вальтер Скотт так написал по этому поводу: «Лев не питается падалью». Более того, рассказывали, что умирающий король, узнав, что этот рыцарь некогда пострадал от несправедливости, приказал отпустить его и чуть ли не дать денег. И дальше молва рассказывает, что после кончины Ричарда его приближенные, охваченные печалью и яростью, вздернули этого рыцаря. Вокруг легендарных людей всегда легенды. Он сам дает для них повод!
Как это ни печально, никакие самые точные исторические сведения конечной истины нам не дадут. Ее надо бесконечно искать, причем не только в исторических источниках. С первой половины XX века и даже точнее – с Марка Блока, великого французского историка, стало понятно, что почвой для реконструкции истины может быть и психология, и филология, и лингвистика. Стройте антропологическую историю – и тогда, пожалуй, вы поймете, насколько в ней больше жизненной полноты и правды, чем в самом добросовестном историческом исследовании! Вот почему мне кажется, что литературный взгляд на историю, при всех издержках, поправках, преувеличениях, вместе с тем дает то, чего не найдешь ни в каких документах. Даже простое сравнение Ричарда с Ахиллом, а Филиппа с Улиссом – высвечивает новую грань Третьего крестового похода, грань, которую никогда не обнаружишь ни в одном документе эпохи.
Саллах ад-Дин Рыцарь Востока
Интересно, что Данте в своей «Божественной комедии», помещая Саллах ад-Дина (или, как его чаще называют, Саладина) в Ад, посылает его в самый щадящий, мягкий круг, где находятся личности совершенно особые, ни на кого не похожие, гениальные, такие, как, скажем, Цезарь, Гомер, Гораций, Овидий, Лукиан. Их единственная вина состоит в том, что они родились до рождения Христа. И вдруг вместе с ними – Саладин. Он-то родился после Христа, но главное он – «неверный»! Почему так решил Данте? Ведь у Саладина нет на это никаких прав. Может быть, гений ошибся? А может быть, просто последовал за легендой? Ведь мифы о Саладине, одни из самых изысканных, витиеватых, как восточный узор на ковре, напоминающие искусство Востока, рождались уже при его жизни.
О нем в самых восторженных и восхитительных тонах пишут не только арабские биографы, что совершенно естественно, потому что для них он – их Петр I, реформатор, истинный правитель, его всячески превозносят и христианские биографы. И получается, что образ его – это миф двух цивилизаций, случай нечастый, а может быть, и уникальный. Видимо, сама эпоха, XII век, Крестовые походы, и в ответ – та священная война, или «священный поход», как первым назвал Саладин борьбу против христиан, стали источником этих мифов. Их различная стилистика зависит от того, к какой цивилизации принадлежит тот или иной рассказ о Саладине.
Недавно вышел фильм о Крестовых походах – «Царствие Небесное», сразу же замеченный публикой и встреченный ею с большим интересом. Авторы, режиссер, актеры, операторы – все, на мой взгляд, работали очень добросовестно и создали почти идеально достоверную картину, за исключением незначительных ошибок, о которых можно и не говорить, потому что главное – достигнуто. Очень точно психологически передано, что, в сущности, каждый, кто принял участие в Крестовых походах, нес с собой свою мечту. Мечта, возможно, у всех была разная и зависела от обстоятельств – домашних, нравственных, материальных. Но мечта была. И там, на Востоке, эти замыслы либо воплощались в жизнь, либо погибали. Романтический ореол, которым окружили потомки тему Крестовых походов, коснулся и Саладина. Третий, самый знаменитый, крестовый поход (1189–1192) начинался как «поход трех королей» – Фридриха I Барбароссы (Германия), Ричарда I Львиное Сердце (Англия) и Филиппа II Августа (Франция). А Саладин был первым, кто организовал реальную оборону и наступление против крестоносцев, пришедших из Западной Европы.
Напомню, что такое Крестовые походы. В 1095 году на юге Франции, в городе Клермоне, римский папа Урбан II обратился к христианам с призывом отправиться на Восток и освободить Иерусалим, окружающие его земли и главное – Храм Гроба Господня от неверных – турок-сельджуков. И в общем, конечно, ни он, ни другие представители Церкви не ожидали, что призыв этот всколыхнет не только воинов-рыцарей, но и самые глубины народных масс и вызовет поразительный энтузиазм. Около 100 тысяч человек, как считают современные исследователи, отправились на Восток по первому зову папы! Это очень много.
Первыми двинулись крестьяне с криком «Так хочет Бог!». Они не были вооружены и не знали, куда идут. Что же толкало их на это, мягко говоря, непростое путешествие? В речи Урбана II, блестящем экземпляре ораторского искусства, демонстрирующем неплохое знание психологии, красной нитью проходит мысль, адресованная не только рыцарям, часть которых разорялась и беднела в то время, но и крестьянам: «Кто здесь горестен и беден, там будет радостен и богат». Тысячи самых разных людей услышали папу. Помимо религиозного чувства, которое владело ими, они, уставшие от жизненных невзгод, шли за радостью и благополучием. Им казалось, что если они совершат подвиг во имя Христа, он наградит их безбедной и счастливой жизнью.
В XVIII веке, в эпоху Просвещения, как только не называли это предприятие! Самым странным примером человеческого безумия, страшной эпидемией, охватившей внезапно всю Европу… Просветители клеймили то, что для крестоносцев было целью и смыслом жизни. Время поразительно меняет многие суждения и по-новому расставляет акценты. Нам тоже важно понять ту эпоху и события, которые ее наполняли. Римский папа Иоанн Павел II в XX веке принес извинения за Крестовые походы. И это очень существенно. Потому что порыв, поднявший людей с мест и бросивший их на многие годы в пучину ненависти, зла и жестокости, стоил неисчислимых бед и страданий и европейцам, и, конечно, жителям Ближнего Востока. Личность Саладина, его качества, особенности характера и поведения проявляются особенно ярко именно во время Крестового похода. Тогда он и обретает свою славу.
Но начнем сначала. Саладин родился в 1138 году в Тикрите, небольшой деревушке посреди страны курдов на правом берегу Тигра. (Любопытно, что в этой же деревушке родился Саддам Хусейн.) По происхождению он курд. Его первое имя Юусуф, а Салах ад-дин или Саладин – это не имя, а прозвище, данное ему при рождении и означающее «благочестие веры». Интересно, что оно стало его судьбой, вело его на протяжении всей жизни. Саладин не родился правителем. Вообще мы очень мало знаем о раннем периоде его жизни. Забыв на минуту, что он курд, скажем, что он суннит и именно на суннитской версии мусульманства настаивал самым категорическим образом. Его культ в Ираке был связан именно с этим.
Его родня – не последние люди на Востоке – состояли на службе халифа. Его дядя – полководец Фатимидского халифа Нур ад-Дина. Юный Саладин не обделен вниманием родственников, которые серьезно заняты его образованием. Он изучает религию, философию, литературу, увлекается поэтами-суфиями и их идеями, например такой: «Походить на Бога, погружаться в Бога». Кажется, юношу ждет судьба интеллектуала, философа или поэта. Военные интересы не для него, и меч в его руке – вещь невозможная. Так живет он на протяжении тридцати двух лет – срок немалый, целая жизнь.
В тридцать два года Саладин начинает делать политическую и военную карьеру, а в 33 – он уже правитель Египта. Вместо тихого, поэтичного, философствующего Юсуфа прямо на глазах, совершенно неожиданно, как по волшебству, рождается полководец, политик, правитель, султан – жесткий человек действий и поступков. Чтобы не впасть в идеализацию и не последовать за Данте, посмотрим на нашего героя пристально с разных сторон.
Его «уход» от художественных и поэтических грез, в которых он пребывал большую часть своей жизни, был вынужденным. Дядюшка из семьи Айубидов, основав новую династию, буквально вытолкнул Саладина на военную службу. Почему он так поступил, сказать трудно – никакие, даже самые мелкие черты в характере Саладина не могли натолкнуть на это решение. И тем не менее, дядя поступил именно так, и человечество обрело одного из выдающихся полководцев.
Очень скоро при поддержке Саладина удалось предотвратить захват крестоносцами Египта. Этот новоявленный военный вдруг проявляет удивительные качества. Никто не ждал от него такой бешеной энергии, такой беспрекословной властности и главное – поразительной способности рождать новые идеи. Думаю, первая и главная причина молниеносного восхождения Саладина состоит в том, что вместо обороны он предложил перейти в наступление, отправиться в священный поход и раз и навсегда остановить крестоносцев. Так вопрос еще никто не ставил, защищались, оборонялись – да. Но и только. Хотя идея Саладина лежала на поверхности.
Что такое крестоносцы на Ближнем Востоке? Не будем говорить про кровавое безумие, но скажем, что их идея была в высшей степени утопической и абсолютно нереальной. Что реально могут выстроить в пустыне люди, которые понятия не имели, куда они идут и что им предстоит сделать? Хроники сохранили очень любопытные детали первых походов крестьян, называемых крестоносцами, этих орд голодных, несчастных людей, совершавших погромы на своем пути. Добравшись таким образом до Германии и увидев большой собор в Кельне, они спрашивали: «Скажите, это не Иерусалим?» Они были вне реальности, и в этом смысле то, что они хотели построить, – Царство Божие, – было скорее внутри них, чем вовне. Но и внутри не было ничего, кроме страданий, боли и отчаянья.
И вот руководителем сопротивления крестоносцам становится Саладин. Обладая умом и обычным здравым смыслом, совсем нетрудно понять, что в этой ситуации не обороняться, а завоевывать надо. И по натуре-то он завоеватель. А здесь, как говорится, сам Бог велел. Свое-то царство, отнюдь не небесное, Саладин создал путем завоеваний. Он покорил области в северной Африке, Йемен, северную часть Месопотамии, подчинил Дамаск, а потом и всю Сирию. И только потом пришел к идее священного похода.
Но Салах ад-Дин, он же Саладин, не султан. Как же стал он султаном? Вопрос, что называется, «на засыпку». Все, что связано с его приходом к власти, вызывает большое подозрение у специалистов. Скорее всего, власть он узурпировал. Он был назначен первым министром за свою энергию, за редкую работоспособность и за разумность в решении сложных вопросов. И хотя в Египте он оставался чужеземцем, «сирийцем» – так называли и курдов, и евреев, и представителей других ближневосточных народов, – но придворные довольно быстро стали его бояться и решили его убить. Это должен был сделать евнух, начальник гаремов султана. Говорили даже, что сам халиф ал-Адид вложил в руки слуги меч. Но… как бы мы сказали сейчас, до Саладина дошла информация вовремя, и евнух был схвачен. Он был подвергнут страшным пыткам, во время которых во всем признался.
Пытки Саладина не смущали. В те времена по отношению к врагам милосердие не являлось добродетелью. И он расправился с заговорщиками быстро и жестоко. При этом нубийская гвардия, темнокожие стражи султана (именно эта гвардия должна была подстраховывать покушение), была перебита без всякой пощады. После этого Саладину никто не смел противоречить. А султан вскоре умер. Главное – очень вовремя.
Так выдвинулся наш герой, перейдя от философии и поэзии к решительным действиям в придворной, политической и военной жизни. Все больше и больше он проявлял себя как успешный полководец, завоеватель и создатель некоего, пока довольно рыхлого государственного образования на Ближнем Востоке. Именно оно, по его соображениям, и должно было противостоять крестоносцам. Не могло не противостоять. И вот почему.
В 1096 году в ходе Первого крестового похода было создано Иерусалимское королевство, которое с некоторыми перерывами просуществовало до конца XIII века. Эта была совершенно утопическая попытка переселить часть Западной Европы на ближневосточную почву, хотя в ее реализацию было вложено много сил и энергии. Но утопическая – только на первый взгляд. Дело в том, что западноевропейскому рыцарству стало тесно в своем регионе. С конца X столетия в Европе действовал принцип майората. Это значило – все неделимое земельное владение доставалось после смерти отца только старшему сыну. А куда деваться средним и младшим? Уже с рожденья они были обделены, лишены крова над головой. Как в западноевропейской сказке: одному сыну – мельница, а другому – только кот. И не все коты оказываются волшебными. Вера в прекрасную сказку – таков был ответ массового сознания на сложнейшую жизненную коллизию.
Продать свой меч, вернее себя с мечом, тоже невозможно – еще нет сильных, крепких, централизованных монархий, которым можно будет служить. Пока действуют вооруженные отряды, и в них – рыцари, лишенные наследства, средние и младшие сыновья, очень быстро превращающиеся в разбойников. Рыцарский разбой становится бичом Западной Европы. И в призыве папы Урбана II пойти на Восток могло содержаться и это стремление – умиротворить Европу. «Выпустить пар», снять напряжение, убрав наиболее буйную и активную часть рыцарства, направив ее в новые земли, – вот чего хотела западноевропейская верхушка во главе с церковью.
Иерусалимское королевство было почти образцовым феодальным государством. Во всяком случае отцы-основатели стремились сделать его таким. Был разработан свод прав, и он сохранился, – это «Иерусалимские Ассизы». Кстати, он более совершенный, чем в Западной Европе, где правила соблюдались больше по традиции, чем по закону. Цели, которые преследовали составители свода – обеспечить гарантированное поступление ренты от крестьянства. Понятно, что этнически крестьяне здесь совершенно иные, чем в Западной Европе, потому иные и традиции культуры, и сельского хозяйства, и торговли. Но было предпринято много усилий, чтобы сделать это королевство жизнеспособным и жизнестойким.
В фильме «Царствие Небесное» показано историческое событие – падение Иерусалима в 1187 году. Королем в это время был Ги де Лузиньян, представитель французской знати из Пуату. Ги вошел в историю, в воспоминания современников как неудачливый, неумелый и недальновидный правитель, который все время проигрывал в интеллектуальных состязаниях с Саладином. И причина понятна. Его окружала толпа грубых и бездарных людей, в то время как Саладин приблизил к себе умных, толковых и исполнительных. По не вполне ясным причинам Ги не руководил обороной Иерусалима, руководил ею барон д’Эбелин. Как только Лузиньян вышел с войском из города, так сразу оказался в плену. Но… Саладин его отпустил. И в некоторых арабских хрониках находится очень нестандартное объяснение этому поступку – Саладин якобы считал, что для него лучше, если во главе крестоносного воинства будет стоять слабый, некомпетентный и заносчивый правитель. В это легко поверить, потому что умен был Саладин, вот этого у него не отнимешь.
И вот Иерусалим, город, находившийся под властью христиан восемьдесят лет (а это немалый исторический срок), пал. В знаменитой «Истории Крестовых походов» французского историка Мишо – наверное, лучшей романтической версии падения Иерусалима – проникновенно описывается, какое горе испытали христиане. Вот они рыдают, целуют землю, по которой проходил Иисус Христос, идут, повторяя его крестный путь, на Голгофу. Скорбь их непомерна.
А что же победитель Саладин? Вместо того чтобы учинить резню, как это сделал Ричард Львиное Сердце, когда захватил Аккру, Саладин печально смотрит на страшную картину разрушения, как пишут все хроники, и арабские, и христианские, смотрит без всякого злорадства победителя. А потом объявляет побежденным: идите с миром и возьмите столько, сколько можете унести. Увидев, что многие несли на себе престарелых родных, раненых, Саладин был так растроган, что тут же отменил для бедняков и так сравнительно скромный выкуп за выход из города. Он нашел еще и слова ободрения для королевы Сибиллы… Умен был человек!
Но самое главное – по его приказу был сохранен Храм Гроба Господня, самая бесценная святыня всех христиан. Все остальные церкви – их было много – тут же переделывались в мечети, омывались водой с розовыми лепестками (считалось, что так будет стерта память о прошлом). Он великодушно разрешил христианам совершать паломничество к Храму Гроба Господня, правда, за умеренную плату. Но и это еще не все его благодеяния. Когда генуэзцы отказались бесплатно пускать на свои корабли беглецов из Иерусалима, Саладин и его брат заплатили за них. Что двигало им в его добрых делах? Я склонна думать, что для него не прошли напрасно его интеллектуальные штудии.
Однако как он попал на трон? Никогда не признавался открыто тот факт, что Саладин – основатель новой династии Эйюбидов. А где же старая? Известно, что Саладин, при всех его привлекательных личных качествах, о демонстрации которых заботился и он сам, и его окружение, был жесток с врагами и расправлялся с ними очень сурово. И это не вяжется с рыцарской моралью, которой он придерживался. Как свидетельствуют исторические хроники, ударом меча Саладин лично обезглавил взятого в плен барона Роже де Шатийона прямо в своем шатре. Уж этот поступок – нарушение всех рыцарских норм! Более того, кровью врага он осквернил свой шатер. Но справедливости ради надо сказать, что в Средневековье убийство врага не считалось грехом. Расправиться с противниками, жестоко наказать их – вот закон того времени. И Восток в этом отношении не сильно отличался от Запада. Меч и вера – это сочетание было вполне гармоничным в ту эпоху. В связи с этим можно вспомнить и о 230 храмовниках, рыцарях-тамплиерах, очень воинственных, обезглавленных по приказу Саладина, поскольку именно они были главной силой сопротивления восточному рыцарству. Полагаю, Саладин был убежден, что действует правильно.
Так почему же восточный кодекс чести оказался более живучим, чем западный? Думаю, тут целый комплекс причин. Во-первых, будем иметь в виду разницу путей развития Востока и Запада. Средневековая Европа – это цивилизация, ограниченная сроком жизни в 1000 лет. На Востоке понятие Средневековья в привычном смысле слова вообще не существует. Европейское тысячелетие растягивается там на время, значительно большее. А во-вторых, Востоку гораздо более свойственна эволюция в процессах социальных, экономических и духовных, нежели революция – Западу. Здесь не происходит, как на Западе, таких гигантских подвижек, скачков, переворотов, как Возрождение, Реформация, во время которых меняются коренным образом существеннейшие представления и ценности, а вместе с этим и установления нравственного порядка, такие, как рыцарский кодекс. Можно констатировать, что в Западной Европе он не дотянул до середины XV века и был окончательно изжит во время Столетней войны.
Восток эволюционирует, но при этом сохраняет традицию мощной центральной власти, по сути безграничной, поскольку халиф – это и духовный лидер, и лидер политический. В средневековой Европе короли уверены, что их власть от Бога, но с этим вечно кто-то спорит! На Востоке не спорит никто. Здесь царит полнейшая уверенность в том, что подданные и их властители слиты с божеством. Понятно, что в такой жесткой системе процессы самого разного свойства эволюционируют, меняются очень медленно. Кодекс чести относится к их числу. Но где-то к XVIII века он тоже отмирает, потому что нет ничего вечного.
Однако вернемся к истории Саладина и его антиподу Ричарду Львиное Сердце. Или другу? История с династическим браком переходит из романа в роман. В романе Вальтера Скотта «Талисман» она хорошо описана. Ричард якобы должен был отдать свою сестру то ли Саладину, то ли его брату. Версия сомнительная, так как речь шла о том, чтобы отдать христианку в жены «неверному». Думаю, это было совершенно невозможно. Идея принятия другой веры еще не пришла в мир. Вера была тем смыслом, которым руководствовались люди в жизни. И если католичка, скажем, могла перейти в православие, то мусульманину стать христианином или христианину сменить веру на мусульманскую в то время было практически невозможно. Слишком велик был водораздел, который проходил между двумя мировоззрениями. Я думаю, этот миф сотворила молва, опираясь на рыцарский кодекс. Именно этот кодекс чести объединял людей разных вероисповеданий, создавал те горизонтальные связи, при которых становились возможны любые союзы.
«Горизонтальная» близость рыцарей оказывалась подчас важнее, чем «вертикальная». Единое нормативное поведение – благородство, законы чести, поклонение красоте – все это было превыше всего. И тогда не важно становилось, кому ты служишь. Но религия, к сожалению, и в эту идеалистическую, придуманную игру вносила свои коррективы.
Чем труднее складывалась судьба Иерусалима, тем сложнее налаживались возможные связи и контакты, тем более грозным становился окрик Церкви. И рыцарство со своим кодексом и неписаными законами отступало перед вопросами, ответы на которые все время искали, словно не ведая, что они давно даны. В Библии. История эта вечна. Иерусалим вновь возвратился под власть христиан в 1228 году, но в 1244-м – опять потерян. Нет Саладина, но дело, им начатое, продолжается.
Саладин умер сразу после Третьего крестового похода. Умер естественной смертью. И сразу в его державе, как всегда после таких сильных личностей, начинаются безумные распри и отчаянная борьба претендентов на престол. Восток переживает то, что мы называем в нашей истории «феодальной раздробленностью». И чем крупнее была личность, на время державшая земли под железной своей дланью, тем ожесточеннее, безнадежнее эти распри после его ухода из жизни. Но не из Истории.
Фридрих I Барбаросса Миф и реальность
Этот человек известен скорее своим прозвищем, чем, собственно, обстоятельствами жизни. Речь идет о Фридрихе I Барбароссе, германском императоре из дома Гогенштауфенов. Если спросить русских людей, что для них означает слово «Барбаросса», большинство скажет, что так назывался план нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В чем дело? Почему план молниеносной волны против СССР был назван именем этого императора?
Думаю потому, что эта личность абсолютно мифологизирована в исторической науке и художественной литературе. Прежде всего, конечно, в литературе немецкой – там этот процесс мифологизации особенно заметен.
Согласно средневековому мифу, император Фридрих I Барбаросса не умер, а спит в горах Тюрингии. В день Страшного суда он возглавит воинство, которое будет противостоять Антихристу. Его внук – Фридрих II Штауфен – тоже спит, но уже в кратере Этны. Каждому народу хочется иметь своего короля Артура. Это понятно. Что еще из этого мифа существенно для нас? В народном сознании Фридрих Барбаросса превосходит самого Карла Великого, ибо именно Фридрих – лично! – канонизировал этого славного правителя. Этим он нарушил субординацию, ибо канонизировать может только римский папа. В 1165 году под восторг толпы в Аахене Фридрих I Барбаросса объявил франкского правителя рубежа VIII–IX веков святым и по этому случаю устроил самый пышный пир в истории европейского Средневековья. А в Средние века было важно, чтобы о пире знал весь мир. В 1184 году, на закате своей жизни, Фридрих Барбаросса в честь своего сына устроил близ Майнца такое пиршество, о котором долго и восторженно восклицала вся европейская общественность – от верхушки общества до простонародья.
Итак, Барбаросса велик в своих победах, от его имени дрожат враги. Но кто он таков, чтобы возглавлять борьбу с Антихристом? Или канонизировать Карла Великого? Каковы его заслуги?
Я назову имена двух исследователей, которые занимаются этой личностью. Это Марсель Пако, французский историк, который написал научно-популярную книгу «Фридрих Барбаросса». Она переведена с французского на русский в 1998 году. И это Василий Балакин, автор книги «Фридрих Барбаросса», изданной в серии «Жизнь замечательных людей» в 2001 году.
Василий Балакин пишет: «Смерть Барбароссы в Крестовом походе, пусть и не в сражении с неверными, являлась достойным завершением славной жизни». Как же было не назвать план молниеносной войны именем такого человека? Интересно, что удивительнейшим образом план «Барбаросса» при его осуществлении воспроизвел в основных контурах судьбу Фридриха I Гогенштауфена. Обратимся к биографии этого человека. Надо напомнить, что его родовое имя – Гогенштауфен – происходит от названия горы в Швабии. Он родился в 1125 году, прожил до 1190-го, германским королем стал в 1152 году, а через три года – императором «Священной Римской империи». Он поставил перед собой цель реально подчинить Италию германской короне. Говорят, что он даже заявил однажды римскому папе, что намерен восстановить великую Римскую империю во всем ее былом величии и блеске. Будем справедливы: не он затеял объединять Италию с Германией. Идея объединения Германии, Италии и некоторых других земель в «Священную Римскую империю» родилась в 962 году, когда германский король Оттон I начинает вести завоевательную политику в Италии. Интересно, что все германские правители ощущали себя римскими цезарями. Утопической идее воссоздания империи они посвящали себя полностью, без остатка, не жалея ни силы, ни денег, ни, в конце концов, жизни. Мысль, овладевшая ими, кажется такой естественной: ведь Италия – соседняя страна. Альпы, конечно, преграда, но они уже проходимы, перевалы известны. А за ними какой дивный, роскошный, богатый край – бывшее сердце Римской империи! Уже в XII веке итальянские города превратились в центры мировой торговли. Ну как их не ограбить? Соблазн невероятный еще и потому, что в Италии не было единого правителя. Кажется, приходи и бери, что и сколько хочешь.
И северные завоеватели идут сюда с мечом, гремя доспехами. А на пути – всего два препятствия. Одно – в лице папы римского, который все время маневрирует. Он то коронует этих императоров, то вступает с ними в борьбу. И второе препятствие, кажущееся сущим пустяком, – это свободолюбие жителей Италии. Да кто они такие? Плебеи. Даже на конях биться не умеют. Так думал Фридрих и на этом-то обжегся в знаменитой битве при Леньяно (1176), которая стала настоящим Сталинградом XII века. Ополченцы – ремесленники, оружейники, ювелиры, мясники, кожевники – оказались отважными защитниками своего богатства и своей свободы. Как показывает человеческая история, за свободу и независимость люди готовы умирать и драться насмерть. Так и произошло.
Начало правления Барбароссы такое же, как и у его предшественников. Он, представитель новой династии Гогенштауфенов, поставил цель покорить итальянские города. Время от времени все императоры так называемой «Священной Римской империи», возрожденной Западной Римской, приходили в Италию короноваться. По дороге, конечно, грабили и за короткий срок собирали большие богатства. Грабили они однако довольно элегантно. Входя в город, они обыкновенно спрашивали, кем недовольные горожане. А слабостью обывателей всегда было недовольство соседями. Поэтому жалоб было много и жаловались всегда. Тогда император говорил: «Ах так! Накажу!» И города подвергались полному разграблению, якобы за плохое поведение в отношении соседей. Это стало традицией. Но вот Фридрих I принимает решение: наконец полностью завоевать благословенный край. Он предпринимает несколько походов, и кажется, что цель близка. Правда, с римским папой договориться сложно, но и это императору удается. И вот в 1158 году начинается самый знаменательный поход Барбароссы. Но он сразу же встретил серьезное сопротивление в Милане. Миланцы сопротивлялись отчаянно, осада длилась месяц. Наконец город сдался.
Но Барбароссе мало этой капитуляции. Он захотел унизить побежденных (что, кстати, предусматривалось и знаменитым планом «Барбаросса», по которому должны были быть предприняты меры устрашения покоренного населения). Фридрих I заставил жителей Милана прибыть к нему в военный лагерь и пасть перед ним ниц. Император, видимо, был доволен собой чрезвычайно. Далее он собрал в Ронкальской долине так называемый сейм – представителей всех крупных итальянских городов Ломбардии по долине реки По. Местность, где проходил сейм, была плотно окружена его рыцарями, и он фактически предъявил побежденным ультиматум. В каждом городе появлялся наместник императора, называющийся подеста, городское самоуправление отменялось. Высший суд вершит сам Фридрих, и самое главное – было объявлено о регулярной подати в пользу императора. Все помнили, как капитулировали миланцы, поэтому приняли эти условия. И Барбаросса, ликующий, удалился.
Стоило ему уйти за Альпы, как Милан немедленно восстал. Темпераментные итальянцы расправились с подестом, и события стали приобретать драматический характер. И это понятно. У Барбароссы не было выхода – с Миланом надо было покончить. И он учинил расправу. Фактически в течение двух лет (1160–1162) город был в осаде. И все это время миланцы рассылали воззвания к соседним городам, надеясь, что они придут на помощь, станут союзниками. Прежде довольно дружные северноитальянские города сейчас не торопились. Не будем идеализировать средневековых горожан. Причина простая: в конце XII века торговля на севере Италии кипела вовсю, и финансовая конкуренция давала себя знать. Видимо, у соседей Милана родилась простая и неблагородная мысль – пусть Барбаросса как следует накажет этот город, и тогда в лидеры вырвутся другие – Болонья, Пьемонт, Винченца, Генуя, Венеция. Претендентов полно.
На этот раз фантазия Барбароссы превзошла саму себя. Надо было придумать что-то очень страшное. И он придумал. Расправа была чудовищна. Он приказал обратить жителей мятежного города Милана в рабство, изгнать их из родного города. Им было разрешено взять с собой лишь то, что они могли унести в руках. А Милан велено было разобрать – полностью. Дома, соборы, стены, возведенные еще в древнеримскую эпоху… Ничего не уцелело от целого города. Ну, теперь, кажется, все. Но нет, Барбароссе было этого мало. На рыночной площади он приказывает провести борозду плугом и засеять ее солью. А жителей исчезнувшего с лица земли города он распорядился провести под связанными кольями, символизирующими ярмо для волов. Так в древнем Риме поступали с побежденными, так римляне действовали в Карфагене во II веке до н. э.
Сколько же лет прошло… В Средневековье, как в Древнем Риме, был важен жест. Потому что на первых порах средневековая эпоха – это цивилизация не пишущая и почти не читающая. Жест заменял текст. И вот Фридрих Барбаросса, наказывая мятежников, как бы говорит: «Да, я настоящий римский император и с мятежным городом поступаю так, как римляне в Третьей Пунической войне» Основные реалии античной истории, хотя и сильно искаженные, а подчас наивно перетолкованные, жили в сознании средневекового человека. Он помнил знаковые фигуры прежней эпохи: Ахилла, Гектора, Александра Македонского, Ганнибала, Сципиона Африканского.
Расправа с Миланом была чудовищной. И Барбаросса остался доволен собой. Но император ушел, у него дома было много забот: борьба с крупными вассалами, которые восставали при малейшей возможности, отнимала много времени. А Альпы – хорошая преграда, благодаря им можно вести себя очень независимо. Итак, император ушел, а итальянские города объединились в мощную Ломбардскую лигу. Общая казна, общее войско и полная самостоятельность во внутригородских делах – это стало залогом успеха. Созданная Лига сильно напоминала древний Афинский морской союз.
Члены Ломбардской лиги понимали, что рано или поздно император вернется. Это был человек рыцарской эпохи. И потому он должен был вернуть себе славу победителя – подтвердить, что и Ломбардскую лигу он тоже покорит. Барбаросса вернулся. И в 1176 году встретился, опять около Милана, километрах в 20 от города, у деревушки Леньяно – теперь там музей – с войском Ломбардской лиги. Именно с этого события современная Италия ведет отсчет своей национальной истории. У нас вообще не знают этой битвы, а между тем ей посвящена одна из лучших опер Джузеппе Верди. В битве при Леньяно рыцарская конница Барбароссы потерпела сокрушительное, страшное поражение от североитальянского ополчения. У итальянцев тоже была конница, но слабая. Она разбежалась и была подавлена. Зато пешее войско, с длинными пиками, встало намертво вокруг своей знаменитой повозки короччо, где были сложены городские реликвии. Эти люди готовы были умереть за свою землю. Это важный фактор любого сражения и любой войны, и его, видимо, мало учитывал Барбаросса. Битва складывалась не в пользу немецких рыцарей. Их сбрасывали с коней обычные городские ремесленники. Упавший с коня рыцарь в доспехах весом в 30–50 килограммов был малоподвижен и без посторонней помощи подняться не мог, а находившиеся обычно при рыцарях оруженосцы разбежались или погибли. Сам император был сбит с коня. Симпатизирующие ему авторы пишут, что «он, как молния, метался, пока не убили коня…». О том, что было дальше, источники сообщают невнятно. Фридрих исчез с поля боя. А у ломбардцев остались его знамя, пика, крест и шлем. Интересно, что современные авторы мало обращают внимания на то, что это было столкновение рыцарского века с приближающимся веком новым. И горожане именно северной Италии раньше других отошли от чистого Средневековья. Они-то и воплощали будущее, эпоху буржуазии со всеми ее пороками и добродетелями. А что же с Барбароссой? Он подписывает в 1183 году в Констанце мир с Ломбардской лигой, которая признала его своим сюзереном чисто формально, а реально сохранила все свои свободы.
Барбаросса все потерял в результате поражения. И наш великий, непобедимый герой вынужден был покаяться, поклониться и поцеловать ногу папе Александру III. Видимо, эти унижения побуждают Фридриха Барбароссу в его годы (а ему шестьдесят пять лет, для Средневековья это очень много) принять крест и отправиться в 1190 году в Крестовый поход.
В глубину религиозности многих представителей высшей знати поверить трудно. Ритуально – да, они соблюдали положенные обряды, а принятие креста – это не только мужество, но сегодня мы сказали бы – имидж. Он должен был вернуть себе имидж. Император принял крест торжественно, на съезде князей. Огромное, стотысячное войско верит в своего императора и в его победу. Несмотря на поражение в Ломбардии и фактически признание независимости ломбардских городов. Ведь Барбаросса по природе своей завоеватель: он все время воюет, воюет жестоко, сжигает города, уничтожает жителей. То, что Фридрих I возглавил Третий крестовый поход в возрасте 65 лет, вероятно, для современников было очень важно. Войско было воодушевлено. Барбаросса соответствовал образу героя своей рыцарской эпохи – высок ростом, могуч телосложением. Светловолос и с рыжей бородой. В бою он часто проявлял себя как отважный воин. Вот она – благодатная почва для мифа.
В немецких исследованиях 1930-х годов Барбаросса всячески превозносился. В современных же книгах ему посвящается полторы странички, а его военным «успехам» – сотня страниц. Подробно освещается история покорения Италии – сколько он уничтожил городов, с кем поссорился, кого обманул. Смотрите, миф работает, он живет своей жизнью. О Леньяно все постарались забыть. В процессе мифотворчества общественное сознание, как мне кажется, умеет само с собой договориться – а именно высвечивать то, что подходит для принятого образа, и не видеть то, что диссонирует с ним.
Смерть застала императора в Малой Азии. Есть две версии того, как это произошло. Его войско с трудом продвигалось вперед. На пути – речка Салев, вдоль которой долго идут его воины. Трудная местность, пустыня. Согласно первой версии, император решил перейти реку. Ему казалось, что по другой стороне идти легче. Он решил переправиться прямо на лошади. Стояла страшная жара, но вода в горной реке была холодной. Из-за контраста температур сердце Фридриха не выдержало. Это стало причиной мгновенной смерти. Версия вторая гласит, что император благополучно переправился и на том, более ровном берегу устроил пир. Пир состоялся, Фридрих впал в такое хорошее настроение, что решил искупаться в этой горной речушке. И тот же результат – сердечный приступ. Из реки выловили мертвое тело. Но это не все. Было принято решение: захоронить его внутренности там, где он утонул, недалеко от города Тарсе – города апостола Петра. Но император мечтал быть погребенным в Иерусалиме, и крестоносцы решили исполнить волю Фридриха. Они увезли с собой его кости. Но Иерусалим тогда не был взят крестоносцами. С костями помаялись, помаялись и закопали их где-то в пустыне, недалеко от Аккры.
Существует немало изображений Барбароссы. Скульптурные портреты, его изображения на монетах. Я думаю, что все они действительно передают что-то из его реальной внешности. А в годы Первой мировой войны в Германии ему был воздвигнут монумент. Это символическая фигура огромного размера с невероятно большим мечом. Только такой исполин мог стать символом непобедимости немецкого, в скором времени арийского духа. Жизнь Фридриха I Барбароссы оказалась прекрасным материалом для рождения мифа.
Чингисхан Безжалостный завоеватель мира
Начало кровавой дороги
Каждый школьник знает имя Чингисхан. На самом деле монгольского хана звали Темучин, по-монгольски Тэмуджин. Он родился в 1155 или в 1162 году – историки не единодушны, умер 18 августа 1227-го. В 1206 году он основал Монгольское государство. Чингисхан – организатор завоевательных походов в Азию и Восточную Европу, великий реформатор и объединитель Монголии. Прямые потомки Чингисхана по мужской линии – чингизиды. Все это можно прочесть в энциклопедии. Нас же интересуют подробности его жизни. Хотя, если вы спросите, какой след оставил этот человек в истории, я, не задумываясь, отвечу – кровавый.
Он из тех же мест, что и гунны, – какое-то поистине мистическое место в Монголии! Оттуда дважды поднимались страшные, сметающие все на своем пути силы… Завоевателей в жизни человечества было много, но ни вождь гуннов Аттила, один из величайших правителей варварских племен, когда-либо вторгавшихся в Римскую империю, ни Александр Македонский, ни Бонапарт и никто другой из многочисленных претендентов на мировое господство не отличался такой неутолимой жаждой жестокости, зверств и разрушения всего, что встречалось на пути, какая была у Чингисхана. Это была его страсть, его цель – уничтожить все, не столько взять, сколько уничтожить.
Очень страшно, что в XX веке его идеализируют и возвышают, как например, в художественном фильме режиссера Синитиро Саваи «Чингисхан: до самого конца земли и моря» (Монголия – Япония, 2007). Возможно, это какая-то тяга на генетическом уровне, на психофизическом, космическом, тяга к поклонению перед силой. Создатели фильма ищут что-то привлекательное в этой страшной личности. Ищут и находят – вот что самое печальное. Остановимся на нескольких эпизодах его жизни, которые так занимают кинематографистов. Например, на том, как он по смешному поводу убил брата Бектера – на охоте не поделили то ли рыбу, то ли маленького жаворонка. И вот из-за этого он со своим сводным братом Хасаром совершил такое злодейство. Конечно, в истории это – обычная ситуация. Каин убил Авеля из-за желания отстоять свое первенство. Но наше отношение к Каину явно отрицательное, людям всегда не нравится, когда брат убивает брата. А в фильме, и не только в нем, Чингисхан – герой. А убийство Джамухи? Да, они соперничали, но ведь были же побратимами, как же так? Если историки спорят, кто именно приказал сварить в огромном котле пленников, Чингисхан или Джамуха, то мы усматриваем в этом зверство особого свойства. Здесь явно, говоря языком Стругацких, превзойден «нормальный уровень средневекового зверства».
Что же восхищает потомков? Да, Чингисхан завоевал территорию от Индии до Средней Азии. Затем отправился в европейские степи, вторгся на территории русских земель. Все знают о знаменитой битве на Калке 1223 года. И опять особые, изощренные зверства. Победители-монголы пировали на деревянном настиле, который положили на живых еще участников сражения, прежде всего на князей и вождей, умирающих людей…
Однако одна из задач наших – попытаться восстановить обстоятельства жизни и облик этого человека (хотя на мой взгляд, человеком его можно назвать лишь условно), разобраться, что же с ним случилось и как такое могло быть. Источников о жизни Тэмуджина, Чингисхана, много. Самый главный – «Тайная история монголов, или Сокровенное сказание» («История» существует в русском переводе). Это эпическое повествование о Чингисхане и его роде написано близкими к хану людьми в середине XIII века, примерно через 13 лет после его смерти. Записанная на монгольском языке китайскими иероглифами (к тому времени монголы еще не создали своей письменности) рукопись предназначалась только для членов рода и хранилась в царской сокровищнице. Существует много ее переводов, в том числе и на русский язык. Интересно, что найдена была эта «История» русским китаеведом Палладием Кафаровым в 1866 году. Отец Палладий, в миру Петр Иванович Кафаров (1817–1878), был человеком напряженной духовной жизни, талантливым ученым, членом тринадцатой Русской Православной миссии в Пекине. Он является создателем китайско-русского словаря и транскрипционной системы. Найденную им «Историю» он же и перевел на русский язык.
Второй источник тоже чрезвычайно важный и серьезный – сборник летописей персидского историка начала XIV века Рашида ад-Дина. Его призведения считаются официальной историей монголов. В сборнике летописей есть элемент отстраненности, а потому он отличается более объективным взглядом на события, чем монгольские или китайские источники такого рода. К тому же арабская культура в те времена была на очень высоком уровне, уже существовали прекрасные традиции научного письма. Представляется, что этот автор использовал источники на монгольском языке, которые не дошли до нас, в частности «Золотую книгу». Арабские авторы Средневековья очень часто использовали древние рукописи.
И наконец, в нашем распоряжении документы официальной истории правившей в Китае до 60-х годов XIV века монгольской династии Юань. Последний правитель из династии Юань, напуганный антикитайским восстанием, бежал в Монголию, а к власти пришла основанная восставшими династия Мин. Таковы основные источники, которые дают возможность восстановить довольно подробную картину жизни Чингисхана и его окружения. Особенно пристальное внимание уделим его детству. Оно привлекало и средневековых авторов, ибо в детские годы закладываются основные качества характера.
Обстоятельства его рождения обрастали мифами, что естественно и очевидно для этой стадии развития общества. Считалось, что Чингисхан родился со сгустком крови в правой руке, и сгусток этот имел форму камня. Это сочтено было особым знаком, о чем и впоследствии много раз вспоминали. Лицо его светилось, волосы и глаза были слишком светлыми для монгола, а взгляд не по-детски пристальным. Объясняли это просто – род Темучина восходит к потомкам некоего небесного человека со светлыми глазами по имени Бодончар. Конечно же это был намек на божественное происхождение. Мать его рассказывала, будто ей являлся некто во время беременности и она видела в небесах какое-то свечение.
От мифов обратимся к фактам. Его отец – Есухей-богатур. Заметим, что времена Чингисхана, то есть XII век, – расцвет рыцарства, зрелое высокое Средневековье в Западной Европе. На Востоке же, в Монголии, царит совершеннейшее варварство. Богатур-богатырь – глава улуса, кочующей группы людей, большой семьи – пользуется уважением, умеет воевать, дает отпор соседям, у него есть небольшая дружина. Представить себе, что римская фамилия вместе с рабами кочует по полям и равнинам, невозможно. Здесь же у каждого улуса существовали свои границы, нарушение которых вело к военным столкновениям. Мать Чингисхана была красавицей, ее имя известно – Оэлун. Ее Есухей-богатур похитил из племени меркитов. Нравы того времени ему это вполне позволяли, в таком поступке не было ничего необычного. Но вот, что было неестественно: он отбил молодую красавицу, которая только что вышла замуж. Вот из-за этого обстоятельства и возник вопрос о законности происхождения Тэмуджина. Кто был его отец? Есухей-богатур ли? Это мучило Чингисхана всю жизнь. Может быть, меркитское семя уже было во чреве его матери, когда Есухей-богатур похитил ее? В юности, если хотели его унизить, оскорбить, говорили – «ты, меркитское отродье». Это считалось ужасным оскорблением. И конечно, у него на этой почве возник комплекс неполноценности. Мать намекала на его божественное происхождение, возможно, для того, чтобы этот комплекс мальчик преодолел. Но это, видно, мало помогало – эти сомнения он пронес через всю жизнь.
Мстительность – одна из главных его черт, он был вечным мстителем. Оскорбления, полученные в юности, не давали ему покоя всю жизнь. Самая страшная его месть была татарам, одному из монгольских племен, которому, по иронии судьбы, дали название «монголо-татары». Есухей-богатур успешно воевал с ними, но однажды татары предложили ему выпить отравленный кумыс. Он выпил и умер. Месть татарам была как будто завещана Тэмуджину отцом, и он отомстил – татары были уничтожены. Ему приходилось всю жизнь помнить и о меркитах, с которыми он беспощадно расправлялся. Он копил обиды, никогда их не забывал, никогда их не прощал, казалось, он состоял из одной яростной, слепящей мести. Мстительность – это на всю жизнь.
Перед смертью Есухей решил найти своему сыну невесту. Ею стала десятилетняя девочка Борте. Став женой Чингисхана, она сыграет большую роль в его жизни. А пока родители договорились, что их дети поженятся, но не сразу, а в будущем. И тут умирает Есухей.
Со смертью отца улус распался. Тэмуджину было в то время девять лет. Его мать была женщиной с сильным и крепким характером, она как могла боролась, чтобы сохранить это объединение людей, ибо только большой семьей можно выжить в кочевье, но у нее ничего не получалось. Дружина Богатура, родные и близкие друзья уходили. И они имели на это законное право. Ведь человек, которому они приносили личную вассальную клятву, умер. Они имели право и возможность признать преемником сына Есухея, Тэмуджина, но очень уж не хотелось это делать. Шансы, что этот мальчик скоро станет отважным и сильным воином, способным повести за собой людей, были чрезвычайно малы. А ведь нужен именно такой вождь, чтобы спокойно жить, зная, что всегда сможешь дать отпор опасным соседям. И вот тогда-то, очевидно, чтобы оправдать свой отказ присягать сыну Богатура и уход из улуса, вассалы Есухея пустили слух о сомнительном происхождении Тэмуджина. У мальчика было три родных брата, все младше его – Хасар, Хачиун, Тэмугэ – и два сводных – Бэгтэр и Бэлгутэй. Все они входили в этот улус, поэтому шансы на возрождение рода были. Но на это требовалось время. А вассалы ждать не стали и ушли.
Очевидно, именно к этому, весьма плачевному периоду относится тяжелое для Тэмуджина событие. Он оказывается в плену у монгольского племени тайчиутов, они держат подростка в деревянных колодках – в фильмах этот эпизод обычно смакуют. А на самом деле Тэмуджин вместе с братом убили в ссоре молодого воина из этого племени. Вот вождь тайчиутов и заковал его в колодки. Так он жил не месяц и даже не год, а может быть, несколько лет. Вокруг него были рабы и скот. Этот период жизни повлиял на формирование его личности особенно катастрофически. Спустя много-много времени, когда этот самый Тэмуджин станет великим Чингисханом, он придумает законы – и их запишут с его слов, – среди которых будет и такой, лично выстраданный, для него – безусловный: «Монгола нельзя держать в рабстве».
Для того чтобы понять, как этот закомплексованный и не очень счастливый подросток превратился во властелина половины мира, надо припомнить, кто такие монголы в это время. Монголы – это одно из племен, которое дало название большой племенной группе, включающей в себя разные народы, например, меркитов и татар. Точно так же среди германских племен, населивших будущую Францию, были не только франки, но и швабы, бургунды и другие. Франки оставляют им свое имя – и так рождается название государства. Большой племенной союз существует с середины VIII века, и именно с этого времени начинается его движение на Запад. В сущности, это одна из поздних волн Великого переселения народов.
Обратимся к событиям, предшествующим походу на Запад. Монголы не были сильным и воинственным племенем, наоборот, их считали слабыми – само слово «монгол» означает «бессильный» или «простосердечный». Они были почти полностью истреблены племенем кидани в районе большого Хингана и реки Аргун, в глубинах Монголии. Как говорит предание, остались всего двое мужчин и две женщины. Ах, как они потом за все это отомстили!
Предание есть предание. Однако понятно, что племя монголов не сразу и не вдруг, а через сложные исторические перипетии стало лидером. По легенде, которая, как мне кажется, содержит зерно истины, монголы, научившись плавить железо, расплавили гору и вышли на простор степей. Конечно, расплавленная гора – это фантастическая деталь, но факт освоения железа налицо. В монгольских степях было немало залежей руды, что позволяло даже при самых примитивных орудиях – кузнечных мехах и кострах – начать выработку железа. И понятно, что именно это умение выдвигало тех, кто овладел им, на авансцену истории. Вспомним вторжение дорийцев в Грецию около 1100 года до н. э. Почему варварам удалось победить греков с их высочайшей культурой? Они умели ковать из железа наконечники для стрел. А повстречавшаяся на пути завоевателей крито-микенская культура находилась в бронзовом веке. Бронза прекрасна, красива, хороша в обработке, но в прочности она сильно уступает железу. Когда-то кочевое племя гиксосов сумело захватить большую часть Древнего Египта по той же самой причине. Хотя кто такие гиксосы по сравнению с цивилизованными египтянами? Дикари!
Ко времени появления Чингисхана монголы – это уже сильное и знатное племя. Позднее варварство сочетается у них с еще ранним степным рабством. Чингисхан, переживший унижения в юности, очень болезненно воспринимал попытки кого-либо нарушить иерархию в обществе. Ему приписывают слова: «Если раб не предан хозяину – убить его!» А вообще он мало что понимал во взаимоотношениях с другими людьми и народами. К его времени в обиход входит слово Ван, что значит в переводе с китайского «князь». Китай сильно опережал монголов в своем развитии. Там уже появилось неравенство, и княжеский титул это подтверждает. Тэмуджин такого титула пока не имел, но он получил от китайского императора должность «джаутхури», военного комиссара, сотника, за участие в истреблении татар и возрождение своего улуса. Когда и как ему удалось вырваться из плена, на самом деле никто не знает. Есть несколько версий. Согласно одной из них, ему удалось бежать во время сильной грозы, которую древние монголы очень боялись. Он каким-то чудом убил двух стражников, сломав им хребты – это его любимый способ казни – и скрылся. Тэмуджин вернулся в разоренный род, на пепелище и мог бы пасть духом. Но у него была яростная, всемогущая вера в свои особые возможности и сжигающая его жажда мести. Может быть, именно она давала ему эти сверхъестественные силы? А поводов для мести у него было много. После плена он женился на красавице Борте. Но горькая ирония судьбы! Вскоре после свадьбы она была похищена меркитами, которые не забыли, как его отец увел женщину их племени. С трудом собрав небольшой отряд, Тэмуджин обращается за помощью к другу детства и своему побратиму Джамухе. Они вместе отбивают Борте у меркитов. И опять сомнения… Она ждет ребенка. Чей он? Его ли? В судьбе Тэмуджина, как в зеркале, повторяется жизнь его отца. Первого сына Чингисхана Джучи недруги будут называть «меркитское отродье».
Почему же все-таки именно Тэмуджин из мелкого бандита, которым долгое время оставался, превращается в бандита мирового масштаба, императора монгол, повелителя народов? Чем он отличался от всех остальных, тоже жаждущих власти и могущества? Если коротко, то можно сказать, что его энергетической пружиной была ненависть. Он был пропитан ею. А ненависть, к великому сожалению, способна стать стимулом для завоевания половины мира.
Океан зла
Чингисхан. Определенно интерес к этой личности растет. Как растет и желание показать его великим и гениальным. Особенно страшна попытка сделать из него героя. Я никак не разделяю этих настроений. Мне хотелось бы противопоставить его апологетам свои аргументы. Постараюсь подтвердить свое мнение фактами из его жизни и словами самого Чингисхана, которые дошли до нас в источниках.
Его разбег, подготовительный этап – это 1189 год, когда Тэмуджин был избран ханом. Сколько ему лет? Если он родился в 1155 или в 1162 году, он уже достаточно зрелый, хотя и молодой мужчина. Представители знатных родов большей части Монголии признали его ханом, то есть «стоящим над всеми». А ведь совсем недавно монголы отказались от этого института верховной власти. Все вожди равны – утверждали они. К тому же еще был жив сын последнего хана из ханского рода Хутулы-хагана – Алтай, да и многие его родственники. Несмотря на все эти обстоятельства большая группа знати решила признать Тэмуджина ханом. Процедура избрания была очень простой – вожди подняли его на кошме над собой и произнесли клятвы. Они клялись при разделе добычи выделять ему очень хорошую долю, обещали быть верными и следовать за ним, куда бы он их ни повел. Такой обряд был принят и у германцев в Западной Европе. Хлодвиг в VI веке провозглашается франками своим вождем-правителем, затем – королем именно таким образом. Только в Европе поднимали на щит, а в Азии – на кошму.
И вот Тэмуджин хан. Почему же именно он? На это было несколько резонов. Во-первых, он был из рода последнего хана. Во-вторых, что еще более важно, Тэмуджин – удачливый предводитель, чрезвычайно беспощадный, невероятно жестокий. А у варварского окружения жестокость вызывает одобрение. Он убьет своего главного соперника, второго претендента на ханский титул – своего друга и побратима Джамуха. Под разными предлогами и без всяких предлогов Чингисхан убьет и всех родственников последнего хана, одного за другим. Возвышало его в глазах знати и то, что Тэмуджин получил от китайского императора должность джаутхури – пограничного чиновника, военачальника. И опять-таки он обратил на себе внимание китайских начальников своей жестокостью при беспощадном истреблении татар. Считалось, что татары отравили его отца, и поэтому Чингисхан проявил особые чудеса жестокости по отношению к ним. По его приказу убивали всех мужчин, кто был ростом выше оси колеса. То есть в живых оставались двух-трехлетние мальчики.
Варварский кочевой мир одобряет и приветствует такие поступки. По мнению варваров, только такой лидер мог быть надежным заступником. Но даже их Чингисхану удалось смутить. После своей победы над Джамухой он приказал сварить пленников в семидесяти котлах. Вот с такого старта начинаются завоевания Чингисхана.
В 1206 году, в год Барса, Курултай – большое собрание представителей всех монгольских племен – избрал Тэмуджина своим главой. За ним утверждалось серое знамя с белым кречетом. Отныне он будет носить имя Чингис, что означает «океан» или по другой версии «избранник неба». Сам Чингисхан предпочитал называть себя избранником неба и светлого духа Тенгри – божества, в которое верили монголы. Почитание Тенгри-Хана – небесного духа-хозяина широко распространено среди народов Центральной Азии.
Размышляя о том, почему монголы вернулись к ханской должности, я думаю о той непримиримой межплеменной вражде, которая вообще характерна для кочевой стадии развития общества, но у монголов она достигла такого предела, такой меры озверения и дикости, что существовала реальная возможность полного истребления племенами друг друга. И в этой ситуации они предпочли жестокого лидера самоистреблению. Категорически утверждать это трудно, но предположение возможно в качестве гипотезы. Обозначу некоторые вехи завоеваний Чингисхана, они производят сильное впечатление.
В 1207 году он покоряет племена в верховьях реки Енисей, целую группу племен – найманов, кераитов, меркитов. В 1209 году в восточном Туркестане ему подчиняются уйгуры, более цивилизованные, чем монголы, владеющие письменностью (именно на уйгурском языке писались документы в эпоху Чингисхана). Через два года начинаются войны с Китаем, великой, огромной империей. Через пустыню Гоби течет целый океан монгольских войск, уничтожая все на своем пути. 1215 год – важнейший в войне с Китаем: монголами взят Пекин. Город горел целый месяц. А вообще в войне с китайцами Чингисхан уничтожил девяносто городов. В 1218 году с берегов Иртыша началось наступление монголов на Среднюю Азию. Пали и уничтожены Бухара, Самарканд, Ургенч, Хорезм. Погиб Хорезмшах – правитель Хорезма, древнего государства Средней Азии с центром в низовьях Амударьи. В 1220 году Чингисхану подчинились Северный Иран, Закавказье и Крым. Через три года монголы стояли на реке Калка. А это уже Европа! В 1226–1227 годах уничтожено государство Си Ся, созданное в конце X века тибето-бирманскими племенами минья на территории современного северо-западного Китая. Отряды Чингисхана дошли до Инда. Масштаб завоеваний колоссальный. И в памяти человечества они оставили сильнейшее впечатление.
Очень пугает в современном мире нездоровое тяготение к символам силы, успеха, основанного на насилии. Например, прошло сообщение, что в Республике Тува обнаружен дворец Чингисхана. Какая радость! Как все гордились, что именно там найден этот дворец. Но, думаю, у нормально мыслящего и развитого человека, с нравственной природой, это не должно вызывать безумного ликования. Оценки надо корректировать. Да, это громадные завоевания, но какой ценой! Как они происходили! Приведем некоторые факты из истории войн Чингисхана в Китае. На том пути, что вел из Монголии в Китай, стоял город Хуалай, крупный торговый центр. Современники отмечают, что много лет спустя после того, как монголы его взяли, территория примерно в пятнадцать квадратных километров была покрыта человеческими костями. Уничтожение людей становится нормой походов Чингисхана. Город Цзинань, расположенный на западе провинции Шаньдун, важное связующее звено между Северным и Восточным районами Китая, хорошо описан в источниках. Его украшали фонтаны, озера с прекрасными цветами лотоса, огромные парки, скульптуры, наконец, знаменитая гора Тысячи Будд с изваяниями, созданными в VII веке. Все это было уничтожено!
Чингисхана, этого классического степняка, город вообще раздражал. Ему было непонятно, где там пасти скот. Сохранилась гравюра XIII века, написанная, видимо, китайским или арабским художником. Гравюра называется «Зверства монголов». Значит, люди еще в те времена прекрасно понимали, что Чингисхан перешел некую грань жестокости, что они имеют дело с чем-то доселе неизвестным. Смотрите сами. На гравюре изображены монгольские воины, одни несут отрезанные, отрубленные человеческие ноги, другие – руки. Над костром, на вертеле – человеческое тело. При этом монголы не были каннибалами. Случаи каннибализма отмечались у них только в случаях длительных осад. Что это, как не зверство? И это говорю не только я, но и художник XIII века.
Иногда в споре со мной говорят: «А крестоносцы? А Нерон? Калигула?» Жестокость есть жестокость, и Калигула был патологически жесток, и Нерон тоже. Но если таких варваров – целая орда, последствия их деяний не поддаются описанию. Тут речь идет об уничтожении целых цивилизаций и сотен тысяч людей. При штурме городов Чингисхан гнал впереди войска тысячи пленников, чтобы они первыми пали под стрелами тех, кто держал оборону. Эти тысячи становились, как сейчас говорят, пушечным мясом, по их телам текла лавина орды. Человеческая жизнь не стоила абсолютно ничего. Вот что страшно, и это не следует забывать, рассуждая о великом завоевателе.
1214 год – осада Пекина. Город представлял собой укрепленную крепость с мощными башнями и стенами, длина которых составляла 43 километра. Чингисхан понимал, что взять этот город будет трудно, и предложил горожанам откупиться. Колоссальный по тем временам выкуп ему был предоставлен: тонны золота, серебра, 500 мальчиков, 500 девочек, тысячи лошадей. Чингисхан снял осаду. Но ровно через год вернулся, устроил страшный штурм, после которого город горел на протяжении месяца. Посол Хорезмшаха был очевидцем этих событий. Вот как он описывает это зрелище: «Кости убитых образовали горы, почва стала жирной от человеческой плоти, и гниющие повсюду тела вызывали болезни, от которых некоторые из нашего посольства умерли. 60 тысяч девушек бросились с крепостных стен, чтобы избегнуть рук монголов». Даже современники, видевшие насилие на каждом шагу, останавливаются в изумлении перед этой жестокостью. Для Чингисхана она – норма.
И вот он устремляется на юг от Аральского моря в Хорезм – на территорию, где сегодня находятся Афганистан, Туркестан и Иран. Хорезм, добившийся в начале X века независимости от арабов, процветает. На протяжении двадцати лет страной правит султан Мухаммед, и он еще молод. И посол передает ему письмо от Чингисхана, в котором тот пишет, что хотел бы видеть Мухаммеда своим сыном. Естественно, султана охватывает ужас. Дикий монгол, страшный завоеватель зовет его в сыновья! Дело безнадежное, никаких равноправных отношений быть не может, но все-таки правитель Хорезма пытается с помощью дипломатии хотя бы оттянуть время. Бесполезно! Начинается беспощадная истребительная война. Хан стремится уничтожить все!
Приведем свидетельства об уничтожении Бухары. Арабский историк Ибн Аля Сир писал: «Это был ужасный день, отовсюду слышались рыдания мужчин, женщин и детей, разделенных навеки монголами. Варвары бесчестили женщин прямо на глазах у этих несчастных, которые в своей беспомощности могли только плакать. Многие зрелищу этого ужаса предпочитали смерть». Если бы о зверствах орд Чингисхана писал один очевидец, то можно было бы усомниться в его объективности, но свидетелей тому множество, и, к сожалению, сомнений не остается.
Современники свидетельствуют, что у Чингисхана начались разногласия со старшим сыном, тем самым, который, возможно, происходил из меркитского рода. Джучи стал высказывать сомнения в целесообразности истребления всех и вся. Дело в том, что для Джучи эти города были его улусом. И он не хотел, чтобы разоряли его, хотя и не завоеванную еще до конца территорию. Но все его доводы, возражения и просьбы были категорически отвергнуты. А потом Джучи внезапно умер. Сразу поползли слухи о том, что его убили отравленной стрелой. Слухи не были беспочвенными – ведь над недовольными Чингисхан обычно чинил быструю расправу. Напомним, Джучи был отцом хорошо и печально известного в России хана Батыя (Бату-хан, 1205–1255), монгольского полководца и государственного лидера, чингизида, хана Золотой Орды.
Многие историки пишут о военном искусстве Чингисхана. Конечно, в течение тех многих лет, что он воевал, его тактика и стратегия не раз менялись. Например, поначалу он использовал конницу при штурме крепостей, а впоследствии понял, что это абсолютно бессмысленно и разработал метод применения осадных орудий, к которым приставлял пленных. Его пленники, беспомощные и безусловные смертники, копали подкопы, ровняли площадки для осадных орудий, под обстрелом готовили осаду. Чингисхан стал применять разведку с переодеванием своих людей, которые проникали в стан врагов. Монгольское войско, по мнению специалистов по военному искусству, имело большие преимущества по сравнению с армиями цивилизованных стран, в том числе Хорезма и Китая. Неприхотливость, готовность к дальним походам, необычайная выносливость, которые были результатом многовековых усилий и генетического отбора, – вот что отличало монголов. Кочевники были несравненно более сильными воинами, чем европейцы. И их было больше, это была огромная, бесчисленная сила. Цивилизованные народы изначально были поставлены в гораздо более уязвимую позицию. Они могли победить в столкновении, только играя по своим правилам. И, наконец, монголы применяли тактику выжженной земли, известную, правда, и у других завоевателей. Вспомним хотя бы Пекин, который горел месяц. Потому что цель монгольских завоеваний была одна – все сжечь, уничтожить.
Лишь в самом конце жизни Чингисхан начал несколько сомневаться в целесообразности своих действий. Это случилось, когда он занялся обустройством своей колоссальной империи. Что он сделал? Ему приписывают, видимо не без оснований, приказ о создании яса (от монгольского «жасак» – «запрет», «наказ, закон», «налог, подать») – свода законов, Монгольской правды, наподобие Русской правды. Кроме того, Чингисхан ввел единое административное устройство своего необъятного государства. Территория была разделена на 95 военно-административных районов, которые состояли из «тысячи». Так называлась территория, выставляющая тысячу всадников. Он создавал государство, работающее на войну. Оно включало 16 служб, в том числе службу сокольничьей охоты. А как же? Ведь он очень любил охоту. Представителями местной власти были темники, тысячники, сотники, десятские. Все понятно из названий. Они руководили военными подразделениями и в то же время решали на местах мирные вопросы. Чингисхан в конце жизни повелел знатным юношам изучать уйгурскую письменность, чтобы они могли вести делопроизводство в письменной форме. В начале своего пути он категорически отвергал все дары городской цивилизации, считая, что она рождает слабых, изнеженных, не пригодных к войне людей. Жечь все, брать только самое ценное – золото, серебро, пленников, остальное – в огонь. Такова была его позиция. Конечно, он менялся. Жизнь меняет каждого человека, даже такого чудовищного, каким был Чингисхан.
Почему же все-таки «чудовищный»? Я приведу маленький отрывок из арабского источника, автор которого приписывает Чингисхану такие слова: «Самая большая радость для мужчины – это побеждать врагов. Гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен». Те же крестоносцы проявляли жестокость. Но масштаб не сопоставим совершенно. Крестоносцы соблюдали правила войны, некий рыцарский кодекс. И когда эти установления нарушались, можно было пожаловаться королю или римскому папе, которые, как правило, наказывали виновного. Здесь же – другое. Нарушение всех человеческих представлений – это принцип. Это прекрасно – сжимать в объятиях чужих жен, насиловать их на глазах мужей, гнать перед собой врагов, волоча их на канате или привязав к хвосту лошади. Это прекрасное зрелище – видеть, как корчится в муках твой враг. Возможно, причина кроется в истории и предыстории, которая протекала в других условиях по сравнению с европейской. Возможно, так сильно отличающаяся форма восприятия жизни связана у монголов с кочевым образом жизни. Гунны в описаниях римских историков очень похожи на монголов. В IV–V веках римляне увидели в Аттиле «бич Божий». Римляне очень тонко подметили, что у гунна нет понятия родины, ибо он зачат в одном месте, выношен в другом, а родился – в третьем. Его родина – кибитка. Сидя на выносливой, тяжелой лошади, он может справлять нужду, спать, торговать… Словом – жить, не слезая с седла. Такой образ жизни, возможно, является в некотором роде объяснением той жестокости и беспощадности, которые характерны для кочевых народов. Лотосы, плавающие в озерах китайского города, для диких монголов – странность, ненужность, извращенность.
Каков же был закат жизни нашего персонажа, создавшего огромную империю на территории от Венгрии до Индии? Как и все злодеи, после пятидесяти лет он начал панически бояться смерти. Сила христианской морали была ему не знакома, но что-то он все-таки чувствовал: безусловно, груз злодейств давил на него. Несмотря на свою неприязнь к книжникам, Чингисхан требовал, чтобы к нему доставляли то одного, то другого китайского мудреца. Посетил его даже знаменитый даосский монах Чан Чунь, который, как считалось, познал тайну бессмертия. От всех мыслителей хан ждал утешительных предсказаний. Под страхом смерти Чингисхан всегда запрещал говорить с ним о милосердии, но на склоне лет впервые проявлял что-то вроде терпимости. Мудрецы вышли от него живыми, а это немало.
Скончался Чингисхан в походе против китайского государства Си Ся. Он умер под стенами его столицы на шестьдесят шестом году жизни, взяв обещание со своих наследников истребить тангутов полностью. Его завещание было выполнено. Еще он потребовал, чтобы гробницу его спрятали так, чтобы и века спустя найти ее было невозможно. И это его желание было исполнено.
Людовик IX Святой Последний крестоносец
Из всех французских королей лишь один получил прозвище Святой, да еще при жизни. Людовик IX – король из дома Капетингов – правил Францией с 1226 по 1270 год. Великий насмешник и критик монархии Вольтер написал о нем весьма лестные слова: «Его благочестие – благочестие анахорета – не лишило его ни единой королевской добродетели. Рачительно хозяйствуя, он не стал менее щедрым, он умело сочетал мудрую политику с непогрешимым правосудием. И быть может, это единственный государь, который заслуживает и такой похвалы: он был трезво мыслящим и непреклонным в Совете, несгибаемым, но не безрассудным в сражении, и так умел сострадать, словно всю жизнь его преследовали несчастья. Больших добродетелей человеку не дано».
Высокую оценку давали ему и близкие современники. Например, хронист Матвей Парижский (сам он был англичанином) написал очень коротко и выразительно: «Король Франции является королем земных королей». Русский историк XIX века Тимофей Николаевич Грановский, можно сказать, произнес ему панегирик в кратких восторженных словах: «Король и правда сделались в то время однозначащими словами для Франции».
Однако и список его хулителей не мал. Многие, писавшие о Людовике IX, называли его наивным, недалеким, ничтожным. Каким же он был?
На время его правления приходится расцвет французского Средневековья. Уже одно это выделяет Людовика из ряда многочисленных и весьма известных средневековых правителей. Общепризнанным считается то, что перемены в управлении страной, которые он осуществлял в течение своего долгого правления, были в целом успешными и полезными для государства. Такие оценки получал в истории далеко не каждый человек, стоявший у власти.
Однако по-настоящему выделяет Людовика IX из среды правителей прошлого то, что еще при жизни он получил знаковое прозвище. Затем, после его смерти, примерно через двадцать лет, его святость была официально признана Католической Церковью. Такой срок для канонизации в Средневековье можно признать ничтожно малым.
Вообще, надо сказать, что прозвания правителей прошлого, сохранившиеся в веках, достаточно показательны и в каком-то смысле могут рассматриваться как исторический источник. Достаточно вспомнить эволюцию этих прозвищ во Франции. От Ленивого, Простоватого, Заики до Великого, Благочестивого, Красивого и Августа. Но Святой среди них лишь один – Людовик IX.
Во времена абсолютного господства в исторической науке прямолинейного материализма это прозвище связывали с крайней и непонятной людям XX века приверженностью Людовика идее Крестовых походов, которую индустриальная эпоха непременно стремилась объяснить сугубо материальными мотивами. Это приводило к парадоксальным результатам: получался странно противоречивый образ монарха, который был прагматиком и реалистом в управлении Францией и мечтателем-идеалистом в своих устремлениях на Восток.
Между тем более пристальное изучение биографии короля, знакомство с его личными качествами, на мой взгляд, избавляет от этого противоречия. Прежде всего, надо отметить его искреннюю веру, которая сочеталась с горячим желанием добра своему королевству. Он видел высшее благо для жителей своей страны в том, что так близко человеку любой эпохи – в мире и справедливости. Взглянув на эту фигуру под таким углом зрения, понимаешь, чем были продиктованы так называемые «реформы Людовика IX», которые обычно объясняют исключительно стремлением короля укрепить центральную власть во Франции.
Желая прекратить бесконечные феодальные междоусобицы, Людовик сделал очень смелый и рискованный шаг: он запретил феодалам немедленно решать любой спорный вопрос, любую ссору привычным «Иду на Вы», как говорили по такому случаю на Руси. Между поводом к войне и ее началом должно было, согласно королевскому постановлению, пройти не меньше сорока дней, в течение которых король пытался уладить дело миром, что могло обернуться особенно удачно, если к нему обращалась за справедливостью более слабая сторона.
Тема справедливости была так значима для Людовика IX, что он стремился преподать личный пример жителям своего королевства. Современники и очевидцы поведали нам о том, что время от времени король принимался сам вершить правосудие, расположившись в окружении опытных правоведов под большим дубом в Венсенском лесу.
Для многих критически настроенных потомков это стало свидетельством его наивности или позерства. Но разве не так подчас выглядит человек, носящий в себе даже малые крупицы того, что называют таким труднообъяснимым и малораспространенным понятием, как святость? При этом современники Людовика IX замечали за собой, что к слову «король» они все чаще прикладывают эпитет «справедливый».
Итак, Людовик IX провел значительную часть времени своего правления за пределами Франции в далеких Крестовых походах. В 1248 году он возглавил Седьмой крестовый поход в Египет, в 1270 году – Восьмой в Тунис.
Несмотря на длительные отлучки короля, его замыслы неуклонно воплощались в жизнь. Ведь его замещала в качестве регента мать, королева Бланка Кастильская, очень мудрая женщина. Крестовые походы по-своему содействовали внутреннему миру в стране, так как король уводил за собой наиболее воинственную часть французского рыцарства.
Интересно, что, отдавая много сил и времени подготовке военных кампаний, Людовик успевал заботиться о мире и порядке во Франции и на ее границах. Так, он вступил в сложные переговоры с английским королем Генрихом III по поводу давних территориальных разногласий. И хотя в Англии в это время было очень неспокойно, часть королевского окружения находилась в оппозиции к Генриху III, Людовик IX не оказал давление на соперника. Скорее наоборот: он привел дело к мирному договору, добровольно уступив английскому королю часть спорных владений во Франции. Кое-кто из окружения Людовика решился высказать сомнения в разумности такого решения. «Блаженны миротворцы», – отвечал им король.
Однако сам он абсолютным миротворцем не был. Вся воинственная энергия короля, присущая его натуре, была направлена на борьбу против «неверных» на Востоке, на укрепление позиций христианства в мире. Правда, сохранились любопытные данные о том, что и здесь Людовик IX, возможно, предпочел бы решить дело миром. Его порой охватывали наивные мечтания о том, что было бы славно уговорить нехристианские народы добровольно принять истинную веру. Так, когда кто-то рассказал ему о монголах, пребывающих в плену ложных верований, Людовик IX тут же отправил к ним в немыслимую и туманную для средневекового европейца даль большую депутацию во главе со священнослужителями. Они везли с собой священные книги, богослужебную утварь и… королевское поручение попытаться убедить монголов принять христианство. Конечно, из этого ничего не получилось, остался лишь повод для очередных разговоров о наивности французского короля.
Наверное, неизбежно выглядит наивным тот, чья вера даже в высокорелигиозном средневековом обществе имела столь страстный и последовательный характер. Людовик IX возглавил Седьмой крестовый поход 1248–1254 годов на том историческом этапе, когда их идея была по существу исчерпана и обесценена. Движение, начавшееся более полувека назад, в 1196 году, знало и взлеты, такие как взятие Иерусалима, создание христианских государств на Ближнем Востоке, и страшные поражения в сочетании с еще более страшным отступлением от сущности и духовного смысла движения, как это произошло при захвате христианского Константинополя в 1204 году. Иерусалим, который был главной целью крестоносцев, шедших на Восток под лозунгом освобождения его святынь от мусульман, несколько раз отвоевывали и снова теряли. С 1244 года город находился под властью египетского султана.
Именно против Египта и решил направить силы французского войска Людовик IX. Он был к этому моменту зрелым, для Средневековья даже немолодым мужчиной. Ему – тридцать один год. Однако идея Крестовых походов не охватила его «вдруг», он жил ею с самой юности.
Итак, оставив королевство на попечение своей матери, Людовик IX отплыл со своим войском на Восток. Именно в этом предприятии, в целом неудачном, особенно ярко раскрылась натура французского короля, что дало основание современникам и потомкам называть его Святым.
Совершив традиционную остановку на Кипре, который около полувека назад был завоеван английским королем Ричардом I Львиное Сердце и с тех пор был базой крестоносцев, Людовик отправился на борьбу с египетским султаном.
Поначалу войску французского короля удалось достичь некоторого успеха: был захвачен город Дамьетта (1249) и одержана победа при Мансуре (1250). Последняя в описании очевидцев была блестящим примером рыцарской доблести французов. Заметим, что «золотой век» рыцарства был уже позади, и Людовик IX ощущал дыхание Нового времени, о чем свидетельствуют его деяния во внутренней политике, будь то усиление позиций правоведов, или ограничение произвола феодальных сеньоров, или попытка ввести единую монетную систему. Однако на Востоке в Крестовом походе Людовик IX превратился в рыцаря, персонажа древних баллад, бьющегося «без страха и упрека» за христианское дело.
В сражении при Мансуре французские рыцари почти не использовали лучников и арбалетчиков, положась на традиционную отвагу рыцарской конницы. Сам Людовик под громкие звуки труб и литавр, в золоченом шлеме, сверкающем на его голове, взмахом меча направил рыцарей в атаку. Его старший брат Роберт Артуа очертя голову бросился на мусульман, попал в западню и погиб под ударами их мечей.
Таково было начало, дальше для крестоносцев наступили суровые испытания. Военная тактика войска египетского султана была мало известна французам, и потому они часто терпели поражение. Особенно страдали европейские рыцари от «греческого огня», зажигательной смеси, которая применялась при осаде крепостей. К тому же в войске начались эпидемии, столь характерные для местного жаркого климата. Французское войско оказалось обессиленным и окруженным врагами. Советники короля настаивали на возвращении в неприступную для врагов Дамьетту. Однако Людовик, конечно же, не мог согласиться на это. В результате он вместе с многими французами оказался в плену у султана.
Все источники отмечают его выдержку, спокойствие и мужество во время пребывания в заточении в суровых условиях (это не был почетный европейский королевский плен). Как сказал известнейший французский историк Жак Ле Гофф, «нет большего несчастья для христианского короля, чем попасть в плен к неверным». Людовик, по свидетельствам очевидцев, поддерживал дух других пленников и дожидался выкупа, который собирала его жена королева Маргарита, сопровождавшая короля-крестоносца на Восток.
Сохранились интересные рассказы о поведении Людовика IX в этом злополучном Крестовом походе. Говорили, что из-за ран и эпидемий тела погибших французских рыцарей были столь устрашающими, что даже служители церкви боялись участвовать в их погребении. Однако король заявил, что будет лично присутствовать на похоронах каждого, тогда все погибшие были преданы земле.
Очень любопытна подробно описанная очевидцами история о том, что некий приближенный Людовика IX попытался при выдаче выкупа за короля обсчитать противников на 20 000 ливров. Это вызвало страшный гнев короля, так как он считал, что даже с «неверными» надо поступать честно и быть верным своему слову.
Во время пребывания Людовика IX в плену при дворе султана произошел переворот. Мамелюки-заговорщики убили египетского правителя. Один из убийц якобы показал пленному французскому королю вырванное из груди владыки сердце и спросил, рад ли он. Рассказывают, что Людовик молча, с отвращением, отвернулся.
Одно из замечательных качеств Людовика IX, выделяющее его из ряда других правителей, – способность в самых разных обстоятельствах оставаться верным себе и своим идеям.
В 1254 году, возвратившись во Францию, Людовик продолжил свои реформы. Он усиливает контроль за соблюдением королевских указов, вершит правосудие, ищет поддержки у городов, а также выступает по поручению папы римского миротворцем в международных делах. Так продолжается до 1270 года. И все это время Людовик IX живет мечтой о новом Крестовом походе. Когда, наконец, удачный момент наступил, король уже не молод. Ему было 53 года, для той эпохи возраст старика. Тем не менее, он бросил все свои силы на сборы войска. Военная экспедиция вновь направилась к берегам Северной Африки, к Тунису, представлявшему большую угрозу для христианских государств на Средиземном море.
Там, в Тунисе, по существу так и не начав военных действий, предводитель крестоносного войска Людовик IX, уже прозванный к тому времени Святым, стал жертвой эпидемии, поразившей его войско, и скончался. Есть соблазн с высокомерием потомков презрительно назвать этого французского короля неудачником. Но Время, История, да и его современники уже давно вынесли свой вердикт: «Святой».
Робин Гуд Человек из баллады
Робин Гуд – человек, образ, символ. Сразу хочу вспомнить Владимира Высоцкого, он часто бывает гениальным в своих «попаданиях». Он написал «Балладу о вольных стрелках» для кинофильма «Стрелы Робин Гуда».
Если рыщут за твоею Непокорной головой, Чтоб петлей худую шею Сделать более худой, Нет надежнее приюта — Скройся в лес, не пропадешь, — Если продан ты кому-то С потрохами ни за грош. Бедняки и бедолаги, Презирая жизнь слуги, И бездомные бродяги, У кого одни долги, — Все, кто загнан, неприкаян, В этот вольный лес бегут, Потому что здесь хозяин — Славный парень Робин Гуд!Здесь все есть: и человек, и образ, и символ. Робин Гуд жил (или не жил?) между XII и XIV веками в средневековой Англии. А Высоцкий написал этот текст во второй половине XX века, в 1975 году. Тем не менее, мне кажется, между ними есть какая-то внутренняя перекличка. Робин Гуд своего рода тоже поэт, что заставляет меня сомневаться в его крестьянском происхождении. Он слишком поэтичен, слишком любит красоту, любит позу. Не крестьянские качества, что и говорить! Но в науке спорят – реальное ли это лицо? Был ли на самом деле такой человек?
Соображения о том, что фигура это реальная, высказываются в серьезной научной литературе. Уже давно родилось предположение, что он был, скорее всего, незаконнорожденным потомком Рандульфа, графа Честерского. Граф – лицо историческое. Правда, жил он как-то неправдоподобно долго в XII – начале XIII века. Его упоминают и при Ричарде I Львиное Сердце, и при Иоанне Безземельном, и при Генрихе III. В одной из баллад о Робине Гуде, а их очень много, говорится: «А дом его сожгли враги». Конечно, это мог быть и крестьянский дом, но вспоминается история Дубровского и Яна Жижки. Робин Гуд – в одном ряду с ними. Все они – рыцари, жаждущие справедливости, готовые вступиться за униженного.
Английская баллада в прекрасном переводе Самуила Яковлевича Маршака рассказывает историю рождения нашего персонажа. Простой паж, юноша (он мог быть и незнатного рыцарского рода), которому просто повезло в жизни, влюбился в графскую дочь. Между ними – большая дистанция, но оба молоды, прекрасны и любят друг друга. Она ждет ребенка. И ей приходится бежать из отчего дома, боясь гнева отца.
Зеленая чаща приют им дала, И прежде чем кончилась ночь, Прекрасного сына в лесу родила Под звездами графская дочь. Не в отчем дому, Не в родном терему, Не в горницах цветных, В лесу родился Робин Гуд Под щебет птиц лесных.Очень возможно, что этот поэтичный рассказ передает реальность, хотя и приукрашивая ее. Старик граф, обнаружив пропажу дочери, бросается на поиски. И наконец находит ее с младенцем в лесу: «Спящего мальчика поднял старик и ласково стал целовать. Я рад бы повесить отца твоего, да жаль твою бедную мать».
В средневековой Англии даже в королевских семьях принято было признавать незаконнорожденных детей, особенно сыновей. Процедура отличалась крайней простотой: отцу достаточно было поднять ребенка на руки и немножко приподнять над головой. Все! Ведь Средневековье – это скорее цивилизация жеста, нежели цивилизация текста. А сложилось так потому, что после расселения германских племен на территории бывшей Западной Римской империи, начинается упадок культуры и, в частности, – грамотности. Письменный текст становится доступным очень немногим, а он совершенно необходим для закрепления официальных процедур, решений, действий. И вот тогда жест начинает заменять его, становится текстом, выраженным иными средствами.
Итак, поднятый над головой ребенок – это вполне юридическая процедура признания его законным. Мог ли Робин Гуд принадлежать к такой категории? Судя по имеющимся крупицам информации мог. Но почему же тогда – разбойник, почему не живет в родовом замке? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним о принципе или правиле майората, утвердившемся в Западной Европе в X веке. В России это случилось в XVIII веке при Петре I, в совершенно в другую эпоху. Что за принцип? С целью сохранения массивов земельных владений, самой большой ценности феодального мира, принимается решение о том, что наследовать недвижимое имущество – замок и землю – может только старший сын.
Принцип майората имел свои плюсы и минусы, как всякое важное государственное решение. Да, сохранялись массивы крупнейших феодальных владений, но, как свидетельствовали современники – хронисты, появилась проблема средних и младших рыцарских сыновей. Лишенные недвижимости и крестьян, они оказывались зачастую вовсе без средств к существованию. Пахать, заниматься производительным трудом рыцарю не позволял его статус, поскольку по образному выражению, бытовавшему в Средневековье, «рыцарь рождается на коне и опоясанный мечом». Его удел – воевать. Регулярного войска, куда бы он мог пойти служить, еще не было. Дружины совсем немногочисленны. Со своим мечом и конем он оказывается выброшенным из своей социальной ниши.
Куда деваться бедному рыцарю? Он идет в леса, где легко и органично превращается в разбойника. В результате рыцарский разбой на дорогах оказывается настоящим бичом для Западной Европы. Дороги стали мало проходимы и очень опасны. Один из кардиналов, который направлялся к папе Урбану II на Клермонский собор, а напомню – это 1096 год, был захвачен разбойной шайкой. Его взяли в заложники не с целью причинить вред, а чтобы получить выкуп.
Одной из причин Крестовых походов, их двигателем как раз и была крайняя необходимость обеспечить средних и младших сыновей землей. В речи на Клермонском соборе папа Урбан II, призывавший к походу в Святые земли, говорил: «Да не привлекает вас эта земля, где число ваше множится, а богатства скудеют. Пойдете и там не только Гроб Господень мечом освободите, но и земли себе добудете». И действительно Крестовые походы были одним из способов борьбы с этой напастью.
Мог ли среди лесных разбойников оказаться такой персонаж как Робин Гуд, который свой разбой оправдывал некими благородными идеями? Допускаю, что да. С кем он сражался? Были ли у него враги? В балладе они названы – это нормандские бароны. В 1066 году, как известно, северофранцузский герцог Вильгельм Нормандский, получивший потом прозвище Завоеватель, покорил Англию. Это было совсем нетрудно – завоевать достаточно слабое государственное образование едва-едва объединившихся групп англосаксонских королевств, пройдя с относительной легкостью по всей стране от юга, где состоялась битва при Гастингсе, до Шотландских гор на севере. А северофранцузские рыцари, по происхождению норманны, были викингами, которым в XI веке при некоем Роллоне и последних слабых каролингских правителях были отданы во владение обширные земли. Они там осели, и образовалась область Нормандия. На новом месте пришельцы быстро ассимилировались, и образовался особый слой – норманны, так их называли, хотя на самом деле в них было понамешано много кровей: германская, скандинавская, галло-римская. Вообще, надо сказать, что викинги были удивительно пластичны в этническом отношении. Существовать на каменистых полуостровах и островах было непросто, и потому они мигрировали, обосновываясь где-то на стороне.
На Британские острова норманны пришли как завоеватели и повели себя соответственно. Местную англосаксонскую знать они отстранили от общественной жизни полностью: им было запрещено воевать за короля и быть при дворе, а что еще тогда делать этой знати? Так вот, у Робина Гуда могли быть этнические враги, и об этом говорится в балладе. Встретив крестоносца, которого лишили имущества, он спрашивает: «Это норманнские бароны отняли твою землю и изгнали твоего сына?» Услышав «да», он велел его накормить, одеть и дать ему все, что приличествует рыцарю, и даже золотые шпоры. Так Робин Гуд борется с норманнскими баронами. Но при этом он признает короля из Нормандского дома, потому что монархическая власть в ту эпоху сомнению не подвергается, ибо король – помазанник Божий. И получается, что Робин Гуд участвует в национальной борьбе, если говорить сегодняшним языком.
Кроме того, он, конечно, боролся против сильных мира сего. Это особенно подчеркивалось в учебниках советского времени. Это те, кого можно назвать крупными феодалами. При этом идеализировать ни Робина Гуда, ни его отряд нельзя. Они проявляют нормальную средневековую жестокость – победив врага, они с ним расправляются. Вот строки из баллады: «И вместо охотников трех молодых повешен один был шериф». Это сюжет о том, как Робин Гуд со своим отрядом освободил трех юношей, детей вдовы, схваченных шерифом Ноттингема за то, что они охотились в королевском лесу и убили оленя.
Охота в королевских лесах запрещалась законом, несмотря на то что в те времена могучие лесные массивы простирались по всей стране. Вспомним, что местом обитания Робина Гуда был знаменитый Шервудский лес. Повсюду водилось много дичи, особенно оленей, которые ценились особо. Ведь их мясо, шкуры и рога – все шло в дело. Но было категорически запрещено в этих лесах охотиться кому-либо, кроме короля, хоть с голоду умирай. За убитого королевского оленя полагалась смертная казнь через повешение. Тех, кто нарушил запрет, казнили там же, в лесах, и оставляли для устрашения прочих. Жестокость была поистине средневековая! А шерифы – это чиновники, исполнители законов, главные полицейские, обеспечивающие внутренний порядок. В балладе шериф представлен настоящим злодеем и выродком, которого нужно повесить. Что и делает Робин Гуд. И Маленький Джон, соратник благородного разбойника, говорит в обвинении шерифа: «Для господ закон не писан». Хотя правильнее было бы сказать, что именно для них-то он и писан. Робин Гуд исполняет волю угнетенных, когда вешает шерифа. Его поступок – это проявление классового гнева. За это бедняки его и почитают. В одной балладе говорится, что каждый виллан, то есть крепостной крестьянин, и каждый раб, хотя рабов в античном смысле уже не было, готовы отдать ему, Робин Гуду, свою «шкуру» на сапоги. И в беде они поминали прежде его, а потом уже Святую Деву.
Робин Гуд – символ неприятия зависимости, рабского положения человека. Для Спартака в Древнем Риме величайшей ценностью была свобода. Нельзя человеку быть в рабстве! Крепостная зависимость в Средневековье – это то же рабство. И потому Робин Гуд – символ независимости и свободы для всех нищих и зависимых.
В замечательной книге М.А. Гершензона «Робин Гуд», написанной строго по документам, перечисляются обязанности зависимых людей. Я назову только некоторые. В вилланскую подать входили: плата за выпас свиней, сбор на починку мостов, рождественский подарок сеньору (хлеб и три курицы), а также пасхальный (20 яиц). За право собирать валежник в лесу (сухие веточки всего лишь!) полагалось выложить двух кур. Каждую неделю с праздника Святого Михаила до 1 августа, то есть все лето, работник должен в течение трех дней делать у хозяина то, что он прикажет, любую работу. Если ему будет приказано молотить, то за один рабочий день он должен обмолотить 24 снопа пшеницы или 30 снопов ячменя. И нет конца обязанностям одного-единственного виллана. В итоге сложился огромный социальный контраст: богатая и обеспеченная жизнь господ и нищее существование всех остальных.
Интерес к Робину Гуду особенно обострился в Англии в XIV столетии. Потому что это время протеста, распространения раннекоммунистических идей, стихийных бунтов крестьян, городских восстаний. В 1381 году английские крестьяне даже добиваются встречи с королем Ричардом II. Один из популярных проповедников того времени Джон Болл произносит горячие речи, прямо призывая к тому, что все надо поделить поровну. По моему мнению, этот лозунг – убедительное свидетельство того, что Джон Болл происходит из крестьян и является крестьянским идеологом. Робин Гуд такой идеей не озабочен. Он разве что с иронией и даже может быть с издевкой, совсем не свойственной крестьянскому сознанию, производит такой передел. Однажды кто-то из отряда Робина Гуда остановил двух явно состоятельных священников и потребовал их кошельки. Те отвечали: «У нас ничего нет!» – «Ну, раз так, – сказал Робин Гуд, – давайте вместе молиться, чтобы Бог что-нибудь вам послал». После молитвы разбойники обыскали их сумки, а там – золото, деньги. И наш герой с иронией воскликнул: «Как же хорошо вы молились!» Не любил, не любил он служителей церкви, что тоже довольно загадочно для средневекового сознания.
Надо сказать, что к церкви и церковникам относились с насмешкой не только в Англии. Известно, что на Руси испокон веков встретить попа было дурной приметой. Почему? Думаю, потому что не было доверия к этим людям: многие из них говорят одно, делают другое. Проповедуют бедность, скромность, лозунги их благородные, священные, а сами погрязли в грехах, разжирели от жадности и богатеют за счет народа. И так было во всех странах в той или иной форме. Таких по-настоящему святых людей, как например, Франциск Ассизский, жизнь которого полностью соответствовала возвышенным и прекрасным идеалам, было всего несколько человек, и каждого мы вспоминаем по сей день. Итак, в XIV веке происходит всплеск интереса к Робин Гуду.
Так все-таки кем же был наш герой? Я склоняюсь к тому, что он мог быть по происхождению рыцарем. Свидетельство тому – сами баллады о Робине Гуде, которые впервые были собраны и изданы в Англии в 1510 году и назывались «Little geste of Robin Hood». Обычно баллады слагались о людях знатных, об их рыцарских доблестях. И наш персонаж – один из героев специального сборника «A little geste». Мне неизвестны больше случаи, чтобы «geste» был составлен о незнатном человеке. Во многих балладах, связанных с Робин Гудом, упоминается великий рыцарь западноевропейского Средневековья – Ричард I Львиное Сердце. Молва утверждает, что они встречались, и Робин Гуд был приглашен Ричардом на службу, но отказался, сказав: «Натура у меня не та, чтобы служить кому-нибудь, хотя ты – лучший из тех, кого можно было бы себе представить». Значит, ему нравится рыцарь. Это тоже важно. Крестьянину с крестьянскими корнями рыцарь чужд раз и навсегда.
В подтверждение нашей мысли рассмотрим два интереснейших сюжета в балладах о Робине Гуде. А мы рассматриваем баллады как исторический источник, поскольку наукой давно признана фольклорная литература. Робин Гуд дважды, насколько мне известно, попытался заняться каким-то крестьянским делом. В один прекрасный момент он решил стать рыбаком, приобрел небольшое суденышко, вышел вместе с рыбаками в море, но рыба у него не ловилась, как он ни старался. Рыбаки над ним посмеиваются – какой из тебя рыбак! И вдруг появляется пиратский корабль. Робин Гуд скомандовал: «Все быстро спрячьтесь! Я их встречу», – и взял свой волшебный лук – волшебный значит – точный. Запела тетива, полетели знаменитые стрелы, и он перебил всех, кто был на корабле, все 12 человек. Стрельба из лука в средневековой Англии – это великое искусство, которым, кстати, владела и верхушка крестьянства – йомены, и рыцари, безусловно. «А теперь, – обратился он к рыбакам, – давайте на корабль». Так с огромной добычей они вернулись домой. Так кто же над кем посмеялся?
Еще забавней история о том, как Робин Гуд решил торговать мясом. Встретил он как-то на дороге мясника, который ехал на рынок, и закупил у него весь товар по огромной цене. Широко заплатил, по-рыцарски. Крестьянин не любит, когда переплачивают, он это не признает, идейно с этим борется и осуждает расточительство. Робин Гуд – человек щедрый, а щедрость всегда считалась одним из важнейших рыцарских качеств. Он пришел на рынок и с этим мясом встал за прилавок. Народ к нему сразу повалил, потому что уж больно цены хорошие, низкие. Но сам он остался внакладе.
С другими купцами он сел торговать, Хоть с делом он не был знаком. Не знал, как продать, обмануть, недодать, Он был мясником – новичком. «Дворянский сынок, – мясники говорят, — В убыток себе продает. Он, видно, отца разорит до конца, Бездельник, повеса и мот».Баллада рассказывает об этом, кажется, лишь для того, чтобы показать все грани его натуры – в чем он органичен и хорош, а в чем – неумел и смешон. А все потому, что дело, за которое он взялся, ему чуждо.
В российской литературе личностью Робин Гуда занимались люди замечательные, выдающиеся, удивительно привлекательные. Это Самуил Яковлевич Маршак и Михаил Абрамович Гершензон. Романтики, лирики, благородные натуры, доказавшие это всей своей жизнью. Маршак в начале XX века учился в Англии, много путешествовал по стране, был и в загадочным кельтском Уэльсе, где всегда традиционно романтизировали всяких разбойников. В 11 лет этот талантливый человек, знавший английский, французский, немецкий, итальянский и многие другие языки, уже переводил стихи древнеримского поэта Горация. Гершензон, который пересказал в прозе баллады о Робин Гуде, был поклонником Байрона и Шелли. В 1942 году он погиб в Великой Отечественной войне, погиб геройски. Михаил Абрамович был военным переводчиком, то есть человеком совершенно невоенным, и когда был убит командир батальона, он выбежал вперед, схватил гранату и с криком «Вперед, за мной!» бросился в атаку, за ним пошли солдаты. Его смертельно ранили, но он успел написать жене, что счастлив, потому что принял достойную смерть. Вот такая совершенно робин-гудовская романтическая ситуация.
История смерти Робин Гуда, описанная многократно в балладах, очень далека от романтики и героизма. И это лично меня сильно удивляет, хотя очень возможно, что как раз этот факт и является важнейшим аргументом в пользу того, что Робин Гуд был в реальности, что это вполне историческая личность, человек, которому не чуждо все человеческое.
Английские археологи произвели раскопки в тех местах, которые описаны как место смерти Робин Гуда – в монастыре Кирклей. Существует большая степень вероятности того, что одна из могил, которую они обнаружили, и есть могила Робин Гуда. Казалось бы, такой эпический герой должен и умирать эпически, геройски, сражаясь со своим врагами. В балладах же все по-другому, по-житейски понятно и просто.
С годами Робин Гуд стал хворать. И когда болезнь совсем измучила его, он сказал своему верному соратнику Маленькому Джону: «Глаз у меня не тот, и стрела летит уже не так, надо мне в монастырь пойти, чтобы там подлечили. В монастыре Кирклей есть монахиня, знаменитая своим умением лечить людей. Туда отправлюсь». Сюжет этот в балладе отнюдь не героический, наоборот, сильно приземленный, бытовой. Но ничего не поделаешь, слова из баллады не выкинешь. Монахини в Средневековье очень часто были знахарками, лекарями, так что желание Робин Гуда отправиться в женский монастырь вполне естественно. Маленький Джон очень горюет, печалится, чует недоброе. Робин Гуд утешает его. Меня настораживает – как же так? Ведь он всю жизнь не доверял служителям церкви, всю жизнь презирал их и вдруг – отправиться в монастырь, чтобы именно им, этим служителям вверить свою жизнь! Может быть, женщины – это несколько другое. Да и идти было больше не к кому, ведь не к цирюльнику же.
И он пришел в этот монастырь и попросил монахиню «отворить» ему кровь. Пускание крови вплоть до XIX века было делом обычным, можно сказать, считалось панацеей от всех болезней. В некоторых случаях это действительно помогало, например, при так называемом апоплексическом ударе. И дальше в разных балладах удивительно сходно, с бытовыми подробностями описывается, как ласково монахиня его приняла, но обошлась с ним зло и коварно. Она отворила кровь, кровь была черная, плохая, но вот уже стала появляться и яркая, алая. Значит, надо было прекратить кровопускание, и монахиня, казалось, уже собралась это сделать, но… передумала. Возможно, она вдруг вспомнила, что перед ней – все-таки разбойник, кроме того, давний и ярый враг церкви. Словом, не остановила она кровь. Описание его смерти изумляет реалистичностью, так несвойственной средневековым балладам. Он слабеет, чувствует, что силы уходят. Идет к окну, но вылезти через него уже нет сил. Он берет свой рог, пытается трубить в него, но звук получается слишком слабым. Но Маленький Джон, а Маленький – это ироническое прозвище могучего богатыря необыкновенного роста и необыкновенной силы – услышал призыв Робина Гуда и примчался на помощь. Однако успел только попрощаться со своим умирающим другом, сказав: «Позволь, чтобы этот проклятый Кирклей со всем вороньем был сожжен». Робин Гуд отвечал: «Милости этой не жди, женщины я не обижу вовек, и ты монастырь пощади». Так он и ушел из реальной, земной жизни, если она у него была, в благородном, рыцарском обличии.
Ян Гус Человек-знамя
Имя этого человека навсегда запечатлелось в истории и памяти людей. Память эта имеет разнообразные грани и оттенки: для одних он вдохновитель освободительной борьбы чешского народа против иноземной власти на пороге раннего Нового времени; другие же видят в нем прежде всего теолога, предшественника такой великой духовной революции, как Реформация; наконец, он, бесспорно, мученик, отдавший жизнь за свои убеждения. Этот человек, который, вероятно, никогда в жизни не держал в руках оружия, дал свое имя мощному освободительному движению чехов, так называемым Гуситским войнам 1419–1434 годов, оказавшим огромное влияние на жизнь всего европейского континента.
Его жизненный путь прост и даже, можно сказать, скромен: в нем нет каких-либо крупных потрясений, переворотов и событий. Главные потрясения, которые превратили Яна Гуса в «человека-знамя», происходили в глубинах его души.
Ян Гус родился в 1371 году в семье крестьянина Михаила в местечке Гусинец близ городка Прахатице. Родители, у которых было еще два сына, возможно, увидели или ощутили в Яне склонность к учению и определили его в школу, надеясь, что сын сумеет выбиться из крестьянской бедности и станет священником. Школа находилась в Прахатице, в часе ходьбы от Гусинца. По сравнению с родной деревней это был большой городской центр, где производились знаменитые изделия из стекла и серебра, проходила дорога на Прагу и в южную Германию, а главное – был собор.
Освоив грамматику, риторику и диалектику, а в старших классах – арифметику и астрономию, восемнадцатилетний Ян из Гусинца (так сложилась его фамилия – Гус) дерзнул отправиться в Прагу, чтобы поступить в университет. Пражский университет – один из старейших в Европе. К моменту, когда Ян Гус отправился в Прагу, университету было более сорока лет.
Наивно и трогательно звучит позднейший рассказ самого Гуса об этом путешествии. Он пошел в Прагу вместе с матерью, которая по-крестьянски простодушно хотела помочь сыну в его смелом намерении получить образование: она несла в подарок университетскому начальству большой мягкий калач и гуся, который коварно сбежал по дороге.
Тем не менее, талантливый юноша, страстно стремившийся к знаниям, был принят на факультет свободных искусств. В 1393 году, после нескольких голодных студенческих лет, Гус получил степень бакалавра, а в 1396-м – магистра. Он, очевидно, был одержим стремлением к познанию, все более склонялся к теологии и сразу после получения степени магистра был приглашен преподавать в университет.
Молодой двадцатилетний магистр Ян Гус с самого начала повел себя не как все: он начал изучать со студентами труды известного английского богослова Джона Виклефа, прославившегося в 80-х годах XIV века взглядами, которые многие считали еретическими.
Гус не только не побоялся излагать учение серьезно заподозренного в ереси Виклефа, но и начал его развивать, решительно отвергая безграничную духовную власть римского папы и утверждая, что истинный глава католической церкви – сам Христос. Более решительно, чем Виклеф, Гус критиковал богатство церкви.
Несмотря на такое опасное поведение (пройдет несколько лет, и архиепископ Збынек лично предаст в Праге сожжению сочинения Виклефа) магистр Гус был избран в 1401 году деканом факультета, а в следующем году – ректором Пражского университета.
Как могло случиться, что крестьянский сын с неординарным и подозрительным образом мыслей занял столь почетное в социальном смысле место в обществе? Ответ на этот вопрос кроется не только в явной талантливости и образованности Яна Гуса. Начиная с 1401 года он проповедовал в пражской Вифлеемской часовне, которая благодаря этому сразу стала знаменита. Дело в том, что он там публично говорил правду о критическом состоянии католической церкви, бичевал нравы ее служителей.
После так называемого периода «Авиньонского пленения» пап (в 1309–1377 годах папы временно пребывали не в Риме, а во французском городе Авиньоне под надзором королей Франции), в католической церкви начался так называемый «Великий раскол». Высшие церковные иерархи разделились на группировки и партии и стремились посадить на папский престол «своего» человека. В результате не раз случалось, что два и даже три кандидата объявляли себя законно избранными папами и начинали шумно поносить и предавать анафеме соперников. При этом никто из них не стеснялся в выражениях и не скупился на самые страшные проклятия.
Нетрудно представить, каким ужасом и болью эта немыслимая ситуация отзывалась в сердцах искренне верующих людей. Магистр Ян Гус был именно таким человеком. Но в отличие от остальных, он решил бороться против непристойной ситуации. Более того – он отважился показать ее разлагающее, тлетворное влияние на служителей церкви, в рядах которых множилось число циников, развратников и мздоимцев. Когда Виклеф в свое время обрушился с критикой на богатства церкви, это было дерзко и рискованно. Однако он бичевал организацию, учреждение, говоря современным языком, что всегда менее чувствительно, чем задевать конкретных людей. К тому же у Виклефа нашлись высокие покровители, которые рассчитывали поживиться за счет конфискации церковного имущества, прежде всего – земли.
Ян Гус затронул самое острое, даже болезненное – моральный облик людей, причисляющих себя к служителям Бога. Он беспощадно вскрывал несоответствие их образа жизни и конкретных деяний прекрасным евангельским принципам, учению и жизни Христа. Он говорил в Вифлеемской часовне страшные вещи, например, объяснял, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, – ложны! Известные всей Европе пеленки Христа, скатерть с Тайной Вечери, веревка, которой был связан Иисус Христос, рука Лазаря – все обман! А фрагменты берцовой кости святой Бригитты, которые можно найти почти в каждом европейском соборе? Бриггита, должно быть, была сороконожкой.
В целом учение Яна Гуса и его критика католической церкви развивались по возрастающей линии. До 1409 года он был известен в основном как патриот Чехии, как человек, вышедший из народа. С середины XIV века его родина оказалась в сильной зависимости от германской «Священной Римской империи». Чешские короли получили статус курфюрстов – то есть главнейших, лидирующих, но все же подданных императора. Постепенно выходцы из Германии заняли ключевые позиции во всех основных областях жизни Чехии, что вызывало в обществе глубокое недовольство. Между тем в стране была жива память о том, что еще в начале XIII столетия один из правителей германской империи, знаменитый Фридрих II Штауфен, юридически признал независимость Чехии (так называемая Золотая сицилийская булла 1212 года).
Патриотические выступления магистра Яна Гуса, возглавлявшего Пражский университет, пали таким образом на благоприятную почву. Это подтвердило издание в 1409 году Кутногорского декрета, согласно которому руководство Пражского университета должно было принадлежать чехам. При этом сам Ян Гус подчеркивал культурно-патриотический, а не националистический смысл своей позиции. Он говорил: «…доброго немца я предпочитаю злому чеху, хотя бы этот последний был моим родным братом».
В 1409–1412 годах Ян Гус развивает свои взгляды в стройное учение, опирающееся на труды его предшественника Джона Виклефа и доказывающее необходимость пересмотра некоторых догматов католической церкви (например, касающегося понимания сущности таинства пресуществления). По существу, его взгляды во многом предвосхищали будущую европейскую Реформацию. Главным объектом его обличительных проповедей начиная с 1412 года стали папские индульгенции. За деньги папы предлагали верующим отпустить любые грехи (даже еще не совершенные!).
Для того чтобы понять, как стало возможным такое безумие, надо вспомнить, что XIV век был временем реального, фактического заката Средневековья в Западной Европе и ее движения к Новому времени. Современники осознают это не сразу, но ощущение пришедших перемен у них, как правило, есть.
Во времена Яна Гуса претензии папства на высшую, идущую от Бога духовную власть над людьми стали анахронизмом, как и упомянутые выше церковные реликвии. Однако люди часто пытаются продолжать жить в условиях, которых уже нет в реальности. Чешский проповедник с его истовой и искренней верой в возможность морального возрождения католической церкви и ее служителей стал, сам того не ведая, провозвестником перемен в устройстве Западной ветви христианской церкви, реальным предшественником Лютера. Только тогда еще не было произнесено слово «Реформация».
В октябре 1414 года Гуса официально призвали прибыть в южногерманский город Констанц, где собрался Вселенский собор. Высшие иерархи церкви и император Сигизмунд, которому юридически подчинялась Чехия, в один голос твердили, что они хотят выслушать знаменитого проповедника Яна Гуса и разобраться в его учении.
Верующие и нравственно чистые люди часто бывают достаточно наивны. Магистр Ян Гус, по-видимому, поверил, что Собор действительно будет внимательно его слушать и постарается понять… А что еще нужно для счастья?
Осенью он приехал в Констанц и попытался воззвать к совести собравшихся прелатов, доказать необходимость перемен в церковной организации. В работе Собора участвовали семьсот человек, а магистр Гус был один… Его не слушали, ему мешали говорить, шумно демонстрируя свое негодование.
На двадцать пятый день пребывания в Констанце Гус был арестован и заточен в мрачном подвале одного из замков. Он прекрасно понимал, какая судьба ждет его. Перед отъездом из Чехии он составил завещание. В одном из писем друзьям непреклонный узник, еще способный шутить, писал: «Гусь еще не изжарен». От него требовали покаяния, обещая сохранить жизнь. Он не мог и не хотел отступить от своих убеждений.
В июле 1415 года Ян Гус был казнен. Пламя этого костра не уничтожило память о великом человеке, чье имя стало знаменем чешского народа в Гуситских войнах, примером и опорой для многих деятелей Реформации в XVI веке, символом чистоты помыслов и моральной стойкости на все времена.
Ягайло Победитель тевтонцев
В Варшавском национальном музее есть замечательное полотно художника Яна Матейко «Грюнвальдская битва». Идет жестокое сражение, и на небольшом холме стоит Ягайло с развевающимся знаменем в руках. У картины своя история. Когда Варшава была захвачена гитлеровцами, полотно исчезло. Фашисты его искали с очевидной целью – уничтожить. Оно и понятно: Грюнвальдская битва – это битва объединенных славянско-литовских сил против Тевтонского ордена, против германцев, а значит – против немцев. Картину искали, вели следствие, допытывались, даже пытали, кто-то из работников музея погиб. Конечно, кому-то было известно, что картина, свернутая в трубочку, лежит где-то под Варшавой, закопанная в сарае. Но никто не выдал. Удивительно, насколько важен бывает символ – важнее жизни. Кажется, что Грюнвальдская битва – дело давно минувших и забытых дней. Ан, нет!
И там, на этом полотне, как бы в одной из версий исторической памяти, Ягайло, вдохновитель, организатор этого сражения, прекрасен, одухотворен, смел и силен. В жизни он был мало похож на своего двойника с картины. Он основатель династии Ягеллонов, которая находилась на польском престоле довольно долго, до 1572 года. Для Польши этот факт значим. В летопись истории Европы навсегда вписана Грюнвальдская битва. Все так. Однако сама его личность, все эти деяния никак не способны осветить безоблачным, чистым светом. Не такой это человек, вот в чем дело, слишком противоречив.
Ягайло прожил 84 года, пример редчайшего долголетия в Средневековье. Он родился в 1350 году, с 1377 года – носил титул Великого князя Литовского. Он был внуком правителя Литвы Гедимина, любимым сыном князя Ольгерда и православной княгини Юлиании. Кто такая Юлиания? Ульяна Александровна, тверская княжна. То есть по матери он тесно связан с русскими землями. Есть даже версия, что в детстве он был крещен в православной вере и наречен именем Яков (Иаков). Но многие считают, что Ягайло, как и его отец, Ольгерд, до принятия католичества был язычником, княжил в Витебске. Но это лишь одна из версий.
Союзник Мамая, он никак не проявил себя на Куликовом поле. Согласно одним источникам, большое войско, которое Ягайло вел к Мамаю, было задержано князем Олегом Рязанским, который навязал ему бой. По другим документам, он просто опоздал к битве. Оценки его личности тоже совершенно разные. Ягайло то обвиняют в нерешительности, трусости, то восхищаются его геройством, вдохновившим народы на великую Грюнвальдскую битву. А по мнению Гумилева, он все-таки пришел на Куликово поле, увидел, что русские победили, но уж очень хотел насолить им, и тогда его молодчики перерезали всех, кто оставался живым в обозе. Думаю, что это малоправдоподобно, но симптоматично – если такое черное деяние приписывалось ему, значит, он был похож на человека, способного это сделать.
Возможно, это было связано с мрачными эпизодами его юности. В 1382 году в борьбе за престол, за великое княжение в Литве Ягайло заточил своего дядю Кейстута в Кревский замок, где тот был задушен по приказу племянника или сам покончил с собой – точно мы не знаем. И другое злодеяние, которое ему приписывают, – расправа с женой Кейстута, Бирутой. И то и другое – ужасно. Но, по-моему, есть в этих обвинениях некая предвзятость, и кажется очевидным влияние Ордена. Слишком уязвлена была эта воинственная и сильная организация своим поражением при Грюнвальде.
Известно, что перед тем сражением он не торопился. И это ему ставили в вину – дескать, трус, боялся. У деревни Грюнвальд он строил объединенные войска. Он готовил их к битве не спеша, находя каждому нужное место. Ягайло сумел привлечь в сражение своего двоюродного брата – литовского князя Витовта. К ним пришли очень разные люди, там были и татары, и смоленские полки, и русские и больше всего было литовцев. А тевтонские рыцари, горделивые, зазнавшиеся, зарвавшиеся, запугавшие, в общем-то, всю Центральную Европу своей агрессией, жестокостью, решили нанести Ягайло личное оскорбление перед боем. К нему прислали герольда с тевтонскими мечами, который сказал оскорбительные слова: «Раз у тебя, Ягайло, нет никакой личной храбрости, вот на тебе два меча наших. Может быть, хоть они тебя поддержат». На что их противник спокойно ответил: «Наверное, не положено брать у врага оружие, но я его приму, чтобы вы увидели, как страшно оно обернется против вас». И результат – битва оказалась трагедией для Ордена, который, в сущности, уже никогда больше не возродился. И я допускаю, конечно, ничего не утверждая, что легенды вокруг Ягайло творились не случайно – нужно было очернить его, оставив в истории образ жестокого и недалекого правителя. Ян Матейко, написавший героическую картину о Грюнвальдской битве, наоборот, хотел создать образ героя-символа, человека, объединившего и собравшего такие разные и могучие силы, которые сокрушили ненавистный Орден.
Во второй половине XIV века два государства – Литва и Польша – стали активно выдвигаться вперед на европейской исторической арене. Сначала два слова о Польше. В X веке, как и на Руси, Польша принимает христианство. К концу столетия, в 999-м, присоединением Кракова завершилось объединение польских земель, и Польша стала заметной политической единицей на карте Европы. Но со всех сторон княжество Польское (с 1025 года – королевство) окружено воинственными соседями. С начала XI века оно мужественно сопротивлялось агрессии «Священной Римской империи». Но давление воинственного германского духа было слишком сильным, и в середине XI столетия королевство было вынуждено признать зависимость от империи. В XII веке Фридрих I Барбаросса заставил подтвердить эти вассальные отношения. А с середины XIII столетия все сильнее ощущается давление Тевтонского ордена. Итак, на севере – Орден, на западе – «Священная Римская империя», на востоке – Великое княжество Литовское.
Что это за княжество? Весьма и весьма воинственное и сильное. Сохранился документ, по которому золотоордынский хан Тохтамыш, например, обещал Великому князю Литовскому передать ему все русские земли. А реально Литвой к тому времени были захвачены Киев, Смоленск, Вязьма и области в верховьях Оки – нынешние Калужская, Тульская, Орловская области. Граница между Русью и Литвой проходила по Можайску, то есть практически по сегодняшнему Подмосковью. Это было сильное, воинственное государство, долго сохранявшее язычество. И только в 1387 году произошло крещение Литвы.
Польша, зажатая в кольце врагов, искала союзников. В 1370 году она заключила союз с Венгрией, а в 1385-м – знаменитую Кревскую унию с Великим княжеством Литовским. Это политическое объединение сыграло очень большую роль в судьбе Центральной Европы. Образовалась сила, которая позже заявила о себе при Грюнвальде. Формировалась новая Центральная Европа. Ее привыкли считать языческой, отсталой, варварской, слабой. Но она начинает заметно заявлять о себе. Ее главный враг был, конечно, Тевтонский орден, которому необходимо было противостоять. И Ягайло предпринимает ряд действий, усиливших его политические позиции. Он делает то, что характерно для всех правителей Средневековья – удачно женится. Женится на удивительной красавице, польской королеве Ядвиге, в 1360 году. На самом деле она была наполовину француженкой и происходила из Анжуйского рода. И у нее был жених, которого она любила. Под давлением польских магнатов, которые сочли, что союз с Литвой безусловно важнее ее личного счастья, она отказала Вильгельму, сыну Леопольда Австрийского. Женитьба на польской королеве укрепила позиции Ягайло в борьбе за власть, за трон, на который претендовала куча его родственников – 11 братьев и сестер и 6 двоюродных братьев. И свое наследство они делили страшно и истово.
Казалось, что одному из его соперников – двоюродному брату Витовту – суждено было погибнуть в этой борьбе. Дело в том, что Витовт был заточен вместе с Кейстутом и Бирутой, но ему чудом удалось спастись, переодевшись в женское платье, которое дала ему девушка Анна, прислуживавшая ему и его полюбившая. Так или не так, но он остался жив. И впоследствии он стал важнейшим союзником Ягайло и прославился как несокрушимый, доблестный рыцарь в Грюнвальдской битве. Если Ягайло вдохновлял воинов на победу, то Витовт реально руководил военными действиями.
Но как им удалось сойтись? Витовт бежал из плена – это факт. Он нашел прибежище у тевтонцев, у этого заклятого врага и Польши, и Литвы, и всей Центральной Европы. Ему просто некуда было деться. Известно, что там Витовт принял некоторое участие в каких-то малозначительных походах. Но как сумел Ягайло добиться примирения с ним? Вернуть себе расположение человека, смертельно ненавидящего и имеющего основания ненавидеть, найти слова, аргументы, какие-то гарантии, чтобы обрести в результате необходимейшего союзника, – на это требуется талант, светлый разум, уверенность, упорство. И значит, качества эти у Ягайло были, потому что противники договорились. Ягайло, ставший польским королем после женитьбы, оставляет Витовта Великим князем Литовским. Сам же именуется Верховным правителем.
Все его деяния имели одну цель – Грюнвальд. И вот тут нельзя не отдать должного Ягайло, потому что Тевтонский орден был очень силен. Вспомним немножко его историю. Почему он запугал всю Центральную Европу? Он был основан в 1128 году в Иерусалиме во время Крестовых походов. Цель благороднейшая – помощь богатых немцев бедным паломникам и захворавшим в Палестине людям, прежде всего из Германии. Но очень быстро его задачи изменились. Уже в 1189 году сын германского императора Фридриха I Барбароссы придает ему военный характер. Ордену вменяется Устав, форма по образцу тамплиеров, только плащ с черным крестом, а не с красным. Во главе ордена встает гохмейстер, главный управитель. И очень скоро становится совершенно очевидно, что военные цели быстро вытесняют любые, самые благородные и миротворческие идеи. Они мгновенно улетучиваются, словно их и не было никогда. Из благотворительной организации Орден становится духовно-рыцарским и весьма воинственным объединением.
Когда в XIII веке крестоносцев вытеснили с Востока, Тевтонский орден сначала обрел резиденцию в Венеции, но это не очень устраивало руководителей Ордена, потому что в Италии не было возможности для создания собственного государства. А именно к этой цели начали стремиться гохмейстеры. В 1228 году они получили грамоту от императора Фридриха II, согласно которой им предоставлялась резиденция, «…чтобы ввести там хорошие обычаи и законы для упрочения веры и установления благополучного мира между жителями». Что же это был за мир?
Пруссию, как известно, в то время населяли язычники. И вот в течение 55 лет Орден насильственно обращал пруссов в христианство самым жестоким и безумным образом. Там, где тевтонцы захватывали земли, начиналось зверское истребление людей. Вот один пример. В 1336 году – уже близко к Грюнвальду! – осада очередного литовского замка. Четыре тысячи литовцев, чтобы не попасть в плен к рыцарям Тевтонского ордена, перебили друг друга, когда поняли, что их дело безнадежно. Битва 1242 года на Чудском озере, хорошо известная всем как Ледовое побоище, была лишь одним из первых деяний Ордена, некоей прелюдией его военной агрессии. Орден стал символом мрака и жестокости, злобы, непримиримости. И ужас был в том, что внешне обеты целомудрия, покровительства бедным сохранялись, но на самом деле тевтонцы погрязли в разврате, роскоши, лицемерии, и это уже было демонстративным отступлением от идеалов христианства. Мысль о том, что Орден должен быть наказан, крепла в Центральной Европе, находя отклик в душах многих людей.
В сущности, почему при Грюнвальде были разбиты тевтонские рыцари? Теоретически они могли победить. У них было больше бомбард, хотя противники превосходили их числом. Но главное – против Ордена стояли люди, воодушевленные идеей. Это были русские, чехи, литовцы и даже татары. Среди них, видимо, находился и Ян Жижка, который пришел добровольно с небольшим отрядом.
Яркое описание битвы оставил хронист Ян Длугош. Он имел в своем распоряжении много источников и составлял хронику, когда воспоминания о Грюнвальде были еще свежи. Сражение началось рано поутру и закончилось затемно. Грохот скрежещущего железа, доспехов, удары мечей, крики умирающих, ржание коней – все смешалось, создавая ощущение апокалипсиса, конца света.
Сначала битва шла неудачно для союзников, потому что первый удар литовская пехота нанесла по рыцарям. Удар не получился, и тогда литовцы начали отступать и обратились в паническое бегство. Они бежали с поля битвы, надеясь спастись, переправившись через озеро. Когда битва начинается с бегства, ждать хорошего не приходится. И вот здесь Ян Длугош, нисколько не симпатизирующий русским, настроенный скорее против них в целом, отдает дань уважения смоленским полкам. Они были вассалами Витовта, и тот отвел им ответственную, но очень невыгодную позицию. Из песни слова не выкинешь. На них должен был прийтись очень тяжелый и, наверное, главный удар тевтонцев. Длугош пишет, что витязи земли Смоленской покрыли себя неувядаемой славой. Они гибли, но не отступали ни на шаг. В них-то и завязла знаменитая конница Тевтонского ордена.
А пока смоляне стояли насмерть, Витовт бросился в погоню за своими воинами. Они были легко вооружены и потому бежали быстро и убежали далеко. Главнокомандующий нашел их на берегу озера, перестроил и повел обратно. Длугош пишет, что над полем боя, где стойко держалась польская конница, где стояли насмерть русские полки (одна их линия была вырублена полностью, вторая уже гибла), неожиданно пронеслось: «Литва возвращается! Литва возвращается!» Прошелестело, прогудело и ударило радостной волной в сердца – есть еще сила против жестоких захватчиков, есть воинство, способное сплотиться, объединиться в единый кулак и ударить. Чувство братства и единения – сильнейшее духовное переживание, способное многое преобразить, изменить. «Литва возвращается!» Трудно представить себе, как это всех воодушевило и, собственно, решило исход битвы. Правда, в эту минуту едва не был убит Ягайло. Тевтонский рыцарь, прорвав ряды защиты, оказался недалеко от польского короля. Ягайло спас мальчик-паж, ничем не вооруженный, но готовый умереть за своего короля. Он просто выставил на пути этого рыцаря обломок копья. Рыцарь покачнулся, споткнулся и, всей тяжестью своих доспехов навалившись на лошадь, упал наземь… Этого было достаточно. Дальше набежали люди, и Ягайло был спасен.
С этого момента союзники стали теснить тевтонов. Гохмейстер, воинственный и воинствующий рыцарь Ульрих фон Юнгинген не мог поверить, что его рыцари отступают. Он бросил последний резерв, последние свежие силы конников, сам ринулся в атаку и был убит рогатиной литовского воина. Вот таким примитивным способом покончили со знаменитым гохмейстером Тевтонского ордена. День клонился к закату, и рыцари бросились бежать. Их почти не преследовали, за что часто упрекают Ягайло. Говорят, надо было сразу ворваться в их резиденцию Мальбрук и там добить зверя. А Ягайло не погнал свои войска, и Витовт, видимо, поддержал его в этом решении. Кто смог убежать, тот убежал и добрался до своего «осиного гнезда», как называли в Европе Мальбрук. Надо сказать, что этот замок существует до сих пор и производит очень мрачное впечатление. Кажется, будто воинственный, злой, беспокойный дух живет в нем.
В брошенных обозах рыцарей было обнаружено множество кандалов, которые предназначались для литовцев и славян. Вот насколько тевтонцы были уверены в своей победе. Однако кандалы понадобились, чтобы заковывать их самих. Орден потерпел серьезнейшее поражение. Затем Ягайло устроил осаду Мальбрука, которая не принесла результатов. За это его тоже упрекали. В войсках начался мор. И он отказался от этого предприятия. В результате мир, который был заключен в 1411 году, был для тевтонцев не таким уж страшным. Только в 1464 году Орден был вынужден признать себя вассалом Польши – вот она, ирония судьбы. К XVI веку он выродился в кузницу наемников, головорезов, воюющих за деньги.
Ягайло идеализирован и возвышен в польской историографии и в ее культурной традиции. А русские историки всегда очень сдержанно старались пройти между, так сказать, Сциллой и Харибдой. С одной стороны, он как будто участник Куликовской битвы на стороне Орды. С другой – союзник русских князей против Тевтонского ордена. Польский король был враждебен русским, его брат Витовт покорил много русских земель. Но ведь нельзя не отдать должного великой битве народов, во главе которой стоял Ягайло. Интересно и очень важно, что в истории титул-звание «Битва народов» заслужили несколько сражений. Так назвали битву 1813 года под Лейпцигом, в которой Наполеон потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Такое же название закрепилось за сражением при Каталаунских полях (451), в котором гунны были разбиты объединенным войском римлян и германцев. Битвой народов называют и столкновение франков и арабов при Пуатье (732). Кто присуждает такой почетный титул, пожалуй, и не скажешь. Вернее всего, молва, глас народа. Гумилев о Куликовской битве пишет, что на поле Куликово пришли представители русских княжеств, а ушли с поля русские. Любопытное выражение. Что-то подобное произошло и при Грюнвальде. Против тевтонцев встало соединенное войско, собранное польским королем и Великим князем Литовским, его союзником Витовтом, а победу над Орденом уже праздновали люди, которые ощущали свою принадлежность к Центральной Европе, были причастны к ее судьбе.
Династия Ягеллонов, которая в Польше в почете, прославилась начиная с Ядвиги. Вообще некоторые историки и по сей день считают Ягайло слабым правителем, королем-консортом. Очень может быть, потому что по-настоящему – он литовский князь, а Владиславом – польским королем – стал лишь по случаю. Просто тогда нужно было создать временный союз. Как известно, дальше Польша стала Польшей, Литва – Литвой. Но рождение значительной, сильной, самостоятельной Центральной Европы, вхождение целой группы государств и государственных образований в европейскую историю – процесс, продолжающийся и сегодня, – начался со времени Ягайло и его усилиями. И хотя бы только поэтому считать его королем ничтожным невозможно. Хочу порекомендовать читателям книги Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» и «Потоп». Они – об этом времени. И думаю, читатель разберется, кто такой Ягайло. Сенкевич создал очень яркий и, видимо, совершенно точный образ рыцарей Тевтонского ордена, выродившихся в сатанинскую организацию. И как тут не вспомнить Наполеона Бонапарта! Это он запретил этот Орден и упразднил его окончательно. Как и испанскую Инквизицию. Есть личности, которые совершали поступки, действия, оказавшие существенное влияние на ход истории. Среди них и Ягайло, который может не нравиться, но не отдать должное его исторической роли невозможно.
Балтазар Косса Пират в папской тиаре
Были у Балтазара Коссы и обаяние, и харизма, иначе он не прожил бы ту удивительную жизнь, которую прожил, ибо действительно в течение пяти лет, с 1410 по 1415 год, этот человек под именем Иоанн XXIII занимал папский престол. Сравнительно легитимно, скажем так, для того времени. Потому что это время великого раскола. И в тот момент на пике кризиса, который переживало папство, было три папы. И Констанцский собор в 1415 году пресек этот кризис. Но для того времени все три папы были легитимны, потому что одного выбирали кардиналы в Риме, другого в Авиньоне. А Косса был избран в Пизе. Сегодня должно быть 100 с лишним голосов, чтобы состоялось избрание, для Коссы и 17 оказалось достаточно.
Итак, кем он остался в истории? Реальной фигурой под именем Иоанн XXIII? Однако церковь хотела вычеркнуть из истории это имя и этот, так сказать, номер. Иоанном XXIII в середине XX века нарекли другого человека, другого папу, делая вид, что Коссы никогда и не было. Однако переписывать прошлое очень сложно – не раз мы в этом убеждались. Вычеркнутое возвращается, причем нередко в болезненной, изощренной форме.
А Балтазар Косса реально существовал. Он остался в исторической литературе, в источниках. Многие документы той эпохи дошли до нас. Мы знаем и о его жизненной истории, и о его поступках, нередко неблаговидных. Например, будучи еще папой, он принял решение передать Яна Гуса в следственный комитет, когда тот приехал объяснить свое учение на Констанцский собор. А в результате они оказались потом в одной тюрьме. Такое вот переплетение судеб! Один остался в истории как очень светлая личность, репутация другого, при всей его яркости и таланте, небезупречна.
Низложен Косса был решением этого же Вселенского собора. Сохранились приговоры, протоколы суда над ним, но они рисуют такую картину, что она кажется недостоверной, сильно преувеличенной и вызывает большие сомнения – а не дело ли это рук его недругов, уж очень похоже!
Его биография не совсем ясна, но я попытаюсь нарисовать основные контуры. Родился, по-видимому, около 1360 года, умер в 1419-м. Сохранилась его могила во Флоренции – великолепное погребение, надгробие для которого изваял не кто-нибудь, а великий Донателло.
Косса происходил из знатной, графской семьи. Его отцу принадлежал остров Искья в Неаполитанском заливе. А там четыре-пять деревень, которые давали вполне приличный доход. Никакого бедственного детства, никакой нищеты. Свой род он возводил ко временам Древнего Рима. Начинающееся и ярко разгорающееся Возрождение, которое возрождает интерес к античности, для многих было толчком к поиску своих корней. И чем глубже, тем, конечно, лучше. Семейство графов Косса находит в V веке до н. э., когда и Рим-то еще не был величайшим государством древности, некоего полководца под именем Косса. С него они начинают свое генеалогическое древо. Скорее всего, это легенда, не имеющая отношения к действительности.
В семье было четверо детей. Его старший брат, Гаспар, имел прозвище «адмирал пиратского флота». И когда братишке Балтазару исполнилось тринадцать лет, Гаспар взял его в свои разбойные набеги. Балтазар прекрасно себя там чувствовал, получая удовольствие от воровской жизни, полной опасностей и приключений. Это длилось целых семь лет, пока мать не дала Балтазару совет – прекратить, по крайней мере, на время эти, мягко говоря, незаконные и опасные занятия и пойти учиться. Она заметила, что среди ее четырех сыновей Балтазар самый способный, любознательный и развитый мальчик, и не ошиблась. Он отправляется в Болонский университет – величайший университет средневековой Европы, самый древний, самый многочисленный и самый престижный.
И поступает на теологический факультет. И вот тут начинают проявляться его неординарные качества, его харизма. Понятно, что прорваться к папскому престолу обычному пирату невозможно. Но Косса был человек совершенно необычный. Прежде всего, он прекрасно учился, выделяясь среди студентов, великолепно владел пером, отлично писал. Но помимо этого, он был лидером, вожаком. А учащиеся Болонского университета XIV века – это не современные студенты, хотя в чем-то, конечно, похожие. Те студенты, без преувеличения сказать, управляли городом. Болонья того времени – город студентов, молодых, смелых, активных, которые все время чего-то требуют, собираются, выступают, подчас хулиганят по молодости. Балтазар – их бессменный предводитель. У него было окружение, примерно с десяток молодых людей, которых в Болонье называли «Десять дьяволов». Их знали все, они властвовали в Болонье, иногда бесчинствовали, вызывая негодование, подчас устраивали праздники с песнями и гуляньем. Но все при этом учились.
Студент Балтазар Косса – не только блестящий и разбойный предводитель молодежи, шайки «Десять дьяволов», но и герой любовных приключений. Он оставался им до конца своих дней. Надо, правда, заметить, что в описании его грехов есть элемент литературности, именно литературности Раннего Возрождения, свойственной и Петрарке, и Боккаччо. У него было множество романов, была и одна пламенная любовь. О ней великолепно написал греческий автор Александр Парадисис в книге «Жизнь и деятельность Балтазара Косса». Книга, кстати, переведена на русский язык.
В один прекрасный день Балтазар встречает девушку по имени Яндра де Ла Скала. Эта встреча – в который уж раз! – полностью меняет его жизнь. Девушка изумительно красива (есть приписываемый ей портрет) и необычайно умна. Яндра скрывается от Инквизиции, которая преследует ее за то, что она училась в Париже, бывала в Европе, за то, что она прекрасно образованна и выделяется среди всех остальных. Ее обвиняют в ведовстве и собираются сжечь на костре. Балтазар страстно влюблен, и для него нет преград. Препятствия никогда не останавливали этого человека, он их всегда преодолевал, особенно в любви. Поначалу он вместе с Яндрой совершает побег, но их хватают и бросают в тюрьму. Теперь и ему грозит костер.
Но… у него есть другие любовницы. К нему в тюрьму приходит одна из них – верная, нежная, правда, не такая красивая – ее портрет тоже существует – Има Даверона, которая любила его всю жизнь, буквально до гробовой доски. Она приносит, как и положено в романах, напильник в пирожке. Он не воспользуется этим напильником, а хладнокровно убьет одного за другим двух стражников и, переодевшись в их одежду, спокойно покинет тюрьму Болоньи.
Теперь надо выручать Яндру. С помощью той же верной Имы Балтазар дает знак своим друзьям, брату, «адмиралу» Гаспару. И студенты, объединившись с пиратами, штурмом берут город и захватывают тюрьму. На руках он выносит Яндру из темницы. Роман продолжается, они счастливы. Но теперь он, конечно, снова пират. Ему просто нет другой дороги. И четыре года он гуляет по Средиземноморью, становится капитаном, получает корабль. Он оказывается хорошим полководцем.
Один из исследователей, писавших о его жизни, отметил, что гораздо менее он был заметен в делах церкви, чем в делах светских и на поле брани. И в денежных делах – добавлю я. Вот договор, который он в 1385 году заключил со своей командой: «Все добытое в операциях будет немедленно делиться на четыре части. Две из них будет получать экипаж, четверть пойдет моим верным и храбрым друзьям, Ренере, Джованни, Аванте, Бернарде и Бйорда, последнюю четверть буду получать я, как капитан корабля и руководитель операции. Если в нашей операции кто-то потеряет глаз, он получит компенсацию в 50 золотых цехинов, дукатов или флоринов, или 100 скуде или реалов, или 40 сицилийских унций, или, если он это предпочтет, одного раба-мавра. Потерявший оба глаза получит 300 цехинов или дукатов, или 600 скуде, или неаполитанских реалов, или 240 сицилийских унций, или, если захочет, 6 рабов. Раненый в правую руку или совсем ее потерявший получит 100 золотых цехинов, флоринов или дукатов. Если кто-то потеряет обе руки, то он получит 300 дукатов, 600 реалов или 6 рабов. Парализованная рука или нога приравнивается к потеряной». Очень деловой и точный договор. Не случайно именно Балтазару Коссе самые серьезные авторы приписывают инициативу создания первого папского банка, существующего и поныне. Это банк Святого Духа. Умел человек совмещать романтику и дело. Не путал, не смешивал.
Где гуляли пираты, заключившие с ним договор? Северное побережье Африки – Тунис, Алжир, Марокко, нынешние – Испания, Южная Франция, Италия. Грабежи, добыча сокровищ. Они богатеют все больше и больше.
Но однажды попадают в страшный шторм, корабли тонут, на одном из них находилось пятьсот пленников, которых он собирался сделать рабами. Он с тремя приближенными и Яндрой чудом хватаются за какую-то лодчонку, которая вот-вот пойдет ко дну. И тогда мужчины дают обет – если Бог сохранит им жизнь, они станут служителями церкви. Впоследствии говорили, что шторм был Божиим наказанием Балтазару за то, что он ограбил святилище пиратов, забрал драгоценности, которые пираты приносили Деве Марии. Но, надо сказать, что это был не первый случай святотатства, он грабил все церкви, что попадались ему на пути.
Были ли все эти события на самом деле, или это только красивая легенда, – неизвестно. Но так или иначе, волею судьбы Косса стал священнослужителем. За его плечами – теоретическая подготовка теологического факультета Болонского университета и практика разбойника, удивительно выпадающая из религиозного контекста. После этого шторма Балтазар Косса оказывается на службе у папы Урбана VI.
Урбан VI маниакально жестокий человек. Современники очень много неоднократно писали о том, как он наслаждался зрелищем пыток, всегда присутствовал при них и требовал более жестоких казней. То есть Балтазар попал к человеку, от которого никак нельзя было ждать пощады. Однако этот маниакальный злодей, возможно, почувствовал родственную душу или угадал в Коссе ту самую харизму. Услышав про обет, папа пригласил Балтазара к себе на службу. На какую? Вести следствие над врагами церкви, быть главным дознавателем. Косса, конечно, согласился.
Это было очень близко к должности палача, потому что те, кто вызывал недовольство Урбана VI, попадали в тюрьму, где к ним применяли пытки. Балтазар Косса для этих дел идеально подходил.
Прежде чем сказать, как продвигался Балтазар, разбойник и пират, к папской тиаре, надо хотя бы в общих чертах обрисовать, что представляло собой папство в этот момент.
Папство – один из институтов христианской церкви, а затем ее западной, католической ветви. Институт папства возник задолго до разделения церквей. Начиная с II века уже существовало понятие – папа, происходящее от греческого слова, означающего «отец», «наставник». Теоретически – это человек, самый близкий к Богу, Его наместник. Обычно папой становился епископ города Рима. Римская империя была авторитетом всегда, даже когда стала ослабевать. И быть римским епископом значило пользоваться большим авторитетом, чем другие. Богатея, укрепляя свои связи, римские епископы добились того, что заняли особенное положение среди других иерархов христианской церкви.
Они приписали себе роль наследников святого Петра и считались людьми совершенно особыми, находящимися в прямых отношениях с Богом. Средневековая Европа еще только формировалась, светские правители еще были слабы, и папы стали претендовать на особое положение в государстве, настаивая на том, что они выше любого императора и короля. Есть Бог на небе, а на земле первые – они, а потом уже земные правители.
Но и светская власть развивалась. Когда европейские государства окрепли, началась отчаянная борьба между папами и светской властью. Папская теократическая идея разбилась о крепнущее национальное самосознание именно в XIV веке Тогда папы давали последний бой в надежде удержать светскую власть под своим контролем. И этот последний бой они проиграли. Крушение Иоанна XXIII и решение Констанцского собора, в частности, были одним из проигранных эпизодов великого противостояния земных и духовных властителей.
Однако ранее, в эпоху Средневековья, римские папы пользовались большой властью. Вспомните знаменитое унижение германского императора Генриха IV в Каноссе, когда папа Григорий VII отлучил правителя от церкви и заставил его каяться. Само слово «Каносса» стало с тех пор нарицательным. Был Вормский конкордат (1122), который зафиксировал временный компромисс власти с папами и частично признал их право на светскую власть. В XIII веке римский папа Иннокентий III так ретиво сражался с еретиками, в частности с альбигойцами на юге Франции, что действительно на время в своей власти стал выше светских правителей.
Вспомним и другое. Например, эпизод начала XIV века, когда французский король Филипп IV Красивый послал своих приближенных во главе с канцлером Гийомом Ногаре дать пощечину римскому папе Бонифацию VIII. Или наконец, историю семидесятилетнего «Авиньонского пленения пап» (1307–1378). В эти годы французская монархия удерживала пап под своим контролем. Такова предыстория этой борьбы.
В то время, когда все более заметной становилась фигура Балтазара Коссы, противостояние светской власти и папства достигло своего апогея. Критическое состояние морали и нравственности среди духовенства было главным козырем светской власти. Она обвиняла в очевидном падении нравов церковь и хотела всячески ограничить ее власть. Но церковь сама впадает в тяжелый кризис. В 1378 году, после «Авиньонского пленения», итальянские кардиналы избрали в Риме Урбана VI, того самого, которому служит Косса, а французы в Авиньоне – Климента VII. Они оба пробыли на папском престоле довольно долго, один – до 1389 года, другой – до 1394-го, посылая друг другу взаимные проклятья.
Урбан VI сам писал об этой эпохе: «Жестокий и губительный недуг переживает церковь, потому что ее собственные сыны разрывают ей грудь змеиными зубами». Писать они умели, все были хорошо образованными и не лишенными интеллекта. И вот в этой безнравственной и постыдной для церкви ситуации, как в мутной воде, выплывает Балтазар Косса, возведенный в феврале 1404 года одним из римских пап, Бонифацием IX, в сан кардинала. Препятствий к тому не было – происхождение у него знатное, образование соответствующее. Жизненный опыт, который он приобрел при папском дворе, тоже очень ценен – у него есть связи, контакты. Только где-то там, в туманной дали, маячит его пиратское прошлое. Но ведь при желании его можно счесть за эпизод или клевету врагов!
Косса очень скоро показал свой талант полководца, и папа в 1403 году отправляет его на покорение мятежных областей, которые были под властью пап, но всячески старались отделиться. Болонью, Перуджу и Ассизу было приказано вернуть под строгую длань римского первосвященника.
Дело в том, что с VIII века папы имели в своем владении в самом центре Италии бывшие земли лангобардов, роскошные богатые земли, где процветало виноделие, ювелирное искусство, земледелие – это был царский подарок основателя династии Каролингов, Пипина Короткого. Владения приносили огромный доход, и папы богатели, поднимались, укрепляясь в собственной власти. Земли эти всегда были неспокойны.
И вот Балтазар, посланный покорить строптивые области, блестяще справился со своей задачей. Умел он это делать, учился и тренировался с 13 лет. Приведя их к повиновению, он стал править здесь от имени папы, получив город Болонью в качестве главной своей резиденции. Теперь его судьба на долгие годы будет связана с этим городом.
А дальше – он становится первым кардиналом. Вот уж поистине личность, не лишенная способностей! Он продвигается и продвигается по ступеням власти, вокруг полно интриг, тайных убийств и заговоров, отравлений, ударов кинжалом… Но он чувствует себя вполне комфортно, не испытывает неудобств, наоборот вполне соответствует этой обстановке, безнравственной и опасной.
Итак Бальтазар на службе у папы Урбана VI. В 1390 году по приказу своего патрона Косса пишет письмо с проклятиями, адресованное сопернику Урбана «антипапе» Клименту VII. Вот отрывок из этого письма: «Правителю мрака, сатане, обитающему в глубине преисподней и окруженному легионом дьяволов, удалось сделать своего наместника на земле, антихриста Климента VII, главой христианства, дать ему советников – кардиналов, созданных по образу и подобию этого дьявола, сынов бахвальства, стяжательства и их сестер – алчности и наглости». Чудовищное было время! Даже искренне верующие люди отворачивались от церкви.
Первый кардинал не отличался высокоморальными качествами – о его прошлом, конечно, шептались всегда, но громко заговорили перед Констанцским собором. Ходили слухи и о том, что он отравил преемника Бонифация IX, Иннокентия VII. На Констанцском соборе ему будут это инкриминировать, хотя доказательств нет.
Но вот, наконец, папой в Риме был избран Григорий XII, который зависел от Балтазара Коссы, боялся его и потому решил сместить его с поста первого кардинала. В ответ Косса взбунтовался, объявил себя правителем тех областей, которые завоевал. Справедливости ради скажу, что сделал он для института папства, как светского образования того времени, очень много. Благодаря его усилиям, ловкости и изворотливости именно Рим признается большинством ведущих и крепнущих национальных государств Западной Европы главным городом пап. Рим, эта великая древняя традиционная база христианства, остается центром и по сей день, а не Авиньон, который долгое время поддерживала французская монархия и отчасти Кастилия.
Будучи первым кардиналом, Косса отличился своим умением выбирать легатов, посланцев римского папы. Он заправлял всеми делами при Александре V, который по существу уже не правил, а вскоре и сменил его на папском престоле.
Но пока он не стал папой, скажу два слова о его личной жизни. В один, далеко не прекрасный момент Косса узнает, что горячо любимая им Яндра изменяет ему. И с кем? С его лучшим другом. Это особенно сильно его задевает. И кроме того, становится известно о ее намерении подослать убийц к его самой верной, надежной женщине – Давероне. Именно она вызволяла когда-то его и Яндру из тюрьмы. Это взбесило Балтазара настолько, что он убивает Яндру. Было ли так на самом деле – неизвестно. Обвинения Констанцского собора – слишком зыбкая почва. Даже о смерти неаполитанского короля Владислава, которую также связывают с Балтазаром, невозможно говорить с полной уверенностью. Ужасающие многочисленные преступления, в которых обвинили папу Иоанна XXIII, могли быть отчасти придуманы его многочисленными недругами.
Поэтому некоторые сомнения в его виновности у меня есть. И они не на пустом месте. Хочу процитировать несколько пунктов обвинения, предъявленных ему на Констанцском соборе, а всего их было 54. «Занимался продажей церковных постов» – безусловно. А кто не занимался?! Все они продавали посты. «Один и тот же пост продавал нескольким лицам» – вот это уже нехорошо, это уже шулерство, мошенничество. «Смещал людей неугодных» – да, все правильно. «Хотел продать Флоренции останки святого Иоанна за 50 тысяч золотых флоринов». В наше время этот пункт обвинения воспринимается как черная ирония. «Разрешал предавать анафеме своих должников» – тоже дело обычное в церковной среде. А вот дальше пункт 6: «Отрицал загробную жизнь, не верил в воскресение умерших». Для того времени это – большой грех. Но как, оказывается, быстро меняются представления людей! Дальше – про сожительство со своей дочкой, внучкой, матерью, о связях с сотнями замужних женщин. До конца XX века не утихали споры – 200 или 300 монахинь он соблазнил. Это уже смешно! «Был опорой нечестивцев». Ну, несерьезно. «Отрицал добродетель», «был средоточием пороков» – это можно написать в целом про служителей церкви эпохи упадка нравов.
Но с чего вдруг так упали нравы? Такое уже было с Западной церковью в X–XI веках. Потом Крестовые походы словно просеяли мораль, оставив ее более чистой и возвышенной. Но все-таки чем вызван этот упадок? Вопрос не простой. И, очевидно, на него нет однозначного ответа. Я могу высказать лишь свои мысли по этому поводу. То тотальное господство над душами людей, которое церковники себе присвоили, как и всякая абсолютная власть, развращает человека, развращает его душу. Когда все дозволено – это так страшно! А результат всегда один – руины морали.
Ян Гус – это редчайшее исключение для того времени. Как истинный пастырь, он был убежден в том, что может позволить себе не больше, а меньше всех остальных. Таких, как он, как правило, отправляли на костер. Ведь и сегодня инакомыслие не поощряется там, где нет свободы.
Но вернемся к Балтазару Коссе. Как произошло избрание его папой? Легко! Он просто купил голоса семнадцати кардиналов. Купил, посулив им виллы, земли, виноградники, высокие посты, и, между прочим, выполнил свои обещания. Что же тут особенного? Подкуп не был тогда делом необычным. Непривычным было то обстоятельство, что кроме него были избраны еще двое пап, один в Риме, другой – в Авиньоне. Однако его сметающая все самоуверенность и та харизма, которая вынуждала других ему подчиняться, были ему порукой. Он вышел победителем из этой странной ситуации и стал править католическим миром. Правда, недолго.
Что же случилось? Почему на Констанцском соборе в 1415 году были осуждены два столь не похожих друг на друга человека – Ян Гус и Балтазар Косса? Чрезвычайно интересный вопрос. Я долго размышляла над ним. XIV–XV века – это «мое» время в научно-исследовательском смысле. В ту эпоху сложились основы того, что потом определили как «нация». Возникли такие представления и понятия, как «национальное самосознание», «национальное достоинство», и потому папские теократические притязания на абсолютную власть перестали устраивать и правителей, и главное – церковную паству. Люди не хотели больше чувствовать себя овечками папы. Они ощущают себя народом, народами – французами, англичанами, итальянцами, испанцами.
Вселенский собор в Констанце показал, что есть силы, способные призвать папу к ответу и бороться за чистоту нравов духовенства. Эти силы формировались в монастыре на юге Франции, в местечке Клюни, и потому движение получило название клюнийского. Во главе него стояли искренние люди, готовые к самой отчаянной и трудной борьбе за чистоту нравов служителей церкви. Даже в высших эшелонах католической церкви склонялись к мысли: «Вселенский собор выше лично папы». Эти настроения, а они преобладали, и позволили вытащить на поверхность темную биографию Балтазара, заговорить о ней громко и принять те решения, которые подвели черту под его карьерой. Собор низложил Иоанна XXIII.
Кроме того, Вселенский собор вынудил отречься второго папу Григория XII и отлучил Бенедикта XIII – таким образом избавились от всех трех пап. На папский престол был избран Мартин V Римский, кстати, приятель Балтазара. Так был преодолен великий раскол в католической церкви.
Косса бежал. Ему опять помогала его возлюбленная. Просила за него, ходатайствовала и в итоге добилась для него встречи с новым папой и его представителями. Поистине, непотопляемый Балтазар Косса! Ни шторм его не берет, ни тюрьма. Он выкупил себя из тюрьмы за огромную сумму – 38 тысяч золотых флоринов. А дальше – не пожалел средств, чтобы оставить при себе кардинальскую шапку!
Жить ему оставалось всего четыре года. Косса поселился во Флоренции. К концу жизни он лишился всех своих сокровищ, награбленных в пиратских набегах, сокровищ фантастических. Правда, многие исследователи считают, что это миф, но, на мой-то взгляд, это – чистая правда. А дело было так. Уезжая в Констанц, деньги свои он доверил банку, который создал Джованни Медичи – один из основоположников этого в будущем сказочно богатого семейства. Когда, наконец, Балтазар вернулся, восстановившись в кардинальских правах, и попросил свои деньги обратно, услышал очень остроумный ответ банкира: «Я могу вернуть эти деньги только папе Иоанну XXIII, а его нет». И спорить с этим было невозможно, папы Иоанна больше не существовало. Впоследствии говорили, что именно эта сумма и была основой благополучия семейства Медичи.
Бывший папа Иоанн XXIII умер в 1419 году. Ему устроили пышные похороны. Гениальный скульптор Донателло создал для него роскошную усыпальницу. По заказу кого? Козимо Медичи. Возможно, у него были остатки совести.
Напомню, что Иоанн XXIII – это единственный папа в истории, чей порядковый номер был повторен. И это значит, что человек был вычеркнут, как будто его и не было. В середине XX века кардинал Ронкалли взял себе имя – Иоанн XXIII…
Улугбек Ученый на троне
Улугбек Мухаммед Тарагай родился в 1394 году, умер в 1449-м, был правителем Мавераннахра, что по-арабски означает «то, что за рекой». Название это со временем стало обозначать не только правый берег Аму-Дарьи, но и в целом междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. Он управлял государством, в которое входили такие города, как Самарканд, Бухара, Ходжент, места, культурно отмеченные в истории человечества. Улугбек был известным ученым, величайшим астрономом не только своей эпохи, но на все времена. А еще он математик, географ, литератор, историк – трудно объять круг его интересов. Улугбек-ученый принадлежит эпохе Возрождения – такой же размах, такая же мощь. Сказав эти формальные вещи, можно догадаться, что жизнь его простой не была и быть не могла. И это – любимый внук Тамерлана, величайшего завоевателя, воина и полководца, не знавшего пощады и жалости. У такого деда – такой внук! Природа преподносит неисчислимые и порой необъяснимые загадки.
Владения Тамерлана раскинулись от Волги до Ганга и от Тянь-Шаня до Боспора. У Улугбека свои «завоевания» и владения. Он создатель знаменитой самаркандской школы астрономов и математиков, автор-составитель знаменитого «Зиджа Улугбека», или «Султанского зиджа» (зиджи – особый жанр литературы на Востоке). Его сочинения имели практическое значение, были своего рода практикумами для наблюдений за небесными телами. Улугбек – создатель обсерватории в Самарканде, блестяще оснащенной и самой крупной для своего времени. Он принял мученическую смерть из-за козней своего старшего сына. Тело Улугбека было найдено в середине XX века, в 1941 году, и по черепу восстановлен его облик. В 1994 году широко отмечалось 600-летие этого выдающегося человека.
Он родился 22 марта 1394 года в городе Султания – Иранский Азербайджан – там тогда стоял военный обоз его деда Тамерлана (Тимура). Это было во время пятилетнего похода Тимура в Иран и Персию. Рождение Улугбека связано со счастливым событием. Надо сказать, что жестокость Тамерлана была его принципом. Это был демон зла, внушающий ужас. Взяв очередной населенный пункт, он в полной уверенности в своей правоте, истреблял все его население. Он любил повторять, что поскольку есть только одно Солнце на небе и только один Бог, то и на Земле должен быть только один правитель. Конечно, он сам. В день рождения Улугбека он захватил крепость Мардин, где началось поголовное истребление жителей. В этот момент к Тимуру прибыл гонец и сказал, что одна из его невесток – а в обозе он возил с собой довольно много родни – родила мальчика. Рождение младенца мужского пола, сколько бы жен ни было, сколько бы детей они ни рожали, было всегда большим праздником. И по этому случаю Тимур отступил от своего принципа – он приказал не истреблять больше жителей этой крепости. Маленький Улугбек своим рождением спас от смерти многих людей. Интересно, что в дальнейшей его жизни это событие не исчезает бесследно, а коррелируется с некоторыми его поступками и движениями души.
У него был замечательный воспитатель: шейх Ариф Азари – поэт, ученый. Когда мальчику исполнилось три года, дед приказал воспитателю быть с этим ребенком неотступно, очень разумно считая, что воспитанием надо заниматься от трех лет до семи, а потом – уже поздно, время упущено. И воспитатель не скупился в своем стремлении научить, рассказать, приобщить к наукам и образованию жадного до знаний мальчика. Он взращивал его на сказках и мифах средневекового Востока, на этих бездонных и богатейших сокровищах культуры. Сказания Востока – они красочны и изумительны. Чего стоит «1001 ночь»! Ариф Азари старался вырастить в воспитаннике поэта с тонким восприятием прекрасного и душой, отзывающейся на чужие страдания. И во многом ему это удалось. Правда, поэта в мальчике перевешивал астроном, но ведь можно считать и астронома в некотором роде поэтической натурой. Когда Улугбек через 46 лет встретил своего воспитателя, то тотчас же радостно узнал его.
Со временем Улугбек окружит себя выдающимися людьми, приблизит к себе знаменитых астрономов Кази-заде Руми и Масуда Кашани. Это крупнейшие ученые своего времени. И надо признать, что здесь он подражал деду. Тимур, будучи все время в походах, создавая всемирную империю, тем не менее, не забывал следить за двором. По его понятиям, вокруг него должны были концентрироваться интеллектуальные силы, создавая особую атмосферу, которую только и могут создать люди мыслящие – философы, художники, поэты. И они действительно были при его дворе. Правда, добивался он этого довольно варварскими средствами – под угрозой смерти переселял людей заметных, известных к себе, в свою грандиозную империю. Тимур хотел прослыть правителем, который не только сражается и побеждает, но также умеет ценить и понимать материи тонкие, художественные. Он полагал, что культура, собранная, созданная с его помощью, возвысится над целым миром…
Этому Улугбек будет подражать. Правда, методы будут другие – никакой свирепости и варварства, как у деда. Знаменитых зодчих, поэтов, ученых он окружает вниманием, относится к ним с огромным уважением, воздавая должное их талантам. Но это – в будущем. А сейчас, с самого раннего детства – грозные завоевания, бурлящая вокруг деятельность придворных, холуйствующих, неверных, продажных, не давали возможности уединиться, побыть наедине с собой. Это противоречие между деспотичной, жестокой действительностью и желанием жить внутренней интеллектуальной жизнью, тоже насыщенной и напряженной, неотступно преследовало сначала мальчика, а потом и взрослого человека.
В 1404 году десятилетний Улугбек участвовал в походе двухсоттысячного войска Тимура в Китай. В том же году он вместе с другими внуками грозного завоевателя участвовал в дипломатической церемонии – приеме посланника короля Испании. Дети должны были взять верительные грамоты у посла и передать их деду. С самого детства Тимур стремился развить в мальчиках чувство приобщенности к власти, понимая, что именно им придется в будущем эту власть взять на себя. Сама судьба подбрасывала Улугбеку мысли о мировом господстве и походах, победах и власти.
В том же 1404 году Тимур устроил громадные торжества по случаю победы над турецким султаном Баязидом. Это действительно была грандиозная победа! К этому торжеству были приурочены свадьбы нескольких внуков. В том числе и десятилетнего Улугбека. Все эти события и вместе, и по отдельности вовлекали, толкали в обычную и привычную придворную жизнь детей и внуков владыки большой державы. Это было неизбежно. И потому ранний этап жизни Улугбека протекает преимущественно вблизи двора, а также в военных походах. Но, очевидно, уже тогда внутри него зрело и требовало выхода что-то, абсолютно противоположное тому, что он видел вокруг и в чем сам участвовал. Это было его безграничное любопытство к миру, к его устройству и проявлениям. Возможно, эта особенность Улугбека и привлекала деда. Тимур отдавал ему явное предпочтение. Другие внуки ревновали.
Но у этого необычного мальчика, воспитанием которого талантливый воспитатель начал заниматься с трех лет, были необычайные задатки. Со временем султан Улугбек сумеет в уме вычислять долготу Солнца и производить другие сложнейшие математические действия. Об Улугбеке сохранилось очень много источников. Множество рукописей, связанных с его деятельностью, и прежде всего, его трудов – на персидском и на арабском языках – хранятся в архивах Узбекистана и Турции. Но самый драгоценный документ – это письмо его ученика Гияса ад-Дина аль-Каши, выдающегося математика и астронома из Самарканда, отправленное своему отцу. В нем Аль-Каши подробно описывает, какое впечатление на него произвел самаркандский двор, личность правителя, его ученые занятия. В неспешных, точных словах рассказывается о жизни Улугбека, его разговорах, поведении. И перед нами предстает человек выдающегося ума и редких способностей. Таких детальных и ярких описаний мы нигде больше не находим, их просто нет. Рукопись этого бесценного письма хранится в одной из мечетей в Иране.
Тимур занят совершенно другими делами: разгромил Орду, совершил поход в Индию, захватив Дели, победил Турцию, разбив войска султана Баязида I, завоевал Хорезм и Хорасан, Иран, Закавказье. И наконец отправился в поход в Китай, во время которого и умер. Интересно, что у Тимура была особая привязанность к Самарканду. Возможно, потому что он был женат на сестре эмира Самарканда Хусейна. И то, что в удел любимому внуку Улугбеку достается именно этот город, думаю, неслучайно. А надо сказать, что дальнейшая судьба Улугбека будет связана с этим местом.
Дед умер в 1405 году. Когда уходит такой грандиозный и мощный правитель, в средневековой истории все рушится – неизбежно возникают распри и жестокая борьба за власть. Колоссальное государство распадается, разваливается, как когда-то держава Александра Македонского после его неожиданной кончины. Сыновья и внуки Тимура дерутся друг против друга, между ними нет ни союзов, хотя бы временных, ни объединений. Победителем выходит отец Улугбека, Шухрух. Шухрух, видимо, был человеком достаточно сильным и значительным, и ему удалось удержать в своих руках значительную часть этого государственного объединения.
Улугбеку было 11 лет, когда умер его дед. Отец отправляет его в Самарканд – удерживать северную границу бывшей империи Тамерлана от кочевников – это была задача очень трудная. Но Улугбек, как ни странно, выполнил ее. Он не снискал себе славы победителя, он вообще никогда не был воином. Единственное, пожалуй, что ему удалось, так это как-то справиться с северными кочевниками. Но даже эти действия, отвлекающие его от научных занятий, были ему в тягость. Такой настрой все больше и больше не нравился современникам, прежде всего, духовенству.
В 30 лет он сосредоточился на научной и просветительной деятельности. Воевать он не умел и не раз был разбит противником, а в 1427 году потерпел очень серьезное поражение. Тогда его отец, султан Шухрук, запретил ему, правителю Самарканда, лично командовать войсками. Что оставалось? То, о чем он мечтал постоянно и желал бесконечно – занятия наукой и культурой. Думаю, можно совершенно искренне поблагодарить Шухрука за это человеческое решение, иначе судьба науки могла сложиться в дальнейшем совсем по-другому.
Имя Улугбек означает «великий правитель». Правда, в полной мере величие и значительность этого человека проявились в науке, но и в управлении он сказал свое слово. Желая улучшить ситуацию в государстве, он провел денежную реформу. Как считают специалисты, очень полезную. Согласно реформе, был увеличен вес медных монет, они стали более полновесными и потому более привлекательными и ценными для торговли. Была осуществлена централизация чеканки монет – очень важное мероприятие для оживления внутренней торговли и активизации торговли внешней. Известно, что междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи – место, где пересекались мировые торговые пути. И здесь, на перекрестке этих путей, необходимо было использовать свое выгодное положение с наибольшей пользой, о чем и заботился Улугбек и в чем значительно помогали его научные занятия.
И второе, что он сделал – ввел новый торгово-ремесленный налог. Налог, «тамга», лег серьезным бременем на духовенство, на церковные учреждения и крупных земельных собственников, которые одновременно занимались и торговлей. Если учесть, что и войско было недовольно Улугбеком, – ну а как же? Ни одной победы, ни одной возможности пограбить побежденных! У султана появились чрезвычайно серьезные недоброжелатели. Но главное, что вызывало враждебность, злобность, а возможно, и зависть у людей гражданских – это его независимость, заметное пренебрежение властью и постоянные занятия наукой. Он все больше и больше погружался в ту самую научную и просветительскую жизнь, которая его окружению и, прежде всего церкви, была всегда чужда, а со временем начала казаться опасной.
А Улугбек увлекался этим все больше. Он основал три медресе: в Бухаре, в Самарканде и Гиждуване. Самаркандское медресе – самое великолепное, украшенное майоликой, прекрасно сохранилось. Это был крупный, отлично организованный центр науки и просвещения. В нем до XIX века учились и жили студенты. У каждого была своя небольшая комната, где он чувствовал себя защищенным и мог спокойно предаваться занятиям и раздумьям. Одновременно в медресе учились около 100 студентов, Не так уж мало для «глухого Средневековья». Помимо лекций там проходили диспуты, и в них часто принимал активное участие сам правитель. Вот он – ученый на троне! Иногда, как пишут источники, Улугбек специально ставил на обсуждение сомнительный или даже неверный тезис, и тех, кто пытался как-то угодить султану, придумывая ответ к абсурдному вопросу, он педагогически наказывал – отправлял на дополнительные занятия. Неординарный был человек, сильно опередивший свое время!
Особенно это видно, когда читаешь его труды. Вернемся к его знаменитейшему сочинению «Зидж Улугбека». Почему астрономия? Почему он сосредоточился именно на ней? Он пишет в предисловии: «Науки вечны, на них не влияют ни смены народов и религий…» Как? Вот это уже ересь! И в глазах представителей духовенства – преступное заявление, ибо религия влияет на все. Этот же человек говорит, что наука вечна, над ней не властно даже время. Важно то, что мы делаем и «что мы оставим, когда уйдем». Звезды непреходящи, они пребывают всегда – наши деяния должны быть подобны звездам, должны остаться в вечности.
Когда мне однажды посчастливилось оказаться на родине Улугбека, я поняла, почему он должен был появиться именно здесь. Звезды в этой части земли сияют, как алмазы на черном бархате. Они настолько яркие и такие близкие, что невозможно не обратить на них внимание. Воздух там другой, более сухой, может быть, поэтому звезды завораживают и притягивают к себе. Их стремишься разглядеть, сосчитать, запомнить расположение. Это поразительный феномен! Они слишком блистательны и прекрасны, чтобы такой человек, как Улугбек, мог пройти мимо них. И он не прошел. Он стал самым крупным астрономом до телескопической эры, а телескоп, как известно, впервые собственными руками сотворил лишь в XVI веке великий Галилей. Но дотелескопическая наука – здесь, и Улугбек – ее абсолютный лидер.
Первая книга после введения называется «Опознание эр». Он описывает различные мировые календарные системы: мусульманский лунный календарь, который назван «Эрой Мухаммеда», греко-сирийский солнечный – «Греческая эра», персидский солнечный календарь, маликшахский, то есть персидский, который реформировал великий Омар Хайям и наконец, китайско-уйгурский. Улугбек формулирует правила перехода из одной системы в другую, отмечает знаменательные дни в разных календарных системах. Вот чем он был озабочен.
В Европе эти материалы были опубликованы лишь в середине XVII века оксфордским ученым Грифсом. И сразу произвели сенсацию. Европейцы довольно долго не знали, что творится в глубинах Азии. И представить себе, конечно, не могли, как далеко на Востоке ушла вперед астрономия. Построенная Улугбеком обсерватория была грандиозным сооружением. Самый знаменитый прибор, «секстант», остатки которого нашли в 40-х годах XX века, был около 30 метров высоты. И это грандиозное сооружение позволяло ученым-астрономам вести наблюдения над звездами, писать о синусах, тангенсах – примерно о том, что мы сегодня изучаем в школе, – и это пять веков назад! Есть в этом что-то ошеломляющее.
Он оставил после себя не только открытия в астрономии и научные сочинения. Он был рачительный хозяин и много строил. Мосты, медресе, караван-сараи. Это было в традиции Возрождения. В Средние века в Центральной Азии было, по выражению Льва Гумилева, несколько, ярких вспышек пассионарности. В такие периоды время ускоряет свой бег, а жизнь становится ярче и интенсивней, создаются бессмертные произведения искусства, шедевры в архитектуре, делаются научные открытия. Первое Возрождение началось сразу после изгнания арабов в VIII–X веках. Потом временный откат, отступление, упадок. И вот снова шаг к Возрождению. И строительство – знак этого явления. Улугбек строил на века – добротно, не скупясь на дорогие материалы, приглашая талантливых зодчих и художников. Медресе в Самарканде отделано нестареющей майоликой с изображением животных, причудливых растений. Эти яркие сверкающие картины, как музыка, звенят и переливаются. Понятно, что церковь не могла разрешить такие вольности, а он все больше и больше отходил от религии и жил светской жизнью. Он не трогал ислам, относился с подчеркнутым уважением к людям культа, но продолжал делать свое дело.
В 1447 году умирает отец Улугбека Шухрук, и Улугбек оказывается его единственным наследником, выжившим в бесконечных войнах. Но стать правителем ему очень сложно, поскольку сразу объявились другие претенденты. Старший сын Улугбека заявил, что он не намерен отступать, что трон будет принадлежать ему, а дело отца – заниматься наукой. Имя этого человека – Абд ал-Латиф – предано проклятью в памяти человеческой. Был и другой претендент на власть, племянник Улугбека Алла Аддаула.
Они прекрасно знали, что войско настроено не в пользу Улугбека. Ученый на троне солдат мало вдохновляет. Духовенство давно против него затаило раздражение и злобу, и подай только знак, с ним тут же расправятся. Кроме того, общая атмосфера эпохи средневекового общества была такова, что его гуманистические деяния и, в частности, занятия наукой и просветительством, мало кого воодушевляли, слишком узкий круг образованных людей мог поддержать его в то время. И уж никак его деятельность не вызывала поддержку и сочувствие в народе.
В Европе, благодаря античному наследию, образованных людей было больше, их круг шире. Хотя и здесь, на Востоке, античность после походов Александра Македонского обрела благодатную почву. Имена Птолемея, Эвклида, их труды становились известны. Хочу напомнить, что именно Самарканд, центр той области, которая когда-то называлась Согдиана, сыграл в судьбе похода и жизни Александра заметную роль. На пути в Индию он в Самарканде убил в горячности своего молочного брата, побратима Клита – это оказалось знаковым событием. На обратном пути из Индии снова в районе Самарканда Александр устроил знаменитые десять тысяч браков своих воинов и полководцев с местными восточными женщинами и девушками. Тогда его преследовала глобальная идея вырастить новую расу людей. Между прочим, внешний облик Улугбека, который удалось восстановить советскому скульптору и антропологу Михаилу Герасимову, являет собой пример смешения кровей. Ведь Азия была настоящим котлом, в котором переплавлялись народы. Его лицо не отнесешь ни к европейскому типу, ни к азиатскому.
Однако если вернуться к вопросу о социальной поддержке Улугбека и посмотреть на расстановку сил, то окажется, что против него были все – армия, духовенство, ремесленники, торговые люди, крупные землевладельцы. Этот налог, тамга, который он ввел в начале своего правления, давал хороший доход казне, и позволял Улугбеку строить медресе, улучшать дороги. Но людям трудно заглядывать в будущее, им нужно сытное настоящее, а введение нового налога – лучший способ возбудить недовольство. Улугбек в этом был неосмотрителен, он больше думал о будущем и больше смотрел на звезды, чем в лицо действительности.
Он только два года был великим султаном – с 1447-го по 1449 год. Его преследуют распри и заговоры, ему не на кого опереться. И в конце концов, его правление омрачила прямая, открытая война со старшим сыном Абд ал-Латифом. Два войска сошлись, и войско Улугбека наголову было разбито.
Улугбек сдался сыну и смиренно попросил отпустить его в паломничество, в Мекку. В том, что старый человек покинет страну, уйдет далеко и наверняка уже не вернется, не было никакой угрозы для узурпатора власти. И Абд ал-Латиф дает согласие, но, оказалось, он ведет двойную игру. Над отцом устраивается церковный суд, на котором обвиняемый не присутствовал. Улугбека обвинили в ереси и отступничестве от Корана, который он, кстати, знал наизусть. Он совершенно свободно цитировал Коран и не подвергал сомнению значимость этой великой книги. Он находил там свое, и в этом-то, очевидно, и была его вина с позиции церковников.
Итак, его обвинили в ереси и вынесли смертный приговор. Но лишить его жизни было поручено не палачам, а некоему Аббасу, который по законам шариата имел право на кровную месть. Отец Аббаса некогда был казнен по приказу Улугбека. Молва говорит о том, что казненный был главой заговорщиков. Всех заговорщиков Улугбек пощадил, а его одного, как непримиримого главаря, по закону того времени предали смерти. И, таким образом, Аббасу было поручено привести приговор в исполнение.
Он догнал свою жертву совсем недалеко от Самарканда. Улугбека схватили, связали и отрубили голову, без всяких слов и церемоний. Но Абд ал-Латиф, старший сын Улугбека, по приказу которого было совершено злодеяние, на этом не успокоился. Он приказал казнить и своего младшего брата, Абд ал-Азиза, который проявлял интерес к наукам и потому был особенно любим отцом.
Узурпатор, злодей и отцеубийца правил недолго, меньше года и был убит заговорщиками. Существует легенда о том, что Абд ал-Латифу приснился сон и во сне ему преподнесли на блюде его собственную голову. Проснувшись в ужасе, он начал гадать по книге стихов Низами, что было принято в то время. И наткнулся на такие строчки: «Отцеубийце не может достаться царство, а если достанется, то не более, чем на шесть месяцев». Он пробыл на троне чуть более этих шести месяцев.
Существует еще одно предание. Оно повествует о том, что любимый ученик Улугбека аль-Каши, узнав о мученической смерти учителя (люди на базаре только об этом и говорили), надел кольчугу, хорошо понимая, что его могут убить, и бросился в знаменитую обсерваторию. Он спешил и боялся, но, превозмогая страх, стал собирать книги и рукописи, чтобы вынести их оттуда. И этому отважному человеку посчастливилось. Наняв каких-то людей, он вытащил, а потом надежно спрятал книжное собрание Улугбека. Не соверши он тогда, почти шесть веков назад, этот героический поступок, как бы мы сегодня узнали о занятиях и достижениях Улугбека?!
Аль-Каши стал одним из первых средневековых эмигрантов. Он боялся султана и поэтому бежал в Турцию, захватив часть архива Улугбека с собой. Аль-Каши был ласково принят при дворе и успел даже побыть советником при турецком султане. Вот таким образом значительная часть архива была спасена, и имя Улугбека, этого великого звездочета, ярко сверкает среди звезд первой величины на историческом небосводе, потому что, как он говорил, важно лишь то, что ты оставляешь после своего ухода.
Генрих V Победитель За что его приукрасил Шекспир?
Король в Средневековье – личность почти равная Богу. Правда, не всякий король оставляет след в истории, но каждый стремится к этому. С этой целью ко двору приглашались хронисты, которые составляли жизнеописания королей, запечатлевали буквально каждый их шаг и таким образом служили истории – историки обожают жизнеописания, тщательно изучают их и каждый раз по-иному прочитывают. Поэтому с философской точки зрения, исторический источник бездонен, ибо его глубина и познавательная сила зависят от вопросов, которые мы ему задаем. Одна эпоха спрашивает об одном, другая – совершенно о другом. Как правило, каждое время ищет в личностях прошлого какие-то аналогии, ассоциации, ответы на волнующие сегодня вопросы. Для Шекспира, например, его Генрих V – это прежде всего носитель национальной идеи.
Похож ли реальный король на героя шекспировской драмы? Можно ли сказать, что Шекспир пренебрег документами эпохи и создал своего Генриха V? Англия в XVI веке при королеве Елизавете выдвигается на мировые рубежи, становится владычицей морей. Такого положения у нее прежде не было, и, значит, поиск национальной идеи вовсе не выдумка Шекспира.
Шекспир конечно же не игнорировал источники. Он использовал хронику Холиншеда, ряд других анонимных хроник. Эти документы, созданные современниками Генриха V, передают то состояние, которое охватило англичан после победы над французами при Азенкуре в 1415 году. После возобновления Столетней войны и долгой череды неудач в 70–80-е годы XIV века это была первая победа английского оружия. Гром победных фанфар стал самой желанной музыкой для англичан. Можно представить себе, кем становится Генрих V в глазах своих соотечественников. Хочу напомнить несколько строчек из Шекспира: «Когда бы Генрих принял образ Марса! Кто, битву пережив, увидит старость, тот каждый год, в канун собрав друзей, им скажет: “Завтра праздник Криспина!” Рукав засучит и покажет шрамы: “Я получил их в Криспинов день!”». А день святого Криспина – это день битвы при Азенкуре. И далее Генрих говорит: «Для нас война суровая работа. В грязи одежда, позолота стерлась. От переходов тяжких и дождей, на шлемах нет ни одного пера – залог того, что мы не улетим…»
Итак, кто такой Генрих, в юности – принц Гарри? Что сегодня мы можем добавить к его безусловно идеализированному портрету, созданному Шекспиром? По происхождению он – принц. Его отец Генрих Болингброк был старшим сыном Джона Гонта, герцога Ланкастерского, четвертого сына знаменитого английского короля Эдуарда III, начавшего Столетнюю войну. Сын четвертого сына короля – конечно же королевский внук, принц, но у него практически нет шансов на корону. Мать – Мария де Боэн из рода графов Херефорда, Эссекса и Нертгэмптона – родила своего первенца, будущего короля Генриха V, когда ей было семнадцать лет. В двадцать четыре года она скончалась при очередных родах, имея уже шестерых детей. Так что воспоминания о матери у него были смутными. О его детстве и образовании мы практически ничего не знаем – по-видимому, он жил так же, как все юноши его круга: охота, военное искусство, парады, рыцарские турниры заполняли все его время. Поворотным в его судьбе стал 1399 год, когда его отец стал английским королем Генрихом IV.
Шекспир молчит о том, что Генрих IV взошел на престол в результате государственного переворота. Двор и парламент провозгласили его королем Англии взамен свергнутого и насильственно доведенного до отречения Ричарда II. Вскоре Ричард, нелюбимый, непопулярный (при нем были неудачи в войне с Францией, и он прекратил ее), был убит. Итак, страной начал управлять Генрих IV Болингброк из дома Ланкастеров, а его сын становится наследником престола.
Напомню, что Ланкастеры (их эмблемой была Алая Роза) являлись потомками четвертого сына знаменитого короля Эдуарда III. Они-то и узурпировали власть в результате переворота, ущемив права потомков третьего сына Эдуарда III – Лайонелла и его сыновей. Конечно, в глазах большей части общества Ланкастеры и вместе с ними Генрих V – узурпаторы. Мне кажется, в его жизни это обстоятельство имело огромное значение, он все время жил с ощущением страха, наконец, просто не был уверен в своем будущем.
Что нужно тем, кто не очень уверен в своей власти? Маленькая победоносная война. Таков закон истории человечества, он верен и сегодня. И потому перед битвой при Азенкуре Генрих произнес воодушевляющую речь, а в сражении проявил удивительную личную храбрость. Он хотел стать героем, чтобы все забыли о незаконности его прав на корону. И потому возобновляет войну, которую никто не называл тогда Столетней (кстати, она длилась больше ста лет). Возобновляет, чтобы упрочить династию, доказать собственную легитимность и, конечно, присоединить новые территории. Заметим, что ему всего двадцать пять лет. Он, кажется, знает способ, как добиться желаемого. «Я обещаю вам поместья», – посулил он англичанам и в том был для них интерес – экономический и политический. И он выполнил свое обещание. После победы при Азенкуре Нормандия была оккупирована англичанами на двадцать пять лет.
Среди монархов он, пожалуй, первый, кто нарушил рыцарские правила. Надо вспомнить, что это была переходная эпоха, приближалось Новое время. Рыцарство тогда было не в большой чести, хотя во Франции в середине XIV века правил Иоанн II Добрый, который создал рыцарский орден Звезды и верил, что спасет страну только рыцарство. В Англии тоже верили в идеалы Круглого стола и короля Артура. А Генрих совершил невиданный поступок. Какой же?
Во время сражения при Азенкуре, как пишут очевидцы, случилась вылазка французских разбойников. Они напали на английский обоз и ограбили его. Это осложнило ход битвы, и Генрих был вынужден принять опасное решение: убить пленных и сдавшихся французских рыцарей. Чтобы представить себе, насколько чудовищным был этот поступок, скажу, что у рыцаря даже не отбирали оружие, если он поднимал руку и говорил, что сдается. Рыцарского слова было достаточно
Что же это были за разбойники? В «Хронике первых четырех Валуа» (анонимная французская хроника, написанная, видимо, горожанином) нахожу потрясающие подробности: «разбойники» ограбили обоз, залезли на колокольню, стали бить в набат и распевать «Тебя, Господи, хвалим». Но главное – они кричали во все горло, что английский король убит, а это уже чистая, как мы сегодня сказали бы, дезинформация. Из источника становится понятно, эти так называемые разбойники и грабители были, по сути, французскими партизанами. Французы воодушевились, момент был переломным. Тогда-то он и отдал этот страшный, нерыцарский приказ. В результате была завоевана победа при Азенкуре. Генрих V – победитель, захватил северную Францию, взял Париж и объявил себя наследником французской короны. И не просто объявил, а добился в 1420 году подписания договора в городе Труа. Для Франции это был тяжелейший договор, согласно которому и происходило объединение корон.
Во Франции правит Карл VI – душевнобольной человек, он старше Генриха на 20 лет. Средняя продолжительность жизни в Средние века была не так велика, всего около 40 лет, и было совершенно ясно, что после скорой смерти Карла Генрих V станет королем и Англии, и Франции. Имея в виду эти приятные перспективы, он женится на дочери Карла VI – прекрасной Екатерине. Шекспир вдохновенно рассказывает нам историю их любви, их романтических взаимоотношений. Это не более чем художественный вымысел. Все началось с обычного сватовства, а закончилось королевской свадьбой. Но он женится на красивейшей принцессе! В те времена в Европе точно знали, при каком дворе находилась первая красавица. В тот момент это была Екатерина.
Брак состоялся, пошли дети, а с ними – и многие несчастья английского двора. Екатерина была психически здорова, а вот ее детей, внуков душевнобольного Карла, поражали душевные болезни. Это обстоятельство тяжело сказалось во второй половине XV века во время войны Роз, потому что последний Ланкастер, Генрих VI, сын Генриха и Екатерины, был как раз душевнобольным.
Казалось бы, Генрих V – счастливый завоеватель. Но в жизни, как видим, все сложнее. Не так просто сдавалась Франция. Даже самые маленькие крепости оказывали сильное сопротивление. Французы говорили, что не хотят (хроники так и пишут: «не хотим») становиться англичанами. Почему? Но ведь и по сей день этническая самоидентичность – животрепещущий вопрос. А тут она только возникала, только-только появлялось чувство единой общности, и принадлежность к ней была очень важна, являлась гарантом безопасности. Англичане – отдельно, французы – отдельно, а когда-то их королевские дворы были очень сильно переплетены.
Генрих выходит из себя из-за того, что французы сопротивляются, он окончательно теряет рыцарский облик. Маленький городишко Мой не сдается, стоит насмерть. Комендант там – гасконец-рыцарь. Гасконцев и французы-то не жаловали, тем более англичане: безобразники, хулиганы, говорили про них. Генрих, уже официальный наследник французской короны, привез к стенам городка безумного Карла VI, и тот просил защитников города подчиниться их законному правителю, его «возлюбленному сыну» (по договору в Труа, Генрих именовался сыном Карла). А гасконец не сдается. Когда все-таки пала эта крепость, Генрих приказал заковать коменданта в железную клетку (это рыцаря-то!) и возить для назидания по городам северной Франции.
Таким образом, идеализация Генриха – это работа потомков, в реальной жизни все смешано – светлое и темное, доброе и злое, героизм и жестокость, любовь и коварство.
Не для того чтобы оправдывать Генриха, а правды ради скажу, что в реальной жизни нарушения рыцарских установлений начались давно. Времена Роланда прошли. Рыцарские идеалы переживают кризис, но они тем не менее никем не отменены, и потому для недругов и недоброжелателей английского короля история с комендантом-гасконцем – прекрасный повод бросить в него камень, осудить, создать враждебное общественное мнение.
При французском дворе говорили о жестокости англичан, о том, что их правители чуть ли не монстры. Это звучит даже в официальной французской хронике. Конечно же мнение предвзятое, но распространенное. «Никогда не будем отдавать наших принцесс замуж в Англию», – так говорили французы и до Генриха V. При нем эти настроения вспыхивают с новой силой – англичане «жестоки, как звери». А в самом конце Столетней войны появляется такая молва: англичане – не люди, под одеждой они прячут хвосты. Об этом пишет хронист Жуанвиль.
И все-таки поначалу Генрих чувствовал себя окрыленным. Ведь совсем скоро умрет безумец Карл VI, и он объединит две короны. Почти трехсотлетний спор – будут эти земли вместе или нет – почти окончен. Теперь, и Генрих в этом уверен, это вопрос самого ближайшего времени. И он совершил этот подвиг во имя родины.
А что же родина? В Англии зреет почва для будущей войны Роз, которая разразится в 1455 году и продлится 30 лет до 1485 года. Это была война кланов английской знати – Йорков и Ланкастеров. Но откуда взялись недовольные? Победитель щедро раздает земли, пришел желанный реванш – Франция покорена, скоро она станет частью Англии. Не об этом ли мечтали их предки?
И действительно поначалу страна ликовала: повсюду проходят пышные шествия, молебны. Но потом наступают будни. Покорение Севера идет очень тяжело, Франция яростно сопротивляется. Что и говорить – будни всегда разочаровывают. Например, монастырь Мон Сен-Мишель, расположенный у самых берегов Нормандии, не сдавался 25 лет. Небольшой гарнизон, всего несколько десятков человек, зная, что Нормандия оккупирована, жил и сопротивлялся, не признавая договор в Труа, отказываясь присягать королю Генриху и после смерти Карла VI. Таких случаев было немало, и это мучило Генриха V. Огромная часть Франции была не в его руках. На Юго-Западе засел сын безумного Карла VI, будущий дофин Жанны д’Арк и победитель в Столетней войне. Этот человек войдет в историю как Карл VII Победитель.
Договором в Труа он был обойден, его права забыты. При дворах пустили слух, что он не родной сын безумца, что его мать Изабелла Баварская была беспутной женщиной. Он выглядел жалким и никогда не надеялся стать королем. А потом случилось непредвиденное – умер молодой Генрих V. Внезапно, вдруг. Это случилось в 1422 году.
Как такое могло произойти? Войско осаждало очередную крепость, двигаясь к юго-западу. Стояла дикая жара, характерная для южной Франции, начались желудочные заболевания. Предположительно, он умер от какой-то эпидемии. Эпидемии в войсках были частым явлением в те времена. Но с таким же успехом он мог быть и отравлен. Только кто, какие силы – Франции или Англии – привели в движение адскую машину? Вопрос остается без ответа.
Весть о его смерти прогремела подобно разорвавшейся бомбе. Никто – ни друзья, ни враги не ждали ее. С его уходом развалился договор в Труа, подразумевавший, что со смертью безумного короля Франции молодой и сильный Генрих V, женатый на французской принцессе, красавице Екатерине, продолжит управление объединенным королевством. И вдруг ни того, ни другого не стало. И вот тут оживился дофин. Надо было быстро решать вопрос с престолом. Ланкастеры хотят сохранить власть всеми силами и какое-то время ее удерживают. У Генриха остался малолетний сын. Его короновали, но это означало отсутствие какой бы то ни было власти. В младенческие годы Генрих VI не знал, чем правит, а когда вырос – это была уже трагедия, он то пребывал в сознании, то полностью его терял, пока не был убит в Тауэре. Таково было потомство Генриха V и красавицы Екатерины.
Имя Генриха поднимают на щит, потому что XV век – это исток национального самоопределения и для французов, и для англичан, и для немцев. Это столетие показательно, не зря оно считается рубежом Средневековья и начала Нового времени. Такой король, как Генрих V, в своих целеполаганиях, устремлениях, в своем поведении уже отчасти человек новой эпохи, ибо он попирает рыцарские идеалы и совершенно не мучается по этому поводу. Шекспир рисует его рыцарем, но он и жестокий завоеватель. Если в первой половине Столетней войны Эдуард III и его сын Эдуард Черный принц действовали по-средневековому, устраивая грабительские рейды по захваченной территории, то Генрих V отнесся к завоеванию Франции по-другому. Он начал методично захватывать крепости и гарнизоны. Французские современные авторы пишут, что это была попытка систематической оккупации Франции, которая вызвала в ответ общенародное сопротивление, окрашенное в национальные тона. В каком-то смысле, точнее – в идеологическом, Генрих V породил Жанну д’Арк. Тактика реального превращения Франции в территориальное образование при английской, формально англо-французской короне, вызывает сопротивление потому, что в это время в Европе складываются нации, оформляется национальная идея. Английский язык наконец становится главным в Англии. Здесь говорили по-французски со времен норманнского завоевания XI века, когда французский герцог Вильгельм покорил разрозненные англосаксонские королевства и объединил их.
Генрих V живет совсем в другое время. Французы не хотят покоряться Англии и стойко сопротивляются. Через 7 лет после смерти Генриха V появится Жанна д’Арк.
А дофину Карлу, будущему Карлу VII, даже во сне не может присниться, что он будет коронован в Реймсе по воле крестьянской девушки Жанны д’Арк, что она будет стоять рядом в своих белых доспехах, держать белое знамя, олицетворяя собой образ Франции.
Хлодвиг Основатель королевства франков
Имя Хлодвига упоминается в школьных учебниках истории. Но знают о нем очень мало.
Тем, кого интересует эта фигура эпохи раннего Средневековья, есть что почитать на русском языке. Прежде всего, было несколько изданий «Истории франков», написанной Григорием Турским, младшим современником Хлодвига. Еще одна публикация источника с хорошими комментариями – «Хроники длинноволосых королей» (так называется книга, вышедшая в серии «Азбука средневековья», Санкт-Петербург, 2006 год). Там масса ярких подробностей из жизни Хлодвига. Кроме того, «Рассказы из времен Меровингов» французского историка Огюстена Тьерри. Научные труды: «Средневековая цивилизация Западной Европы» Жака Ле Гоффа и «Королевство франков VI–IX веков» Стефана Лебека.
Хлодвиг – племенной вождь, а затем правитель, живший в V – начале VI века, в эпоху великой трагедии – распада Западной Римской империи. Он вождь франков, одного из германских племен, того, что дало название Франции.
Правил он немыслимо долго для своего времени – 30 лет. Основал первую династию предшественников французских королей – Меровингов. Они вошли в историю под двумя забавными прозвищами – «ленивые короли» и «длинноволосые короли».
Родился Хлодвиг предположительно в 466 году. Через 10 лет после его рождения, в 476-м, произошло событие, которое позже условились считать границей эпох, – переворот в Риме. Был свергнут последний римский император, который, по иронии судьбы, носил имя одного из основателей Рима – Ромул. Символы императорской власти были отправлены в Константинополь, столицу восточной части Римской империи. Во времена Хлодвига Великая Римская империя теоретически существовала, но это была уже ее восточная часть, будущая Византия.
Франки сложили о себе предание, согласно которому они вели свое происхождение от царя Трои Приама (а это XIII век до н. э.!). После падения Трои оставшиеся в живых троянцы разделились. Эней повел людей в область Лациум в Италии, будущий Рим; другая часть пошла в Македонию; третья с вождем Торквотом – в Азию (это будущие турки). А отряд во главе с Франком двинулся к берегам Рейна.
Что касается реальных сведений о франках, то они появляются на исторической арене со II века до н. э. Это племя периодически совершает набеги на северную часть Римской империи, в районе реки Рейн. Известно, что франки принимали участие в знаменитой битве 451 года на Каталаунских полях, когда римляне в союзе с германцами встали на защиту своей территории против страшных, неистребимых, непобедимых гуннов. И близ города Тура одержали победу.
Франки жили при позднем родоплеменном строе. Современные археологи и этнографы изучают их капища – священные места, где помещались изображения богов и другие символы. Находят там и черепа людей, что, возможно, говорит о человеческих жертвоприношениях.
Это были варвары, которые скакали на неоседланных лошадях и блестяще владели фрамеями – своим коронным оружием, которое представляет собой заостренное древко, не очень большое, но и не очень маленькое. Прообраз копья. Была у них на вооружении и секира.
Германцы не возводили военных лагерей, крепостей, как римляне. Их воины шли в бой, а за войском двигались обозы с женщинами и детьми. Почему у германцев отступление было невозможно? Им некуда было отступать. За их спинами женщины и дети. Поэтому они должны или погибнуть, или победить.
Франки носили одежду из шкур, что потрясало римлян. Эпоха торжества варваров была в глазах римлян истинным концом света. В общем, это правильно – пришел конец Великой всемирной империи.
Отец Хлодвига – вождь франков Хильдерик, из рода Меровеев. Дед, Меровей, по-видимому, возглавлял войско франков в битве на Каталаунских полях. О нем сохранилась легенда, будто он родился от союза морского чудовища с земной женщиной. Мифологический шлейф обязательно появляется, когда племенная власть готова перерасти во власть монархическую. Тогда один из вождей хочет показать, что он не такой, как все остальные, и потому имеет право занимать особое положение.
Мать – Базина Тюрингская – была женой племенного вождя и бежала от мужа к Хильдерику. После важных предзнаменований, описанных в хрониках, она родила Хлодвига. Нельзя не удивиться тому, что хроники все-таки ведутся и в это страшное время, когда происходит крушение цивилизации. Некоторые книжники все же уцелели. В хронике римлянина Исидора Севильского, «Истории франков» епископа Григория Турского VI века, «Хронике Фредегара» середины VII века, хронике Павла Диакона VIII века рассказывается о Хлодвиге.
В 481 году, в возрасте четырнадцати лет, он начал после смерти отца править частью салических (то есть «приморских») франков, тех, что жили на побережьях северных морей. (Еще были рипуарские франки, селившиеся по берегам Рейна [ripus – лат. Река].)
Пять лет ему пришлось драться за объединение двух народов и завоевывать римскую Галлию – северо-восток будущей Франции. Там правил римский наместник Сиагрий.
Управляемая им провинция была окружена со всех сторон франками, готами, бургундами. А в самой римской Галлии сохранялся островок рухнувшей империи, так как Сиагрий не подчинился власти Одоакра, свергнувшего последнего римского императора.
Хлодвиг в союзе со своим родственником королем Рагнахаром разбил Сиагрия, и тот бежал к готскому королю Алариху II, просил у него убежища. Однако Аларих из страха перед Хлодвигом выдал связанного Сиагрия послам. Продержав пленника некоторое время под стражей, Хлодвиг повелел заколоть его мечом. Король франков был прост и жесток.
Франки признали Хлодвига своим единственным вождем, совершив незамысловатый ритуал: просто подняли его на руках над собой.
Галлия V века – это смешение этносов и культур. Германцы пришли туда, где проживали галлоримляне, исповедовавшие христианство. Ведь христианская религия была в позднем Риме официальной.
Хлодвиг принял христианство в его ортодоксальной версии. Но его путь к этой религии не был прямым.
В процессе завоевания Галлии франки захватывали города и грабили церкви. Они были язычниками и не боялись чужого и непонятного бога. Один эпизод из жизни Хлодвига особенно красочно передан Григорием Турским. Франки устроили разграбление города Суассона. В храме среди реликвий была некая драгоценная чаша, дорогая местному епископу и как предмет культа, и как произведение искусства.
Хлодвиг – это дикарь, одетый в шкуру, косматый, потому что у Меровингов семейная традиция – никогда не стричь волосы. Считается, что если они остригут волосы, то потеряют свою силу. И вот этот лохматый, полудикий язычник почему-то решает прислушаться к просьбе епископа. Так подсказывает чутье. Хлодвиг дает обещание, что получит эту чашу и вернет ее в церковь Суассона.
Раздел награбленного у франков совершался по жребию. Но на сей раз было сказано, что вождь дополнительно к своей доле хочет и эту чашу. И нашелся поборник демократии, который не почувствовал, что времена меняются, и возмутился: «Почему это так? Пусть получит как все! Только по жребию!» А чашу уже отложили, чтобы отдать вождю. Этот воин схватил свою секиру и ударил по чаше. Расколол он ее или только повредил, мы не знаем. Но удар секирой был.
Хлодвиг все-таки получил чашу и вернул епископу, хоть и в поврежденном виде.
Воин не понес никакого наказания. Военная демократия была еще жива. Но, как пишут источники, вождь затаил обиду в сердце. И все поняли силу этой обиды ровно через год, когда Хлодвиг устроил традиционный смотр своего войска. Все должны были с оружием построиться на большом поле. Хлодвиг прошел вдоль рядов. Он узнал того воина, схватил его секиру, сказал, что она в беспорядке, не начищена и бросил на землю. Когда воин нагнулся за оружием, Хлодвиг своей секирой то ли рассек ему голову, то ли отсек ее, со словами: «Так ты поступил с суассонской чашей». После этого все замерли и, как пишут авторы хроник, старались никогда больше ему не перечить. И были правы, потому что скоро выяснилось, насколько свиреп его нрав.
Тем удивительнее, что такой человек пришел к христианству.
К 496 году Хлодвиг стал уже сильным, признанным властителем.
Он был женат. Его жена, которую звали Хродехильда из дома Бургундов, была христианкой. Она уговаривала мужа принять христианство, а он отказывался и говорил, что ее бог никак не явил своих сил. Хлодвиг был уверен, что его языческие боги, прежде всего Один, хранят франков.
Когда родился первенец, Хродехильда, конечно же, решила крестить его. Хлодвиг не возражал. Этот варвар занял позицию наблюдателя. Жена понесла крестить этого мальчика, наследника. И он умер прямо в крестильных одеждах. Казалось бы, теперь Хлодвиг должен был окончательно отказаться от мысли креститься самому. Но Хродехильда проявила истинно христианское смирение, сказав: «Благодарю своего Господа за то, что он призвал это маленькое существо в свое счастливое царство».
Она родила второго ребенка – Хлодомера. Снова крестила. Он начал болеть. Хлодвиг сказал: «Ты видишь, что творит твой бог!» Но мальчик выжил.
И тогда Хлодвиг решил испытать этого христианского бога. Он заявил: «Я иду в поход против алеманнов. Они воинственны, опасны. Поход тяжелый. Если твой бог дарует мне победу, я в него уверую».
Все получилось удивительно. Алеманны при виде франкского войска просто побежали, а их вождь погиб в бою. В те времена это значило, что войско сдается. Хлодвиг свой обет решил выполнить и заявил епископу, что готов принять христианство.
Его крестили. Вместе с ним крестилось его войско. После крещения епископ прочел проповедь о страстях Христовых. Хлодвиг заявил: «Если бы я там был вместе с франками, мы бы освободили его от несправедливости». Епископ сказал: «Что ж, ты настоящий христианин».
После этого поход против готов проходит уже под христианскими лозунгами. Готы, как и другие германские племена, тоже приняли христианство, но не в ортодоксальной версии, как Хлодвиг, а в форме одной из его «боковых ветвей» – арианства. Эта версия христианской веры и организации церкви была названа по имени священника Ария. Она отличалась большей простотой и доступностью. Однако ортодоксальная церковь признала ее ересью. Это позволило весьма сообразительному вчерашнему дикарю Хлодвигу объявить свой завоевательный поход против готов «борьбой с еретиками-арианами». Хронисты отмечают чудеса, помогавшие Хлодвигу: огромный олень показал, где перейти разлившуюся реку, над шатром короля близ Пуатье появился большой огненный шар.
Поход удачный и очень важный. Хлодвиг захватил Бордо, Тулузу, сокровища великого вестготского вождя Алариха. Эта победа, более значительная, чем все прежние, убедила его в силе христианского бога.
Хлодвиг устроил торжества в городе Туре, оформив их в римско-христианских традициях. Он получил грамоту Византийского императора Анастасия, который объявил его консулом. Подобно римскому императору, Хлодвиг облачился в пурпурную тунику и тогу, с диадемой на голове проехал по городу, разбрасывая золотые и серебряные монеты на радость толпе. Все смешалось в эту эпоху, называемую эпохой Великого переселения народов.
Столицей Хлодвиг сделал город Париж. Это было место укрепленное и относительно безопасное, островное, окруженное болотами, речками. А ведь в те времена каждый правитель должен был постоянно думать об обороне. И вот Хлодвиг избрал Париж, который не все время потом был столицей, долго оставаясь резиденцией графов, но в конце концов, в X веке, сделался главным городом Франции – чутье, которое было так развито у этого человека, при всей его косматости и неотесанности не подвело его.
Безусловно, Хлодвиг тянулся к цивилизации, и это касалось отнюдь не внешнего вида. Именно при нем около 500 года происходит первая запись обычного права – тех законов, которые до этого были обычаями, хранились устной традицией. Записывается знаменитая «Салическая правда». Подобные «правды» постепенно появились у многих германских племен: «Алеманнская правда», «Бургундская правда», «Вестготская правда» и другие. Но «Салическая» – из самых ранних.
Сам же Хлодвиг оставался, по существу, варваром. Хотя формально у него была только одна жена, известно, что все Меровинги совершенно спокойно смотрели на многоженство. Епископы не могли их уговорить, что жену положено иметь одну. И после Хлодвига тоже. И Карл Великий, уже из следующей династии Каролингов, тоже смотрел на это совершенно спокойно.
В числе заметных качеств Хлодвига – беспощадность к врагам… и родственникам. В хронике говорится: «Он мудро утверждал, что никто из его родни не должен остаться в живых, за исключением того семени, которое ныне правит». То есть он счел необходимым истребить родственников только потому, что они могут помешать дальнейшему правлению его сыновей. И это для него дело очень простое. Он действительно воевал против родственников и уничтожил их всех, кого-то даже лично, просто потому, что это родственники.
Людей, которые помогли ему истребить родню, он подкупил запястьями и перевязями из золота. А потом обнаружилось, что это не золотые вещи – они только позолочены, а внутри медь. Получатели взятки возмутились. Хлодвиг же ответил: и так много для предателей, не надо было предавать своего господина!
В Кельне, у рипуарских франков, правил некий Зигиберт. Хлодвиг указал его сыну, Хлодерику, на старость и слабость отца. Обещал обеспечить сыну власть после его смерти. Хлодерик понял намек и убил отца. После этого наемники убили Хлодерика – и Хлодвиг захватил его «королевство».
И этот полудикий человек варварской эпохи обладал, тем не менее, чем-то вроде политического чутья, тем, что много веков спустя назовут умением лепить свой образ. Да и то, что потом назовут цинизмом и коварством, было его повседневной практикой.
Умер Хлодвиг в Париже, предварительно разделив королевство между четырьмя сыновьями. Похоронен был в соборе, построенном по его же приказу.
Конец правления Меровингов был очень печальным. В то время большая часть земель Галлии была покорена, за исключением Прованса, Септимании и королевства бургундов. Три сына Хлодвига: Хлодомер, Хильдеберт и Хлотарь – в соответствии с франкской традицией получили более или менее равные части. Хлодомер унаследовал территорию бассейна Луары, Хильдеберт – земли, впоследствии получившие название Нормандии. Младший сын Хлотарь – северные земли салических франков: от прирейнской низменности до Суассона (в том числе город Турне). Четвертая же, северо-восточная часть, между Рейном и Луарой, самая большая, включавшая около трети территории Галлии (две римские провинции Германии, Первая Бельгия и юго-восточная часть Второй Бельгии, а также земли по среднему течению Рейна), досталась Теодориху, старшему сыну Хлодвига, который был рожден от брака короля с язычницей.
Новые короли относились к этим землям как к собственным поместьям: бесконечно делили землю, объединялись и снова начинали все делить. В итоге они растеряли свой личный земельный фонд. Меровингов стали называть «ленивыми королями», а точнее было бы перевести их прозвище словом «безвластные». Они утратили реальную возможность управлять, и власть захватили те, кто назывался управителями дворца – майордомы. В середине VIII века, в 751 году, они сменят Меровингов на престоле будущей Франции. По имени их самого яркого представителя бывшие майордомы будут называться Каролингами.
Времена Меровингов, которых так ярко представляет фигура Хлодвига, – это, можно сказать, предыстория, пролог к будущей подлинной истории Франции.
Карл Великий Был ли он великим?
Император Карл остался в веках с прозвищем Великий. Случайностью это быть не может. Никогда в истории то или иное прозвище не доставалось тому, кто не был его достоин.
Первый император в Западной Европе со времен Древнего Рима. Коронован примерно 1200 лет назад. Создал огромные территориальные объединения в границах бывшей Западной Римской империи, за которые отчаянно воевал.
Завоеватель и одновременно реформатор. Постоянно находясь в походах, проводил реформы, которые имели значение для истории.
То, что началось при его правлении в духовной жизни, называют «каролингским возрождением». Это сочетание слов обычно берут в кавычки – и напрасно. Это было именно возрождение античного просвещения.
Чего стоит одна только реформа письменности! Стали писать по-другому, так, что гораздо доступнее сделались рукописи. До этого их могли читать только избранные.
И наконец, Карл Великий – герой «Песни о Роланде». Не каждый политический деятель вошел в героический эпос.
Во всяком случае, то небрежение, которое проявлялось по отношению к фигуре Карла Великого в советское время, абсолютно несправедливо. О нем писали с каким-то странным презрительным оттенком: «Лоскутная империя, которую он создал, распалась вскоре после смерти создателя». Как будто ее распад должен нас раздражать или возмущать.
Вместо этого надо спокойно и внимательно посмотреть на жизнь и дела этого великого человека.
Карл родился, видимо, в 742 году, точная дата неизвестна. Отец – Пипин по прозвищу Короткий, майордом (главный министр) Хильдерика III, последнего из династии Меровингов правителя Королевства франков. Таких германских, варварских королевств немало образовалось на территории Западной Европы после распада великой Римской империи. Говоря об их правителях, мы употребляем слова «король», «королева», так именуются они в древних текстах, но надо помнить, что это вчерашние племенные вожди, это еще довольно диковатый, варварский мир.
Видимо, мальчик был назван в честь деда – Карла Мартелла (Мартелл означает «молот»). Дело в том, что имя Карл вообще не пользовалось популярностью у Пипинидов. Но в данном случае было сделано исключение: родной дед Карла – герой, остановивший движение арабов с Пиренейского полуострова в Западную Европу. В 732 году объединенное германское войско – основу его составляли франки, но участвовали и бургунды, и алеманны, и другие – под его командованием разбило арабов при Пуатье (в центре современной Франции). Если бы это сражение не было выиграно, возможно, карта Европы и ее этнический облик были бы иными. Карл стремился, наверное, подражать великому деду, быть могучим «молотом» для врагов.
В 751 году Пипин, заручившись поддержкой Папы Римского Захария, узурпировал власть, отправив прежнего короля в монастырь. Папа одобрил это деяние, зная, что получит в благодарность подарок – папское государство. Каких только не бывает подарков! В данном случае – кусок земли в центре Италии.
Мать будущего Карла Великого – королева Бертрада, властная, энергичная, участвовала в политической жизни, побывала с визитами в Баварии у герцога Тасселона, в Северной Италии у короля лангобардов Дезидерия. Она преодолела немалые расстояния – при тогдашних коммуникациях! У нее была идея заключать союзы с соседними королями, чтобы франки не воевали, а действовали с ними заодно. Эта идея полностью провалилась. Сын Бертрады Карл доказал, что сплотить народы в то время можно было только силой.
Королева привезла Карлу из Италии невесту, младшую дочь короля Дезидерия Дезидериаду. Двадцативосьмилетний Карл был женат, но мать заставила его отторгнуть предыдущую супругу и жениться на Дезидериаде. Это была наивная попытка наладить отношения с лангобардами. Свадьба игралась торжественно, на Рождество.
Надо сказать, что Карл очень любил Рождество. Он был искренне религиозным человеком. И все знаменательные события его жизни происходили, как правило, под Рождество или во время Рождества.
Пипин рано начал приобщать старшего сына к государственным делам. Когда Карлу было только 11 лет, отец направил его встречать Папу Римского Стефана II. Визит Папы – это очень важно. А в 761–762 годах девятнадцатилетний Карл сопровождал отца в аквитанских военных походах, успешных для франков.
В 768 году Пипин умер. В отношении наследства он поступил так же, как его предшественники Меровинги, – отнесся к королевству, как к личному поместью, и разделил его между сыновьями. Это было, конечно, крайне глупо – биться за укрепление власти, а потом делить земли.
Карлу досталась странная территория в форме полумесяца, вдоль Бискайского залива и Ла-Манша. А внутри, в середине, были владения его младшего брата Карломана. Отношения между братьями сразу же стали натянутыми. Назревала война. Неизвестно было, на чью сторону встанет мать, вдовствующая королева.
Но вмешалось провидение. В 771 году Карломан внезапно умер. Молодой и вовсе не болезненный человек. Подозрения, безусловно, возникают. Однако никаких свидетельств того, что он был убит, не сохранилось.
Как пишет исследователь жизни Карла Великого замечательный медиевист А.П. Левандовский, «дорога завоеваний открылась».
Карл немедленно отодвинул с политической арены мать, вскоре отправил обратно в Лангобардию жену Дезидериаду. Ранние варварские короли смотрели на развод очень просто. Христианская церковь внушала им, что браки совершаются на небесах, что жена – навсегда. Они вежливо выслушивали епископов, делали вид, что согласны, но потом, когда им мешала жена, просто отправляли ее куда-нибудь подальше. Они жен не казнили, это потом, по мере развития цивилизации, все приняло такие жестокие формы. А Меровинги, Каролинги отправляли жену прочь, брали другую. И церемонии развода не было.
Каролинги – название новой династии. Это не просто звучит красивее, чем Пипиниды. Сама история признала Карла самым значительным правителем из этого рода.
Он начал с войн. Война была для него нормальной формой существования и главным политическим инструментом. Надо сознавать, каково было общество, возникшее на руинах Западной Римской империи. Ведь абсолютное большинство людей тогда разучилось писать и читать – такова была степень варваризации.
Карл вроде бы научился читать по-латыни и даже сколько-то по-гречески. Правда, миф утверждает, что писал он одно слово – Carolus, то есть ставил свою подпись. Но может быть, он к готовой подписи добавлял лишь какой-то крючочек. Сохранились эти подписи, где слово Carolus выведено писцом, а Карл поставил завитушку в знак того, что его рука приложена.
В этом варварском мире война – норматив. Общество развивается, обогащается только путем простого арифметического действия – сложения. Больше земли – больше богатства – больше людей – больше доходов. Расширение границ. А возможности для расширения есть, потому что все государства еще относительно слабы, у них нет ни стабильных границ, ни постоянного войска, ими правят позавчерашние племенные вожди, которые делят богатые территории.
Войны Карла многочисленны. В 774 году он покоряет королевство лангобардов, принадлежавшее Дезидерию, его бывшему тестю, и начинает называться «Король франков и лангобардов, Римский Патриций».
Обратим внимание на слово «римский». Дело в том, что Карл с самого начала своего правления продолжил курс своего отца на тесное взаимодействие с Папами. Римские первосвященники – это бывшие епископы, возвысившие свою власть и претендующие на роль главных посредников между Богом и людьми. Карл сделался их вернейшим союзником. Он всячески подчеркивал свою набожность и преданность римскому престолу. Это был важный политический шаг. Именно от Папы Карл получил санкцию на покорение лангобардов. Прекрасный дипломатический флаг. Папу надо защитить!
Карл все время расширяет территорию. В 776 году воюет с Византией за владения в Италии, не забывая добавлять римским Папам кусочки земли, дабы укрепить важнейший политический союз.
Далее 787 год – германская Бавария, а также Каринтия и Крайна, земли на границе с Германией, населенные славянами.
Тридцать с лишним лет войны в Саксонии – 772–795 годы. Здесь ему оказали максимальное сопротивление, и никаким идеальным героем эпоса он не выглядел. Было много жестокости, крови, более четырех тысяч заложников перебиты по приказу Карла. Война ведется под религиозным флагом, происходит насильственное обращение язычниковсаксов в христианство. Можно сказать, что Карл в определенном смысле – предшественник Крестовых походов.
В 778 году – знаменитый поход за Пиренеи, в результате которого и родился эпос «Песнь о Роланде».
Это был поход против арабского государства, руководимого династией Омейядов. Помогая одному арабскому властителю в борьбе против другого, Карл, как всегда, рассчитывал прирастить территории. Поход оказался не очень удачным, но кое-какая добыча огнем и мечом была получена. Карлу достался небольшой участок на границе Наварры и Пиренейских гор – он назвал его Испанская марка.
При возвращении из этого похода случился такой эпизод. Войско растянулось в горах, и в районе Ронсевальского ущелья обоз, который двигался сзади, обремененный добычей, сильно отстал – авангард ушел далеко. На отставший обоз напали вовсе не арабы (мавры, как их называет героический эпос), а христиане – баски, вытесненные этими самыми арабами в горы, голодные, жившие в тяжелых условиях. Им нужна была только добыча. А всех франков они изрубили.
Арьергардом командовал граф Роланд. Граф в те времена – вовсе не представитель аристократии, это чиновничья должность.
Через сотни лет, в XI веке, складывается «Песнь о Роланде». Ее пели воины Вильгельма Нормандского перед битвой в 1066 году при завоевании Англии. А в XII веке она была записана. По легенде, которая все преображает и приукрашивает, на доблестных рыцарей напали злодеи мавры. Битва превращается в столкновение христиан с мусульманами.
Перед походом Карл дал Роланду рог и велел трубить в случае опасности. Но мужественный рыцарь не трубит, пока не начинает истекать кровью. А услышав звуки рога, Карл приходит на помощь: «Был на коне прекрасен Карл Великий! Поверх брони висит брада седая (он никогда не носил бороды!) И по примеру Карла все брады свои не скрыли под броней. Легко узнать средь войска наших франков. Прекрасен, строен, могуч король! Лицо его сияет, на скакуне гарцует гордо Карл».
Вспоминаются другие строки: «Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь как божия гроза!» А ведь это пушкинская «Полтава». Прямая перекличка двух персонажей, безусловно идеализированных!
Карл выделяется на фоне остальных правителей, и не только тем, что чаще всего побеждает в сражениях (хотя у него были, конечно, и отдельные поражения). Он заметен как дипломат, как политик. Может быть, сказывается то, что он все-таки читает по-латыни и по-гречески. Он ведет себя умнее других.
В 799 году Папа Лев III был свергнут в результате заговора римской знати и скрылся в монастыре, в ужасном состоянии, ослепленный, с отрезанным языком. Потом он, правда, чудеснейшим образом от всего этого исцелился.
Видимо, источники несколько преувеличивают то, насколько он был искалечен. Но обижен точно был. Из монастыря он бежал, бежал к великому поборнику папской власти, западному правителю, который обязательно поможет. При дворе Карла Папа был принят ласково. А затем возвращен в Рим. Когда выяснилось, что за спиной опального Папы стоит могучий франкский правитель, римская знать сразу же изменила позицию. От Папы потребовали только принести устную присягу, поклясться, что тех злодеяний, в которых его обвиняли, он не совершал. Слово Папы священно, его признали невиновным.
Фигура Карла уже значительна. Все знают, что к нему нельзя проявлять неуважение – иначе он двинется в поход.
Проходит год. И 25 декабря 800 года, на Рождество, Карл снова в Риме. Он стоит в соборе, молится в алтаре. И Римский Папа возлагает ему на голову императорскую корону. Замечательно пишет придворный хронист Эйнхард: это произошло вдруг. Слово «вдруг» очень выразительно.
Карл, по словам Эйнхарда, потом говорил, будто, знай он заранее о намерениях Папы, он бы в тот день не пошел в церковь, невзирая на торжественность праздника. Вот она – дипломатия! Вот он – язык лжи! Вот оно – притворство!
Эйнхард тут же проговаривается. После того как корона была возложена, все присутствовавшие в соборе римляне и франки хором трижды прокричали один и тот же текст: «Да здравствует и побеждает Карл Август, богом венчанный, великий и миротворящий римский император». Все хором, трижды и по-латыни! И это все «вдруг»?
Так или иначе, Карл стал первым западноевропейским императором. Где-то далеко на Востоке, в Константинополе, был византийский император, но Восточная Римская империя отделилась, давно жила собственной жизнью и территориально, и сущностно. Теперь же и здесь, в Западной Европе, возродилась традиция императорской власти.
Призрак Римской империи не уходил на протяжении тысячи лет Средневековья, с V по XV век. Тень эта периодически материализовалась. Ее ранняя материализация – Карл Пипинид, император.
Это событие очень важное, и на него нервно реагируют в Византии. Обостряется соперничество, бывшее в течение некоторого времени не очень заметным. Но Карл опережает возможные действия Византии и снаряжает посольство к императрице Ирине, узурпаторше, которая правит вместо своего сына Константина и чувствует себя не совсем уверенно.
Карл заручился поддержкой римского Собора, который постановил: «Поскольку сейчас в стране греков нет носителя императорского титула, а империя захвачена местной женщиной, последователям апостолов и всем святым отцам, как и всему остальному христианскому народу, представляется, что титул императора должен получить король франков Карл, который держит в руках Рим, где некогда имели обыкновение жить Цезари».
Это поведение человека, поднимающегося над варварством эпохи, стремящегося мыслить государственно.
В 802 году посольство делает Ирине простое и логичное предложение. Брак между Карлом и Ириной, который был бы, конечно, замечательной формой соединения двух частей распавшейся Римской империи. Призрак ее материализуется еще более решительно. Карл в своей дипломатии намного забегает вперед: браки германских правителей не означали никакого объединения земель. Скорее дочь, отправленная к другому варварскому правителю, становилась заложницей. Карл же планирует династический брак и соединение власти.
Ирина готова была дать согласие, спасительное в ее шатком положении. Но как только стало ясно, что она собирается принять предложение, придворные решительно объединились против нее. Флагом для них стало то, что она намерена вступить в брак с варваром-франком. Она была немедленно низложена, власть перешла к императору Никифору, бывшему руководителю финансового ведомства Византии.
Но это не означало поражения Карла. В 810 году Никифор признал его императором Запада.
Карл умел заставить окружающих поверить, что он фигура серьезная.
Его посольство ко двору багдадского правителя Харуна аль-Рашида, халифа из династии Аббасидов, для этой эпохи почти невероятно. Так далеко! Так туманны сведения об этом Востоке! Пишут, что, когда Карл увидел сделанную из слоновой кости статуэтку слона, он спросил, из чего она. Ему сказали, что из зуба животного. Он поразился: какое же это животное?
Но Карл знает, что на крайнем западе его империи, где он создал свою Испанскую марку, живут соперники Аббасидов, представители другой арабской династии – Омейяды. Поэтому Карл и рассчитывает, что Аббасиды, заинтересованные в его поддержке, забудут о религиозных разногласиях и заключат с ним союз.
Известно, что Харун аль-Рашид в ответ прислал подарки как знак дружелюбия. Среди них – знаменитый слон, которого Карл Великий потом долго повсюду водил за своим двором. Только через восемь лет слон умер в Саксонии.
Что сказать о частной жизни императора? У Карла было шесть или семь жен, три наложницы, восемнадцать детей, включая незаконнорожденных – бастардов.
От первой жены – сын Пипин, который получил прозвище Горбатый. Он считался злым горбуном и пытался совершить государственный переворот в 792 году. Был заточен в монастырь, где и окончил свои дни.
Дочерей Карл от себя не отпускал, замуж им выйти не позволял, но не запрещал вести вольную жизнь. Нравы при дворе не были строгими – в поведении царило варварство.
Наследовавший Карлу сын Людовик Благочестивый провел реформу двора, удалил наложниц и действительно вел благочестивую жизнь.
Но при всей вольности и дикости нравов именно Карл начал каролингское возрождение, возвышение культуры. Он собрал к своему двору всех самых образованных людей эпохи. Таковых было немного, и их знали по именам. Среди них Алкуин, которого доставили с Британских островов, Петр из Пизы, Агобард и Теодульф из мусульманской Испании, астроном Дикуил. Около двадцати человек – немало для той эпохи. Их объединение было названо Академия. Императора явно тянуло к чему-то античному.
Деятельность этих людей науки и искусства имела важные последствия. Неслучайно двор Людовика Благочестивого стал уже совершенно другим: там интересовались литературой, читали стихи, занимались живописью, расцветала книжная миниатюра.
Карл Великий поддерживал открытие школ и, подобно Петру I, заставлял учиться детей знати. Система обучения Тривиум – Квадривиум включала грамматику, риторику и логику, а затем арифметику, музыку, геометрию и астрономию. Дети императора тоже получили образование.
Он одобрял поиск и собирание древних рукописей.
Чтобы читать их, требовалось знание латыни. При монастырях открыли специальные мастерские, которые назывались скриптории, где переписывали, подчас с ошибками, но переписывали древние тексты.
Очень важной оказалась реформа письма. На смену неразборчивому, так называемому меровингскому курсиву пришел каролингский минускул – прообраз будущих типографских готических шрифтов. Его уже гораздо легче читать. Он доступен более широкому кругу людей.
Созданы библиотеки, прежде всего в Сен-Дени. Некоторые из них существуют по сей день.
И когда Карл направлял графа-военачальника руководить какой-либо областью, то с ним посылал образованного епископа, при котором обязательно состояли писцы.
Стихийное осознание того, что все это важно, позволило Карлу приостановить разрушение античного культурного наследия.
Конец жизни Карла Великого обычный, совсем не героический. С 810 года, когда ему пошел восьмой десяток, он начал болеть. Похоронил нескольких своих детей. Надо сказать, что он был любящий отец и очень страдал. В 810 году умер Пипин, в 811 – Карл-младший, наследник престола. В 813 году Карл сам короновал своего оставшегося сына Людовика, а 28 января 814 года умер, не дожив нескольких месяцев до 72 лет.
Его могила не сохранилась, хотя известно, что он был похоронен в Аахене (земля Северный Рейн современной Германии).
В 1000 году набожный император Оттон III приказал вскрыть могилу и взял оттуда крест, потому что призрак империи требовал этого символа прямой преемственности императорской власти. Все германские императоры считали Карла своим покровителем.
Но он скорее был тем, чем назвал его в XVIII веке Август Викебарт – автор книги «Сравнение Петра Великого с Карлом Великим» (в 1809 году она была переведена на русский язык). В ней Карл и Петр называются «законодателями своих народов» и «бессмертными просветителями наций».
Харун аль-Рашид Халиф 1001-й ночи: народная мечта
Харун аль-Рашид жил во времена отдаленные, в VIII–IX веках, и жизнь его окружена мифами.
Кто он в истории? Пятый по счету багдадский халиф из династии Аббасидов, владевших знаменитым государством, огромным и недолговечным. Его правление – время последнего расцвета Багдадского халифата. При нем же начинается закат. А после него – развал.
«После него» не означает «из-за того, что его не стало». Но народной памяти не прикажешь. Фольклорная фантазия создала своего халифа, воплотив вечную мечту о великолепном правителе, при котором «все было хорошо». Понятно, что после него «стало плохо». Идеальный образ халифа известен нам по циклу сказок «Тысяча и одна ночь»: добрый, благородный, отважный, любит народ.
В состав Багдадского халифата входила громадная территория – результат арабских завоеваний, движения на запад и в Африку. Сейчас на этих пространствах арабские государства Азии, Иран, южная часть Средней Азии, Северная Африка.
Это колоссальное государство оставалось самостоятельным не очень долго, с 750 по 945 год. Потом оно было завоевано соседним мусульманским государством Буидов, которые пришли из глубин нынешнего Афганистана. А в 1055 году покорено турками-сельджуками.
Получается некая почти призрачная страна, где сменялись на престоле арабские и иранские правители. В этом отличие халифата Аббасидов от халифата Омейядов на Пиренейском полуострове, где было только арабское правление.
О Харуне аль-Рашиде написаны многочисленные средневековые труды. У арабов была высокоразвитая письменная культура. Специалисты даже называют ее филологической. От средневекового арабского Востока сохранилось больше рукописей, чем от Запада той же эпохи. И это несмотря на то, что огромное число письменных памятников было уничтожено в результате монголо-татарского завоевания. Среди сотен тысяч уцелевших рукописей – «Тысяча и одна ночь».
Сохранились произведения богослова Ибн-Джарира, ат-Табари, младшего современника Харуна. Практически в одно время со знаменитым халифом жил и Абу-ль-Хасан аль-Масуди, историк, географ и путешественник. Его труды переведены на русский язык.
А еще от людей той эпохи остались дневники, личная переписка…
Харун аль-Рашид родился в 763 или 766 году (есть сомнения в датировке) в городе Рее, близ современного Тегерана. Он был третьим сыном халифа, а значит, имел немного шансов на престол.
Отец – халиф аль-Махди, при котором империя тоже процветала. Мать – рабыня из Йемена по имени аль-Хайзуран, знаменитейшая женщина. Дело в том, что халиф женился на ней официально в 775 году.
Халифы всегда держали женщин в гареме, а с некоторыми заключали брак. У халифа аль-Махди тоже было много жен из разных стран, много детей. Все это способствовало придворным интригам.
Мать Харуна аль-Рашида оказалась талантливейшей интриганкой. Она твердо решила, что для престола подходит именно ее сын. Все силы она отдала тому, чтобы возвести его на трон, а потом в течение семнадцати лет сама добросовестно правила.
Важную роль сыграл в жизни Харуна воспитатель – некто Йахья ибн Халид, из знаменитого персидского рода Бармакидов, выходцев из Индии. Вероятно, он принял ислам, но до того был приверженцем какого-то из индийских вероучений.
А старший сын воспитателя был молочным братом Харуна аль-Рашида. И любимцем. Как считают биографы, любимцем во всех смыслах.
Пятнадцатилетним юношей Харун сделал первый шаг к воцарению. Его мать и воспитатель Йахья добились, чтобы он был поставлен командовать большим аббасидским войском в двух военных походах против Византии.
Надо сказать, что соседняя Византия – крупное, хотя и рыхлое государственное образование, христианская, в дальнейшем православная страна – была главным противником халифата Аббасидов.
Харун аль-Рашид возглавил два похода против соседей-иноверцев. Реально он, конечно, ничем не командовал, был окружен военачальниками, зато его имя зазвучало.
В 779–780 годах арабы захватили значимую для Византии крепость Самалд. А самое важное, что в 781–782 годах это войско под командованием пятнадцатилетнего Харуна вышло на Босфор.
Прежде арабы никогда морем не интересовались. Это была сухопутная завоевательная цивилизация. Именно при Харуне море было замечено. Появилась идея господства на море.
За бесспорные заслуги отец назначил Харуна правителем больших областей: Ифрикии (современный Тунис), Сирии, Армении и Азербайджана.
Теперь Харун был достаточно близок к трону, чтобы мать и воспитатель осуществили свой план – сделать из него преемника.
Они убедили халифа аль-Махди пренебречь правами старшего сына, Мусы, и назначить наследником Харуна. Чтобы убедить Мусу отречься от своих прав, халиф направился к нему в одну из провинций – и в пути умер при загадочных обстоятельствах. Ведь у Мусы были свои придворные сторонники.
Итак, первая смерть на пути легендарного Харуна к престолу. К власти же все-таки пришел Муса. Он правил под именем аль-Хади. Харун был заключен в тюрьму, его мать отодвинута в тень, Йахья обвинен в неверии, ему грозила смерть.
Но Бармакиды не сдавались. Они верили в успех и продолжали плести интриги. Всего через год молодой и здоровый аль-Хади внезапно умер. Молва твердо говорила, что он был задушен во сне. Видимо, зря он не отправил Хайзуран в темницу.
После этой смерти и Харун, и Йахья были немедленно освобождены, мать и воспитатель начали править вместо нового халифа.
Похоже, Харун и не рвался тогда к реальной власти. Ему нравилось именоваться халифом, но он предпочитал сначала пожить в свое удовольствие. На какое-то время он предался отстраненной праздности. В его поведении появились черты, так ярко отразившиеся в сказках «Тысячи и одной ночи». Например, походы по Багдаду с Джафаром, сыном Йахьи, ближайшим другом, наперсником, советчиком. Правда, походы эти вовсе не имели цели узнать, как живет народ. Это была скорее форма развлечения.
А в 803 году, через семнадцать лет, сразу после смерти матери, Харун аль-Рашид, можно сказать, совершает государственный переворот при собственном дворе.
При жизни матери, которую он, видимо, искренне любил, он ни разу не попытался лишить ее власти. Но как только она скончалась, Харун пожелал стать единоличным, никем и ничем не ограниченным правителем.
Произошло стремительное падение семейства Бармакидов, а любимый друг Джафар был казнен. Очередной труп на пути к единоличной власти…
Тело Джафара было расчленено, а куски разбросаны по мостам, дабы все видели, что ждет того, кто покусится на власть халифа.
Что дало Харуну основания подозревать Джафара в измене? Есть предположение, что друг, пользуясь близостью к семье властителя, тайно женился на его сестре. У них было двое детей. И халифу это совсем не понравилось.
Великий визирь Йахья и все члены его семьи были отправлены в темницу.
Харун начал править сам. До его кончины оставалось всего шесть лет, и все это время он усердно занимался делами государства. Нельзя сказать, чтобы у него не было вовсе никаких свершений.
Какие проблемы он должен был решать? Главное – это соперничество с Омейядами. Халифат, охватывавший огромную часть тогдашнего цивилизованного мира, распался по политико-религиозным мотивам. Аббасиды вели свой род от дяди единственного на земле пророка Мухаммеда, а Омейяды – от дочери пророка, Фатимы, и его зятя. В основе противоречий – спор о том, чья власть теснее связана с пророком, а следовательно, более законна. К этому прибавлялись и некоторые расхождения в политическом устройстве.
Конечно, обе династии имели притязания на дальнейшее расширение территорий. В этом смысле чрезвычайно существенно, что Харун еще в юности обратил внимание на морские направления. Теперь он продолжил эту линию завоеваний.
В 805 году он осуществил морской поход на Кипр, в 807-м – набег на остров Родос. Им овладела несвойственная ранее арабам идея морского могущества.
Кроме того, он продолжал борьбу с Византией, причем был совершенно непримирим. Этим столкновениям он придавал отчетливо религиозный характер. (Сам он был глубоковерующим человеком и не раз совершал паломничество в Мекку.) По договорам, заключенным в 90-х годах VIII века с императрицей Ириной и императором Никифором, Византия платила халифату дань, и это поддерживало авторитет Аббасидов.
Но Харун проявил религиозную беспощадность, уничтожив все христианские церкви на отвоеванных и пограничных с Византией территориях. У него была могучая идея укрепления веры. Вера в Аллаха, единственного бога, давала фундаментальную основу для завоеваний и подавления других народов.
Арабы обжили Аравийский полуостров в IX веке до н. э. И за шестнадцать столетий доисламской истории они не создали никакого государства, хотя и не были никем покорены. Кочевники, бедуины, патриархальная, ровная, спокойная жизнь… Со 106 года они провинция Рима – Аравия. В VI веке Византия ненадолго покорила арабские племена Сирии.
В общем, арабы не покорились никому, кроме ислама. Рождение пророка Мухаммеда датируется примерно 570 годом. В VI веке начинается победоносное шествие новой религии. Именно ей арабы предались всецело.
Внутри державы Харун ввел определенные ограничения для иноверцев. Они должны были подпоясываться веревками, носить специальные безобразные стеганые шапки, ездить только на ослах и так далее. Типичная дискриминация.
Но и у основной массы народа Харун популярностью и любовью вовсе не пользовался, потому что налоги выколачивал беспощадно.
Показательно, что халиф старался не жить в Багдаде, где собирался самый энергичный, мыслящий, готовый к бунту народ. Ссылаясь на климат, он переехал в Ракку, на реке Евфрат: там, мол, свежий ветерок от воды веет. И в Багдаде бывал только наездами.
Есть какая-то ирония судьбы в том, что он, восславленный в сказках как путешественник по ночному Багдаду, именно этого города боялся и совсем его не любил.
Харун аль-Рашид обладал еще одной гранью натуры, столь характерной для его легендарного образа. Он был покровителем наук и искусств.
Надо сказать, что он в этом совершенно не оригинален. Деспотические правители Востока в силу каких-то труднообъяснимых внутренних побуждений намного раньше, чем это случилось на Западе, начали стягивать к своим дворам просвещенных людей. В ту же эпоху, что и Харун аль-Рашид, в Европе ученым покровительствовал император франков Карл Великий.
По легенде, между этими двумя правителями были контакты. Так ли это в действительности? Некоторые специалисты, например отечественный востоковед В.В. Бартольд, считают их чистым вымыслом. Другие, и среди них А.П. Левандовский, ссылаясь на многочисленные европейские хроники и свидетельства одного из придворных Карла Великого, подтверждают, что Харун действительно прислал императору подарки, в том числе белого слона. Сохранилось даже имя слона – Абуль Аббас. Карл долго повсюду водил его за собой.
Бартольд ссылается на отсутствие верительных грамот, вообще каких бы то ни было документов, которые прямо доказали бы наличие посольства. Но время так беспощадно к документам! Левандовский же рассуждает так: соперничество Аббасидов и Омейядов могло подтолкнуть Харуна к контактам с христианским правителем, то есть, с его точки зрения, язычником. Карл Великий, завоевав Северную Испанию, создав там провинцию – Испанскую марку, – стал соседом Омейядов. Дружить с соседом своих врагов было дипломатически очень предусмотрительно.
Сохранилась фигурка из слоновой кости, которая точно попала к Карлу Великому с Востока. Европейского императора поразил и облик животного, и, главное, материал, из которого фигурка была изготовлена. Он спросил, что это. Ему ответили – зуб животного. Он был потрясен и захотел, чтобы такое огромное животное появилось при его дворе.
Если Харун действительно прислал слона, то не самого обыкновенного, а белого. Слоны-альбиносы – это редкость. Подарок должен был польстить честолюбивому западному правителю.
Покровительствуя наукам и искусствам, Харун создал Дом знаний. Здесь собирались ученые и сочинители, среди которых преобладали стихотворцы. Это время не случайно называют арабским Возрождением. Поэтическое слово ценилось очень высоко. Даже историю и географию писали в стихах. Один из древних историков Аравии Хишам ал-Калби написал такие строки о ком-то из героев прошлого: «Я не слышал стихов о нем, ни у них, ни у других племен». В его устах это фигура забвения. Если о ком-либо или о чем-либо нет стихов, значит, это не существует.
Харун аль-Рашид поддерживал строительство школ, больниц, при нем было собрано много рукописей – сотни тысяч томов.
Славилась благотворительностью и его любимая жена – Зубейдэ. На собственные средства она раздавала исключительно щедрую милостыню. По дороге в Мекку построила колодцы из камня, тиса, обожженного кирпича, очень надежные, которые сохраняли воду, в том числе и дождевую. Это были искусственные водоемы для паломников, путников, чтобы они не мучились от жажды. Эта женщина сумела оставить по себе добрую память. Может быть, она пыталась искупить грехи своего супруга-узурпатора.
У них было три сына: Мухаммед Аль-Амин, что означает «надежный», Абдалла Аль-Мамун – «достойный доверия», Касим Аль-Мотаман – «уверенный». Чувствуется надежда на преемников.
Но Харун аль-Рашид, которого никак нельзя назвать мудрым правителем, совершил страшную ошибку, типичную ошибку этой стадии развития цивилизации. Он разделил свою империю. До него халифы объявляли наследником одного из своих детей. Харун же, наверное, очень любил сыновей. Он стал намечать, кому из них достанется какая часть. И окрылил их этими обещаниями.
Смерть настигла его внезапно. Ему было 47 лет. Он направился на подавление одного из многочисленных восстаний, которые то и дело вспыхивали на границах халифата, в Хорасан, на северо-восток Ирана. И умер в пути. Молва утверждала, что он был отравлен.
После его смерти начались гражданские войны между сыновьями.
В арабской истории Харун аль-Рашид вовсе не считается образцом правителя. Его как не любили в Багдаде при жизни, так и не полюбили после. А вот в нашем европейском сознании красота восточных сказок вылепила его привлекательный образ. Уж очень хороши сказки!
Почему же Харун аль-Рашид, узурпатор, жестокий правитель, реально правивший всего шесть лет, но так очевидно испорченный абсолютной властью, запечатлен в них как образец благородства? Само имя его означает «справедливый». В сказках «Тысячи и одной ночи» он возвращает бедняку присвоенные богачами деньги, жалеет вдову, подает милостыню нищему, наказывает судью, принявшего несправедливое решение. Будто и не было крови, грязи, заговоров, интриг!
Вот что пишет по этому поводу профессор МГУ И.М. Фильштинский: «…в процессе создания мифа реальность, какой бы достоверной и очевидной она ни была, оказывается бессильной перед творимой коллективным сознанием легендой, отвечающей неким социально-психологическим потребностям общества определенного времени. Энергия противостояния мифа реальности не ослабевает под напором достоверных и широко публикуемых фактов. Мы имеем возможность убедиться в этом, будучи свидетелями новейшей истории. Напротив, противоборство с фактами придает мифу некую агрессивность. Так на наших глазах рушится старая просветительская утопия, согласно которой знание побеждает предрассудки и заблуждения». Грустная, но убедительная мысль. И очень созвучная новейшей истории, включая и день сегодняшний. Миф становится реальностью. И он, в общем, непобедим.
Император Василий II Болгаробойца Византийская жестокость
Василий II Болгаробойца – одна из самых ярких фигур на византийском престоле. Он жил с 958 по 1025, правил с 976 по 1025 год. Общепризнанно, что именно при нем Византийская империя достигла максимального расцвета. В этот период территория государства стала огромной: он вернул себе практически все земли былой восточной части Римской империи. Уже этим он привлекает внимание. А что касается его прозвища, Булгароктон, или Болгаробойца в русском варианте, то оно, конечно, свидетельствует, что он отличался свирепостью, выделяющей его даже в те жестокие времена.
Его биография характерна для правителей Византии, этого удивительного, единственного в своем роде государства.
Историки полушутя говорят иногда, что Византия – государство, точная дата рождения и смерти которого доподлинно известны. 11 мая 330 года, так сказать, открытие Константинополя. Сегодня сказали бы – презентация новой восточной столицы. И 29 мая 1453 года – завоевание Константинополя турками. Арифметически 1123 года. Были моменты, когда это государственное образование совершенно разваливалось, казалось, оно уже не возродится. Но, умирая, оно прожило более тысячи лет.
Уже в начале византийской истории население страны – больше 30 миллионов жителей, и численность их нарастала. Многочисленные территории – Придунайские области, Македония, север Балканского полуострова, северная часть Фракии, Малая Азия, страны Ближнего Востока, Египет. Удивительная пестрота! Этническая, географическая, геополитическая. Удержать под единой властью такую махину было трудно. Василий II мучительно и упорно добивался того, чтобы подчинить себе всю страну. А сразу после него наступил полный развал!
По образному выражению одного из исследователей, Василий «хотел закрепить X век в Византии навсегда». А ведь есть знаменитое латинское крылатое выражение: «Non progredi est regredi «(«Не идти вперед – значит идти назад»). В традициях Восточной Римской империи были попытки остановиться и закрепить достигнутое, не позволяя развиваться новым отношениям.
Именно во времена Василия II Византию перестают называть Империей ромеев – римлян. Но она еще не утвердилась как Империя греков. Это переломный момент. И слово «греки» используется здесь весьма условно. На территории Византии жили греки, сирийцы, копты, фракийцы, иллирийцы, армяне, грузины, арабы, иудеи. Большая часть названных народов была эллинизирована, говорили в основном по-гречески. Латынь постепенно уходила. Но все равно царила огромная этническая пестрота, и это сказывалось и на властях предержащих.
Например, один из предшественников Василия II, захвативший престол, был из Армении. Такое было возможно, потому что строгих правил престолонаследия, юридически оформленных, очень долго не существовало.
Василий II на престоле с двухлетнего возраста. С 960 года он вместе с братом Константином называется соправителем отца, императора Романа II. С 963 года, то есть с пяти лет, он юридически император, тоже вместе с Константином, который после его смерти будет очень недолго править, уже весьма престарелым (Константин VIII). При Василии он ни во что не вмешивался.
Только с 976 года, с восемнадцати лет, Василий правил фактически. Вначале он твердо опирался на некоего евнуха Василия Нофа, а через девять лет сослал его и стал вполне самостоятельным.
Его успехи в международных делах были бесспорны: он восстанавливал и расширял границы империи (многое было потеряно предшественниками). Кроме того, он провел строгую инвентаризацию имущества, добился более четкого налогообложения, наполнил казну. Своему беспутному брату он оставил несметные сокровища. Правда, наследники продемонстрировали, как быстро все это можно растерять.
Жизнь Василия складывалась очень непросто. Были весьма сложные предварительные обстоятельства. Его дед – император Константин VII Порфирогенет (Багрянородный). Багряница – это помещение, где должны были рождаться законные наследники престола. Отец, Роман II, сын Порфирогенета, был императором с 945, фактически – с 959 года. В 956 году он потряс двор женитьбой на дочери харчевника. Есть какая-то странная закономерность в поведении византийских императоров. Известно, что Юстиниан, например, женился на Феодоре, женщине из низов.
Дочь харчевника Анастасия получила тронное имя Феофано. О ней немало свидетельств в источниках. Это была пишущая цивилизация. Небольшая, но очень образованная элита писала по-гречески, чрезвычайно подробно, хотя и очень предвзято. В императрице отмечали удивительную красоту в сочетании с жестокостью и властолюбием. Буквально то же самое писали и о Феодоре, так что не исключено, что здесь присутствует элемент какого-то литературного клише.
Носились слухи, что внезапная неодолимая хворь Романа II очень напоминает отравление. После его смерти к власти пришел не Василий, не его брат Константин, а полководец Никифор Фока.
Это был кровавый переворот. Императрица Феофано удалена от власти и глубоко обижена (ее вернет как раз Василий II, но не даст ей никакой политической роли). Начались бои на улицах Константинополя. Некоторые люди, конечно, вспоминают, что есть законные наследники. Но император-узурпатор силой утверждается на престоле. Никифор Фока прославился своей жестокостью, он вызывал страх, который и принес ему победу.
В частности, была знаменитая история, когда он во имя интересов Византии воевал на Крите с арабами. Он потряс тамошних пиратов, людей жестокосердных и видевших много жестокости, тем, что собирал головы убитых. Их было приказано отрубать, часть выставить перед лагерем, а частью голов убитых врагов обстреливать город Хандак, забрасывать с помощью камнеметов. Даже у современников складывалось впечатление, что полководец жесток как-то не в меру.
Ходили упорные слухи, что он хочет оскопить мальчиков – сыновей Романа II, чтобы у них не было потомства и чтобы Македонская династия не вернулась и не утвердилась на византийском престоле. В такой обстановке рос мальчик. Детские впечатления Василия были довольно мрачными.
Конец Никифора II тоже ужасен. Совершился дворцовый переворот и тайное убийство, описанное не без трагикомических деталей. Заговорщики ворвались в спальню – и не нашли императора. Их охватила паника, показалось, что он убежал, спрятался. И вдруг смотрят – он уснул на полу, около камина. Можно догадаться при каких обстоятельствах. Как говорят источники, «после коротких издевательств» его убили. В это время в двери начала стучать гвардия. Гвардейцам показали отрезанную голову императора Никифора. И те успокоились.
К власти опять пришел незаконный правитель – Иоанн I Цимисхий из армянской знати (забавное прозвище от армянского слова «туфелька», в связи с малым ростом). Еще один значительный полководец.
Во внутренней политике он наметил линию, которую потом продолжил Василий II, – начал подчинять крупные землевладения жесткой центральной власти. Он сослал в монастырь императрицу Феофано, которая только несколько месяцев была регентшей. Ее так потряс этот наглый захват власти, что в храме Святой Софии она пыталась вырвать Иоанну глаза и разразилась такой бранью, которая тут же напомнила всем, что она дочь харчевника.
Василию пришлось ждать осуществления своих законных прав на престол на протяжении тринадцати лет. За такое время наследники обычно звереют. Это известно со времен Древнего Египта, когда в XVI–XV веках до н. э. царица Хатшепсут на много лет отодвинула от власти своего пасынка Тутмоса III, будущего великого завоевателя. И это очень дурно сказалось на его характере.
У Василия, ставшего наконец императором в 976 году, были, разумеется, не только тягостные черты. Современники отмечают, что он был неглуп, хотя и не слишком хорошо образован. В поведении простоват, но одарен способностью руководить.
Однако первые годы его пребывания на престоле были омрачены двумя крупными внутренними мятежами. Их подавление, изысканно сложное, жестокое, видимо, навсегда наложило отпечаток на его натуру, на дальнейшее поведение.
Первый мятеж – сразу после смерти Иоанна I. Василия и Константина наконец-то признали правителями. Но реально править они еще не были способны. Власть в руках придворного деятеля Василия Нофа, евнуха, как это было тогда принято.
Из-за чего вспыхнул мятеж? Был смещен некий Варда Склир, наместник восточных провинций, и отправлен стратигом в Месопотамию, то есть фактически в ссылку. В ответ на этот приказ он вместе с еще одним полководцем поднял военный бунт, охвативший почти всю Малую Азию. Восстала и Болгария, которая хотела отстоять свою независимость. Императорская армия была разбита. Василий ничем еще фактически не руководил.
На подавление мятежа был призван полководец Варда Фока, племянник убиенного императора Никифора. Еще в 970 году он сам бунтовал, поскольку считал, что тоже имеет права на престол. В каком-то смысле это так и было. Тогда он был сослан в монастырь. Но теперь сложилось настолько безвыходное положение, что призвали этого опального, подозрительного человека – и он снова проявил себя как полководец. Византия вообще была богата талантливыми военачальниками.
Важную роль сыграли огненосные суда – знаменитый греческий огонь, они сожгли флот Склира, и мятеж удалось подавить. Сам Склир в поединке с Фокой был ранен и после этого бежал в Багдад. Казалось бы, о нем забыли навсегда.
Но через девять лет Склир, уже престарелый, снова появился в пределах державы. И Варда Фока опять выступил против него. Власть надеялась на скорую победу. И вдруг Фока провозгласил себя императором. Да нет, не так уж вдруг. Он уже семнадцать лет бился за свои права. Он хитростью захватил бунтовавшего Склира в плен, соединил войска. Дело императора было плохо. Все это заставило Василия II обратиться за помощью к великому князю киевскому Владимиру Святославовичу, будущему Владимиру Святому.
Почему именно к нему? Еще до него Никифор II использовал князя киевского Святослава Игоревича в борьбе с Болгарским царством. Есть довольно туманная информация о том, что Святослав деньги взял, Плиску захватил, но уйти оттуда отказался. А воевали киевские князья хорошо, это было русско-варяжское войско, с прекрасными варяжскими традициями.
Византийский писатель Лев Диакон говорит в своей «Истории»: «Росы, которыми руководило их врожденное бешенство, в яростном порыве устремились, ревя, как одержимые, на ромеев. А ромеи наступали, используя свой опыт и военное искусство».
В общем, представители Византии и Древней Руси сталкивались и как союзники, и как противники, и было известно, что воевать русичи умеют. Когда Василий II вынужден был просить помощи у князя Владимира Святославовича, тот согласился при условии, что Василий отдаст ему в жены свою родную сестру Анну, дочь императрицы Феофано. Согласие далось непросто. Дело в том, что византийцы смотрели в то время на Русь как на варварскую периферию. И у них не было традиции отдавать своих принцесс варварам. Но положение тяжелое. И Василий согласился на то, чтобы его сестра отправилась на Русь и вступила в брак с киевским князем.
При этом он поставил условие. Князь примет христианство. Условие было принято. Конечно, деньги тут тоже были замешаны.
Русско-варяжский отряд, шесть тысяч человек, мощный, умелый, вступил в Константинополь зимой 988 года, разгромил значительную часть войска Фоки и спас Василия II в очень тяжелой, критической военной ситуации. А Василий, не отличавшийся высочайшими нравственными качествами, не торопился выполнять обещание и отправлять свою сестрицу Анну в русские земли. Тогда, рассердившись, Владимир со своим войском осадил и взял Херсонес Таврический, город в Крыму, принадлежавший Византии.
После этого Анну сразу посадили на корабль и отправили на север. Состоялась свадьба – и предполагаемое Крещение Руси, событие, дата которого вызывает сомнения – то ли 988, то ли 989 год. Понятно, что князь крестился не один, а в сопровождении своей дружины. С этого начинается большой, длительный процесс прихода христианства на русские земли. Он, конечно, не мог совершиться по воле одного человека. Везде и всюду, во всем мире, распространение христианства было долгим и непростым процессом. Но здесь отправная точка была именно такая.
Что касается шеститысячного отряда, то он стал наемной гвардией Василия II и служил ему очень хорошо.
Конец мятежа был связан с личным вмешательством Василия, который начинал уже становиться самим собой. 13 апреля 989 года у Авидоса, на берегу пролива Дарданеллы, он дал последнее сражение. Варда Фока во время этой битвы отчаянно прорывался к императору Василию, чтобы вступить с ним в поединок. В этом так хорошо виден лик времени: поединок должен был решить, как в Древнем Риме, кто лучший воин. Но произошел поразительный случай. Фока вдруг повернул коня назад, сошел на землю, лег и умер.
Сейчас же возникла версия отравления. Будто бы Василий II сумел договориться с его виночерпием. А перед боем как было чарочку не выпить! Так или иначе, на этом закончился второй мятеж.
И с этого же начался Василий II – правитель. Он изменился разительно, все обратили внимание на огромные перемены в его натуре. Он перестал бражничать. Провел тщательную перепись имущества землевладельцев, очень аккуратно пресекал рост крупных земельных владений, крепя, образно говоря, византийский абсолютизм. Он пытался, как бы продолжая линию позднего Рима и предвосхищая то, что придет в конце Средневековья, создать сильную централизованную систему правления, в тесном союзе с христианской церковью. В союзе гораздо более прочном, чем между христианской церковью и светскими правителями на Западе.
Все эти меры давали результаты. Тем более что Василий постоянно доказывал, что он еще и полководец, и присоединял новые земли.
Бунты не кончились насовсем. Надо сказать, что для той мрачности, которая его отличала, для его суровости, жесткости, которую он стал проявлять, все время были основания.
За три года до окончания его правления, в 1022 году, опять был бунт. Император находился на Кавказе, а восстал его давний соратник, Никифор Ксифий, объединивший усилия с сыном Варды Фоки. Они, правда, поссорились, и Ксифий убил Фоку, сам был арестован, пострижен в монахи, а евнух, который им помогал, отдан на съедение львам. Львы в тот день очень хорошо поужинали. Таков был Василий II.
С годами он становился все более и более жестоким. И настало время, когда он получил свое потрясающее прозвище. Есть много прозвищ правителей. Традиционно – Великий, Святой, бывают забавные – Толстый, Заика, Птицелов. А такое, как это, Болгаробойца – уникально.
Василий 13 лет воевал с болгарами, что его раздражало, хотя это не был рекорд. Карл Великий больше 30 лет покорял саксов, тоже проявляя жестокость. Сотни заложников были перебиты по приказу Карла.
Здесь же все случилось после битвы, которая произошла у подножья горы Беласица в 1014 году. В тот момент болгарский царь Самуил, возглавлявший попытки болгар сохранить свою независимость, отсутствовал. И его полководцы, видя, как плохо складывается сражение, как они беспомощны перед камнеметными машинами византийцев, понимая, что просто идет истребление войска, приказали воинам сдаться. Сдались 15 тысяч болгар. И тогда Василий II отдал удивительный приказ, который был выполнен. Он приказал этим 15 тысячам пленников выколоть глаза. Каждым ста – оба глаза, а сто первому – один. И чтобы вот так, ведомые одноглазыми сотниками, они вернулись к царю болгар Самуилу. При виде этого страшного зрелища Самуил покончил с собой.
То, что он ослепил 15 тысяч человек, было невероятно, фантастично. Вспоминаются представления древних греков о том, что именно где-то здесь, между Болгарией, Македонией, на севере Балканского полуострова, находился выход из Тартара. И очень часто в истории оттуда действительно приходили войны и какие-то мрачные идеи. Это событие – одно из самых ярких в этом ряду.
Василий добился победы, хотя и не мгновенно, через четыре года. И на 170 лет Болгария оказалась под властью Византии.
А прозвище ему нравилось. Наверное, он рассчитывал, что с таким ореолом свирепости станет страшен для всех своих врагов, внешних и внутренних. Судить его с позиции сегодняшней нравственности очень соблазнительно, но нельзя.
Зная его биографию, понимаешь, что ему все время грезились заговоры, отрубленные головы, отравленные правители. Он принимал очень серьезные меры против того, чтобы поднялись крупные феодальные правители со своими дружинами, и положил начало такому государственному устройству, при котором наемники – главная опора императора.
Он до конца не понимал, сколь ненадежна эта опора. Не мог же он видеть сквозь века, что, когда в XV веке надо будет защищать Константинополь от турок, не найдется тех, кто готов спасать свою родину. В те же годы, когда правил Василий II, во Франции утверждалось понятие Франция, в Англии – Англия, в германских землях, при всей их разобщенности, крепло понятие Германия. То же самое происходило на Пиренейском полуострове, на Скандинавском. А здесь, в Византии, существовало нечто объединяемое политической властью единого правителя, правящего как бы по воле Бога. Император был окружен тесной толпой придворных, которых он кормил со своей ладони. Он имел огромную казну, на которую мог нанять любое войско. В сущности, это большая ошибка, которую он не осознавал.
Как Василий II закончил свою жизнь? Так же, как все успешные правители и успешные завоеватели. Он должен был бесконечно доказывать подданным, что он вполне способен к следующим завоеваниям. Поэтому умер он во время подготовки очередной завоевательной экспедиции на Сицилию, против арабов, захвативших этот остров – вечный объект раздора.
Войско уже грузилось на корабли, когда император занемог и 15 декабря 1025 года умер. Тело его не получило упокоения. В 1204 году, во время Четвертого крестового похода, войска латинян, рыцарей с Запада, разбойно захватили Константинополь и осквернили многие захоронения, в том числе надругались над телом Василия II.
А в 1261 году, когда восстановилось византийское государство, солдаты императора Михаила VIII Палеолога нашли тело Василия, по крайней мере, считается, что это его тело. Оно оставалось в полуразрушенном храме, с волынкой в руках – а это надругательство – и свистулькой, вставленной в иссохшие челюсти. Насмешка! Точные мысли осквернителей мы восстановить, конечно, не можем, но это был, наверное, какой-то вызов высшему расцвету Византии и тому, что ее император претендовал когда-то на то, чтобы быть выше западных правителей.
Василий II предпринял попытку утвердить прочную центральную единоличную власть. Соблазнительно! Но последствия всегда очень печальны.
После смерти Василия престол перешел к его брату Константину, который с младенчества числился императором. Константину было уже 68 лет, но он оставался рабом собственных удовольствий. Старик неутомимо бражничал, пировал, раздавал деньги и разбазаривал то, что нажил его усердствовавший на государственном поприще брат.
Началась смута. За 66 лет на троне перебывало 14 правителей. Смута продолжалась до 1081 года и воцарения династии Комнинов.
А государство Василия II, как оказалось, было выстроено на песке. На песке, пропитанном кровью.
Нормандскии герцог Вильгельм Завоеватель Англии
Вильгельм – герцог норманнов или нормандцев? Историки не пришли к окончательному согласию, потому что норманны – это викинги, а нормандцы – жители современной французской Нормандии. А что же те, кого возглавлял Вильгельм в XI веке? И то и другое.
До прибытия в Англию и завоевания целого королевства у герцога было два прозвища – Вильгельм Рыжий и Вильгельм Незаконнорожденный. И то и другое соответствовало истине. Но ни то ни другое ему, возможно, не нравилось. Если с улыбкой посмотреть на эту отдаленную историю, Вильгельм мог отправиться в поход для того, чтобы сменить прозвище. И он действительно остался в истории как Вильгельм Завоеватель.
С 1066 года он не герцог Нормандии, а английский король. И современные англичане поступают мудрее, чем некоторые все еще горячащиеся нации: они считают эту дату одной из главных отправных точек своей истории. Их нисколько не смущает то, что это было завоевание страны чужаками, которые приплыли через Ла-Манш из нынешней Северной Франции – тогда фактически независимого герцогства Нормандского. И битву при Гастингсе 1066 года, в которой англосаксонские правители потерпели поражение, признают началом английской истории.
В отношении источников эту эпоху можно назвать пограничной – между Сагой и Историей. О Вильгельме писали немало: «Деяния герцогов Нормандских», «Деяния Вильгельма, короля Англии», «Песня о битве при Гастингсе». Это замечательные тексты, но они неотделимы от мифа, близки не только к хронике, но и к художественной литературе. Поэтому у исследователей остается много вопросов.
Удивительный, уникальный источник об экспедиции Вильгельма и о битве при Гастингсе – это знаменитый ковер, гобелен из Байе, льняное полотно, расшитое крашеной шерстью. 70 метров длиной и 50 сантиметров шириной. Это свиток, вышитый монахинями Кентенбери по заказу сводного брата Вильгельма Завоевателя, епископа Одо из Байе. Там изображено 58 эпизодов истории завоевания, и лишь некоторые, самые последние – победа и коронация – не сохранились.
Те, кто создавал гобелен, сами видели корабли Вильгельма. Как ни странно, искусство этой эпохи по-своему реалистическое. Потрясает та подлинность, с которой мастерицы воспроизвели образы кораблей – красочно, с мельчайшими деталями!
Такие источники, одновременно точные и поэтичные, и позволяют воссоздать биографию Вильгельма Завоевателя.
Дата рождения, как всегда в ту эпоху, приблизительна. Вероятно, 1027. Год смерти – 1087. Долгая жизнь для раннего Средневековья.
Отец – герцог Нормандии Роберт II, по прозвищу Дьявол. А надо сказать, что прозвища той эпохи наивные, но всегда точные. «Что вижу, то пою». Толстый – так Толстый, лысый – так Лысый. Встречаются среди людей этого времени, например, Вилобородый, Нерешительный. Или Эдвард Мученик, король, которого убили молодым. Эдмонд Железобокий, король Гарольд Заячья Нога…
А вот отец Вильгельма – Дьявол. Хоть мы и не знаем деталей его характера, но о многом можем догадаться. Он герцог, первое лицо в Нормандии, богатой, стратегически важной области.
Мать, Херлева, – простолюдинка, предположительно дочь кожевника. Брак с нею исключался. Поэтому Вильгельм и известен изначально как бастард. Это, несомненно, налагает на его характер очень серьезный отпечаток.
Герцог Роберт, вероятно, любил эту женщину из простых. А может быть, просто хотел, чтобы происхождение сына выглядело поприличнее. Так или иначе, родственников Херлевы он приблизил ко двору, а саму ее выдал замуж за дворянина. И все-таки сознание незаконнорожденности очень влияло на Вильгельма.
В 1033 году отец отправился в паломничество, или на богомолье, как пишут в русских переводах источников, в Палестину. Наверное, пошел замаливать какие-то грехи, за которые получил свое нехорошее прозвище. Он оставил единственного сына, шестилетнего Вильгельма, наследником. Герцог принудил свое окружение скрепя сердце признать это. Как выяснилось потом, признание было совершенно неискренним.
Через два года, в 1035-м, пришло известие о смерти Роберта Дьявола в дальних краях. Нормандские бароны, которые давали ему клятву, что признают его сына, тут же восстали против восьмилетнего незаконнорожденного наследника.
Ничто не помогло бы ему, если бы не вмешательство его покровителя – французского короля Генриха I из династии Капетингов (того, что был женат на русской княжне Анне Ярославне). Генрих являлся верховным сюзереном Нормандии и герцогов нормандских. Никакой реальной власти над Нормандией французские короли не имели. Герцогство было гораздо богаче и больше, чем домен Капетингов – крошечная территория, «остров Франции» (Иль-де-Франс) между Парижем и Орлеаном. Но существовала традиция признавать этих удобных, безвластных королей. И она помогла бедному незаконнорожденному мальчику. Заступничество сюзерена сыграло свою роль, бунт прекратился – и маленький наследник остался с герцогской короной на голове.
Дальше была сплошная война. Вся юность Вильгельма проходит в войнах с соседями, а позже – с этим самым сюзереном. Вильгельм не был христиански безупречным и вечной благодарности не продемонстрировал. Как только появились какие-то противоречия, он превратился в бунтующего вассала, знающего, что он сильнее и богаче. В результате он вопреки воле сюзерена расширил свои владения, подчинив графство Мэн, небольшое, но богатое, расположенное в центре Франции. Вильгельм сумел отвоевать Мэн у графов Анжуйских, сильных и богатых феодалов. Это должно было способствовать формированию его великих завоевательных планов.
Подчинив себе строптивых баронов, Вильгельм, казалось, мог бы успокоиться. Но баронов, чтобы они были относительно покорными, надо было кормить. А чем их можно кормить в те времена? Добычей! Зная это, Вильгельм и замыслил свое великое деяние, оставившее такой глубокий след в европейской истории.
Почему он решил захватить именно Британию, Лондон? Этот вопрос занимает историков на протяжении многих лет. Очень уж много в источниках туманных деталей. В частности, Вильгельм был дальним родственником того, кто правил в это время в Англии, – Эдуарда Исповедника, англосакса, но, кстати, тоже выросшего в Нормандии.
До этого Британия находилась некоторое время под властью датчан. Нормандское завоевание – это, скорее всего, третье завоевание Англии. Первое – это переселение германских племен англов и саксов, которые вытеснили местных кельтов, второе – датское завоевание 1003–1016 годов. На престоле с 1017 по 1035 год датский властитель Кнут, объединивший Данию, часть Норвегии и большую часть Англии. Викингская империя. И вот наконец снова англосаксонский правитель Эдуард, по прозвищу Исповедник.
Когда-то дочь одного из нормандских герцогов Эмму выдали замуж в Англию, и отец Вильгельма был племянником матери Эдуарда Исповедника. Такое родство не дает никаких прав на престол.
Но у Вильгельма имелись и другие резоны. В 1051 году, когда ему было 24 года, он посетил в Англии своего дальнего родственника Эдуарда. По легенде, король, который был старше лет на 25, пожилой для тех времен человек, пообещал молодому нормандскому герцогу, крепкому, хорошему воину, что, так сказать, порекомендует его на роль короля. Дело в том, что английские короли не получали власть без утверждения наследника Советом Старейшин (витенагемотом). И «добрый дядюшка» Эдуард обещал племяннику, что порекомендует именно его.
Интересно, что этот король был потом идеализирован в глазах общественности и со временем даже канонизирован, хотя никаких выдающихся заслуг перед церковью не имел.
Фольклор создал образ доброго человека на троне. А при его жизни народ против него бунтовал, потому что при дворе было слишком много нормандцев.
Итак, Эдуард Исповедник как будто пообещал Вильгельму, что сделает его своим наследником, хотя это не было только в его власти. Вильгельм возвратился в Нормандию успокоенный: у него такая перспектива – стать английским королем! Тогда уж все забудут о его происхождении.
Он прилагал немалые усилия и к тому, чтобы установить хорошие отношения с Римскими Папами, с папским двором. Это очень важный и умный шаг. Дело в том, что английская церковь, отдаленная, находящаяся на Британских островах, вела себя в отношении римского престола относительно независимо. Это никогда не нравилось Римским Папам – и нравиться не могло. Устанавливая добрые отношения с папством, Вильгельм готовил будущую поддержку своей авантюрной военной экспедиции.
В январе 1066 года Эдуард Исповедник скончался. Волю свою он действительно выразил, сообщил, кому хочет передать престол. Его выбор пал на человека молодого, энергичного, пользовавшегося симпатиями современников в качестве рыцаря – воина по имени Гарольд.
Кто он такой? Гарольд происходил из англосаксонской знати, его отец – правитель Эссекса – в последние годы жизни Эдуарда Исповедника фактически ведал всеми делами двора, реально управляя королевством. Гарольд тоже был близок к власти. Поэтому некая логика в передаче ему английской короны была. Его короновали немедленно, торопливо, в узком кругу тех, кто его поддерживал. Причем произошло это не в Вестминстере, как полагалось; не было и утверждения Советом Старейшин.
А ведь соперники его были сильны. Один – Вильгельм Нормандский. Второй – король Норвегии, тоже по имени Гарольд.
Этот Гарольд Суровый был уже немолод и прожил очень бурную жизнь! Он много путешествовал, побывал при Константинопольском дворе, при дворе Ярослава Мудрого, был влюблен в одну из дочерей Ярослава Мудрого, Елизавету. Он всегда был склонен к авантюрам. И вот он вспомнил молодость – и ринулся бороться за английскую корону. Но 25 сентября 1066 года, через несколько месяцев после смерти Эдуарда, Гарольд Норвежский был разбит в единственном сражении и больше в борьбе за престол не участвовал.
Вильгельм же понимает, что час пробил, пора найти идеологическое обоснование своей экспедиции. Он готовится к ней очень серьезно. Прежде всего, он добился, чтобы его поддержал римский Папа Александр II, придав походу характер не авантюры, а серьезного политического и военного предприятия.
Папа отлучил наспех коронованного английского Гарольда от церкви. Что стало для этого основанием? Молва! Молва о том, что Гарольд – клятвопреступник. Якобы не только немолодой уже Эдуард когда-то обещал Вильгельму Нормандскому сделать его наследником, но и Гарольд принес такую же клятву.
Гарольд побывал на континенте. Иногда нам кажется, что люди в Средние века жили очень изолированно, каждый в своем уголке. Относительно крестьянина это именно так. А вот верхушка легко снималась с места – и в паломничество, и в завоевательные экспедиции. И Гарольд, будучи еще просто приближенным Эдуарда Исповедника, отправился с визитом в Нормандию. По пути он якобы был захвачен в плен и освобожден своим дальним родственником – представителем нормандского дома Эдуардом. И как бы в благодарность за это освобождение дал ему клятву, что поддержит кандидатуру Вильгельма Нормандского в качестве правителя Англии.
В ту эпоху неписаные клятвы очень важны. По словам французского историка Ле Гофа, это цивилизация жеста больше, чем цивилизация текста. Грамотных очень мало, и поэтому важнее всего клятва произнесенная, сопровождающаяся каким-нибудь ритуальным действием. Например, важен ритуальный поцелуй между сеньором и вассалом.
И если была клятва, то Гарольд – клятвопреступник. Теперь он отлучен от церкви, а предприятие Вильгельма обретает серьезную идеологическую оболочку. Папа как бы поручает Вильгельму восстановить свои законные права, а заодно добиться большей покорности английской церкви святому престолу.
И вот собирается войско, для своего времени очень большое – до 70 тысяч человек. Это зрелище грандиозное, величественное, в глазах и в памяти современников оно отпечаталось как замечательное.
Нормандцы высадились на юге Англии. Причем именно тогда, когда войска Гарольда ушли на север, где разбили норвежца Гарольда Сурового. Так что на юге никакого сопротивления Вильгельм не встретил.
Однако надо сознавать, что в любой ситуации англосаксонское войско было обречено на неудачу. Нормандское войско принципиально отличалось от англосаксонского и стояло на более высокой ступени развития. Главная сила нормандцев – тяжеловооруженные рыцари, эти танки Средневековья, которые примерно до начала XIV века оставались главной ударной силой в любом сражении.
А англосаксонское войско, еще только выходившее из стадии родоплеменного строя, состояло из крестьянского ополчения, вооруженного боевыми топорами, рогатинами. Военные силы несоизмеримы.
Гарольд принял оборонительный бой близ местечка Гастингс 14 октября 1066 года. С момента его коронации не прошло и года. А месяц назад на севере была битва с норвежцами. То есть борьба за остров имела, в сущности, европейский масштаб.
Войско Гарольда укрепилось на холме и сражалось очень мужественно, даже отчаянно. Пешее крестьянское ополчение с боевыми топорами, дротиками, щитами, в военном отношении слабее противника, зато был силен дух этих людей, которые бились за свое, за родное, против завоевателей. Дух войска должен был, казалось бы, победить. Но трагическую роль сыграло то, что Гарольд погиб в сражении. Гибель полководца – это знаковое, судьбоносное событие.
Если бы он остался жив, многое сложилось бы иначе. Он был молод, имел военные заслуги, устраивал обе стороны. На его коронации произносились речи на двух языках – английском и французском. Известие о его смерти сыграло очень важную роль. Хотя все было кончено далеко не сразу.
Вильгельм имел очевидные минусы по сравнению с Гарольдом: ему уже 39 ет; он пришлый, значит, он приведет других людей. Сопротивление не закончилось в день битвы при Гастингсе. И Лондон не был готов с объятиями принять нового правителя. Пришлось долго договариваться.
У Вильгельма хватило ума не штурмовать и не разрушать Лондон. Чувствуя за собой победу, он был готов поторговаться. Он многое пообещал лондонской верхушке – и ему открыли ворота.
Причем обещания он выполнил. Он вообще не вызывал у англичан полного отвращения. Только у отдельных людей. Для кого-то тиран, для кого-то мудрец. Всякий, кто имеет большую власть, очень по-разному характеризуется своим окружением.
Вильгельм торжественно короновался в Вестминстере. С тех пор это единственно законная коронация для Англии (так же как во Франции можно короноваться законно только в Реймсе). Корона была византийской работы, представляли короля на двух языках – английском и французском, подчеркивая, что он будет милостив и к своим англосаксонским подданным, и к нормандцам. То есть политическое поведение нового правителя было довольно разумно. Похоже, что прозвище Завоеватель вовсе его не радовало. Он хотел быть не завоевателем, а законным наследником. Но вот ирония судьбы! Все равно в истории он остался Завоевателем.
Сопротивление британцев оставалось значительным. И концом этого процесса считается 1071 год. Пять лет Вильгельму приходилось воевать, случались англосаксонские восстания, довольно заметные. Так продолжалось, пока верхушка англосаксонской знати – тэны, коренные англосаксы – не была истреблена физически. Завоевывая Британию, Вильгельм дошел до Шотландских гор (шотландцы, как всегда, остались независимыми). Не до конца был завоеван Уэльс: там, где оставалось кельтское население, полного подчинения не произошло.
Когда основное сопротивление было сломлено, Вильгельм еще раз показал, что он значительный правитель. В 1086 году, чуть больше чем за год до смерти, он отдал приказ провести первую известную нам в европейской средневековой истории поголовную перепись населения. Тщательную, подробную, чтобы описать все завоеванное, уже как свое, родное, домашнее. Очень важно было систематизировать налогообложение.
Переписчики говорили крестьянам: «Клянись, что говоришь правду, как на Страшном суде». Между прочим, сегодняшних переписчиков почти так же воспринимают многие люди. Их почему-то тревожит, когда приходят и не документы спрашивают, а просто требуют говорить правду о себе, родственниках и доходах.
Та первая перепись получила название «Книга Страшного суда». Студенты-историки и сейчас изучают ее в обязательном порядке. В этом документе описаны разнообразные категории крестьянства, с размерами земельных участков, и для каждой категории определено, у кого сколько акров земли, сколько скота и домашней птицы.
Отражено в переписи и имущественное положение знати, в том числе родственников короля. Сразу после завоевания Вильгельм наградил всех, кого следовало, понимая, что иначе его свергнут. Но раздавал он земли очень благоразумно, с точным прицелом на будущее.
Приближенные получали поместья в разных частях Англии. Вильгельм заботился о том, чтобы на Британских островах не возникло ничего похожего на герцогство Нормандское, которое лишь формально оставалось под властью французского короля. И чтобы не было ничего подобного графству Шампань, которое французскому престолу толком не подчинялось вплоть до нового времени. Он не позволил возникнуть и очередному герцогству Бургундскому, которое во время Столетней войны будет выступать на стороне врагов французской короны. Он все это как будто предвидел. Ведь именно тогда появились сами названия – Англия и Франция. Две эти страны начали размежевываться. Не желая, чтобы здесь, в Англии, все было как во Франции, Вильгельм седьмую часть всех земель оставил за королем. А поместья знати разбросал по разным частям страны.
Умер Вильгельм смертью воина. В 1087 году ему пришлось воевать с очередными недовольными баронами в Нормандии. Захватив город Мант, он объезжал его пылавшие развалины – и был сброшен конем на землю. Такое падение в возрасте 60 лет оказалось роковым. Король был перевезен в Руан, где вскоре умер. Преемником стал его второй сын, тоже по имени Вильгельм, который вошел в историю с прозвищем Рыжий. От судьбы не уйдешь!
Готфрид Бульонский Защитник Гроба Господня
Слово «Бульонский» для русского уха звучит занятно. Но носитель этого имени – фигура вполне серьезная. Герцог Нижней Лотарингии. Бульонский – по названию родового замка Bouillon. Дата рождения предполагаемая – 1060, дата смерти определенная – 1100 год. Точная причина смерти неизвестна.
Один из предводителей Первого крестового похода 1096–1099 годов. Главный ли он в этом походе? Споры бесконечны. Точно одно – при нем шло 20-тысячное войско, собранное в Лотарингии. И доподлинно известно, что в Иерусалиме, куда крестоносцы все-таки дошли, где они на время победили мусульман, Готфрид приобрел необычайный титул – Защитник Гроба Господня.
Но вернемся к началу. Что же такое Лотарингия? Это вечное яблоко раздора между Францией и Германией, образовавшееся в IX веке, когда 11 августа 843 года три внука Карла Великого – сыновья короля франков Людовика Благочестивого: Лотарь I, Карл II Лысый и Людовик II Немецкий – заключили Верденский договор – соглашение о разделе империи.
Западно-франкское королевство получил Карл Лысый. Восточно-франкское – будущую Германию – Людовик Немецкий. А между этими владениями оставили воображаемый (а потом и реальный) коридор, часть Северной Италии, завоеванную Карлом Великим, и земли по течению Рейна. Промежуток между будущими Францией и Германией. Так и образовалось это яблоко раздора – Лотарингия, которая досталась старшему брату по имени Лотарь.
Королевство Лотаря было, конечно, нежизнеспособно. Позже, в середине X века, Нижняя Лотарингия отделилась от Верхней. Сегодня эта долина реки Мааса частично в Бельгии, частично во Франции, Германии, Люксембурге.
Готфрид из рода графов Булони, которые утверждали, что восходят прямо к Каролингам. По крайней мере, его мать Ида, безусловно, была из потомков Карла Великого. Ее брат – герцог Нижнелотарингский Готфрид. Он передал любимому племяннику свой титул.
Отец – Евстафий II – верный друг и приверженец Генриха IV, германского императора, вступившего в непримиримую борьбу с отчаянным, харизматичным Папой Григорием VII. Известен эпизод трехдневного покаяния императора перед Папой в городе Каноссе в 1077 году.
Евстафий, который был на стороне императора, оказался враждебен Папе Римскому. Есть версия, что личный энтузиазм Готфрида в отношении участия в Первом крестовом походе отчасти связан с желанием искупить отцовский грех противостояния самому Папе.
Когда Готфрид сделался знаменит как Защитник Гроба Господня, молва приписала ему задним числом необычное происхождение. Будто бы происходил он от некоего рыцаря-Лебедя – это персонаж лотарингских саг, символ рыцарства. И мать якобы предсказала будущее этого ребенка.
Графы Булони были обеспеченнее многих других: Нижняя Лотарингия в те патриархальные времена побогаче многих других областей.
Однако в положении Готфрида есть один минус. Большую часть своих земель он получил от благодарного императора Генриха IV в качестве бенефиция. Была такая форма земельного владения, возникшая в Западной Европе в VIII веке. Это земля, даваемая сеньором вассалу при выполнении определенных условий. Прежде всего, военная служба, клятва верности. Доходы с этой земли бенефициарий (то есть тот, кому она дана) получает полностью. Но он владеет ею только на протяжении жизни. Бенефиций не наследуется. Наследственным позже станет феод.
Так что основная часть земель Готфрида – бенефиций. И это толкает исследователей, склонных толковать Крестовые походы грубо материалистически, утверждать, что главным было получение земель на Востоке, а вовсе не религиозная идея.
Наверное, определенная доля истины в подобных рассуждениях есть. Людям свойственно думать о потомках. Кстати, братья Готфрида – старший, граф Евстафий Булонский, и младший, Будуэн, вообще не имевший владений, тоже очень энергично проявили себя в Крестовом походе.
XI век – это рубеж раннего и зрелого Средневековья. В Крестовых походах как в капле воды отражается существо эпохи со всеми ее противоречиями.
Официально было восемь Крестовых походов, между 1096 и 1270 годами. В 1270, при подготовке восьмого похода, умер французский король Людовик IX Святой, его совершенно правильно называют «последний крестоносец». Движение иссякло.
Что стало поводом для походов? В 70-х годах XI века в результате нескольких акций турки-сельджуки отвоевали у слабеющей Византии Иерусалим, связанный со всеми христианскими преданиями. Это город, где должна находиться Голгофа, где был распят Христос, где он прошел свой Крестный путь с терновым венцом на голове и где был христианский храм, называвшийся храмом Гроба Господня. Хотя гроба как раз у Христа не было. В храме и по сей день находится камень, на котором омыли его тело, прежде чем совершить захоронение в пещере, по законам того времени и приперев вход в пещеру тяжелым камнем. То есть Иерусалим – это святыня святынь. Это камни, по которым ступали ноги Христа, апостолов, место, где все начиналось.
Турки захватили город, построили мечети и поместили там свои мусульманские святыни. А религиозные чувства были в эту эпоху очень сильны в Западной Европе.
В ноябре 1095 года в южнофранцузском городе Клермоне Папа Урбан II, человек значительный, сильный, умный, хитрый политик, созвал Собор. После девяти дней работы, в течение которых разрабатывались реформы по очищению церкви, было объявлено, что Папа выступит с речью за городской стеной.
В том, что он решил выступить не в церкви, было что-то необычное. Стали сооружать помост. Стук топоров, визг пил, всеобщее волнение… 26 ноября 1095 года Папа, в роскошной тиаре, во главе торжественной процессии вышел из городских ворот на поле, возбуждение многотысячной толпы достигло очень высокого уровня.
Сохранились несколько описаний папской речи. Одно из надежных оставил хронист Роберт Реймский, который, видимо, присутствовал там лично.
Папа говорил перед огромной толпой. После каждой фразы делал большую паузу, чтобы те, кто его услышал, пересказывали другим. А те – следующим. Так что каждый фрагмент повторялся по многу раз. Поэтому речь запомнилась, и текст ее нам известен.
Сначала Папа описал страдания христиан на востоке. Раздался общий плач. Вообще человек Средневековья бурно проявлял свои чувства. В нем была свойственная ранним цивилизациям детскость и простота.
Затем Урбан II сказал рыдающей толпе: «Земля, которую вы населяете (а это юг Франции), сжата отовсюду морем и горами. Поэтому она сделалась тесной при вашей многочисленности. Богатствами же она не обильна и едва прокармливает тех, кто ее обрабатывает. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и попрекаете, аки псы, ведете войны, наносите раны. Пусть же теперь прекратится ваша ненависть, смолкнет вражда, стихнут войны и задремлют междоусобия. Идите ко Гробу Святому. И Святая Церковь не оставит своим попечением ваших близких… Освободите святую землю из рук язычников и подчините ее себе».
Не забыл Урбан II сказать и о материальной стороне дела. Вдруг нечто такое практическое звучит в его высокодуховной речи: «Земля та течет молоком и медом. Иерусалим – пуп земли, плодороднейший, второй рай. Он просит, ждет освобождения. Кто здесь горестен и беден – там будет радостен и богат!»
Слова Папы прозвучали очень вовремя. Это было тяжелое время после Великого переселения народов. В Западной Европе перед первым Крестовым походом случились так называемые «семь тощих лет». Неурожай, страшный голод. А раз голод – значит эпидемии, вымирают целые деревни. Призывы Папы упали на подходящую почву. Люди готовы были бежать от своих бед. Туда, куда указал Папа.
Урбан II призвал начать поход 15 августа, в день Вознесения Богородицы. Но крестьяне не вытерпели, пошли раньше – и не дождались огромного урожая 1096 года.
Начало Крестовых походов было просто ужасно. Крестьяне не знали толком, куда идут. Ничего не знали о расстоянии, о географии. Завидев какой-нибудь немецкий город, увидев шпиль собора, спрашивали: «Это не Иерусалим?»
Поначалу выражения «крестовые походы» не было. Говорили «путь к Храму». Паломничество. Так называли это современники. А название «крестовые походы» возникло потом, потому что участники этого движения нашивали на одежду кресты. Самые фанатичные могли даже в религиозном порыве выжечь или вырезать крест на своем теле.
Духовная составляющая была очень важна. В рационально мыслящем XVIII столетии просветители назвали Крестовые походы «странным памятником человеческой глупости», «кровавым безумием». Безусловно, нужен элемент безумия, чтобы отправиться вот так, совершенно не понимая куда. Крайние скептики со второй половины XIX века вообще заявляют: «Да они просто грабили по дороге!» Грабили. Еще как грабили. Совершали всяческие жестокости? Безусловно. Где же их религиозность? Ну, жестокость против «неверных» казалась участникам этого движения вполне оправданной.
Это страшное воинство, разграбив по дороге Венгрию, появилось в Константинополе. Пришли к императору Алексею II Комнину и потребовали: «Переправляй нас в Иерусалим, мы защитим, спасем, освободим земли!» Он увидел, что это такое, и поспешно отправил паломников в Малую Азию.
Там десятки тысяч людей, не дойдя до Иерусалима, безоружные, считавшие, что стены его падут, когда появятся правоверные, были практически полностью истреблены турками-сельджуками.
А что же рыцари? Элита тоже испытывала большие трудности. В Западной Европе возник принцип майората. Все богатство, недвижимость в рыцарской семье достаются по наследству от отца только старшему сыну. В итоге младшие и средние сыновья становятся бичом Европы. В кого они превращаются?
Ни один из них не пойдет пахать. Это обученные вооруженные люди. И они естественным образом превращаются в разбойников.
Западную Европу настигает такой кошмар, как рыцарский разбой. Дороги непроходимы. Рыцарские шайки грабят, захватывают людей в плен, требуют выкуп. Знакомое явление, увы, не оставшееся в Средних веках.
Христианская церковь, призванная умиротворять паству, обеспечивать душевное спокойствие, ощущает свою ответственность за то, что творится. А умиротворить ее не так просто. К тому же в 1054 году произошло разделение церквей на Западную и Восточную, в будущем католическую и православную. Никто не думал, что это надолго. Все были убеждены, что это временные догматические расхождения, которые будут скоро преодолены. А каждая из ветвей надеялась, что объединит всех именно она, объединение произойдет под ее крылом.
И поэтому замысел грандиозного мероприятия был логичен.
Крестовый поход – это смесь духовных идей, политических амбиций и страстей, материальных интересов. Религиозное начало нельзя приуменьшать. Для человека Средневековья церковь была почти единственным центром духовной культуры: живопись, витражи, музыка, даже церковный театр. Там – знание. Конечно, она очень влиятельна. И страшные сцены мучений в аду на стенах соборов…
Готфрид Бульонский отправился в Крестовый поход в возрасте 36 лет. Поэтому странно, что многие хронисты называют его «юным». Для Средних веков это даже не молодость. Видимо, его отличала какая-то пылкость и горячность натуры, умение и желание воевать, а также привлекательная внешность. Все это для рыцаря той эпохи было совершенно обязательным. И, конечно, то, что он снарядил отряд из 20 тысяч человек.
Конных рыцарей в отряде была примерно треть, остальные – пешее войско. Но все равно затрачены огромные деньги. Один только рыцарский конь стоил невероятно дорого. Он был специально обучен мчаться на врага, даже кусать его. Рыцаря в полном вооружении называют «танк Средневековья». Он несется на врага, держит наперевес тяжелое копье. Его задача – обязательно сбить противника с коня, потом уже любым оружием добивать на земле. Это очень сложное и дорогостоящее войско.
Готфрид первым подготовился к походу и единственный уложился в тот срок, который определил Папа Римский. Чтобы снарядить отряд, он продал, причем быстро и потому не очень выгодно, родовой замок.
Свое 20-тысячное лотарингское войско Готфрид повел пешим путем, тем же, которым шли крестьяне, – через Венгрию, Болгарию, Фракию, в Византию, в Константинополь.
Появившись на берегу бухты Золотой Рог, Готфрид запросил, чтобы Алексей II Комнин обеспечил передвижение войска в Малую Азию. Император, наверное, испытывал сложные чувства. Вдруг произойдет то же, что с крестьянским воинством? Но нет, рыцари вели себя иначе. Он сразу откликнулся на просьбу обеспечить их провиантом, но вступил с Готфридом в бесконечные переговоры: требовал, чтобы Готфрид поклялся, – а для рыцаря это очень серьезно в эту эпоху, – поклялся, что все земли, какие будут завоеваны на Востоке, он примет как вассал византийского императора.
Готфрид категорически отказался от вассальной клятвы, сказав, что он служит только Богу.
Но его взяли измором. Император византийский прекратил снабжение войска и не переправлял его через пролив. Возникла угроза бунта, голода, мора. Готфриду пришлось сдаться, как, впрочем, и остальным предводителям Крестового похода.
Он вел людей не один. Такими же видными фигурами были еще два человека. Первый – граф Раймонд Тулузский. Ему было уже за 60, хотя он и держался очень бодро. Он был очень знатен и богат. При этом страшно жаден. Не тратился, как Готфрид. Имел опыт борьбы с мусульманами, с арабами. Будучи алчным, отличаясь дурным нравом, со временем перессорился со всеми соратниками. И признавать его абсолютное лидерство мало кто был склонен.
Второй, самый заметный, – Боэмунд Тарентский, родом из Тарента, маленького княжества на юге Италии. Ему примерно 40 лет, он сын знаменитого нормандского вождя Роберта Гвискара, того, что завоевал Южную Италию и Сицилию и создал там королевство.
Боэмунд Тарентский вел за собой викингов. Среди них был легендарный Танкред, который во всех источниках представлен как идеал рыцарственности: в нем сочетаются физическая сила, бесстрашие, несклонность к политиканству.
Кроме того, в войске присутствовал папский легат Адемар де Пюи, епископ, которого Урбан II назначил духовным главой первого Крестового похода.
Так что нельзя утверждать, будто Готфрид Бульонский был единственным, кто мог со временем занять главенствующее место среди крестоносцев.
Готфрид все-таки дал византийскому императору вассальную клятву – и его первым переправили в Азию.
Важнейшее сражение первого Крестового похода происходит у стен Никеи, которая 20 лет назад отвоевана у Византии турками-сельджуками. Готфрид впереди. Но, судя по данным хронистов, среди рыцарей не выделяется.
Победа далась тяжело. Пало две тысячи крестоносцев, это очень много. Но впереди еще более тяжелые испытания у стен Антиохии. Тяжелейшая осада, болезни, стычки. Готфрид получил тяжелую рану.
Больше всех отличился Боэмунд Тарентский. Как предводитель он более заметен.
Дальше – еще страшнее. Те, кто захватил Антиохию, сами оказываются в осаде. Подошли сельджуки, сильная армия Кирбоги Мосульского.
Пошла молва, что дело плохо. При осаде рыцари понесли страшный урон. Находится некий священник, который говорит: «Мне было видение, что в одной из христианских церквей Антиохии зарыто чудесное копье». То ли это копье, которым римский легионер проткнул тело распятого Христа, то ли то, которое почему-то было символом духовной силы самого Христа. В общем, веря в эти сказки, крестоносцы начинают искать. Если найдут – победа гарантирована, нет – плохо дело.
Копье, которое они в итоге нашли, было явно мусульманским, судя по форме, римским оно быть не могло. Но для рыцарей это не важно. Не догадываются они и о том, что священника, у которого «было видение», вероятно, подослал граф Тулузский, чувствуя, что Боэмунд его опережает. Ведь стоит вопрос, кто будет править Антиохией после гипотетической победы.
Найдя копье, воодушевленные крестоносцы одержали победу. Причем превзойти Боэмунда Тарентского все-таки никому не удалось. Он становится первым в княжестве Антиохийском.
Распри среди единоверцев были непозволительны. Они, конечно, случались, но до смертоубийства не доходило.
Готфрид Бульонский двинулся дальше. Пошел на Иерусалим. Описания того, как крестоносцы появились под стенами Иерусалима, производят сильное впечатление.
Устроили крестный ход вокруг стен города. Надеялись, что стены рухнут. Нет, не рухнули.
Готфрид Бульонский был не только верующим, но и реалистом. Именно по его инициативе, по его приказу и, наверное, на его средства была изготовлена деревянная башня, которая прикрывала штурмующих, подобно римской боевой технике. Это не буквально римское стенобитное орудие, но нечто подобное. Такое приспособление позволило подойти вплотную к стене в той части, где Готфрид возглавлял штурм, на северо-востоке. Он выделился из всех вождей. И буквально первым или среди самых первых ворвался в Иерусалим.
Штурм произошел 15 июля 1099 года. Считается, что это произошло в день и час смерти Спасителя. То есть без религиозной подоплеки там ничего не происходило.
Потом последовали два дня абсолютного истребления. Страшнейшая резня! Даже в Средние века не всегда, не во всяком захваченном городе устраивалась такая бойня. Убийство мусульман, иудеев, вообще всех нехристиан, считалось делом благим. Очень немногие были проданы в рабство.
А ведь подойдя к Иерусалиму, крестоносцы все хором рыдали. И есть множество живописных полотен XVIII, XIX веков, где трогательно изображено, как при виде священных стен они все пали на колени, полные возвышенных чувств. И они же двое суток заливают реками крови этот великий город.
По легенде, Готфрид лично в этом не участвовал. Оставив оружие, пошел в храм. Но именно таким его и следовало изобразить – истинным Защитником Гроба Господня.
Кто будет править городом? Ходили разговоры о том, что нужен единый правитель. Церковники хотели, чтобы высшим правителем стал глава церкви – Папа, наместник Бога на земле. А низшим чинам никакие правители особенно не симпатичны. И в этих борениях умов на первом месте твердо оказывается Готфрид Бульонский.
Создана коллегия из десяти человек – Совет уважаемых. Они опросили всех, как трогательно подчеркивают источники, даже домашних слуг, каков Готфрид в повседневности. И, придя к выводу, что очень хорош, избрали его. Но он сразу сказал: «В городе, где Иисус носил терновый венец, я никакого венца на свою голову не надену». И принял титул не короля, не царя, а Защитника Гроба Господня. Красиво.
Но судьба не дала ему долгой жизни. Вполне может быть, что он был убит, но доказать ничего невозможно. Готфрид был избран в 1099 году, а умер в 1100. Один год пробыл в статусе Защитника.
Перед смертью успел распорядиться, оставил титул младшему брату. А тот принял корону и стал первым главой Иерусалимского королевства. Оно просуществовало не очень долго, формально до 1291 года.
А сам Готфрид был похоронен в храме Гроба Господня, у входа. В XIX веке могила была разрушена. Но все равно он, как и предполагал, остался в Святой Земле.
Марко Поло Европейский взгляд на чудеса Востока
Марко Поло, итальянский купец и путешественник XIII века, оставил письменное свидетельство, не очень объемное, но потрясшее Европу. Потрясшее именно потому, что он описал Азию. Перечислю нынешние страны, на территориях которых он побывал, – Иран, Китай, Монголия, Индия, Индонезия. А также не азиатские, но не менее экзотические Армения и Азербайджан. Огромный круг. А по рассказам он знал даже о Японии, потому что там побывали люди хана Хубилая, у которого он служил.
Хубилай – монгольский правитель Китая, скромно называвший себя владыкой мира. Служба у него при дворе и путешествия заняли 24 года жизни Марко Поло. Но биография его на этом не завершилась. Он вернулся в Венецию, воевал, оказался в генуэзском плену. И в тюрьме продиктовал свою удивительную «Книгу о разнообразии мира». До нас дошло около ста ее списков. Эта книга была, например, на корабле Колумба, который сделал на ней 70 пометок.
Воссоздать жизнь человека, чья книга сыграла такую важную роль в европейской истории, очень заманчиво. А ведь далеко не все известно точно: очень уж давно он жил.
Марко Поло родился в Венеции в 1254 году (для сравнения: это времена монголо-татарского нашествия на Русь).
Умер там же в 1324 году. Долгая жизнь для человека Средневековья!
Его мать очень рано умерла. Отец – Никколо Поло, торговец ювелирными изделиями и пряностями. И тоже путешественник.
О происхождении Марко Поло немало написано. Например, хорватские исследователи XIX века утверждали, что он был родом из Хорватии. Дело в том, что недалеко от Дубровника, на острове Корчула, есть дом, принадлежавший семейству Поло.
Да, они много и интенсивно торговали, не были бедны, владели домами в разных частях света. А Далмация, где расположен этот дом, находилась под большим влиянием соседней Венеции.
Есть и совсем спекулятивная версия, что «поло» – это поляк. Возникла она из-за того, что на обложке одного старинного издания слово «поло» написано с маленькой буквы. И получается тогда не фамилия, а что-то вроде прозвища на немецкий лад. Но подобные предположения более чем сомнительны, и всерьез их принимать нельзя.
Документов, связанных с Марко Поло, сохранилось немало, но они касаются в основном поздних этапов его жизни. А детство остается в полной тени.
Марко родился, когда отец был в далеких краях. Он отправился вместе с братом Маффео в путешествие, оставив жену в ожидании ребенка, и отсутствовал ни много ни мало 15 лет. Представители семейства Поло были удивительно подвижными: у них внутри будто работал какой-то двигатель, который увлекал их в дальние края.
Иногда пишут, что это просто купеческая страсть. Венеция была крупным торговым центром. Вскоре после Марко Поло, уже в XIV веке, там зародятся основы капиталистической экономики, а эти отношения начинаются как раз с торговли и потом приходят в производство. Да, наверное, купцов влекла прибыль. Но все-таки не только она.
Итак, тяга к путешествиям была у Марко Поло в крови. О его детстве мы ничего не знаем наверняка. Неизвестно, ходил ли он в школу, был ли образован. Зато в путешествиях он совершенно точно овладел как минимум четырьмя языками. То есть безграмотным его не назовешь.
Можно лишь представить себе, как могло протекать его детство. Маленький Марко мог и должен был заходить в собор Святого Марка в Венеции, видеть дивные скульптуры коней, работы Лисиппа, которые были привезены в качестве трофея из Константинополя…
Только с его 15-летнего возраста у нас есть точные данные.
Его отец Никколо и дядя Маттео (или Маффео) для начала отправились в Крым, центр торговли в Солдайя, нынешнем Судаке. Там торговал их третий брат. Они прибыли с целью продвинуть дела семьи. В этих местах шла торговля рабами, самая выгодная в то время. (В Венеции XIV века были и рабы, и работорговля.) А побыв у брата, они, вместо того чтобы отправиться домой, двинулись на Восток. Прибыли в Поволжье, побыли у хана Берке, который приходился внуком Чингисхану, и через год, как пишет в своей книге Марко Поло, «отправились на восход солнца». Можно, конечно, пытаться объяснить это исключительно их алчностью. Но есть еще и колоссальная любознательность, а также свойственная западным людям того времени романтизация Востока.
Сведения о Востоке были весьма специфичны. В средневековых энциклопедиях утверждалось, например, что там обитают единороги – животные с телом быка или лошади и с длинным прямым рогом на лбу. И подчинить их могут только девственницы. А еще в восточных землях «живут существа с одной рукой и одной ногой. И потому, не умея ходить, крутятся колесом». Водятся люди хвостатые, как собаки. Есть предположение, что хвостатыми людьми называли человекообразных обезьян, увиденных кем-то из путешественников. Появляется и гигантская птица-рок с огромными крыльями. Схватив слона, которого западные люди тоже представляли себе очень приблизительно, она бросает его с большой высоты на землю и потом пожирает его мясо.
Замечательный поэт Н.С. Гумилев дает такой ответ на вопрос о том, что влекло братьев Поло «на восход солнца»:
Купцам и прибыль и почет. Но нет; не прибыль их влечет В нагих степях, над бездной водной; О тайна тайн, о птица Рок, Не твой ли дальний островок Им был звездою путеводной?Поэт понимает глубже.
Так или иначе, братья Поло добрались до Бухары и пробыли там три года. После походов Чингисхана Бухара была совершенно разрушена. Но сын завоевателя Угедей восстановил город, который теперь снова прекрасен. Теперь там правил Боракхан, правнук Чингисхана.
Итальянские путешественники были приняты милостиво, вот что интересно. Почему монгольские правители после кровавых нашествий, покорив столько европейских стран, так мило, спокойно и благожелательно принимают людей с Запада? Видимо, дело в том, что монголы к этому времени абсолютно уверовали в свое всемогущество.
В большинстве своем они считали себя владыками мира. И им уже не казались страшны представители разоренных, покоренных ими стран. Но они были им интересны, почти так же, как европейцам единороги.
Так что отец и дядя Марко Поло спокойно любовались Бухарой и, наверное, занимались торговлей. Они разбогатели, причем все их богатство было в драгоценных камнях – в том немногом, что можно везти на огромное расстояние.
А потом они двинулись дальше «на восход солнца», а именно – в Китай. Туда, где была главная столица Монгольской империи. В пути они пробыли год, среди кочевников. Те никогда не стирали одежду, боясь, что боги накажут их за осквернение воды. Ребенка монголы мыли четыре раза в течение первых 28 дней его жизни. И все. После этого – никакого мытья.
Западноевропейцы не отличались высоким уровнем бытовой гигиены. Они только в Крестовых походах в XII веке узнали, что можно мыться горячей водой, и узнали именно на Востоке. Но в цивилизованных странах Востока. Кочевники же были совершенно иными.
Итальянцы прибыли к великому Хубилаю – внуку Чингисхана. Тогдашняя столица Китая, которую завоевал Чингисхан, называлась Дасин. Она была разрушена, а на ее окраине выстроен город Ханбалык, будущий Пекин.
Хубилай оставил в истории очень заметный след. Человек с крепким характером, он пришел к власти после междоусобиц среди потомков Чингисхана, сумел подавить сильных конкурентов, и прежде всего своего брата. Укрепившись на престоле, он действительно ощутил себя владыкой мира, ведь пространство, покорившееся монгольской династии, было совершенно невероятно. Именно Хубилай завершил покорение Китая.
Путешественники были приняты при его дворе необычайно хорошо. Этому есть объяснение. Мать Хубилая Сиур Коктени была христианкой из татарского племени кераитов, крещенных по несторианскому обряду.
Хубилай приказал Никколо и Маттео передать послание Папе Римскому. Он, владыка мира, предлагал Папе, чтобы тот стал его вассалом. Конечно, при таком отправном пункте трудно было надеяться на успех переговоров.
Тем не менее Хубилай попросил также прислать ему проповедников христианства, намекая, что, может быть, и примет эту религию. Он велел также привезти немножко маслица, как он выразился в послании, – с гробницы Христа в Иерусалиме. «Владыке мира» была свойственна относительная веротерпимость.
В книге Марко Поло описываются буддистские храмы, мечети и несторианская христианская церковь. Гости с Запада, поборники Крестовых походов, были наверняка поражены этим спокойным отношением к разным религиям. Они не могли знать, что это общее свойство той стадии развития цивилизации, на которой находился монгольский Китай: здесь недавно царили родоплеменные отношения, при которых не бывает религиозного фанатизма.
С этим заданием братья, пробывшие у Хубилая три года, в 1269-м отправились обратно в Венецию. Правитель дал им в дорогу золотую дощечку, на которой были знаки, служившие пропуском по всей необъятной империи монголов. Путешественников никто не смел обидеть.
Когда отец и дядя вернулись в Венецию, Марко было 15 лет. Мать к тому времени уже скончалась. Отец сразу женился на другой и ненадолго зажил вместе с сыном посемейному.
Но надо было выполнять поручение. И вряд ли от страха перед Хубилаем, который был все-таки очень далеко. Просто хотелось вернуться с выполненным заданием и заслужить благодарность великого правителя.
Однако произошла заминка: один римский Папа скончался, другой не был избран. Пришлось мучительно ждать. Наконец появился Папа Григорий X, и братьям Поло удалось с ним встретиться, рассказать о своем задании. А у Папы была мечта – союз с монголами против мусульман. Не был он и против того, чтобы осуществить евангелизацию монгольской династии в Китае.
Поэтому он дал людей, чтобы те поехали с братьями Поло, но не сто, а двух человек. А еще с собой взяли юного Марко (ему исполнилось 17 лет). Вместе с отцом и дядей он отправился в Китай через Месопотамию, Иран, Памир, Кашгарию. Безумство! Папские посланцы по дороге измучились, оголодали, расхворались и покинули отчаянных путешественников Поло.
Но они не сдались и продолжили со своей золотой дощечкой пробираться через разные земли, где были и противоречия, и местные войны, и разбой. Может быть, у них была счастливая звезда… Марко Поло позже напишет, что Создатель позволил им совершить эти великие путешествия.
Прибыв в 1271 году, путешественники пробыли при дворе Хубилая 24 года. За это время они заняли там довольно значительное положение. Правителю особенно понравился Марко – полный энергии, деятельный юноша. Когда читаешь книгу Марко Поло, легко представить себе ее автора – очень любознательного, доброжелательного человека, совершенно лишенного злобной ограниченности. Для него характерна фраза «я внимательно приглядывался ко всему». О многом он пишет: «Это я видел сам». А когда он передает что-то, что ему рассказывали, то предупреждает, что эти сведения получены от «людей нелживых и верных». Через некоторое время Хубилай сделал Марко Поло членом Тайного совета. Это, видимо, сразу вызвало напряжение среди придворных.
Венецианцы не были первыми, кто побывал у монгольских правителей Китая. Так, в 1249 году в Каракоруме (это в Монголии), бывшем столицей Монгольской державы до Пекина, был посол французского короля Людовика IX Святого, францисканец Андре Лонжюмо. Людовик тоже искал союза с монголами против мусульман.
В 1252 году была знаменитая миссия Гильома Рубрука; после седьмого Крестового похода, после неудач в Египте и Тунисе, его тоже отправил туда Людовик IX, искавший союзников на востоке. Союза не сложилось. Но Рубрук оставил замечательные записки. В них он сообщает, что встретил у монгольских правителей Китая ювелира-парижанина, некую даму из Лотарингии, захваченную в плен в Венгрии (где только не побывали монгольские завоеватели!) и вышедшую замуж за угнанного монголами русского ремесленника.
Но, несмотря на эту пестроту, венецианцы явно продвинулись больше других.
Как член Тайного совета, Марко Поло начал выполнять поручения хана, о которых он пишет сдержанно, не очень ясно. Например, ему было велено отправиться на Цейлон и там попробовать купить величайшую ценность – зуб Будды.
Потом Марко предположительно стал управителем одной из китайских провинций Янчжоу.
Венецианцы разбогатели. В 1290 году они начали проситься домой. Томила тоска по родине? Вероятно, да. Хотелось увидеть близких, родную Венецию. Но, кроме того, как любимцы хана, они нажили много недругов. А Хубилай старел и слабел на глазах. Он мог умереть. Они понимали, что тогда их жизнь будет очень короткой.
В первый раз в просьбе им было отказано. Хубилай не гневался, не угрожал, а, напротив, ласково интересовался, что еще сделать для них, чтобы они остались. Они не посмели перечить.
Но через два года, в 1292-м, им на помощь пришел счастливый случай. Персидский хан Аргун, внучатый племянник и вассал Хубилая, прислал послов и письмо, в котором просил направить к нему в Персию невесту из рода своей матери. В этой части великой Монгольской империи в то время была традиция жениться на собственной матери. Был женат на своей матери и Аргун. Но она скончалась и взяла с него предсмертную клятву, что новую жену он возьмет только из ее монгольского рода. Специальное посольство из Персии прибыло к Хубилаю.
Был смотр девушек. Выбрали некую царевну Кокичин, которую сочли достойной. Она очень понравилась персидским послам, и решено было отправить ее в Персию. Караван отправился, но через восемь месяцев вернулся. Пройти в Персию не удалось: по пути было много войн, разбоя, и, вполне справедливо опасаясь за судьбу царевны, посланники возвратились.
А Марко Поло с родственниками недавно по поручению Хубилая побывал в Индии. И он сказал: «Я знаю морской путь в Персию, вокруг Индии. Я один или мы вместе можем показать его». И Хубилай вынужден был их отпустить, взяв страшную клятву, что они непременно вернутся.
Клятву они, конечно, дали – и радостно поплыли на запад. Западом для них в тот момент была Персия, а вдали – Венеция.
Хубилай отправил их с целым флотом – 14 кораблей. Флот для этого времени могущественный. На каждом корабле находилось от 200 до 300 моряков. По тем временам династия владела немыслимыми богаствами.
Царевну доставили, удостоились щедрой награды от правителя и наместников, вассалов Хубилая на персидском Востоке. Получили еще четыре золотые охранные дощечки. На них разные рисунки. На одной орел, на второй другая какая-то фантастическая птица, на третьей и четвертой – загадочные письмена. Все это означает, что они избранные персоны, к ним надо относиться очень хорошо.
В Персии в 1295 году венецианцев настигло (пришло с караванами купцов) известие о смерти Хубилая.
Они свободны! И они двигаются дальше на запад, через Трапезундскую империю – торговое образование на северо-востоке Малой Азии под большим влиянием Венеции. И возвращаются домой.
Добрались до дома все трое: Марко и его немолодые уже отец и дядя, с великими богатствами и почетной свитой. А отец привез с собой еще и двух внебрачных сыновей, монголо-китайского происхождения.
Вернувшись, они еще пожили в Венеции. Эти Поло были удивительные люди, с каким-то мотором любознательности и отваги, заключенным в организме, и, видимо, с весьма крепким здоровьем. Своим восточным детям Никколо дал итальянские имена. Один из них стал потом управляющим делами Марко Поло. В общем, сложилось большое монголо-татаро-китайско-итальянское семейство. Какой-то удивительный средневековый интернационал!
Сначала, правда, не обошлось без драматизма. Когда путники постучались в свой старый дом, их не узнали. Ведь они были в истрепанной и странной одежде, да и черты их лиц изменились за 25 лет.
Потом признали, пустили в дом, но начали сомневаться в их рассказах. Трудно было поверить, что они были у китайского императора.
Поло устроили огромный пир, три раза во время этого пира меняли наряды, одеваясь все роскошнее и роскошнее и раздавая драгоценные ткани слугам, чтобы все поняли, как они богаты. А потом вышли в своей старой одежде, в которой прибыли, и на глазах изумленной публики стали из складок этой одежды вынимать драгоценные камни, которые составляли теперь их состояние.
Так они закрепились в Венеции. Маттео стал судьей, то есть занял очень приличное положение. А Марко уже в 1296 году, еще не обзаведясь собственной семьей, отправился воевать, ибо началась ожесточенная война между торговыми конкурентами, перешедшая в кровавую резню между Венецией и Генуей. Он командовал одной из венецианских галер. Человек отважный, физически сильный, и мужества ему было не занимать. Но венецианцы потерпели поражение, Марко был захвачен в плен и посажен в генуэзскую тюрьму.
Не совсем понятно, насколько суровы были условия его заключения. Великолепный очерк написал о нем Жюль Верн, который всегда собирал очень надежную информацию. А первая версия книги Марко Поло была как раз на французском языке.
Марко Поло довольно быстро стал, так сказать, любимцем тюрьмы. Благодаря своим удивительным рассказам. Все сбегались его слушать. А потом его стали приглашать с этими рассказами в знатные дома, потому что такого нигде больше не услышишь.
Однако популярнейший рассказчик сам не писал. Может быть, не обладал литературным стилем. Он встретил товарища по тюрьме, сидевшего там гораздо дольше, человека из Пизы, тоже воевавшей с Генуей. Этот пизанец Рустичелло, или Рустичано, был литератором, он написал романы о короле Артуре и какие-то истории из французской жизни. У него была склонность к рыцарскому роману. Он слушал рассказы Марко, ставшие еще интереснее после того, как Марко добился, чтобы ему из Венеции привезли его записки, сделанные во время путешествий. Он заглядывал в записки и рассказывал. А Рустичано записывал. Такова удивительная история рождения этой книги.
Вот как она начинается: «Государи и императоры, короли, герцоги и все, кому желательно узнать о разных народах, о разнообразии стран света, возьмите эту книгу и заставьте почитать ее себе». «Почитать себе». Богатый наймет чтеца, а бедный просто не знает грамоты. Марко Поло обращается ко всем слоям общества.
Дальше: «Вы найдете тут необычайные всякие диковины и разные рассказы о великой Армении, о Персии, о татарах, об Индии и о многих других странах. Все это наша книга расскажет ясно, по порядку…» Здесь есть литературный стиль. И видимо, он принадлежит Рустичано. Книга получила стремительную и фантастическую популярность. Рукописи полетели по свету: во Францию, в Германию.
А Марко освобожден из генуэзской тюрьмы 1 июля 1299 года. Ему жить еще 25 лет. Но он ничего не пишет. Он не писатель, а рассказчик.
Он женится на богатой девушке по имени Доната Бадуэр. У него рождаются три дочери. И он живет семейной и торговой жизнью, занимается торговлей красителями для тканей, пытается внедрять в производство новые красители, рецепты которых привез с Востока, и продолжает свои устные рассказы.
Как говорил он сам, в конце концов он устал от собственных рассказов. Потом устала и публика, и на закате дней его стали считать фантазером, над ним начали насмехаться. У него появилось не очень доброе прозвище Марко-миллион. Имелось в виду, что он и сам не беден, да еще вечно рассказывает о сокровищах Востока, твердит, что у Хубилая миллионы подданных, денег тоже миллионы…
А ведь он обладал наблюдательностью и тем, что мы сегодня называем толерантностью. В его книге говорится, что у цивилизованных народов Азии стоило бы многому поучиться. Например, воспитанности, достоинству манер, этическим правилам, поведению в обществе. Он с изумлением пишет о темнокожих людях, восхищается красотами природы, совершенно сказочными растениями и животными, вспоминает о львах, жирафах, иногда пересказывает фантастические вещи. По его словам, в Индии водятся куры без перьев, а шкура у них кошачья. Известен его тезис, что в Японии крыши всех домов из чистого золота. Эта фантазия очень возбуждает европейцев. И Христофор Колумб через 168 лет после смерти Марко Поло поплывет на запад, чтобы приплыть на восток.
Марко Поло умер и ушел из своей романтической жизни весьма прозаично. Он был окружен семьей, которая все больше ссорилась из-за денег, что его явно утомляло и раздражало. Сказывались и болезни. Он понимал, что дело идет к закату, и составил завещание. Оно сохранилось. В нем Марко распределяет средства между родными и дает свободу своему слуге-рабу, татарину по имени Петр. Этот человек через некоторое время стал полноправным гражданином Венецианской республики и много лет процветал, как и сводные братья Марко, привезенные с Востока отцом.
Перед смертью кто-то из близких спросил его: «Марко, признайся, что ты все сочинил!» И он ответил: «Я не рассказал и половины того, что видел».
Эдуард III Английский Две жизни в одной
Эдуард III – одно из самых громких имен в английской истории. Он родился в 1312, умер в 1377 году. Он был на престоле 50 лет и 6 месяцев.
Для некоторых в образе Эдуарда III воплощен тип идеального правителя, идеального рыцаря. Но полностью принять эту версию мешает вторая половина его жизни. Можно сказать даже, что Эдуард III прожил две жизни. Первая завершилась абсолютным триумфом. И эта триумфальность по сей день привлекает тех, кто хочет его идеализировать. Вторая значительно короче. Но она столь провальна и трагична, что будто перечеркивает первую, и сохранить образ идеального государя становится довольно сложно.
Брак родителей Эдуарда имел целью примирить бесконечно долго, с XI века, враждовавшие династии Капетингов и Плантагенетов. Мать – королева Изабелла, дочь знаменитого французского короля Филиппа IV Красивого, сестра правившего в тот период во Франции Карла IV, последнего короля из дома Капетингов. Отец – Эдуард II из рода Плантагенетов, один из самых злосчастных английских королей.
XIV век, по выражению Йозефа Хейзенги, – «осень Средневековья»: эта эпоха уходит, с ее рыцарскими идеалами, турнирами, кодексом рыцарской чести. Но современники этого, конечно, не понимают, для них все по-прежнему.
И Эдуард II совершенно не годится на роль правителя, с точки зрения тех, кто руководствуется старыми представлениями. Он слабоволен, им всегда управляют фавориты, которых он часто меняет и которые ненавистны его подданным. На него поочередно влияют бунтующие баронские группировки.
Фавориты Эдуарда II – всегда мужчины. Сначала Гавестон, рыцарь, известный своим вызывающим поведением. Он издевался над придворными, побеждал их на турнирах, насмешничал, вызывая к себе страшную ненависть. Когда с ним было покончено, появились отец и сын Диспенсеры. Они распоряжались при слабом короле буквально всем.
Отношения между родителями будущего Эдуарда III обернулись войной. Мальчик, который изначально воспитывался как наследник престола, был вовлечен в конфликт. Он оказался на стороне матери.
В 1325 году королева Изабелла с тринадцатилетним сыном отбыла на континент под благовиднейшим предлогом – бороться за закрепление прав английской короны на юго-запад Франции. Это были три области: Гиень, Гасконь, Понтье – с центром Бордо. Изабелла добилась, чтобы ее брат Карл IV принял клятву верности не от английского короля, как полагалось, а от принца Эдуарда. После этого ей следовало вернуться в Англию. Но она не торопилась.
Эдуард II был обеспокоен. Он писал: «Дражайший сын! Хоть Вы молоды и неопытны, хорошо помните о том, что мы поручили и повелели Вам при Вашем отъезде. И поскольку теперь Ваш оммаж принесен, предстаньте перед нашим дражайшим братом и Вашим дядей, королем Франции, простившись с ним, возвращайтесь к нам, вместе с нашей дражайшей супругой, Вашей матерью, королевой, если она согласится отправиться в путь не мешкая. А если она не поедет, приезжайте один как можно скорее».
Через три месяца, в марте 1326 года, второе письмо. Эдуард II, чувствуя, что под ним шатается трон, взывал к сыну. Он писал о королеве: «Она под надуманными предлогами отказывается вернуться к нам. Она приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага и изменника. И с ним водит компанию в его жилище и за его пределами».
Роджер Мортимер – фигура весьма заметная. Он враждовал с Эдуардом II и в 1323 году бежал из Англии. И он стал любовником английской королевы.
Ситуация стала напряженной: наследник, надежда подданных, молодой принц Эдуард вместе с матерью не возвращался на родину. Он путешествовал по Европе. А в 1326 году, четырнадцати лет от роду, был помолвлен. Невеста – Филиппа, примерно его ровесница, дочь графа Вильгельма Геннегаусского, чьи владения располагались на территории современной Бельгии. Принц подписал брачный договор, обещая никогда не жениться ни на ком, кроме свой избранницы. Брак был заключен, когда Эдуарду исполнилось шестнадцать лет, и продолжался 41 год. Это была одна из самых больших удач его жизни.
Но не менее важен был и другой выбор. Когда Изабелла вместе с Мортимером на французские деньги собрала войско и снарядила корабли, чтобы идти войной на законного мужа, Эдуард присоединился к этому походу. Он выступил против отца вместе с любовником матери, которого ненавидел.
Изабелла была в заговоре с недовольными английскими баронами. Она знала, что внутри страны у нее есть поддержка. Конечно, знал это и будущий Эдуард III. Его злосчастный отец, Эдуард II, ненавидимый своим народом, потерпевший ряд поражений на внешнем фронте, в Шотландии, бежал вместе с Диспенсерами, надеясь спастись. Но как будто сама природа была против него. Ветер пригнал его корабль к побережью Уэльса. Там его и арестовали.
Все было оформлено как законная акция. Решение принимал Парламент, который с начала XIII века, со времен знаменитой Великой хартии вольностей, имел очень большие права, в том числе – право низложить недостойного государя. Так и произошло. Палата пэров, равных королю, постановила низложить Эдуарда II за то, что он притеснял церковь («одних духовных особ он держал в темнице, а других – в глубокой печали»), потерял Шотландию и вообще «не изволил видеть и понимать, что хорошо, что дурно». Здесь закладывались традиции английского парламентаризма. И не случайно Эдуард III, как человек умный, будет много лет опираться именно на Парламент, а во второй половине своей жизни, решительно отличающейся от первой, вознамерится вообще его упразднить…
Судьба Эдуарда II была поистине ужасна. Его заточили в замок, и Парламент не мог принять решения, как с ним поступить. Ведь в Великой хартии говорилось, что короля можно низложить, но там не сказано, что его можно убить. Особа короля священна, его власть от Бога. Решиться на убийство очень страшно. Но страшно и то, что король может попытаться вернуться.
В истории случались примеры бесконечно долгих тюремных заключений. Однако вокруг фигуры узника неизменно начинали плестись заговоры. Поэтому Эдуард II был все-таки убит через несколько месяцев заточения, тайно и злодейски.
После смерти отца, 29 января 1327 года, пятнадцатилетний Эдуард III был коронован. На коронации он принес клятву, несколько нестандартную, что-то вроде ультиматума со стороны баронов. Он поклялся соблюдать законы королевства, быть справедливым, милосердным.
Но первые четыре года он правил лишь номинально. Реальная власть была в руках его матери королевы Изабеллы и ее любовника лорда Мортимера, человека крутого нрава. Подданным все это, конечно, не нравилось.
Дождавшись совершеннолетия, Эдуард III в 1330 году совершил небольшой, тихий дворцовый переворот. Ночью Мортимер был арестован и очень быстро казнен, без каких бы то ни было церемоний. Мать король отправил в замок. Он проявлял к ней внешнюю почтительность. Не стал ее ни упрекать, ни карать – просто предал забвению.
И вот он наконец у власти. Образ Эдуарда III рисуется в знаменитых «Правдивых хрониках», написанных знатным горожанином Нидерландов Жаном Лебелем. Отмечена щедрость, куртуазность молодого короля. Не скупясь на великие торжества, турниры и балы для дам, он снискал такое расположение, что все отзывались о нем, как о втором короле Артуре. Выше похвалы для рыцаря просто быть не может.
С ним связано немало легенд. Например, рассказывали, что в 1348 году на одном из балов Эдуард танцевал с графиней Солсбери и у нее с ноги упала подвязка. Это вызвало насмешки кого-то из присутствовавших. Король же проявил свою куртуазность. Он поднял подвязку и демонстративно надел на ногу, прикрепив свой чулок. И будто бы сказал: «Пусть будет стыдно тому, кто плохо подумает об этом». Фраза стала французской поговоркой, которая живет по сей день.
Позже возник и Орден подвязки, изысканный, аристократический, для очень узкого круга людей.
Есть еще одна легенда – о том, как был оформлен Орден подвязки на сине-голубой ленте. Якобы в битве при Креси король дал сигнал к бою именно синей лентой, привязанной к копью.
Эдуард III оказался не только куртуазным рыцарем, но и толковым правителем. Покровительствовал торговле, ввел в оборот золотую монету. Принял угодное народу решение, ограничив роль папства и прекратив платить римским папам позорную вассальную подать, существовавшую с начала XIII века, со времен Иоанна Безземельного.
Он был осторожен в отношениях с Парламентом. Подсчитано, что за время правления он созывал Парламент 70 раз – достаточно часто.
Молодой король хотел, чтобы его полюбили. Как многие начинающие правители, он видел главное средство укрепления свой власти в войне. Он выдвинул серьезную программу процветания английского королевства, возрождения былого величия. Идеал его – времена деда, Эдуарда I, когда велись успешные войны.
Эдуард III тщательнейшим образом подготовил войну против Франции, ту, которую позже условно назвали Столетней. На самом деле это был длительный военнополитический конфликт. Причем на раннем этапе война стала для Англии очень выгодным предприятием.
В 1328 году, когда в Англии реально еще правила Изабелла, пресеклась прямая линия Капетингов, правителей Франции. У Карла IV Красавчика не было мужского наследника. Изабелла заявила права своего сына Эдуарда, внука великого Филиппа IV Красивого, на французский престол.
Пэры Франции отвергли эти притязания. Историки до сих пор спорят о том, было ли это правильно с юридической точки зрения. Но важнее другое. Тогда, в XIV столетии, зарождались основы будущих европейских наций. Именно тогда сформировался литературный английский язык и в Англии перестали при дворе говорить по-французски.
И французы не захотели признавать власть английского короля.
Пэры привели замечательный аргумент – документ 500 года «Салическая правда», гласивший, что земельное наследие не передается по женской линии.
Похоже было, что Эдуард примирился с отказом. В 1329 году он принес оммаж за свои владения во Франции тому, кто стал французским королем, родственнику Капетингов Филиппу VI Валуа. В этой клятве есть слова: «Я становлюсь Вашим вассалом». А в ту эпоху это было уже фактически невозможно.
И потому в 1337 году, пробыв семь лет реальным правителем Англии, добившись авторитета, и личного, и королевского, он объявил себя королем Франции. Он ввел в геральдическое поле английской короны лилии – французский символ.
Война была подготовлена, если говорить современным языком, «пропагандистски». Перед объявлением войны, в 1337 году, в английских церквах, на городских рыночных площадях зачитывалась декларация. Это потрясающий текст! В нем говорилось о том, как Эдуард III боролся за мир, пытался смягчить злобу французского короля и чего только для этого не делал! Но король Франции постоянно втягивал его в пустые словопрения, в ходе которых разными хитрыми путями урезал права короля Англии, например на герцогство Аквитанию. Эдуард представил себя жертвой французских происков.
О необходимости пропаганды своих идей он помнил постоянно. Когда в 1346 году в городе Канне, захваченном англичанами, был обнаружен договор Филиппа VI с нормандскими баронами о возможном завоевании Англии, Эдуард III распорядился обнародовать этот документ. Он заботился об общественном мнении во Франции, о том, чтобы его война имела моральное и политическое оправдание.
Парламент не сразу с одобрением отнесся к предстоящей войне. Эдуарду пришлось буквально выпрашивать деньги в Палате общин. Король был еще совсем юн, у него не хватило выдержки, – и он расплакался. Тогда его жена Филиппа сделала такой жест. Она заявила: «Я заложу все мои фамильные драгоценности, чтобы у моего мужа были деньги на эту благородную войну».
Первое сражение с французами состоялось в 1340 году – морская битва при Слейсе. Эдуард лично участвовал в сражении. Была одержана полная победа. Англичане уничтожили французский флот. Островитяне, они были значительно сильнее на море. А Филипп VI Валуа, не слишком умный человек и не очень талантливый полководец, не понял, что у него просто нет надежды на морскую победу.
Следующая великая битва и великая победа Эдуарда III – при Креси, в 1346 году. Здесь лично присутствовали оба короля. Сражение вошло во все учебники военного искусства как одно из самых ярких доказательств того, что в оборонительном бою можно одержать блистательную победу.
До этого в эталонных средневековых битвах побеждали только атакующие рыцари. Эти «танки» Средневековья несутся вперед на конях, облаченные в 50–60-килограммовые доспехи. Они обладают колоссальной пробивной силой. Причем сражение представляет собой серию поединков.
Эдуард III, нарушив каноны, построил свое войско на холме. Он спешил рыцарей, а впереди поставил в шахматном порядке английских лучников, из свободных крестьян, которые блестяще владели своим оружием. Их стрелы пробивали рыцарские доспехи на расстоянии до 300 метров.
Прежде стрельба часто бывала беспорядочна, тороплива, потому что лучники боялись, что до них доскачут конники и порубят, свои же рыцари их не прикроют – увидят, что дело плохо, и ускачут. А в битве при Креси рыцари спастись не могли: рыцарь в тяжелом вооружении пешком далеко не убежит. Так что лучники стреляли не торопясь, прицельно.
Французы же атаковали легкомысленно, непродуманно. Прошел дождь, и они скакали по влажному вспаханному полю. Их движение замедлилось, и в них легко попадали стрелы. Хронист Фруассар – певец рыцарства – писал, что при Креси погиб цвет рыцарского мира.
Триумф англичан произвел в Европе совершенно ошеломительное впечатление. А в следующем году была одержана потрясающая победа в Шотландии.
Официальный союз Франции и Шотландии сложился в XII веке. Дело в том, что для шотландцев англичане – это страшный агрессивный сосед, и французы, противники англичан, – их естественные союзники.
При Невиль-Кроссе англичане одержали полную победу. Шотландский король Давид Брюс был заточен в тюрьму на одиннадцать лет, Шотландия поставлена на колени.
И не случайно в 1347 году Эдуард III получил предложение стать императором Священной Римской империи германской нации. Ему предложена корона, и какая! Императорская! Но он отказался. Он предпочел удержать то, чем реально владел, – французский юго-запад.
Его целью было объединение английской и французской корон. Его официальный титул в документах – Эдуард, Божьей милостью король Франции и Англии, сеньор Ирландии, герцог Аквитании.
Казалось, он действительно шел к победе над Францией, хотя она и была значительно богаче и во многом сильнее Англии. По случаю побед устраивались бесконечные праздники, гремели рыцарские турниры. В Англию текли французские трофеи. Как писал хронист Уолсингем, не оставалось английского дома, где не было бы посуды, золота и тканей из Франции. Вот оно, кажется, счастье!
Правда, капля горечи была уже в этой череде блестящих побед. Речь идет об осаде города Кале.
После разгрома французского войска при Креси Эдуард III был совершенно уверен, что теперь уж ворота во Францию перед ним раскроются. Он прошел вдоль побережья с запада на восток Франции. Войско противника было разгромлено, цвет рыцарства уничтожен, Филипп VI Валуа морально раздавлен.
Но все повернулось несколько иначе. Победа при Креси была одержана 26 августа, а с сентября 1346 года Эдуарду III пришлось приступить к осаде Кале.
Осада в Средние века тяжела для обеих сторон. За стенами осажденной крепости, конечно, очень плохо: голод, лишения, вылазки удачные и неудачные. Но и тем, кто стоит вокруг стен, совсем не сладко. Осень, уже не идеальная погода, море начинает штормить. Трудно обеспечить снабжение войска.
Пока Эдуард стоял под стенами Кале, в душе у него, очевидно, нарастало раздражение. Он провел там 10 месяцев – до августа 1347 года. Это одна из наиболее длительных средневековых осад.
В какой-то момент возле Кале появился Филипп VI с войском. Жители в восторге высыпали на городские стены. Но, пройдя каким-то загадочным маршем, французский король увел войско и оставил горожан. Судя по всему, он не решился вступить в бой. Видимо, сыграл свою роль призрак Креси, моральный удар, нанесенный этим невиданным поражением.
Жители Кале в отчаянии вступили с англичанами в переговоры о сдаче. Они пытались договориться, чтобы город не был полностью разграблен и уничтожен. Эдуард выдвинул условия. Пусть шесть самых именитых граждан, уважаемых, из лучших семей, выйдут с веревками на шее и с ключами от города. Они будут повешены. Тогда он не подвергнет город полному уничтожению.
И эти шесть человек вышли. Это были действительно представители лучших семейств. Через несколько веков французский скульптор Огюст Роден запечатлеет их в виде скульптурной группы – знаменитые «Граждане Кале».
Они вышли и должны были быть повешены. Но королева Филиппа, любимая жена, ожидающая ребенка (одного из двенадцати, родившихся в этом браке), бросается перед королем на колени и умоляет их пощадить. Был ли это заготовленный акт? Или импровизация Филиппы? Может быть, она не хотела, чтобы Эдуард остался в сознании людей не как триумфатор, а как тот, кто жестоко расправился с побежденными. В любом случае это выглядело красиво. И король пощадил граждан Кале.
Истребления горожан действительно не последовало. Однако Эдуард приказал всем им удалиться, разрешив забрать только то, что они могли унести на себе. А город стали заселять выходцами из Англии. Казалось бы, вновь триумф.
Но англичанам недолго пришлось радоваться. В 1348–1349 годах на Англию обрушилась «черная смерть» – эпидемия чумы, которая уже прокатилась по некоторым районам Европы. Потом было еще несколько ее посещений. В итоге, по различным подсчетам, погибли от половины, до двух третей населения. Страна вымирала.
Фортуна как будто отвернулась от короля. Видя, как «черная смерть» опустошает страну, он издал особые законы – прообраз будущего рабочего законодательства, обязывавшие людей наниматься на работу за низкую плату. Образ блестящего монарха явно начинал меркнуть.
Но его еще ожидал слабый призрак былых триумфов – в 1356 году, в знаменитой битве при Пуатье.
Это не была уже его личная победа. Английским войском командовал его старший сын и наследник Эдуард, по прозвищу Черный принц, популярный в Англии, соответствовавший эталонам рыцарства.
Уходя с исторической арены, рыцарство особенно энергично боролось за свои идеалы. Черный принц сражался на поединках, был щедр, смел, неукротим, жесток к врагам, верен своей религии.
При Пуатье он одержал блистательную победу над войсками французского короля Иоанна II Доброго, сына Филиппа VI. Часть французских отрядов покинула поле битвы. Сам Иоанн II оказался в плену. Казалось, окончательная победа англичан уже не за горами.
Если бы Эдуарду III удалось добиться подписания подготовленного уже Лондонского договора, свершилось бы то, ради чего он начинал войну во Франции, – было бы закреплено существование колоссального континентального владения Плантагенетов – так называемой Анжуйской империи.
Иоанн II получил имя Доброго не за особые моральные качества, а за рыцарственность. Он, подражавший, как и другие европейские монархи той эпохи, королю Артуру, создатель Ордена Звезды, оказавшись в плену, готов подписать договор, согласно которому больше половины французских земель он уступал «брату» – королю английскому.
А ведь еще у Эдуарда III был шанс получить Шотландию, независимость которой пошатнулась, продвинуться в Ирландии… Должна была возникнуть большая континентальная империя.
Генеральные штаты Франции и дофин Карл, будущий французский король Карл V Мудрый, отказались принять этот договор. Наследник предпочел оставить отца в английском плену.
Вместо триумфального мира в 1360 году было заключено перемирие в Бретиньи. Эдуард III понимал, что дофин Карл готовится воевать.
В 1359 году Эдуард предпринял попытку высадиться в Кале и двинуться по территории Франции в Реймс – традиционное место коронации французских монархов. Он намеревался короноваться как французский король.
Ему было уже 47 лет, для средних веков возраст изрядный. Черному принцу – 29. Казалось, на престоле пора быть ему, овеянному славой Пуатье. Но, вероятно, Эдуард собирался жить и править вечно.
Пробиться к Реймсу не удалось. Удача изменила своему любимцу. В Англии война утрачивала популярность. Парламент неохотно давал деньги на предприятия, которые некогда принимались с восторгом.
Произошло что-то очень важное и с самим Эдуардом III. Можно назвать это постепенным распадом личности. Он резко и стремительно одряхлел, плохо выглядел, плохо себя чувствовал. Наверняка он остро чувствовал, что Англия вступила в полосу неудач.
Французский король Карл V возобновил войну. Это был не совсем обычный средневековый правитель. Он, судя по всему, был слабого здоровья: не мог держать меч и никогда не выходил ни на поле сражения, ни на рыцарские турниры. Но он поступил неординарно и мудро, назначив главнокомандующим Бертрана Дюгеклена, человека не из высшей знати, из бретонского мелкого рыцарства. Это потомки кельтов, переселившихся под давлением англосаксов из Англии на полуостров Бретань, Арморику. Их считали людьми второго сорта, диковатыми, отсталыми.
Дюгеклен оказался талантливым полководцем. На протяжении чуть ли не всех 70-х годов XIV века он наносил непрерывные удары на территории, захваченной английскими войсками. Некоторые современники сетовали на то, что сражался он не по-рыцарски. Например, нападал на арьергард противника, отбивал обозы. Более того, он вступал в тайные соглашения с жителями французских городов – совсем уж не по-рыцарски. Дюгеклен одерживал победы, освобождал французские земли.
А в Англии положение делалось все хуже. В 1361, 1369, в начале 70-х возвращалась эпидемия чумы. Эдуард вынужден был вместе с Парламентом начиная с 1349 года несколько раз принимать печально знаменитые статуты о рабочих и слугах. Все жители страны в возрасте до 60 лет, не имеющие состояния, обязаны наниматься на любую работу и соглашаться на ту же оплату, которая была до чумы. Это были мучительные условия для народа. Именно с того времени начал зреть будущий великий бунт английского крестьянства, восстание под руководством Уота Тайлера, которое произошло в 1381 году. Эдуарду III не суждено было этого увидеть, но его четырнадцатилетнему внуку, сыну Черного принца, ставшему английским королем Ричардом II, предстояло встретиться с восставшими крестьянами, пережить величайший страх, а потом печальнейшим образом закончить свою жизнь, будучи свергнутым, в 1399 году.
Чувствуя нарастающее недовольство подданных, Эдуард III применил для их успокоения любимый властью прием: в 1362 году он пышнейшим образом отметил свое 50-летие. Пир во время чумы, причем в данном случае – в прямом смысле слова! Приемы, балы, роскошества, опустошение казны.
Страна жаждала обновления. Но наследник, на которого возлагались большие надежды, Черный принц, умер от ран, не дождавшись, когда отец покинет престол. В 1369 году скончалась королева Филиппа, ангел-хранитель Эдуарда III. Она всегда заботилась о том, чтобы он в глазах подданных выглядел хорошо. А после ее смерти он стал выглядеть очень плохо.
Как сдержанно пишут английские авторы, которым хочется умолчать об этой части его жизни, он стал много пить и завел ужасающую фаворитку Алису Перрерс. Она как будто появилась из мрака, как крыса из подземелья.
О ней мало что известно доподлинно. Она была то ли из горожан, из средних слоев, относительно знатных, то ли из низов. Кажется, побывала замужем, может быть не один раз. Красавицей не была. Но дряхлеющему Эдуарду III нравилась до безумия.
Одна ее черта сомнений не вызывает – алчность. Она все время добивалась каких-нибудь новых милостей, пожалований, пенсии для своих близких. И все кончилось тем, что, по одной из версий, король подарил ей драгоценности Филиппы. И она с ними сбежала.
А может быть, она успела сама прихватить драгоценности, будучи рядом с умирающим королем. Так или иначе, с этими сокровищами она и скрылась во мраке той неизвестности, из которой когда-то появилась.
Причем один раз она была выслана по решению Парламента, но перед самой кончиной короля возвращена. Почему?
Так решил начавший хозяйничать при старом короле его то ли третий, то ли четвертый сын Джон Гонт, герцог Ланкастерский. У Ланкастеров было большое будущее. Им предстояло сражаться за престол в так называемой «Войне роз», во второй половине XV века.
Джон Гонт не был особенно яркой личностью. Его попытки воевать во Франции оказались безуспешными. И он проявил себя на совершенно ином поприще. Среди бедствий, обрушившихся тогда на английское королевство, было и еретическое движение лоллардов. Еретики называли себя учениками Джона Виклефа – схоласта, теолога, видного мыслителя того времени. Позже именно они идейно оформили восстание Уота Тайлера.
А пока Джон Гонт объявил себя покровителем Виклефа и даже избавил его от церковного суда. Все могло закончиться для Виклефа, как для Яна Гуса, – осуждением, сожжением.
Но когда Виклеф предстал перед судьями, в собор вошел Джон Гонт, грохоча двумя мечами, нарочито задевая ими скамьи направо и налево, чтобы как можно больше было лязга и грохота. Приблизившись к судьям, он потребовал: «Ну, рассказывайте, в чем виноват этот человек!» Сообразительные служители церкви довольно быстро пришли к выводу, что ни в чем особенном. Просто собрались «поговорить».
Что заставило Джона Гонта поддержать Виклефа? Ученый, предшественник Реформации, настаивал на том, что церковь не должна быть богатой. И герцога Ланкастерского вдохновляла простая и понятная корысть – поживиться за счет секуляризации церковных земель.
Эдуард III все еще пытался переломить ситуацию и прекратить общественное бурление известным ему путем – возобновив успешную войну во Франции. В 1372 году, в возрасте 60 лет, он вознамерился лично отплыть на континент. Но сама природа ополчилась против него, как некогда против его отца. Ветер пригнал эскадру обратно, к английским берегам.
В последний год жизни Эдуарда, в 1376-м, собирается знаменитый Добрый Парламент. Слово «добрый» означает не моральные качества, а скорее одобрительное отношение общества. Для короля же это бунтующий Парламент. Здесь видится прообраз далекой английской буржуазной революции, которая начнется в 40-х годах XVII века. Парламент станет и символом этой революции, и судьей английской монархии.
Эдуард III много лет жил в относительном мире с Парламентом – совещательным органом, финансировавшим его войны, поддерживавшим рабочее законодательство. Когда Парламент внезапно взбунтовался, может быть, король и припомнил судьбу своего отца, низложенного полстолетия назад.
Добрый Парламент поддержал Черный принц, давно, наверное со времен Пуатье, мечтавший о престоле. Но он умер за полгода до отца.
И тогда Парламент принял потрясающее решение. У Эдуарда III было множество детей. Джон Гонт чувствовал себя наследником. Но решено было, что следующим королем должен стать не сын, а внук – сын Черного принца. Это явный бунт!
Парламент почувствовал свою силу еще в XIII веке, когда заставил Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей. Англичане по сей день считают этот документ фундаментом своей Конституции.
На сей раз Парламент решил доверить престол четырнадцатилетнему Ричарду II, фактически ребенку. Считается, что потомок Черного принца угоден народу. И он явно лучше, чем Джон Гонт, не раз демонстрировавший лицемерие, склонность к заговорам и интригам.
Вообще ребенок на престоле – это всегда хорошо для баронов. Лучше только безумец, которым можно управлять всю жизнь.
Для Эдуарда III решение Парламента – это не только демонстрация силы, но и тяжкое напоминание о великом грехе его ранней юности, когда был низложен и уничтожен его отец. Мучимый этими мыслями, Эдуард III умер 21 июня 1377 года, а рядом с ним была женщина, думавшая не о нем, а о драгоценностях Филиппы.
Столь блистательно начавшаяся жизнь завершилась так бесславно! Однако ни наука, ни художественная литература никогда не забывали огромных заслуг монарха, стремившегося превратить небольшое островное государство в могучую европейскую империю.
Тамерлан Природа зла
Сочетание слов «природа зла» можно толковать двояко.
Во-первых, зло имеет некую природу. Во-вторых, природа иногда играет некие злые шутки. Так случилось и тогда, когда примерно в одном месте с интервалом всего в 109 лет она породила двух чудовищ – Чингисхана и Тамерлана (истинное имя этого человека – Тимур. В Европе он получил прозвание Тамерлан, Тимур-хромой).
Есть версия – ученые считают ее мифологической, что по линии матери в Тимуре была кровь чингизидов, потомков Чингисхана. На самом деле он просто родился в Центральной Азии, в краях, где чингизиды правили.
Год его рождения – 1336. Для сопоставления с европейской историей – за год до официального объявления Столетней войны между Англией и Францией.
Тамерлан – средневековый полководец из Центральной Азии. Даже не скажешь, из какого государства. Он создал свое – как результат завоеваний. С 1370 года эмир некоего «государства Тимура». Человек эталонной, изуверской жестокости, необычной даже для той эпохи.
Сохранились изощренные следы его жестокости. Памятники из человеческих голов, человеческих тел, стены, которые он создавал из живых людей, прокладывая тела кирпичами и скрепляя раствором. Злодейство, выставленное напоказ. А ведь он жил на сто лет позже Чингисхана и уже не был дикарем-кочевником.
Правда, в судьбе нашего отечества он, не ведая о том, сыграл объективно позитивную роль, потому что громил Золотую Орду.
Надо попытаться понять, откуда взялся этот великий злодей. Он родился 7 мая 1336 года в селении Ходжа-Ильгар, к югу от Самарканда или в городке Кеш (есть разные сведения). Но все это – владения потомков одного из сыновей Чингисхана, Джагатая. В момент рождения Тимура – Чагатайский улус. Власть потомков Чингисхана в Центральной Азии была слаба. Номинально она признавалась, но реально осуществить ее они не могли.
Отец, Тарагай, как пишут современные авторы, из тюркизированного монгольского племени.
Таинственный древний народ – тюрки – не создал своей государственности. Но оставили язык. И известно, что Тимур говорил на тюркском языке, зная еще и персидский.
Отец Тимура находился на военной службе. Не очень знатный бей, так его называют. Богатства особого не было.
Никакого образования Тимур не получил и был, судя по всему, неграмотен. Но любил слушать, когда ему рассказывали об истории, когда читали стихи. Принял мусульманскую веру, чтил духовных отцов, шейхов.
Среди многочисленных жен у него была любимая – Улджай Туркан-ага, сестра эмира Хусейна, с которым у Тимура была дружба, союз… и которого он предал. Многие злодейские черты были характерны для него с самой юности.
Тимур был высокого роста, волосы светлее, чем у большинства соплеменников. Он отличался личной воинственностью и физической силой. А в ту эпоху физическая сила была важнейшим качеством лидера. Если большинство воинов могли натянуть тетиву лука до уровня ключицы, то Тимур натягивал ее до уха.
Позже, в 1362 году, он получил в сражении ранение в правую руку и ногу. Позднейшие реконструкции показали, что с тех пор она не функционировала или очень плохо сгибалась в локте.
Он стал командиром маленького разбойничьего отряда. Именно разбойничьего. Точнее всего об этом написал испанец Руй Гонсалес де Клавихо, путешественник, который был у Тимура как посланник кастильского короля Энрике III. Кастилия настолько опасалась в то время арабов, занимавших еще очень прочные позиции на Пиренейском полуострове, что, прослышав об энергичном правителе и завоевателе, сочла нужным отправить к нему посла.
По воспоминаниям Клавихо, сначала людей в отряде Тимура было совсем мало, три-пять нукеров – свободных воинов. Крошечная шайка. Клавихо пишет: «Он начал со своими нукерами отнимать у соседей один день барана, другой день корову… Наконец у него стало 300 всадников. Когда их набралось столько, он начал ходить по землям и грабить и воровать все, что мог. Для себя и для них. Также выходил на дорогу и грабил купцов».
У Клавихо не было оснований клеветать на Тимура. Ведь при его дворе он был встречен хорошо и вернулся к Энрике III с положительным ответом.
Важно, что у своих Тимур воровал осторожно, по чуть-чуть. А когда начал грабить всерьез, то грабил купцов, то есть людей пришлых, на большой дороге. Обычный разбой.
Шайку Тимура начинают нанимать эмиры и ханы, враждующие между собой. Регион переживает стадию феодальной раздробленности. Правители где-то далеко-далеко. Реальной власти нет.
Подобных разбойничьих шаек было немало, но выдвинулся именно Тимур. Ему помогла его трусливая и предательская позиция. В 1360 году в этих краях появился его тезка монгольский хан Тоглук-Тимур. Большинство мелких эмиров, которые реально не подчинялись центральной власти, разбежались. Пришел хан с войском – значит, лучше укрыться. А Тимур остался. И покорился. Предложил службу этому пришлому верховному правителю. Стал его правой рукой, визирем в захваченном Тоглук-Тимуром Мавераннахре. Очень ловко пристроился на службу.
Вскоре, однако, предал. Изменил сыну этого правителя, Ильясу-ходже, когда отец уже умирал. И сблизился с эмиром Хусейном, на сестре которого женился.
Четыре-пять лет, в 1361–1365 годах, Тимур и Хусейн воюют вместе. И вместе бегут от монгольского войска Ильяса-ходжи, хана, стремящегося покарать изменников.
Город Самарканд, центр Мавераннахра, брошен Тимуром, обречен на гибель. Его отстоял народ, во главе с лидерами – сербедарами. Это слово буквально означает «висельники». Удивительные люди, борцы за свободу от чингизидов. Они говорили, что скорее дадут себя повесить, чем покорятся. И вот когда Тимур бежал и скрылся, они вдохновенными речами подняли народ – и отстояли город. У сербедаров был свой вожак, Муалан-заде, человек, судя по всему, достойный, народом уважаемый.
Тимур и Хусейн вернулись в Самарканд, который отразил натиск чингизидов, и сказали народным вождям: «Мы готовы вам служить нашим мечом». Их приняли ласково, с радостью. А на второй день, когда сербедары пришли в ставку к эмирам, их схватили и перебили всех, кроме Муалана-заде, которого пощадил лично Тимур. Поэтому в глазах народа Тимур оказался лучше Хусейна. Он был очень хитер.
Следующим Тимур предал самого Хусейна. Тот, будучи очень жадным, затребовал какой-то части добычи с воинов, у которых в этот момент богатства было недостаточно. Воины роптали. И тогда Тимур сказал: «Я заплачу за вас». Хусейн был убит взбунтовавшимися войсками. Не Тимуром, но «в его присутствии». В этой элегантной формулировке, передаваемой источниками, заложена информация о коварстве Тимура.
В 1370 году Тимур становится реальным правителем большой группы земель Центральной Азии. Собирается курултай – съезд кочевой знати, некоторых оседлых феодалов и мусульманского духовенства.
Тимур предлагает: «Давайте я буду вами править» – и принимает титул эмира. Одновременно он лицемерно заявляет: «Все-таки вернемся к чингизидам. Закон есть закон». Имелась в виду власть безвольного, слабенького человека из рода чингизидов Суюргатмыша. Тимур всегда умел лгать, даже себе самому.
Показательно, что, запрещая, по установлениям чингизидов, пить вино, сам он страшно пьянствовал. Перед самой смертью, понимая, что умирает, он приказал перебить все сосуды, которые использовались на пирушках, в надежде, что Аллах увидит, как он покаялся. Так он лицемерил буквально во всем.
Итак, в 34 года Тимур стал правой рукой чингизида Суюргатмыша. Получил титул зятя – ближайшего родственника хана. Источники сообщают, что незадолго до этого к нему пришел добрый вестник, некий шейх из Мекки, сказал, что ему было видение: Тимур будет великим правителем – и по этому случаю вручил ему знамя и барабан – символы верховной власти. Но Тимур эту верховную власть лично не берет. Остается рядом с ней. И начинает готовиться к великим завоеваниям.
Масштабы поражают: Персия; Северная Индия, включая Дели (город разорен, разрушен и подчинен); Месопотамия с Багдадом; Сирия, которая принадлежала египетским мамлюкам; Грузия; несколько раз разгромлена Золотая Орда во главе с ханом Тохтамышем.
В 1402 году разбита Османская империя. Султан Баязид I, прозванный Молниеносным, и Тамерлан перед сражением переписывались, грозили друг другу. Есть в этом что-то от животного царства, где тоже принято перед дракой принимать угрожающие позы, шипеть, рычать, распускать хвост. Один из русских историков так говорит об этой переписке: «Они исчерпали… все возможности ругательств средневекового Востока, которые только можно себе представить».
Знаменитая битва при Ангоре потрясла современников. Баязид I был неплохим полководцем, с сильным войском. Битва была тяжелой. Султан оказался в плену. Не вполне понятно, какова была его дальнейшая судьба.
А Тимуру все было мало. Он умер во время похода на Китай.
Для нас актуальнее всего, конечно, западное направление его завоеваний. Видя в слабеющей, распадающейся Золотой Орде опасного врага, он двинулся на запад, чтобы продемонстрировать свой приоритет, преимущество перед монголами. Дважды (в 1391 и 1395 гг.) Тимур разбил войско хана Тохтамыша. Но дойдя до Ельца (это нынешняя Липецкая область, относительно недалеко от Москвы), вдруг развернулся и ушел.
Верующие на Руси связывали это с чудом иконы Владимирской Божьей Матери, которая как раз 26 августа 1395 года была перенесена в Москву и остановила Тамерлана. В честь этого чудесного события в Москве был поставлен Сретенский монастырь.
Ученые же пытаются найти более рациональное объяснение. И версий несколько. Говорят, например, что Тамерлан был обременен добычей. Вряд ли. Таких людей, как он, добыча не обременяет. К тому же основные сокровища были на Востоке, например, в Индии. Западная добыча для него не так привлекательна.
Даже свое войско он начал перестраивать на индийский манер. Ему нужны слоны, потому что он освоил войну на слонах. С боевых слонов он вел обстрел противника, используя приспособления, уже напоминающие огнестрельное оружие. Так что же могла дать ему Центральная Европа?
Вот на что еще надо обратить внимание. После победы над османами Тамерлан принимал послов из Европы. Он был очень горд, что к нему на поклон пришли послы Франции, Испании. И он задавал, например, такой вопрос: «А как поживает сын мой, король франков, живущий на краю света?» Для него Западная Европа – край света, причем самый дальний. Восточный край этим тюркизированным монголам ближе, понятнее, и сокровища Китая известны. Падение Пекина, захваченного и уничтоженного в свое время Чингисханом, было событием столь громадного масштаба, что память о нем жила. То, что несколько тысяч китайских девушек прыгнули со стены, чтобы не достаться монголо-татарам, – это забывается. А память о несметных сокровищах правителей Пекина жила.
На Руси же, по представлениям Тамерлана, вообще никаких сокровищ не было. Непонятные иконы чуждой религии ценности не представляли. Облачение русских священников, золотая церковная утварь… Да по сравнению с Востоком это ничтожно мало!
Тамерлан ушел, потому что ему не было интересно. Зачем ему край света? Центр его мира – это Дели и Пекин. Завоевать их почетно. А завоевать Елец – не почетно.
Именно в завоевательных походах Тимур продемонстрировал свое знаменитое зверство. С особенной жестокостью он приказывал расправляться с теми городами и землями, которые оказывали ему сопротивление. После завоевания одного из крупных городов он велел воинам принести ему конкретное количество отрезанных голов. Такой норматив.
И собралась кровавая пирамида из 70 тысяч человеческих голов.
Так он показывал, что все должны ему сдаваться, покоряться, быть его рабами. Он типичный полководец полукочевого традиционного общества. И вместе с тем, человек, не ведающий моральных ценностей, что для того мира естественно.
Его поступки нельзя оценивать с современной точки зрения. Например, те, кто им восхищается, пишут: он покровительствовал ремесленникам. Покровительством это можно назвать лишь с большой натяжкой. По приказу Тимура его слуги пригоняли из всех завоеванных земель мастеров: архитекторов, ювелиров и других, чтобы украшали его столицу – Самарканд. Он говорил: «Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звезды». Он застроил свою столицу прекрасными дворцами. И они до сих пор радуют глаз, эти сине-белые изразцы, эти здания, будто плывущие на фоне синего неба и редких белых облаков; они сами как белые облака. Это чудо! Но чудо, подаренное самому себе! Хотя с течением времени оно стало радовать многих.
Иногда кажется, будто природа пыталась потом что-то искупить. Ведь родной внук Тамерлана – Улугбек. Забавно, когда о нем пишут: «Непригодный полководец, но великолепный астроном». А как может быть иначе? Или полководец, или знаток и любитель звезд! Улугбек – выдающийся ученый своей эпохи.
Для нашей страны Тамерлан – это не только зло. Разгромив Тохтамыша, он оказал услугу Руси. По словам Т.Н. Грановского, если бы не Тамерлан, может быть, окончательное освобождение от Орды произошло бы не в 1480 году, а еще лет через 75. Однако никакой персональной заслуги Тимура в ослаблении Орды не было. Как и в том, что он отсрочил на полвека падение Константинополя. Разбив османов в 1402 году, он, так сказать, позволил Византии продержаться до 1453 – еще 50 лет.
Образ зла сопутствовал Тимуру и после смерти. Как известно, советская археологическая экспедиция во главе со знаменитым антропологом М.М. Герасимовым вскрыла его могилу в июне 1941 года, буквально накануне начала Великой Отечественной войны. Все это потом обросло легендами. Там якобы была надпись: «Если вы вскроете эту гробницу, на ваш народ падут неисчислимые бедствия».
В реальности экспедиция начала вскрытие гробницы не 21 июня, а значительно раньше. В археологии ничего не делается в один день. А Вторая мировая война уже шла – вне всякой связи с могилой Тимура.
Кстати, и во всех пирамидах египетских фараонов были ровно такие же угрожающие надписи. И об их вскрытии ходили подобные легенды. Например, экспедиция Говарда Картера открыла в 1922 году гробницу Тутанхамона. И вот участники экспедиции все поумирали. Но, во-первых, в очень разные сроки, во-вторых, большинство – естественной смертью.
Эти легенды интересны сами по себе. В современной популярной литературе пишут, будто останки Тимура были нетленны. Да ничего подобного! Тогда же, в 1941 году, М.М. Герасимов опубликовал статью, где описал нормальные тленные останки, фрагменты синего покрывала со звездами, вытканными серебром, которым был укрыт гроб. Любопытно, что Тимур лежал в ногах у некоего праведника шейха, то есть был захоронен не так почетно, как его потомки, как его сын и внук.
Почему? Да потому что Тимур продолжал ловчить и после смерти. Ему казалось, что если он ляжет у ног праведника, то, может быть, на Страшном суде тот за него заступится.
Сейчас Тимура вновь возвеличивают, превращают даже в национального героя. Это, безусловно, право тех народов, которые связывают с его образом свою историю. Но важно помнить, что это был предатель всего и всех, человек, который не выносил, когда бьются за свободу, жадный и жестокий правитель.
Похоже, предательство было у Тимура в крови. Причем предательство как вассальное, так и личное. Правда, его нынешние поклонники подчеркивают, что он очень любил свою семью, своих родственников. Но это как раз понятно. Они же для него опора, преемники. Каждый создатель гигантской империи надеется, что она будет жить вечно. История в этом отношении ничему не учит. Она много раз доказывала, что такие гигантские образования, где из единого центра управляют огромными землями, нежизнеспособны. Но правителю всегда кажется, что империю удастся сохранить в веках.
Люди любят завоевателей. Даже тогда, когда они выглядят невероятно жестокими. Что притягивает в этом? Пока до конца никто, наверное, не объяснил и не объяснит природу зла. Зло – это давно отмечено и церковью, и философами – не только отталкивает, оно полностью отвращает лишь редкие исключительно нравственные натуры. В нем есть какая-то магнетическая сила. У Тимура она была.
Его не зря называют «кровавый дух войны». Война, как известно, из нашего мира не ушла. Но поклоняться ее духам, наверное, торопиться не надо.
Жанна д’Арк Жизнь как шедевр
Жизнь Жанны д’Арк поразительна настолько, что некоторые сомневаются: а было ли все так на самом деле? Безусловно, было. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические источники: хроники, письма, судебные протоколы, сохранившиеся и во Франции, и в Англии.
О Жанне написаны целые библиотеки научных трудов и художественных текстов. Есть книга А.П. Левандовского в серии «Жизнь замечательных людей», есть прекрасная, хотя и очень небольшая книжка В.И. Райцеса «Жанна д’Арк. Миф и реальность», интересная работа двух французских ученых – Р. Перну и М. Клэн «Жанна д’Арк». В ней представлена жизнь Жанны, увиденная глазами людей, которые с ней встречались, а потом об этом рассказали или написали.
Об удивительной французской героине писал Анатоль Франс; крайне субъективно, но от того не менее интересно – Вольтер. И споры вокруг ее личности не утихают. Ее жизнь в истории составляет неполных три года – очень короткий срок. Но эти три года сделали ее бессмертной.
Она изумляла. Хотя совершенно неправильно создаваемое иногда школьными учебниками впечатление, будто она победила англичан. Нет, не только она, но и Франция в целом в те годы англичан в Столетней войне не победила. Это произошло позже. Неверно и то, что Жанна д’Арк была народной героиней, возглавила народное движение. Нет, ничего подобного. И этого она не делала. Она была полководцем короля.
Жанна родилась предположительно 6 января 1412 года. Как всегда в Средние века, дата рождения неточна. Зато трагически бесспорно, что эту совсем еще юную девушку сожгли 30 мая 1431 года на площади в Руане.
После ее смерти не раз возникали скандальные слухи, появлялись самозванки, называвшие себя ее именем. Это закономерно. Жанна – слишком чистый, слишком светлый образ, кажущийся идеальным. А у людей, видимо, есть в природе нехорошая потребность – бросить в эту чистоту ком грязи.
Как ни печально, первым начал бросать грязь великий Вольтер. Ему это казалось нелепостью – девушка (девственница в более точном переводе с латыни), символ чистоты, в окружении солдат. Но если вглядеться внимательно в ее жизнь, всему находится объяснение.
Родом Жанна из деревни Домреми. По происхождению она крестьянка, пастушка. Ее фамилия – Дарк; написание д’Арк, свидетельствующее о дворянстве, появилось гораздо позже. Некоторым из тех, кто так яростно нападает сегодня на Жанну, просто не хочется признавать историческую роль человека из народа. Вот почему не раз подвергали сомнению ее крестьянское происхождение. Возникают версии о том, что она побочная дочь развратной королевы Изабеллы, отправленная в деревню младенцем.
Между тем, на процессе реабилитации Жанны д’Арк была собрана масса свидетельств. Очевидцы рассказали о ее детстве, юности, о том, как она принимала участие во всех деревенских праздниках, когда девушки водили хороводы.
Жанна родилась во время Столетней войны, за три года до возобновления этого великого противостояния двух ведущих западноевропейских королевств. Официально война шла с 1337 года. Было несколько крупнейших сражений – и все неудачные для французов. В 1340-м – разгром французского флота при Слейсе, в 1346-м – разгром французской армии в пешем сражении при Креси, в 1356 году – победа меньшего по численности английского отряда под командованием Черного принца Эдуарда над войском французского короля при Пуатье. Французская армия позорно бежала, король оказался в плену. В стране крепло ощущение национального позора.
Сразу после битвы при Пуатье в народе появилась идея человека из простой среды, который принесет спасение. В одной хронике есть рассказ о некоем крестьянине, который пересек всю Францию. Дело в том, что ему во сне явился ангел и велел идти к королю, передать, чтобы тот не принимал боя у Пуатье. Как ни поразительно, крестьянин действительно добрался до короля, попал в его шатер. Король выслушал и сказал: «Нет, я рыцарь! Сражение отменить не могу».
В 1360 году был заключен тяжелейший для Франции мир в Бретиньи: по нему примерно половина французских земель находилась под властью Англии. Возникла угроза самому существованию французского королевства и династии Валуа – побочной ветви Капетингов, правивших страной с IX века. Это древнее, стабильное, сильное, некогда прочное королевство могло просто исчезнуть!
В 1369 году война возобновляется. Замечательный французский король Карл V Мудрый и его полководец Бертран Дюгеклен одерживают победы. Территория Франции практически освобождена, но в руках англичан остались важнейшие французские порты на побережье Бискайского залива и Ла-Манша (Бордо, Байонна, Шербур, Брест и Кале). Перелом в войне кажется окончательным.
Но в Англии в 1399 году свергнут и убит Ричард II. К власти приходит новая династия Ланкастеров, которые стремятся доказать, что они не узурпаторы (в действительности они именно узурпаторы).
Генрих IV Английский только и живет этой мыслью – как бы отделаться от образа узурпатора. Его сын, Генрих V, человек храбрый, воинственный, совершенно разумно решает возобновить войну с Францией. Кто вернет эти владения, уже побывавшие в руках англичан, тот будет таким великим героем, что тень узурпатора растает. В 1415 году он высаживает английское войско на севере Франции и наносит при Азенкуре противнику очередное поражение, такое страшное, что чувствуется: Франции почти нет. А 21 мая 1420 года в городе Труа подписан договор, согласно которому после смерти правящего французского короля Карла VI королем объединенной Англии и Франции станет Генрих V Английский.
Наследник же французской короны – дофин Карл – приговаривается к изгнанию. В тексте договора не указано, но все знают почему. Потому, что сама его мать Изабелла Баварская распускает слухи (или, по крайней мере, не отвергает их), что это не законный сын короля Карла VI. А значит, он не имеет прав на престол. Идея законной передачи власти по крови уже очень прочна в Западной Европе.
Карл VI был психически болен. Он чувствовал себя стеклянным сосудом, а временами впадал в полное безумие. Начиная с 1401 года он уже редко приходил в себя – правила фактически Изабелла Баварская. Вряд ли король понимал, какой договор он подписывает.
Итак, Франции уже практически нет. Причем многие крупные феодалы признали Генриха V будущим французским королем. Некоторые стали его союзниками, как, например, герцог Бургундский.
А тем временем девочка Жанна подрастала в своей деревушке. Ей было 13 лет, когда она впервые услышала голоса святой Екатерины, святой Маргариты и святого Михаила, которые стали передавать ей волю Божью, связанную со спасением страны. То, что она услышала голоса, совсем не уникально. Есть такое явление – средневековое визионерство. Видения, вещие сны, голоса свыше вполне реальны для человека Средневековья, с его неспособностью и нежеланием разделять непроходимыми границами жизнь небесную, потустороннюю, и здешнюю, земную. Для него все это цельно, едино. Например, при дворе дофина Карла, который не отправился в изгнание, а засел на юго-западе Франции, охотно принимали и любили всяких колдунов и пророков. Это вообще фигура не такая уж необычная для эпохи.
Так что представителей иного мира люди действительно видели, особенно в состоянии сильного возбуждения. А Жанну, как и многих других, тревожило, что идет бесконечная война. Бургундцы (по соседству с той областью, где она живет) вступили в союз с англичанами. Молва говорит, что англичане захватили всю Северную Францию, у них практически вся Нормандия, Париж, они подошли к Орлеану. Если они возьмут Орлеан – ворота в Южную Францию будут открыты, а там дофин, который объявил себя французским королем.
Когда заключался договор в Труа, предполагалось, что старый, с точки зрения той эпохи (ему за 50), и совершенно больной Карл VI должен скоро умереть, а молодой Генрих V – жить, объединить короны и править. Но в 1422 году они умерли оба, один за другим.
Юридически английский король уже властвовал во Франции. Но французы не подчинились! Дофин Карл объявил, что он законный наследник, а его сторонники короновали его в Пуатье. Это была не та традиционная коронация, которая, согласно многовековой традиции, должна проводиться в Реймском соборе, где хранится священный елей для помазания королей. И все-таки к Карлу устремились надежды тех, кому было бесконечно дорого уже родившееся понятие Франция. Не вполне законный король стал центром патриотических сил.
И вот шестнадцатилетняя девочка Жанна в мае 1428 года в сопровождении дальнего родственника приходит к коменданту ближайшей крепости Вокулер Бодрикуру и говорит, что ей необходимо отправиться к дофину Карлу, потому что у нее поручение от Бога. Во-первых, она должна встретиться с дофином и получить право снять осаду с Орлеана. Во-вторых, добиться коронации наследника в Реймсе. Божья воля – признать законность его происхождения. Большей моральной поддержки ему в тот момент оказать было нельзя. Ведь для него главный вопрос – чей он сын, короля или нет.
Сначала Бодрикур отказался, сочтя все это полным бредом. Но девочка так и стояла у него под окнами в красном платье (кажется, оно было у нее единственным).
Потом комендант крепости выслушал ее еще раз. Говорила она просто, но что-то гениальное было в ясности ее ответов, в ее убежденности.
А Бодрикур, может быть, слышал, что при дворе дофина любят пророков. Это давало ему шанс: а вдруг и его заметят, если он поможет этой девушке. Хотя не исключено, что он ей правда поверил. От нее исходило что-то необычайное – вскоре в этом убедились тысячи людей.
Жанне дали сопровождающих, и она отправилась к Карлу, у которого получила аудиенцию. В зале, куда ее привели, было много людей.
Карл хотел, чтобы она сама поняла, кто здесь дофин. И она его узнала. Как это удалось простой крестьянке? С психологической точки зрения даются различные объяснения. Например, у Карла должны были быть самые испуганные, тревожные глаза.
Так или иначе, между дофином и Жанной состоялся короткий разговор с глазу на глаз. И после этого он согласился, чтобы ее проверила специальная комиссия, которая удостоверится, что она не является посланницей сатаны.
В Пуатье собралась комиссия богословов и беседовала с Жанной. Проверили и то, что она дева. Это было особенно важно. В массовом сознании существовала такая идея: женщина губит Францию, а девушка спасет.
Откуда такое представление? Страна монархическая, двигается к абсолютизму, растет роль королевского окружения. Несколько сюжетов времен Столетней войны народ связал с дурным влиянием женщин на королей. Например, в 1347 году Филипп VI Валуа неожиданно появился под стенами осажденного англичанами Кале, но не помог, а шесть граждан Кале вышли с веревками на шее и их хотел казнить английский король Эдуард III. По мнению народа, только дурные советы королевы Жанны могли к этому привести.
Супруга Карла VI – Изабелла Баварская. Иностранка, что уже нехорошо. Муж безумен. Идеальное поведение жены при этом вряд ли возможно. Трудно сказать, была ли она такой уж развратной или просто политически выбрала себе в сторонники герцога Орлеанского. Договор в Труа тоже вдохновляла Изабелла. Она уговорила мужа подписать этот страшный документ. И молва твердила: женщины губят Францию.
А спасет девушка. У этих представлений библейские истоки: Богоматерь – символ чистоты, непорочности.
В самые трудные минуты жизни христиане обращаются к ее образу. К моменту появления Жанны при дворе дофина Карла в хрониках была уже масса записей о Деве. Люди ждали ее появления. Это случай массового эмоционального верования – проявление «коллективного бессознательного», как называли это представители французской исторической Школы Анналов.
Жанна возглавила снятие осады с Орлеана. Она сражалась мужественно и ничего не боялась. Маленькая фигурка в светлых доспехах, которые изготовили специально для нее, первой шла на штурм небольших крепостей вокруг Орлеана. В этих крепостях (их называли бастидами) засели осаждавшие город англичане. Жанна была идеальной мишенью для них. При взятии бастиды Турели она была ранена, стрела попала в правое плечо. Жанна упала, к восторгу своих врагов.
Но она сейчас же потребовала, чтобы стрелу извлекли, и снова ринулась в бой. И все-таки ее смелость – не главное. Ее противники англичане тоже средневековые люди. Они верят, что Дева способна творить чудеса. Записей о таких «чудесах» сохранилось немало. Так, когда Жанна с небольшой охраной направлялась ко двору дофина, надо было переправляться через реку, но поднялся сильный ветер. Жанна сказала: подождем, ветер переменится. И ветер изменил свое направление. Могло такое быть? Конечно! Но люди все объясняют чудом, в которое им хочется верить. Присутствие Жанны породило невиданное воодушевление французского войска. Солдаты и их командиры (например, свято веривший в миссию Девы герцог Алансонский) буквально переродились. Они выбивали англичан из бастид, разрушая кольцо осады. Все знали, что сказала Жанна о пути, который ведет к освобождению Франции: «Солдаты должны сражаться, а Бог дарует им победу».
Совсем противоположные перемены происходили в английском войске. Англичане были потрясены внезапной переменой военного счастья, начали верить в божественную волю, выступающую на стороне французов. Возник слух, что еще в начале осады Бог указал англичанам на необходимость уйти из-под стен города тем, что допустил нелепую гибель главнокомандующего, знаменитого полководца графа Солсбери. Овеянный славой популярный военачальник погиб не в сражении. Он был убит ядром во время перестрелки у стен Орлеана.
Сменивший Солсбери гораздо менее авторитарный командующий граф Саффолк принял решение увести английское войско.
8 мая 1429 года осада с Орлеана снята, город освобожден. Первый пункт поручения, полученного Жанной свыше, выполнен. С этого времени Жанна – официальный полководец короля. Она в своих светлых доспехах, с мечом, который чудесным образом найден в алтаре, с белым знаменем – символом чистоты. Правда, во Франции белый цвет еще и символ траура.
Остался второй пункт. И Жанна ведет короля Карла VII к Реймсу. Ей открывают ворота занятых англичанами городов, выносят ключи, толпы людей выбегают навстречу. Если же этого не случается, ее войско принимает бой. Жанну окружили полководцы, которые поверили в нее, – прекрасные воины, имевшие большой опыт. И соединились две эти силы – духовная и чисто военная.
В Реймсе состоялась коронация. Сколько картин написано на эту тему! Каждая эпоха изображает это событие по-своему. Но, видимо, можно не сомневаться, что Жанна стояла рядом с королем, теперь законным Карлом VII. Она ехала вместе с ним по улицам Реймса, и в криках толпы «Да здравствует Дева!» звучало чаще, чем «Да здравствует король!». Не всякий человек это выдержит, особенно такой, как Карл, жаждущий самоутверждения после долгих лет унижений.
Наверное, в этот момент победы и славы Жанне и надо было вернуться домой. Но она не хотела. Известно ее высказывание: «Я должна биться до конца. Это благородно». Она искренне в это верила. И затеяла взятие Парижа.
Вот начало трагедии. Не потому, что это было невозможно в военном отношении. Просто к тому времени король стал уже ей враждебен: он не желал, чтобы Париж был освобожден руками какой-то крестьянки.
Показательно, что Жанна ничего не попросила у короля для себя лично, – лишь освобождения от налогов для жителей ее родной деревни. И даже эта привилегия была дана не навсегда: потом было изменено районирование, уточнились границы – и все, крестьяне из Домреми все преимущества потеряли.
Для себя же Жанне ничего не было надо – только биться дальше. Хотя вообще-то в этот момент она перешла к той части своей деятельности, которая ей свыше не предписывалась.
Состоялась битва за Париж. Англичане отчаянно сопротивлялись. По одной из версий, до них дошли слухи, что Жанна утратила девственность и теперь им не страшна. Но главное – в разгар штурма король приказал трубить сигнал отбоя. Полководцы, даже те, кто любил Жанну, не могли не подчиниться приказу короля. Штурм не удался, а Жанна была ранена в бедро. Враги злорадствовали: она не является неуязвимой! Но она никогда себя неуязвимой и не объявляла.
После этой неудачи Жанна почувствовала, что все изменилось, ее вытесняют: не слушают, не приглашают на военный совет. И в апреле 1430 года она покидает двор. Она присоединяется к войску, которое отбивает у англичан замки и крепости в долине реки Луары.
23 мая 1430 года под городом Компьен она захвачена в плен. Перед ней опустилась решетка ворот, когда она возвращалась в город после вылазки. Она попала в руки бургундцев. В декабре они перепродали ее англичанам. Неизвестно точно, была ли Жанна предана под Компьеном. Зато не вызывает сомнений, что ее предали раньше – под Парижем, как предали и позже, когда не попытались отбить или выкупить у англичан.
Англичане решили судить Жанну, обвинив ее в том, что она служила дьяволу. Карл VII побоялся предложить за нее выкуп. Судя по всему, он допускал, что она дрогнет, отречется, признает, что она от дьявола. Тогда из чьих же рук он получил корону?
Тяжелейший процесс продолжался с января по май 1431 года. Расследование возглавлял французский эпископ Кошон, в переводе с французского – свинья. С тех пор слово «кошон» связывают во Франции с темой национального предательства. Неправедный церковный суд признал ее виновной в ереси.
30 мая 1431 года ее казнили.
Ей удалось сохранить свои убеждения, веру в то, что она посланница Бога, хотя был момент, когда она дрогнула. Она готова была признать, что грешила, потому что носила мужской костюм. На суде она очень умно отвечала, «находясь постоянно среди мужчин, где гораздо приличнее быть в мужском костюме».
Через двадцать с лишним лет, в 1456 году, Карл VII, который продолжал воевать с англичанами и вошел в историю как Победитель (к 50-м годам XV века англичане были вытеснены из Франции), организовал процесс реабилитации Жанны д’Арк. Теперь ему надо было закрепить в памяти поколений светлый образ Девы. Были вызваны многочисленные свидетели, которые рассказали о ее жизни, ее чистоте. Вынесен приговор – аннулировать осуждение Жанны д’Арк как необоснованное. А в 1920 году католическая церковь причислила ее к лику святых.
Сегодня мы понимаем, что именно во время короткой жизни Жанны Д’Арк сложилась и встала на ноги французская нация. А также французская монархия. И Вольтер не любил Жанну именно потому, что видел в ней отчаянную поборницу монархии, не понимая, что в Средние века король и нация, король и Франция – это одно и то же. А Жанна навсегда подарила нам прекрасную светящуюся точку своей жизни, неповторимой, как шедевр искусства.
Христофор Колумб Открытие нового мира
В студенческой песенке поется: «Колумб Америку открыл – страну, для нас совсем чужую». Вроде бы все очевидно. На самом деле вокруг этой личности очень много легенд. Хотя сохранились судовой журнал, письма… Записки о Колумбе оставил его старший сын, который очень его любил и откровенно идеализировал. Есть книга священника Лас Казаса, очевидца освоения Америки, но он почти буквально следует тому, что раньше утверждал сын великого путешественника. Подчас в историческом знании изобилие документов вопроса не проясняет, а даже несколько его затуманивает.
Вот, казалось бы, самое простое – имя. В Италии это Коломбо, в Португалии – Кристобаль Колон, в русской транскрипции – Христофор Колумб. Коломбо (по-итальянски – «голубь») – очень распространенная фамилия. Отсюда существующие по сей день сомнения: а тот ли Колумб отправился в знаменитое путешествие? Он ли это?
Год рождения Кристобаля – 1446 или 1451. Ранние страницы его биографии абсолютно туманны. Отец, Доменико Коломбо, – чесальщик шерсти в генуэзском предместье. Мать Сусанна, дочь ткача.
Надо сказать, что чесальщики шерсти в Италии XV века – одна из низших категорий трудящихся. С XIV века известно о протестных выступлениях представителей этой малоуважаемой, низкооплачиваемой профессии. Но отец Колумба, кроме этого, торговал сыром и вином, служил привратником у городских ворот, был посредником при продаже недвижимости. Семья, в которой было четверо детей, считалась зажиточной. Сохранился принадлежавший им двухэтажный дом.
Долгое время считалось неоспоримым фактом, что Колумб происходил из семьи крещеных евреев. Но подтверждений этому нет. Более того, трудно представить себе, чтобы в таком случае он искал счастья на Пиренейском полуострове. А он со временем обосновался в Португалии, не менее католически фанатичной, чем Испания.
Мы не знаем точно, окончил ли он школу. Считается, что в молодости он был вообще неграмотен. И тем более странно, что в зрелые годы, когда он появился при дворах Португалии и Испании, это был человек, говоривший на нескольких языках и писавший на старокастильском стихи религиозного содержания.
Как он связан с морем? По одним источникам, с 10, по другим – с 14 лет. В зрелые годы, в 1501-м, он писал о себе королю и королеве Испании: «С младых лет я отправился в море. И продолжаю плавать до сих пор. Искусство морехода толкает тех, кто им занят, к знаниям и тайнам этого мира. Прошло 40 лет, и я побывал всюду, где можно плавать». Красиво! Надо сказать, он вообще стремился говорить о себе в подобных выражениях.
Доподлинно известно, что в возрасте примерно 20 лет он бывал на греческом острове Хиос: сохранились нотариальные акты и торговые документы. Видимо, отец к этому времени скопил кое-какой капитал и стал торговать. Ведь Северная Италия – это крупный центр торговли. Как компаньон отца Кристобаль продавал мастику – смолу мастиковых деревьев, которая применялась в медицине и весьма ценилась.
Некоторые авторы считают, что он плавал и в северных морях, в районе Исландии и Гренландии. Но вряд ли там требовалась мастика. Поэтому возникает закономерный вопрос: а не пират ли он? Понятно, что никто не «плавал» просто так, всегда была цель. Например, разбой, прибрежное пиратство. Но ни капитаном, ни хозяином корабля Кристобаль тогда не был.
А потом, в 70-80-х годах XV века, он вдруг появляется в придворных кругах Португалии и Испании будто совершенно иным человеком. Причем он женился на Филиппе Монис из уважаемой семьи, что помогло ему проникнуть в определенные круги. Он не только образован, но и появился с тем, что сегодня называют модным словом «проект». Его проект – открытие нового пути в Индию, такого, чтобы не пришлось огибать Африку. Для итальянской торговли того времени это вопрос жизни и смерти, потому что Средиземноморье было блокировано Османской империей. Из-за этого хирела торговля, которая прежде давала огромные доходы. Такова одна из причин, заставивших испанскую корону поддержать замысел Колумба.
Но были и другие мотивы. В Западной Европе в очередной раз ждали скорого конца света. Поводов для этого было более чем достаточно. Сначала конец света должен был наступить в 1000 году, потом к этой круглой дате прибавили 33 года жизни Христа, потом перенесли Страшный суд на 50-е годы XI века…
Через несколько столетий идея возродилась. XV век – время больших потрясений, прежде всего в религиозной сфере. В этом смысле очень страшная ситуация на Пиренейском полуострове… Португалия и Испания провели 500 лет в завоеваниях, постоянно продвигаясь на юг и оттесняя арабов. Это движение вошло в историю под именем Реконкисты – то есть отвоевание Пиренейского полуострова у арабов. В сущности, эти две страны жили полтысячи лет в состоянии внутренней колонизации и очень привыкли к тому, что у них постоянно прибавляются земли и богатства. Кроме того, это было движение под религиозным лозунгом, католическим, и оно постепенно переросло в борьбу со всяческим инакомыслием и другими конфессиями. Страшные побочные явления: истребление евреев на Пиренейском полуострове, изгнание всех нехристиан, насильственное обращение оставшихся в христианскую веру, полыхающие костры инквизиции. Падение Константинополя, захваченного в 1453 г. турками, – это еще и крушение христианской империи. Страшное время. Все это рождает мысль о надвигающемся конце света.
А Страшного суда боятся все, ведь праведников очень мало. Испанская королева Изабелла, которая поддержала Колумба, была набожной до фанатизма. И может быть, открытие новых земель она связывала со спасением от будущей катастрофы.
Предположительно проект Колумба опирался на переписку с крупным итальянским ученым Паоло Тосканелли, который выполнил расчеты примерных размеров Земли. То, что Земля – шар, в XV веке было уже очевидно, хотя в прошлом столетии за эту мысль еще сжигали на кострах. Идея Колумба состоит в том, что, если плыть все время на запад, окажешься в конце концов на востоке – в Китае или Японии.
Замыслы Колумба были связаны с идеей обогащения. Этот человек всю жизнь стремился к богатству, мечтал о нем, потом думал, что достиг его, покорив невиданный, неведомый мир. Но на самом деле по-настоящему богатым он так и не стал.
Колумб обратился со своим проектом к португальскому королю Жуану II, и не случайно именно к нему. Португалия больше других стран «выдвинута» в океан, она на краешке земли – это идеальный старт для того, чтобы в эти неведомые океаны, о которых все больше и больше думают в XV веке, наконец-то двинуться.
Кроме того, Жуан II интересовался математикой, естественными науками, создал математическую «хунту» – совет, совещательный орган для обсуждения теоретических вопросов навигации и географии. (Кстати, советники по математике были и при дворах итальянских правителей: они ведали строительством, оборонительными и другими инженерными сооружениями.) Колумб стал посещать эти математические занятия.
Но в расчетах своих он, несмотря на это, видимо, в итоге очень сильно ошибся. Он считал, что плыть до Индии западным путем, по крайней мере, в два раза меньше, чем это было в реальности. И если бы не эта ошибка, он, может быть, и не решился бы на такое страшное путешествие.
Колумб отдал свои расчеты на рассмотрение португальским математикам, и они пришли к выводу, что проект фантастичен, осуществить его нельзя.
Тогда около 1485 года он перебрался вместе с сыном в Испанию в надежде, что там найдет понимание. Его приняли, его выслушали, он был представлен ко двору. 1 мая 1486 года состоялась аудиенция у королевы Изабеллы.
Это интересная историческая фигура. Красавица блондинка вся в драгоценностях – и фанатичнейшая католичка. По легенде, она заложила свои драгоценности, чтобы снарядить экспедицию Колумба. Правда, без драгоценностей ее никто ни разу не видел. Может быть, она их заложила и продолжала носить?
Так или иначе, она приняла Колумба благосклонно. Но быстрого положительного решения не последовало. Он ждал еще семь долгих лет, в течение которых он чуть было не собрался бежать во Францию и там искать счастья.
Испанские католические священники в конце концов одобрили проект Колумба, видимо, потому, что это был знак скорого конца света. Свято веря в собственные религиозные предначертания, они не очень хотели лично участвовать в грядущем Страшном суде. Так что поиск иного мира на земле должен был их вдохновить. Причем эти соображения, как нередко бывало в ту эпоху, прекрасно сочетались с материальными расчетами. Траты были велики, казна нуждалась в средствах, а слухи о богатствах Индии, изобилии драгоценных камней, золота, о дорогих пряностях распаляли воображение.
Колумба поддержали некоторые богатые люди: Пинелли, Сантахель и другие. Они вложили в это предприятие деньги и потом действительно разбогатели.
28 мая (по другим источникам 3 августа) 1492 года три каравеллы, «Санта Мария», «Пинта», «Нинья», вышли из Полосской гавани, взяв курс на Канарские острова. В экспедиции участвовали 88 человек. Списки сохранились.
В этом, первом плавании команда состояла из добровольцев. В дальнейшем дело с этим обстояло все хуже и хуже. Результаты первой экспедиции не вызвали большого энтузиазма. Те, кто вернулся, выглядели крайне изможденными, были больны тяжелыми болезнями. И в последнее плаванье Колумб отправился просто со всяким сбродом, в основном с преступниками, которым давалось помилование, если они примут участие в экспедиции. Вели они себя в походе соответственно.
А эти первые 88 человек в основном плыли добровольно, считая, что обогатятся, если уцелеют. Отчаянный народ!
Они везли бусы, бубенчики, разноцветные колпаки в расчете на то, что будут раздавать все это местным жителям.
К октябрю Колумб добрался до Багамских и Антильских островов. Он считал, что до Индии совсем недалеко, просто по пути встретились острова, где отныне утверждается власть испанских королей.
Он побывал на Кубе, на Гаити – и везде сходил на землю очень торжественно, а ему навстречу шли эти нагие люди, и у него возникали сомнения: а люди ли они вообще? Скорее всего, он аборигенов людьми не считал. Устраивалась торжественная церемония, большинство спутников Колумба появлялись в кирасах, в полном вооружении. Местным жителям торжественно объявляли, что отныне их земля принадлежит испанским наихристианнейшим королям. Устанавливались громадные кресты, аборигенам сообщали, что они будут теперь верить в нового бога.
Особого сопротивления со стороны туземцев Колумб не встретил. Они и новому богу согласны были молиться – пусть будет еще один, у них же много всяких богов. Встречали чужеземцев, как правило, очень хлебосольно, очень добродушно. Ужасы были впереди. Никто еще этого не понимал.
Колумб в своих дневниках назвал местное население «индейцы», полагая, что находится неподалеку от Индии. Так, по ошибке, подарил он нам это слово. В его записях отмечено: индейцы со временем станут очень хорошими рабами испанских монархов. В этом он глубоко ошибался. Как раз из коренного населения Америки рабы не получились.
Предстояла борьба на уничтожение. Через совсем небольшое время индейцев стали обращать в христианство огнем и мечом. Но рабов из них так и не сделали. Рабов привезли позже – из черной Африки.
А пока Колумб увидел-таки признаки огромных богатств: на многих аборигенах были золотые украшения. Он приказал схватить человек шесть, чтобы отвезти их в Испанию прямо в украшениях, как доказательство того, что в этих землях можно найти очень много сокровищ. Некоторые из плененных индейцев убежали, нескольких, самых слабых, ему удалось довезти.
Прибытие Колумба в Испанию 15 марта 1493 года было триумфальным. Путешественники побывали в неведомом мире, привезли неведомых существ! Они нашли золото! Состоялся пышный прием во дворце в Барселоне.
А потом дело пошло хуже. 25 сентября 1493 года было снаряжено и началось второе плавание. Деньги на экспедицию получены за счет конфискаций у евреев. То есть все зиждилось на горе и насилии. Теперь с Колумбом шло 1500 человек, в основном бандиты. А в тех землях, куда они плыли, почва для разбоя была прекрасная. Так что никак нельзя сказать, что Колумб – просто отважный мореплаватель, вечный скиталец (хотя он и назван в честь Христофора, по преданию перенесшего Христа через реку, покровителя отважных путешественников).
Участники второго похода были недовольны. Эти жадные люди хотели легкой добычи, и очень много. А ее было мало. Золото приходилось собирать по крупицам. А уже понеслась молва, что португальцы тоже готовят экспедицию. Действительно, скоро Васко да Гама и его совершенно бандитская экспедиция захватят очень много добычи и решительно превзойдут Колумба.
Третье плаванье снаряжают 30 мая 1498 года с указанием привезти много, как можно больше золота. И вот Колумб на тех же островах (а он только в последнем путешествии достигнет американского континента, а именно – Панамского перешейка). Он грабит, применяя все более жестокие методы. Какую-то долю он оставляет себе, и все подозревают, что слишком много. Наконец из Испании направлена ревизия, чтобы проверить деятельность Колумба.
Для него это полная неожиданность. Он был по-своему наивен. Отправляясь в первое плаванье, писал царствующим супругам Изабелле и Фердинанду: «После высылки всех евреев из ваших владений вы повелели мне снарядить сильный флот, возвели меня в дворянское звание, назначили меня адмиралом моря и океана, пожизненным вице-королем и губернатором всех островов и земель, которые я открою, и утвердили, что мой старший сын будет мне наследовать титул и так на все времена». И вдруг – ревизия!
Проверкой руководит личный недруг Колумба, человек, который с самого начала был против этой экспедиции, некто Франциск Бобадилья. Явно ожидался предвзятый суд. А в это время Колумб уже достиг западного берега Бразилии и грабил побережье. Он не добрался, в отличие от своих последователей, до империй майя, ацтеков, где были главные залежи золота. Здесь, на островах и побережье, жили небольшие племенные группы, которые не имели громадных сокровищ, не накопили горы золота.
Ревизия сделала выводы очень быстро. В 1499 году было объявлено, что Колумб и его братья Диего и Бартоломео, которые были с ним, арестованы. Причем они не просто арестованы, а закованы в кандалы и так, в цепях, отправлены в Испанию.
По одной версии, как только корабли отплыли, узникам предложили снять цепи, но Колумб сказал: «Нет! Я желаю предстать перед своими благодетелями королем и королевой Испании вот в этом виде, чтобы они видели всю несправедливость». Но может быть, никто и не предлагал снять цепи; арестованных довезли до берегов Испании и уже там, у берегов, расковали, чтобы не получилось слишком большого контраста с первым триумфальным возвращением Колумба.
Обвинения довольно скоро были сняты. Выяснилось, что никаких громадных присвоений Колумб не допускал. Однако энтузиазм в отношении его путешествий абсолютно угас. И даже отобранные после ревизии титулы ему так и не вернули. К тому же появился Васко да Гама с огромными богатствами, которых Колумб так никогда и не добыл.
Последнее плавание состоялось в 1502 году. Особенно известен один его эпизод. На Ямайке аборигены отказывались поставлять путешественникам продовольствие. Колумб, пользуясь их невежеством, заявил, что испанский бог, который сильнее их богов, украдет Луну. Он просто знал, что будет полное лунное затмение. И когда Луна действительно исчезла на некоторое время, индейцы бросились к ногам Колумба и принесли ему все бесплатно.
В 1504 году умерла королева Изабелла, главная покровительница Колумба. Он оказался в трудном положении. У него многое не ладилось. Умерла жена, он сошелся с другой женщиной, некой Беатрис Энрикес. Она родила ему второго сына, Фернандо, которого он вроде бы любил. Но второй раз так и не женился. Ведь он вице-адмирал и даже «вице-король», а она из простых. Мелкое честолюбие!
Мелочные черты его натуры в сочетании с величием его плавания создают противоречивый образ. Колумб не был напрочь лишен совести. Вот отрывок из его завещания, где он просит своего первого сына, наследника имущества и титулов (которые вроде бы должны были вернуть): «Беатрис Энрикес, мать дона Фернандо, должна быть возведена в подобающий ее положению ранг, чтобы жить почитаемой и в достатке, так как я ей обязан многим. Я поступаю так, чтобы снять с моей души тяжкий гнет и успокоить совесть, чьи укоры меня терзают».
Колумб умер в Испании в 1506 году. В 1542-м тело перевезли на Гаити, а в 1795 году, когда остров перешел к Франции, – на Кубу, в Гавану. В 1898 году, после испаноамериканской войны, прах перевезен в Испанию, в Севилью. И во всех этих перемещениях он был утрачен.
Кто же такой Колумб? Сам он не был бандитом, но, в сущности, готовил почву для дальнейших зверств колонизаторов на американском континенте. Не был он и ученым.
Его не отнесешь к числу отважных открывателей земель, хотя он, безусловно, открыл Америку. Правда, названа она не в его честь, а в честь Америго Веспуччи, который этот континент тщательно описал.
Сегодня модно выражать сомнение в том, что Колумб – открыватель Америки. Пишут, что задолго до него, в IX веке, там побывали викинги. Это бесспорно, поскольку остались археологические следы, например затопленные корабли с амфорами на борту. Вероятно, добрались до американского континента и китайцы. Так что ореол единоличного открывателя Америки на рубеже XX и XXI веков сделался несколько размытым. Но это не значит, что о его заслугах пора забыть. Каким бы ни был Христофор Колумб – он совершил свои великие плавания, и они знаменовали вступление средневековой Европы в Новую эпоху. И мы должны сегодня смириться с тем, что в эпоху великих географических открытий новые земли открывали отнюдь не только прекрасные романтики.
Генрих II Плантагенет Начало династии
Генрих II – один из великих английских правителей.
И один из великих правителей Европы. Именно так оценивает его современная английская историография. Его нередко называют величайшим английским королем. Но был ли он англичанином? По рождению Генрих – граф французской области Анжу.
Однако Генриха II ценят в Англии не за происхождение, а за дела. Его жизнь не похожа на учебник истории. Это роман, причем роман общеевропейского масштаба. Войны, приключения, страсти – все было в этой удивительной жизни.
Плантагенет – прозвище Генриха, доставшееся ему от отца, графа Анжуйского Жоффруа. Оно образовано от названия растения plantaga – подорожник. Его листьями отец любил украшать свой шлем, сражаясь на турнирах. Генрих II сохранил эту традицию. А его прозвище дало имя династии, которая оставалась на английском престоле 245 лет, до 1399 года, когда был низвергнут последний Плантагенет Ричард II.
Генрих родился 5 мая 1133 года во Франции. Его мать, Матильда, была внучкой Вильгельма I Завоевателя. Она побывала замужем за германским императором Генрихом V, овдовела, и затем вышла замуж за Жоффруа, но никогда не забывала о том, что носила императорскую корону.
К тому же Матильда являлась единственной наследницей своего отца, английского короля Генриха I. Правда, она женщина, а права женщин на престол всегда оспариваются. Но все-таки призрак этой второй короны не переставал тревожить ее воображение. А тем временем рыжеволосый, очень подвижный мальчик Генрих, в те годы даже не принц, и не помышлял ни о каком престоле.
Анжу – область плодородных и изобильных земель в самом сердце Франции, в нижнем течении Луары. Эта территория упоминается еще в римское время, а в IX веке, при Каролингах, становится графством. В середине XI века правители Анжу присоединяют еще две области, сравнительно небольшие, но очень ценные со стратегической точки зрения – Турень и Мэн. С 1154 года, когда Генрих стал английским королем, графство Анжу сделалось частью английских владений во Франции.
Когда мальчику было два года, в Англии умер король Генрих I, и Матильда, его дочь, начала отстаивать свои права на английский престол. Сторонники немедленно объявили ее законной королевой, но короновалась она только через шесть лет – в 1141 году.
Реально страной в те годы правил двоюродный брат Матильды Стефан Блуаский. Вплоть до 1153 года между сторонниками Матильды и Стефана шла тяжелая борьба, которую называют баронской войной. Фактически это была гражданская война.
Граф Жоффруа Анжуйский упорно отстаивал права своей жены. В 1140-х годах он завоевал практически всю Нормандию. В 1144 году он взял Руан и получил титул герцога Нормандского, который позже перешел к Генриху.
Стефана же поддержали английские бароны, которым он обещал всевозможные вольности и привилегии. Он разрешил им свободно строить замки, где угодно и сколько угодно, без контроля со стороны королевской власти.
Результаты впечатляют: при нем было построено 1115 баронских замков! Это значительно осложнило будущее движение Англии к централизованной власти.
Война между группировками измучила страну. Особенно нарастало недовольство среди горожан, прежде всего лондонцев, которым для успешной торговли необходимо было спокойствие на дорогах. А Лондон определял ситуацию в стране. И недовольство населения заставило Матильду и Стефана пойти на компромисс.
Они заключили договор: Матильда уступила свои права на английский престол – при условии, что наследником Стефана будет ее старший сын Генрих. Разумный поступок, если учесть, что Стефан был немолод и бездетен. Точнее – не имел законных детей.
Через год Стефана не стало. Генриху Плантагенету, графу Анжуйскому, открылся путь к престолу.
Родители и прежде выделяли старшего сына, заметив, видимо, что он энергичнее и сильнее братьев – Уильяма и Жофрея. Граф Жоффруа позаботился об образовании Генриха. В историографии называются имена его учителей: это известный своей образованностью Аделард Батский, а также французский философ Гильом Конхезия. Генрих читал по-латыни и говорил на нескольких языках, включая, например, провансальский, что не вполне типично для XII столетия. А мэтр Петр Сентский занимался с юношей стихосложением – и не без успеха. Получать дальнейшее образование Генрих был отправлен в Англию, в Бристоль. Здесь его обучал мэтр Матвей, канцлер его матери Матильды.
Но Генрих был увлечен отнюдь не только учебой. Он придавал большое значение внешности, модно одевался (юношеское прозвище его было – Короткий Плащ), пылко любил охоту.
С 14 лет, возраста, в котором человек уже считался юношей, Генрих принимал участие в войне за английский престол, возглавляя небольшие отряды анжуйцев. Правда, ни тогда, ни через два года, когда он вновь принял участие в военных действиях, успех ему не сопутствовал. Интересно, что в 1149 году, когда он потерпел очередное поражение в Англии, обратную дорогу во Францию ему оплатил главный противник – Стефан Блуаский.
Когда в 1150 году Генрих вернулся в Нормандию, ему было 17 лет. И здесь у него возник конфликт с королем Франции. Людовик VII напал на молодого Генриха, пользуясь тем, что герцоги Нормандии являлись вассалами французской короны. Генрих откупился от француза, пойдя на несколько мелких уступок.
В это же время и начался один из ярчайший романов в истории…
Юный наследник английской короны полюбил королеву Франции, тридцатилетнюю Алиенору Аквитанскую. Несмотря на разницу в возрасте, Алиенора надолго пережила Генриха и в любом возрасте выглядела значительно лучше его.
Знакомство могло состояться в Париже, где Генрих побывал вместе с отцом в 1151 году. Король с супругой уже были на грани развода, который вскоре потряс всю Европу.
До встречи с Генрихом Алиенора, как пишут хронисты, знала его отца Жоффруа Красивого. Учитывая ее небезупречную репутацию, в слове «знала» есть некая двусмысленность. Когда Генрих II был еще маленьким, Алиенора Аквитанская отправилась с мужем в Крестовый поход и проскакала с крестоносцами через всю Европу. В те годы распространились слухи о ее излишне вольном поведении. А отец Генриха II Жоффруа Красивый был в королевской свите. Впрочем, все это только слухи.
Не исключено, что между Алиенорой и Генрихом вспыхнули искренние чувства, не угасавшие в первые годы их брака. Но был в стремительной женитьбе наследника английской короны и некоторый расчет.
Как только развод Алиеноры Аквитанской с Людовиком VII состоялся, объявилось множество претендентов на ее руку и ее приданое – Аквитанию, огромное герцогство на юго-западе Франции. По дороге из Парижа в Пуатье Алиенору дважды чуть не похитили. Один раз это был граф Шампани Тибо, а второй раз – младший брат Генриха, Жоффруа, который все время хотел что-нибудь отнять у старшего. Например, он требовал себе право на наследование Анжу, ведь у Генриха уже была Нормандия. Но Генрих не отдал этого права брату, вопреки воле покойного отца. Не отдал, разумеется, и невесту.
Как показала вся последующая жизнь, отнять что-либо у Генриха Плантагенета можно было лишь ценой собственной жизни.
Итак, в 1152 году, через два месяца после развода Алиеноры с Людовиком VII, был заключен ее новый брак. Из-за скандальности ситуации свадьбу сыграли тихо.
В 1154 году, после смерти Стефана, Генрих стал английским королем. Алиенора Аквитанская обрела третью корону после герцогской, доставшейся ей при рождении, и французской, которую она носила в течение 13 лет брака с Людовиком VII. А Генрих II, который никогда никому ничего не отдавал, имел такие титулы: герцог Нормандии, граф Анжуйский, Туреньский и Мэнский, герцог Аквитании. Через некоторое время он добился еще одного титула – суверен Ирландии, завоевав небольшую часть этой страны. Все это вместе стало средневековой империей.
Прибыв в далекую и чужую Англию, молодой король бросил огромные силы на ее обустройство. Именно здесь находилось сердце огромного, рыхлого государственного образования, раскинувшегося от Пиренейских гор до Ирландии. И Генрих заботился о благоустройстве центра своих владений.
Алиенора же обеспечила будущее династии. Вступив во второй брак в 30 лет, она родила с 1152 по 1166 год десять детей, пять из которых – мальчики. Один из сыновей рано умер, остальные – Генрих, Жоффруа, Ричард (будущий Ричард Львиное Сердце), Иоанн Безземельный – росли, привлекая взоры всей Европы. А ведь в качестве предлога для развода с Алиенорой Людовик VII выдвинул то, что она не в состоянии родить наследника. Оскорбленная королева рожала Генриху мальчика за мальчиком, и теперь всем европейским дворам стало известно, кто виноват в том, что у французского короля не было сыновей.
Что же Генрих II сделал для Англии? Прежде всего, он решил укрепить центральную власть. Это было очень трудно после феодального разгула, царившего при Стефане. Генрих приказывал срывать замки, которые Стефан разрешил построить.
Молодой король вступил в борьбу и с церковью, доказывая ее служителям, что власть светская выше власти духовной. Он был абсолютно убежден в своей победе, потому что возвел на архиепископский престол своего друга Томаса (Фому) Бекета. Король верил в то, что он всегда будет на его стороне.
Тут Генрих ошибался. Как только Фома Бекет сделался архиепископом Кентерберийским, он словно переродился: все дни он проводил в молитвах, благотворительности и посвящал Богу каждую секунду своей жизни.
Замыслы, которые лелеял Генрих: ограничить функции церковных судов, а со временем, может быть, добраться и до налогообложения и что-то получить с церкви, натолкнулись на непримиримую позицию архиепископа. В этой борьбе Фома Бекет на правах старого приятеля позволял себе слишком много. Он поносил королевскую особу, будто забыв, что монарх – помазанник божий. Наверное, только былая дружба может переродиться в такую яростную вражду.
Один шаг от любви до ненависти был сделан и в королевской семье. Дело в том, что после рождения младшего сына Иоанна Генрих решительно и резко охладел к Алиеноре. Он нашел себе возлюбленную – прекрасную Розамунду, дочь рыцаря. Поначалу она была просто фавориткой, у нее рождались дети, которых король не собирался признавать, а Алиенора все это терпела. Но постепенно король вовсе перестал уделять внимание законной жене. Теперь Розамунда повсюду появлялась рядом с Генрихом. Более того – Генрих завел с Папой Римским разговор по поводу возможного развода. Здесь, правда, он встретил категорический отказ. Папство вообще было им недовольно из-за его конфликта с архиепископом. Больше к теме развода Генрих не возвращался. Тем более что Алиенора в ярости покинула Англию.
На шесть лет был изгнан из Англии и Фома Бекет – вместе со всеми родственниками. Правда, при посредничестве Папы Римского король и архиепископ на короткое время формально примирились. Но вернувшийся после изгнания Бекет стал еще более пылко обличать короля. Стало совершенно очевидно, что такое поведение могло накликать беду. И беда пришла.
Генрих, находившийся во Франции, получил письмо, в котором говорилось о том, как Бекет унижает его в глазах всей страны. Скомкав это письмо, король сказал: «Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого попа?» Желающие сейчас же нашлись. Несколько придворных отправились в Англию и убили архиепископа в храме прямо в время службы. Это убийство не забыто и по сей день.
Страна содрогнулась. На могиле Фомы Бекета сейчас же начались чудеса. Генрих оказался в очень трудной ситуации. Через два года, в 1172-м, ему пришлось покаяться. Баронов-убийц он отправил замаливать грехи на Святую Землю.
А сам король по распоряжению Римского Папы подвергся прилюдному бичеванию. Генрих потерпел поражение.
Однако в других своих начинаниях Генрих добился успеха. Одно из важнейших его достижений – судебная реформа. В стране было введено единое уголовное право, суд присяжных (правда, только для свободных людей и за высокую плату). Этот шаг положил конец всевластию баронов.
Вторым значительным успехом Генриха II была военная реформа. Он дерзнул отказаться от традиционной военной службы крупных феодалов (40 дней в году в пользу короля вместе с дружинами). Вместо этого Генрих ввел так называемые «щитовые деньги». То есть вместо службы бароны должны были выплачивать определенную сумму. На эти деньги снаряжались наемные отряды, которые были в полном личном распоряжении короля. Это обеспечило будущие победы Англии в Столетней войне.
Собирая деньги с баронов, Генрих в 1181 году обязал свободных горожан тоже иметь вооружение. Этим самым он возродил традицию англо-саксонского ополчения, которое называлось фирд. Со временем такое право закрепилось за европейскими горожанами наряду с другими вольностями, дарованными им королевской властью. Городское население относительно свободных Нидерландов, Италии, юга Франции считало соответствующее его статусу вооружение одной из важнейших своих привилегий.
Напрашивается интересная аналогия. В русской истории относительно вольными были Новгород и Псков, и там тоже существовало народное ополчение. Но есть один важный нюанс. Оружие, которое принадлежало каждому члену этого ополчения, в русских вольных городах Средневековья хранилось на общественном складе и раздавалось только по соответствующему решению городских властей в случае какой-либо опасности. У западноевропейских же горожан оружие было в руках, и они более независимо им распоряжались.
Но вернемся к Генриху II. Его законная жена Алиенора не могла пережить появления рядом с ним постоянной фаворитки Розамунды и удалилась во Францию. Она настраивала против Генриха крупных французских феодалов и – его собственных сыновей. Внезапно скончалась «прекрасная Розамунда», как ее называли при дворе. Немедленно поползли слухи о том, что ее отравила Алиенора Аквитанская, отвергнутая королем. Кто знает? Была ли в этом хотя бы доля истины? Историки спорят об этом до сих пор.
Отношения короля с сыновьями и до этого нельзя было назвать простыми. Слишком уж крутой, жесткий у него был характер. Например, он сам короновал старшего сына, назвав его «молодой король». Более того – после коронации стал ему прислуживать, говоря: «Смотри, какая высокая честь – тебе прислуживает сам король!» На что сын ответил: «Не так велика честь – сын графа прислуживает сыну короля!» Судя по этой реплике, лада в семье уже не было.
Молодой Генрих был коронован, но не получил никаких полномочий. Его отец в очередной раз продемонстрировал, что никто и никогда не сумеет ничего у него отнять.
И вот в 1173 году сыновья Генриха подняли мятеж. На континенте у них был замечательный союзник – французский король Людовик VII, бывший муж Алиеноры, заклятый враг Генриха. Английские принцы бежали к нему в поисках защиты от самодура-отца. Два года длилась война между сыновьями и отцом и Генрих вышел их нее победителем. Алиенора на долгие 16 лет оказалась в заточении.
Генрих продолжал править единолично. Его сыновья начали стареть – а им все еще приходилось лишь мечтать о власти. Они устраивали все новые и новые заговоры.
В 1180 году умер король Людовик. На престол взошел его сын, умный и дальновидный Филипп II Август. Он был сыном Людовика VII от третьего брака.
В 1188 году Генриху доложили об очередном заговоре. Он спросил, кто его возглавляет. Ему показали список. Во главе заговорщиков был его любимый сын, будущий Иоанн Безземельный. После этого Генрих отвернулся к стене, два дня лежал не шевелясь и не принимая пищи – и на третий день он скончался.
Он оставил Англии традиции сильной власти – и память о семейной драме.
Изабелла Английская Француженка на троне
По отношению к Изабелле родители проявили ту династическую жестокость, которая так характерна для Средневековья. Ведь обращение с невестами королевской крови в ту эпоху – это своего рода торговля детьми. В 16 лет ее выдали замуж за английского короля. И именно этот брак заложил основы будущей страшной Столетней войны.
Изабелла прожила 66 лет – с 1292 по 1358 год. Ее отец – французский король Филипп IV по прозвищу Красивый. Его современники в один голос утверждали, что он и в самом деле был красив. Писатель Морис Дрюон посвятил ему один из томов серии «Проклятые короли» – роман «Железный король». Филипп действительно был человеком с железным характером. Сам того не ведая, он закладывал основы французского абсолютизма.
Именно он одержал победу над папством – великой моральной и политической силой в средневековой Западной Европе. Эта политическая победа позволила французскому королю возвести на папский престол своего ставленника и даже перенести резиденцию пап из Рима в город Авиньон на юге Франции на долгое время (так называемое «Авиньонское пленение» пап продолжалось около 70 лет).
Привыкший побеждать, Филипп беспощадно расправился с Орденом тамплиеров. И глава Ордена Жак де Моле проклял его из пламени костра.
Филипп IV отличался безмерной жестокостью, но в тоже время высоко ценил знание. При нем были советники – знатоки права, так называемые легисты, помогавшие ему решить сложные дипломатические вопросы. Король много читал, любил знаменитое сочинение римского философа Боэция «Утешение философией», увлекался рыцарскими романами.
Но ученость в то время не была предназначена для женщины. В XIV веке была одна женщина – писатель и историк, Кристина Пизанская, но это совершенно нетипично. В королевских семьях девочек растили с расчетом на династический брак. Принцессы – это бесценный товар. И относились к ним соответственно. Они должны быть хорошо одеты, прилично образованны, например, говорить на иностранных языках. Их и обучали языкам и танцам, но не литературе или философии.
Французский двор считался очень свободным, даже несколько фривольным. Постоянно устраивались большие приемы и балы, на которых юных принцесс демонстрировали гостям в качестве потенциального «товара».
Матерью Изабеллы была Жанна Наваррская. Французские короли не раз женились на представительницах этого дома. Наварра, несмотря на свои крошечные размеры, занимала важное стратегическое положение: она располагалась между собственно Францией и английскими владениями на юго-западе – Гасконью с центром в Бордо.
Гасконь была частью Аквитании, которая с XII века принадлежала как вассальное владение английским королям. И они должны были приносить вассальную клятву за него. Таким образом один король являлся вассалом другого. Вот тот узел противоречий, который нельзя развязать и который сможет разрубить лишь Столетняя война. Наварра находилась на границе этих владений. И поэтому отношения с наваррским двором были для французских королей важнее, чем, например, с германским, земли которого лежали за полунезависимыми французскими графствами и герцогствами, такими как Бургундия и Шампань.
Изабеллу выдали замуж в 1308 году, в возрасте 16 лет, что было для той эпохи совершенно нормально. Она считалась уже зрелой девушкой. Ее супругу – английскому королю Эдуарду II – было 24 года. Он взошел на престол годом ранее, сменив своего отца Эдуарда I, которого современники называли Великим. Эдуард I успешно правил страной 35 лет – в течение жизни целого поколения. Он достиг значительных успехов в освоении новых земель (например, покорение и колонизация Уэльса). Он поощрял просвещение. Вообще в Англии, казалось, царило процветание.
Сменить на троне великого короля – тяжелый удел. И в этом заключалась одна из трагедий Эдуарда II. Мучительно было и то, что на него уже при рождении сделали некую ставку. Отец объявил его первым принцем строптивого, но завоеванного Уэльса. От наследника ждали великих достижений.
Наверное, непросто дался ему и этот брак. Между английской и французской коронами были серьезные династические противоречия. В XII веке разведенная жена французского короля Людовика VII Алиенора Аквитанская вышла замуж за английского короля Генриха II Плантагенета. При этом огромное герцогство Аквитанское на юго-западе Франции осталось ее владением, которое перешло вместе с ней под эгиду английского королевского дома. Это создавало почву для непрерывных конфликтов между двумя королевскими домами – французских Капетингов и английских Плантагенетов.
В XIV веке между соседними монархиями назревало обострение конфликта, но та эпоха не знала никаких средств разрешения противоречий, кроме войн и династических браков. Поэтому Филипп IV и решился отдать Изабеллу английскому королю.
Брак оказался неудачным. Судя по всему, между королем и королевой не сложилось даже просто добрых отношений. Изабелла не была допущена к участию в государственных делах. Ее отодвинули на задний план, а всеми важными вопросами при Эдуарде II ведали его фавориты.
Первый из них – Пьер Гавестон, бедный дворянин из Гаскони. Английская знать была в ужасе от того, что король приблизил к себе выскочку. Даже во Франции гасконцы считались менее родовитыми, чем жители центральной и северной частей страны. Отношение к провинциалам, а особенно к гасконцам, сохранявшееся на протяжении веков, очень точно передано Александром Дюма в романе «Три мушкетера». Д’Артаньян в XVII веке появляется в Париже, прибыв из Гаскони, и становится объектом насмешек. При этом самого его отличают авантюризм и бесшабашность. И он будто специально дразнит столичную знать.
Обладал этими чертами и Пьер Гавестон. Он был другом наследного принца, будущего Эдуарда II. Однако разумный Эдуард I, опасаясь усилившегося влияния гасконца на наследника, выслал того из Англии. Как только Эдуард II взошел на трон, он вернул своего любимца и необычайно возвысил. Гавестон фактически стал правителем Англии.
Ненависть к Гавестону заставила английских аристократов сплотиться. В оппозицию вошли представители самых знатных семейств – графы Ланкастер, Уорик и Пемброк.
В эти годы Изабелла была в тени. На четвертом году брака она родила первого сына. А всего у них с Эдуардом было четверо детей. Слухи о том, что король придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации, идут от средневекового хрониста аббата Фруассара – певца истинного рыцарства. Ему не мог нравиться нерыцарственный Эдуард II, которого всегда окружали не фаворитки, а фавориты. Фаворитами короля становились его товарищи по оружию. Один из наблюдательных современников писал: «Он специально возвышал не самых знатных, для того чтобы они полностью от него зависели». Эдуард противопоставлял своих фаворитов высшей знати. Случилось так, что подозрения на его счет попали в романы. Но ведь авторы романов имеют право на вымысел! В том числе и Морис Дрюон – серьезный ученый-медиевист, сочиняя романы, позволял себе домыслы и гипотезы.
В 1309 году, еще до рождения старшего сына Изабеллы и Эдуарда, знать открыто выразила свое недовольство. Парламент не дал денег на войну в Шотландии, используя завоеванное еще в XIII веке право санкционировать такие крупные государственные траты. Бароны заставили короля изгнать Гавестона. Он сделал это, но, как только Парламент закрылся, вернул на прежнее место, будто дразня высшую знать.
В 1310 году собрался новый Парламент и создал Комитет ордейнеров в составе 21 человека, предоставлявший нечто вроде баронской олигархии. Об участии Изабеллы в деятельности баронов в этот период ничего не известно. Она раскрыла карты стремительно и намного позже.
Поведение баронов становилось все более вызывающим и независимым. Пользуясь тем, что король отправился в Шотландию, они казнили Гавестона. Эдуарду пришлось сделать вид, что он с этим примирился. Он чувствовал, как шатается его трон.
Ордейнеры постоянно унижали короля. Парламент отказывался выделять деньги на его личные нужды. Было заявлено, что королевское семейство должно жить за свой счет. Этого мало: Эдуарда лишили права покидать страну.
Вместо того чтобы попытаться поладить с баронами, Эдуард II нашел в 1321 году двух новых фаворитов, деятельность которых переполнила чашу терпения всех слоев общества. Это были отец и сын Деспенсеры, невысокого происхождения, явные авантюристы. Конечно, они служили королю истово.
И уже этого Изабелла не вынесла. Вместе со старшим сыном Эдуардом она отплыла во Францию, ко двору своего брата Карла IV.
Братья Изабеллы – Людовик Х, Филипп V и Карл IV Красивый – принадлежали к династии Капетингов, правившей во Франции с 987 по 1328 год – более 300 лет. За это время сменилось 14 властителей – не так много для столь огромного срока. И вот столь плодовитая и стабильная династия после Филиппа IV Красивого стала угасать.
Молва не сомневалась в том, что именно произошло: сработало проклятие, которое произнес великий магистр Ордена тамплиеров генерал Де Моле из пламени костра. Он якобы сказал: «Будешь проклят ты и род твой до седьмого колена». Орден был упразднен в 1312 году, а в 1314-м неожиданно и нелепо окончилась жизнь Филиппа IV: он упал на охоте с лошади, слег – и больше не поднялся.
Ему наследовал старший сын Людовик Х, который правил два года и внезапно умер в 27 лет. Затем на троне шесть лет был Филипп V – он тоже умер неожиданно; ему было около тридцати. Всего шесть лет предстояло править и последнему из братьев – Карлу IV. К нему отправилась Изабелла вместе с сыном Эдуардом, наследником английского престола. Видимо, у нее были замыслы, связанные с заговором, зревшим в это время в Англии.
Но, оказавшись при французском дворе, Изабелла поначалу забыла о политике с головой погрузившись в бурный роман. Как и все в ее семье, она отличалась необыкновенной красотой. Отношения с мужем не сложились, брак был служением, а себя она всегда чувствовала товаром, отданным во вражеский стран.
Считалось, что любовные приключения при дворе должны быть только тайными. Изабелла же повела себя демонстративно, за что ее сурово осуждали. Возлюбленным королевы стал Роджер Мортимер, барон Вигморский – один из самых знатных людей Англии. Он тоже бежал во Францию, потому что был злейшим врагом Диспенсеров.
Тридцатипятилетний Мортимер был воплощением рыцарства: красивый мужчина, боец, участник военных походов, совершивший недавно побег из английской тюрьмы… Неудивительно, что Изабелла, которой исполнилось тридцать, прежде не знавшая любви, потеряла голову, а ведь прежде она сама осуждала придворных дам за легкомыслие.
Однако кроме страсти, вероятно, королевой руководил и политический расчет. Изабелла решила возглавить заговор против мужа. К тому же на французском престоле находился ее последний брат. И у него не было наследников. (Когда он умер, его жена ожидала ребенка, но родила девочку.)
Во французской истории немало выдающихся женщин-правительниц. В XII веке Алиенора Аквитанская пользовалась большим влиянием на своего мужа Людовика VII. Третья жена Филиппа II Августа, Адель Шампанская, стала регентом во время пребывания мужа в Палестине. Наконец, в XIII веке Бланка Кастильская была регентом при своем сыне Людовике IX Святом – сначала в годы его малолетства, затем когда он сражался в Крестовых походах. О ней известный современный французский медиевист Робер Фавье сказал: «Ее должно и в самом деле считать настоящим французским королем».
Изабелла почувствовала запах власти. И начала самостоятельно принимать решения. Муж засыпал ее письмами, умоляя вернуться в Англию. Самому ему бароны запретили свободный выезд из Англии. Писал Эдуард II и десятилетнему сыну, прямо обвиняя его мать: «Она приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага, изменника, и с ним водит компанию в своем жилище и за его пределами». Так изящно король формулировал свои претензии. Он требовал, чтобы сын вернулся – с матерью или один. Но его не слушались. Власть Эдуарда II таяла. Он находился под полным контролем комиссии ордейнеров.
Возлюбленный Изабеллы, граф Мортимер – это, конечно, человек-орудие. Он должен был возглавить выступление против Деспенсеров и ничтожного Эдуарда II и сделать то, чего не могла сделать королева, – повести в бой вооруженных людей.
Изабелла собрала деньги и армию. Для этого она женила сына на Филиппе Геннегауской, чей отец, граф Геннегаусский, дал ему войско. Карл IV не помогал сестре открыто, потому что Эдуард II был его вассалом. Но втайне французский король поддерживал заговор. Не возражал он и против того, чтобы Изабелла оставила Францию.
Осенью 1326 года она отплыла в Англию, организовав дерзкий военный десант. Королева не просто выступила против супруга, она посягнула на законного короля, помазанника божьего. В средневековой Европе считалось, что королевская власть имеет сакральный характер. Один из ранних Капетингов писал в XI столетии: «Известно, что милостью божьей мы возносимся над всеми прочими смертными так, что следует всячески стараться повиноваться нам по воле того, кто нас сделал первыми».
Едва ступив на британскую землю, Изабелла издала прокламацию, обращаясь к народу Англии со словами: «Хорошо известно, что английская святая церковь и державная власть были многими способами жестоко поруганы и уничтожены из-за злых советов и подстрекательств Хьюго Диспенсера, который, побуждаемый гордыней и жаждой править и помыкать всеми другими, присвоил королевскую власть». Она высказывалась не только против фаворитов, но и против мужа: «Мы прибыли в эту страну, дабы вернуть в должное положение святую церковь и государеву власть, оградить народ от перечисленных бед и тяжелого угнетения».
Эдуарда никто не поддержал. В его распоряжении не было крупного войска, а горожане Лондона прямо сказали, что не будут его защищать. Он счел за лучшее бежать вместе с Деспенсерами. Но и природа была против него. Ветер пригнал его корабль обратно, к берегам Уэльса, где король был схвачен.
Младшего Деспенсера казнили немедленно, старшего заточили. Судьбу короля решила Изабелла. Палата пэров Парламента давно присвоила себе юридическое право низложить или отстранить государя. И вот какое решение было принято: «Постановлено, что сир Эдуард, старший сын короля, возьмет бразды правления королевством в свои руки. И будет коронован по нижеследующим причинам. Причина первая. Прежде всего, из-за того, что особа нынешнего короля, Эдуарда II, не способна к самостоятельному правлению».
Далее в декларации Парламента говорится о том, что государством при Эдуарде II управляли другие люди, процветал фаворитизм. В документе есть замечательная фраза: «Одних духовных особ он держал в темнице, а других – в глубокой печали». Пылко описано горе всей страны. Обоснована необходимость избавиться от неспособного правителя. Отчаянный шаг! Изабелла на исторической арене и ведет себя невероятно дерзко.
Почему бароны пошли за королевой? Конечно, они видели опасность в лице Мортимера, но полагали, что его можно будет убрать. Наследник был юн, ему всего 15 лет. А уж слабую женщину отодвинуть совсем не сложно.
Эдуард II был отстранен и через несколько месяцев тайно убит в одном из замков. Юный наследник был коронован. Бароны были уверены, что получили власть. Мортимер думал, что главный теперь он, а Изабелла намеревалась править сама.
Изабелла и Мортимер сразу же попытались исправить некоторые ошибки, допущенные Эдуардом II. Прежде всего, для изменения настроений в стране, как всегда, требовалась успешная война.
Роковым для них стал 1328 год. Они вместе отправились на войну в Шотландию, но потерпели страшное поражение. Английская армия была разбита. Прежде Эдуарда II попрекали тем, что Шотландия отстояла свою независимость, но изменить ситуацию не удалось. Так Мортимер лишился репутации удачливого военачальника. В том же году во Франции умер последний брат Изабеллы, Карл IV – и она заявила свои права на французскую корону – не для себя, а для своего сына Эдуарда III, уже ставшего английским королем. Этим она ускорила начало Столетней войны. Ведь было ясно, что Эдуарду откажут, несмотря на то, что он внук великого короля Франции Филиппа IV. Для французов сын английского короля был чужаком, иностранцем. Окончательно национальное самосознание двух народов сформируется в эпоху Столетней войны.
И Эдуарду отказали. Французская знать вспомнила традиции избрания первых Капетингов и возвела на престол Филиппа, племянника Филиппа Красивого, ничем себя до той поры не проявившего. Юридическим обоснованием отказа Эдуарду стал раннесредневековый судебник VI века «Салическая правда», согласно которому у предков французов, франков, земельный надел (аллод) не наследовался по женской линии. Эдуард III был внуком великого короля Франции по женской линии. Так что, если рассматривать французское королевство как очень большой земельный надел. Конечно, это была юридическая натяжка. Однако, не будь ее, Изабелла все равно получила бы отказ под каким-нибудь другим предлогом. Она воплощала во Франции не фигуру своего знаменитого отца, а враждебное английское королевство.
Тем временем поражение в Шотландии усиливало недовольство внутри Англии. Особое раздражение всех слоев общества вызывал Мортимер, который, чувствовал себя королем. Королева одаривала его драгоценностями, награждала землями, отнимая их у других баронов. Он получил титул графа Марчского.
Власть портит людей, и придворные фавориты рано или поздно становятся крайне самонадеянными. Так случилось и с Мортимером. К решительным действиям его врагов подтолкнул заговор графа Кентского – любимого дяди короля. Граф выступил против фаворита королевы и был публично обезглавлен. Мортимер поднял руку на особу королевской крови!
А 13 ноября 1330 года исполнилось 18 лет Эдуарду III. Через две недели после совершеннолетия он совершил мгновенный тихий переворот. Успеха он достиг в первую очередь потому, что не создавал разветвленной сети заговорщиков, иначе его непременно кто-нибудь выдал бы. С несколькими верными людьми, ненавидевшими Мортимера, юный король сделал главное. Фаворит был без долгих разбирательств казнен, причем казнен публично – его повесили, что не соответствовало положению лорда.
Изабелле было 38 лет. Сын отправил ее в один из замков недалеко от Лондона. Ей предстояло прожить еще очень долго – 28 лет, но уже вне исторической арены. За эти годы она должна была узнать о том, что важные деяния, не удавшиеся ни ей, ни Мортимеру, удались ее сыну. Эдуард III, для которого она билась за власть, стал великим королем. Его походы в Шотландию были успешны, что вызывало радость англичан. На его правление пришлось и триумфальное начало Столетней войны. Изабелла не могла не слышать о победах над французами при Слейсе, Креси, Пуатье. Задуманное ею воплощалось в жизнь.
Династия Валуа во Франции правила долго – 260 лет. А последней из этого дома стала женщина – Маргарита, дочь Генриха II и жена Генриха IV Наваррского, которая тоже пережила всех своих братьев, только не трех, а четырех.
Изабелла Английская стремилась войти в историю как наследница славы великого короля и сильная правительница, но ее судьба сложилась совсем не так, как она предполагала. После нескольких по-настоящему ярких лет ее ждали долгие годы заточения и забвения.
Королева Польши Ядвига Любовь и долг
Королева Ядвига прожила всего 28 лет – с 1371 по 1399 год – и тем не менее осталась в истории. Осталась как символ благородства и жертвенности. Ее чтит католическая церковь: благодаря этой женщине были обращены в христианство по католическому обряду последние язычники в Европе – литовцы. В XX веке Ядвига была объявлена блаженной и святой. И на стене знаменитого Ягеллонского университета в Кракове есть памятная доска с ее профилем, потому что в жизни этого учебного заведения Ядвига сыграла очень важную роль.
Место, где будущая королева появилась на свет, в конце XIV века принадлежало Венгрии. Сегодня это территория Словакии.
Ядвига была младшей дочерью Людовика I Великого (по-венгерски Лайоша), короля Польши и Венгрии, и Елизаветы Боснийской. Великий польский художник XIX века Ян Матейко создал портрет Лайоша. Художник подчеркнул ум и силу этой незаурядной личности.
Людовик I вошел в историю как добрый правитель, любимый и польским, и венгерским рыцарством. Он был представителем Анжуйского дома – одной из ветвей французских Капетингов, который в 1268 году закрепился в Южной Италии и, вытеснив оттуда Священную Римскую империю, и создал Неаполитанское королевство. Германская корона все время пыталась закрепить эти земли за собой. По просьбе Папы Римского французский король Людовик IX отправил туда своего брата Карла Анжуйского, и там утвердился Анжуйский дом.
Людовик I энергично расширял свои владения в Центральной Европе. Он воевал на Северных Балканах – в Далмации, а также в Болгарии и создал в итоге одно из крупнейших имперских объединений европейского Средневековья. Оно простиралось от Балкан до Балтики и от Черного моря до Адриатического.
Надо признать, что история Центральной Европы известна нам меньше, чем прошлое Европы Западной. Причем так сложилось очень давно. Знаменитый польский хронист Галл Аноним писал на рубеже XI–XII веков: «Страна польская удалена от проторенных путей паломников. И знакома она лишь немногим». Современные же польские историки отмечают: «Польша возникает как государство в границах латинского государства и может рассматриваться как молодая Европа».
Ядвига была младшей из трех дочерей Людовика. И хотя ее отец отстоял право передавать корону по женской линии (что было невозможно, например, во Франции), шансов оказаться у власти у нее было немного. Разве что после сестер – Екатерины и Марии. Но дальнейшие обстоятельства сложились самым неожиданным образом…
Польское княжество приняло христианство в X веке, а в XI-м князь Болеслав I Храбрый получил титул короля. Польское королевство вынуждено было при Болеславе IV Кудрявом признать себя вассалом Священной Римской империи германской нации – самого сильного государства Центральной Европы.
К XIII веку Польша оказалась в очень трудном положении, между двумя опасностями – воинственным Тевтонским орденом с центром в Прибалтике и монголо-татарским нашествием. Надо сказать, что король Людовик I умел ладить с Орденом. Сохранились даже письма Великих Магистров, которые хвалили его за правильное поведение. Он не отказывался от переговоров и вовремя делал подарки. И это понятно: он хотел сохранить мир на этой границе, чтобы удержать в руках свое громадное государство.
Сведений о детстве Ядвиги сохранилось совсем немного. В ее воспитании большое значение придавалось придворным манерам, танцам, но ее воспитатели уделяли внимание и ее религиозному воспитанию, познакомили Ядвигу также и с некоторыми книгами античных авторов. Девочка владела несколькими языками, включая французский и латынь.
Ребенком Ядвига была обручена с малолетним австрийским эрцгерцогом Вильгельмом. Ее отец, озабоченный тем, чтобы венгерская и польская короны достались его дочерям, обручил их с видными представителями европейской элиты. При этом в 1373 году он добился от сейма – собрания строптивой польской знати, согласия на то, чтобы ему после его смерти наследовала старшая дочь Екатерина.
Но в том же году Екатерина умерла. Шляхта же немедленно заявила, что согласие было дано только на передачу короны Екатерине. Вообще же права на женское наследование по-прежнему не было. Более того, существовало решение от 1355 года о том, что по женской линии престол не переходит.
Отношения с аристократией у польских королей складывались непросто. Об этом говорит, например, тот факт, что Людовик I после коронации увез корону и все польские королевские регалии в Венгрию, потому что боялся, что в его отсутствие коронуют кого-нибудь другого. Немаловажно, что он не был для поляков своим, не имел прямых родственных связей с польской династией Пястов. Правительницей Польши официально считалась его жена Елизавета.
В 1374 году Людовик дал шляхте так называемый Кошицкий привилей, предоставив мелким и средним рыцарям самостоятельность, освободив их от обязательной военной службы и от всех повинностей кроме небольшой подати с земли, а также гарантировав им государственные должности. Фактически он уравнял их с феодальной верхушкой. В обмен на это они признали право женщины наследовать корону.
В 1382 году Людовик Великий скончался. По Кошицкому привилею, корона Польши должна была перейти к старшей из оставшихся двух дочерей – Марии. Но шляхта вновь выступила против. Мария была обручена с Сигизмундом, графом Бранденбургским. А поляки не желали видеть немца своим королем. К тому же Мария получила как наследница венгерскую корону, и полякам не нравилась идея слишком тесного объединения с венграми.
Вдове Людовика Елизавете пришлось решать сложнейшую задачу. Она не хотела, чтобы в стране началась гражданская война. Но столкновения уже начались. Возникла конфедерация, которая требовала, чтобы на польский престол взошел человек, связанный с древней знатью и династией Пястов.
Подходящей кандидатурой оказался князь Мазовецкий Земовит по прозвищу Семка, сильный, энергичный, а главное – свой, поляк, в отличие от Марии, жившей в Венгрии. В мае 1383-го сторонники Земовита провели в городе Серадзе незаконную коронацию.
Согласно очень древней традиции, они просто подняли его над собой. Тем более, что официальная церемония была невозможна – ведь польская корона находилась в Венгрии.
Вот что пишет о событиях тех лет польский хронист: «Магнаты и шляхта жгут и грабят друг друга. И есть между ними такие, которые вовсе не желают короля, а стремятся овладеть коронными имениями и обратить их в свою пользу».
Часть шляхты соглашалась принять и Ядвигу, но при условии, что она будет постоянно жить в Польше. Ядвиге было в это время одиннадцать лет. Мать не сразу решилась отправить девочку в бурлящую Польшу.
Шляхта тем временем разработала новый план – расторгнуть помолвку Ядвиги с Вильгельмом Австрийским и выдать ее за князя Земовита. Появился даже план похищения девочки. Земовит устроил засаду на пути следования Ядвиги в Краков, но ошибся: из Венгрии в тот момент отправились в Польшу только послы, юная же королева еще не выехала, и похищение не удалось.
15 ноября 1384 года, в обстановке гражданской войны, Ядвига была коронована в Кракове. Интересно, что во время церемонии ее называли rex («король»), чтобы не подчеркивать, что на престол восходит наследница женского пола.
К тому времени Ядвига уже славилась выдающейся красотой. Ее сравнивали даже с Еленой Прекрасной из греческой мифологии. Некоторые специально приезжали в Краков, чтобы увидеть юную красавицу. Туда же прибыл ее жених, четырнадцатилетний эрцгерцог Вильгельм Австрийский. Дело в том, что церемония, проведенная, когда Ядвиге и Сигизмунду было пять-семь лет, могла рассматриваться не просто как обручение, а как заключенный заранее брак. Теперь Вильгельму предстояло только подтвердить этот брак и вступить в права короля Польши.
При встрече будущие супруги очень понравились друг другу. В одном из францисканских монастырей на окраине Кракова им было разрешено встречаться, конечно, в окружении свиты. Они общались на балах, танцевали и проникались все большей взаимной симпатией. А польские магнаты тем временем принимали важные дипломатические решения.
Они пришли к выводу, что брак королевы с Вильгельмом не дает тех преимуществ, которые можно получить, если она станет женой литовского великого князя Ягайло. Он был на 21 год старше Ядвиги, но когда и кого это смущало? Не была безупречной и его репутация. Ягайло прославился своей жестокостью. Например, он приказал убить в тюрьме своего дядю Кейсута и, возможно, утопить его жену Бируту. Однако все это не имело значения в сравнении с открывавшимися политическими возможностями.
Матерью Ягайло была русская княгиня Ульяна Тверская. Не исключено, что в детстве его крестили по православному обряду. Потом, правда, он, воспитанный литовцами, стал язычником. Теперь же он был готов принять вместе с польской короной христианство и обратить в него весь свой народ. Грандиозное историческое событие в масштабах Европы! Немаловажно было и то, что Ягайло был непримиримым врагом Тевтонского ордена.
Когда решение о столь важном брачном союзе было принято, перед Вильгельмом Австрийским заперли ворота Кракова – больше его в этот город не пустили. Польское предание говорит, что пятнадцатилетняя Ядвига, выхватив секиру у одного из стражников, своими слабыми, нежными ручками пыталась разрубить ворота, чтобы догнать Вильгельма. Все безнадежно.
Епископ краковский Петр Выш призвал Ядвигу на духовный подвиг. Обращение Литвы в католицизм, союз против Тевтонского ордена – все это ради Польши, ради христианской веры. Осознав неизбежность происходящего, Ядвига отправила к нему доверенного человека. Она вообще не могла себе представить, что значит не веровать во Христа. К тому же о язычниках ходили страшные слухи: говорили, что они дикари и ходят в шкурах. Поэтому королева велела своему посланцу убедиться, человек ли вообще этот Ягайло. И ее слуга, честно исполняя поручение, прежде всего пошел с Ягайло в баню, чтобы проверить, не отличается ли строение его тела от человеческого. После этого он доложил Ядвиге, что ее будущий жених точно человек. Это ее немного успокоило. Но ей никогда уже не суждено было стать счастливой. Потерпев поражение в борьбе за свое счастье, она вынуждена была пойти под венец с диким и свирепым язычником.
15 февраля 1386 года состоялась свадьба Ядвиги и Ягайло. Они были, мягко выражаясь, разными людьми. Если она знала несколько языков и любила читать, то он, вероятнее всего, вообще был неграмотен. По легенде, его мать так любила сына, что позволила ему не учиться. Из языков он знал не латынь, а русский. Ягайло хорошо относился к русским, были они и в его свите, и гусляры играли при его дворе. На Куликовское поле он, правда, опоздал и реальной помощи русским не оказал.
Больше всего на свете Ягайло любил охоту. Современники вспоминали, что после удачной охоты он становился таким добрым, что в этот момент у него можно было попросить почти что угодно – он всех жаловал.
Ядвига и Ягайло совершили одно совместное деяние – они отправились в Литву, где королева присутствовала на торжествах по поводу обращения литовского народа в христианскую веру.
В остальном супругов мало что объединяло. Ягайло проводил время на охоте, развлекался с любовницами. При этом, когда он задержался в Литве, а Ядвига вернулась в Польшу, нашлись придворные клеветники, которые обвинили королеву в неверности. Конечно, это был злобный вымысел. Но Ягайло то ли поверил, то ли сделал вид… И тогда Ядвига проявила твердость, которая вообще свойственна тихим, но сильным натурам. Она прекратила с мужем супружеские отношения. А поскольку она была христианкой и ходила на исповедь, ее духовники знали, что между королевой и королем нет отныне супружеской близости. К тому времени у них еще не было детей. А ведь это судьба династии!
И тогда руководство польской церкви пошло на то, чтобы организовать публичный суд, на котором королева могла добиться полного оправдания. При этом двенадцать шляхтичей объявили, что независимо от исхода суда будут в бою отстаивать честь королевы. Тот, кто победит, докажет, что она невиновна.
В конце концов клеветник – человек по имени Гневош – признался, что оговорил королеву. Ядвига потребовала наказать его по древнему славянскому обычаю. Виновный должен был прилюдно залезть под лавку и оттуда громко объявить: «Я клеветник, я оклеветал королеву, я пес паршивый». И завершить свою речь подражанием собачьему лаю.
Итак, Ядвига была полностью оправдана. Более того – Ягайло покаялся, носил темную одежду и постился. Причем, став католиком в зрелые годы, Ягайло соблюдал пост в очень строгом варианте: по нескольку дней жил только на хлебе и воде. С годами на нем, безусловно, сказалось облагораживающее влияние жены, которой было свойственно истинное благочестие.
Надо сказать, что и сама Ядвига в супружестве очень изменилась. Она оставила светские развлечения и никогда более не появлялась на балах. Но у нее появились новые интересы. В те годы знаменитый Краковский университет, один из старейших в Европе, основанный в 1364 году, испытывал очень большие затруднения. Несмотря на то что там учились студенты из разных стран Европы, в период гражданской войны университет не получал королевской финансовой поддержки и пришел в упадок.
Наверное, Ядвига чувствовала свою вину: трудные времена предшествовали ее приходу к власти. Она продала все свои драгоценности и пожертвовала средства на возрождение и расширение Краковского университета. Можно сказать, что благодаря этим заботам Ядвига обрела душевный покой.
В 1399 году Ядвига наконец родила дочь. Но ребенок прожил всего месяц. И двадцативосьмилетняя королева угасла вслед за ним, успев перед смертью раздать остатки своего состояния бедным.
Ягайло, потеряв жену, рыдал над ее могилой и всячески демонстрировал отчаяние. Правда, это не помешало ему потом еще трижды жениться. Скорее всего, его публичная скорбь была политическим жестом. Он демонстрировал полякам, как дорога ему была их, польская, королева.
Прожив больше восьмидесяти лет, Ягайло стал основателем династии Ягеллонов, которая правила в Польше до 1572 года. В 1410-м он участвовал в Грюнвальдской битве, в которой Польша и Великое княжество Литовское нанесли поражение Тевтонскому ордену. Так что его заслуги перед польской историей несомненны. И все-таки немного обидно, что университет, для которого так много сделала королева Ядвига, носит название Ягеллонский…
Когда в 1997 году Папа Римский Иоанн Павел II канонизировал свою соотечественницу – польскую королеву, он произнес: «Долго ты ждала, Ядвига». Да, со дня ее смерти прошло почти шестьсот лет. Но за эти годы не угасла память о редкой самоотверженности и об истинном благородстве.
Карл VII Король-победитель или «милый дофин» Жанны д’Арк
Фигура французского короля Карла VII из династии Валуа всегда находилась в тени, прежде всего – в тени великих событий Столетней войны. А кроме того – в тени Жанны д'Арк. Во французской историографии он остался правителем, при котором была одержана победа в величайшей войне Средневековья, а также королем-реформатором, чудом вознесенным на престол из самого жалкого положения!
Карл родился в 1403 году. Он был третьим сыном короля Карла VI, одиннадцатым из двенадцати его детей. В Средние века третий сын в королевском семействе имел минимальные шансы стать королем. И Карл знал это с рождения.
Его отца, Карла VI, прозвали Безумным, и это не метафора. С юности у него случались припадки, которые со временем становились все чаще и продолжительнее.
Умер Карл VI в 54 года, а находился на троне в течение 42 лет.
Будущий Карл VII родился, когда отцу было уже 36 лет, и приступы безумия все реже сменялись периодами просветления. По словам современников, король бегал по коридорам Лувра и выл, как животное, не узнавая близких. Когда к нему подвели его жену-королеву, он спросил: «Кто эта женщина?» Со временем ему стало казаться, что он стеклянный сосуд и с ним надо обращаться очень аккуратно. Например, ему нельзя подниматься ни на какие возвышения: оттуда сосуд может упасть и разбиться. Уже в XX веке подобные заболевания начали объяснять внутренней хрупкостью личности и ощущением враждебности окружающего мира.
Мать Карла VII – Изабелла Баварская была чужестранкой. Это был вполне типичный для Средневековья династический брак. Часто в историографии встречаются утверждения, что королева Изабо была легкомысленной развратницей. И эта точка зрения имеет под собой некоторые основания. Юный Карл с детства слышал, что его мать распутна. Многие даже сомневались в том, что он рожден от короля.
Надо заметить, что в историографии, особенно во французской научной литературе второй половины XX века, представлена и другая версия. Некоторые авторы утверждают, что слухи о безнравственности королевы – это просто плод недоброй фантазии придворной толпы, которую раздражала чужеземка на троне. А на самом деле Изабелла была прекрасной, преданной женой, которая любила мужа в минуты его просветления. Так или иначе, детство Карла не назовешь веселым и беззаботным.
Образ Карла сохранили многочисленные портреты. Судя по ним, у него были основания для недовольства своей внешностью, очень характерной для представителей династии Валуа, но проявившейся в каких-то крайних формах.
Он рос очень замкнутым. Нет источника, в котором, когда речь идет о Карле, не употреблялось бы слово «скрытность». Со временем это свойство его характера переросло в политическую недоверчивость.
Карл был младенцем, когда началась война, которую тогда никто, конечно, не называл Столетней. Этот термин появился в европейской историографии только в XIX веке. Современники же просто жили в эпоху непрерывных столкновений между королевскими домами Франции и Англии. Истоки этих противоречий надо искать в истории XI–XII веков. У английской короны были немалые владения на территории Франции. Французские же короли из дома Капетингов, а затем Валуа не были еще по-настоящему сильными правителями. Рядом были герцоги и графы, которые нередко оказывались богаче и влиятельнее их.
В конце XIV века в войне наступило затишье – после того как французы потерпели несколько страшных поражений: они были разгромлены в битве Слейсе в 1340 году, при Креси в 1346-м и в битве при Пуатье в 1356 году. Зыбкое перемирие не позволяло надеяться на то, что войне пришел конец: земли, из-за которых она началась, не были отвоеваны.
В 70-х годах XIV века, при Карле V Мудром, благодаря знаменитому полководцу Дюгеклену часть этих владений возвратилась под власть французской короны. Но в начале XV столетия страну расколола гражданская война.
Когда на троне оказывается безумец или ребенок, неизбежно начинается борьба за влияние на слабого монарха.
При Карле VI на власть претендовали два герцога – брат безумца Людовик Орлеанский (с ним в первую очередь связывали дурную репутацию королевы Изабеллы) и герцог Бургундский, по прозвищу Жан Бесстрашный. В его владении находились Бургундия, Шампань, Артуа и Фландрия – самые богатые торговые области современной Франции и Бельгии. И на деле оказалось, что герцог Жан был намного богаче и влиятельнее короля.
В 1407 году, когда будущему Карлу VII было четыре года, герцог Жан быстро и эффективно устранил конкурента. Людовик Орлеанский был убит. Всем было понятно, что за гибелью брата короля стоит герцог Бургундский. Но он был прощен королем и стал самым влиятельным человеком во Франции. Вряд ли король сознавал, кого и за что он прощает. Пошли разговоры о том, что всеми делами управляет королева Изабо.
Вскоре после убийства герцога Орлеанского в стране началась гражданская война. Сторонников герцога Бургундского называли бургиньоны. Им противостояли последователи убиенного Людовика Орлеанского. Их партия получила название арманьяки: один из их лидеров имел титул графа Арманьяка. Силы были приблизительно равны. Обе партии сознавали, что необходим некий «камешек», который перетянет чашу весов на их сторону. Эту роль могли сыграть англичане.
Слово «Франция» появляется в источниках начиная с X века. И французы со времени поражений при Креси и Пуатье начали чувствовать себя именно французами.
Они испытывали к англичанам неприязнь. Поэтому то, что политики начали искать союзников в лице англичан, стало для Франции настоящей трагедией.
Обе партии вели переговоры, торговались – и каждая стремилась побольше уступить главным врагам своего королевства. Страшная штука – борьба за власть!
Англичане почувствовали, что пришло время для возобновления войны. Тем более что на престоле был Генрих V, представитель новой династии Ланкастеров, пришедшей к власти не совсем законным путем. В таких случаях всегда требуется, как сейчас говорят, «маленькая победоносная война».
В готовности французской верхушки идти на союз с ними Ланкастеры увидели реальный шанс объединить Францию и Англию под властью одной короны.
В 1415 году Карл Безумный получил от английского короля письмо, в котором говорилось: «Благородному принцу Карлу, нашему кузену и противнику во Франции, Генрих, Божьей милостью король Англии и Франции». Это означало, что Генрих, опираясь на давние притязания англичан, объявляет себя главой обоих королевств и возобновляет войну.
После долгих переговоров и своего рода политического «перетягивания каната» союзниками англичан стали бургиньоны. И это был мощный союз. В то время герцогство Бургундское реально претендовало на то, чтобы быть самостоятельным королевством, и практически стало таковым. Бургундский двор, богатый, сохранявший дух рыцарства, был очень силен. Почему такой вариант европейской истории все-таки не воплотился в жизнь? Наверное, главная причина состоит в том, что в герцогстве Бургундском отсутствовало этническое единство, оно было очень пестрым по составу населения. Но вероятность возникновения отдельного государства, несомненно, существовала.
Будущий Карл VII по-прежнему оставался в тени. Ему было 12 лет, когда умер один его старший брат, 14 – когда скончался второй. Так Карл стал дофином (наследником престола). У него появилась надежда получить французскую корону.
Тогда же, в 1415 году, французские войска были разбиты в сражении при Азенкуре. В последующие три года англичане и их союзники победоносно прошествовали от северного побережья Нормандии до Парижа. Было ясно, что Франция гибнет.
Захватив в 1418 году Париж, бургундцы повели себя хуже, чем любые иноземные завоеватели: они несколько дней грабили, жгли и убивали. Пятнадцатилетний дофин Карл чудом выбрался из Лувра в сопровождении старого коннетабля, преданного дому Валуа. Наследника престола спасло лишь то, что его слуга знал потайные ходы в этом громадном лабиринте. Пережив подобное потрясение, Карл сделался еще более мрачным, унылым, подавленным.
Ему удалось прорваться на юго-запад Франции. Там, в Пуатье, он объявил себя регентом, так как его безумный отец остался в руках бургундцев.
Укрывшись в Пуатье, дофин созвал парламент и создал счетную палату в Бурже, из-за чего позже, когда он объявил себя королем Франции, враги стали презрительно называть его «Буржский король».
Случилось так, что первый крупный поступок, совершенный Карлом, объективно сделал его знаменем сопротивления англичанам. Вот почему вскоре именно к нему отправилась Жанна д, Арк.
Но сначала Карл пытался договориться с бургундцами и убедить сражаться против англичан. Для этого в 1419 году была устроена встреча на мосту в Монтеро. Но во время переговоров один из придворных Карла убил Жана Бесстрашного. Многие и сейчас считают, что это был бессмысленный поступок, совершенный себе во зло. Но нет, это был поступок потаенно-решительный!
Пока был жив Жан Бесстрашный, сильный лидер, союзник англичан, Карл вряд ли мог победить. В одном из источников говорится: Карл велел объявить, что совершившееся убийство – кара Жану Бесстрашному, который «обещал, но не вел войны против англичан».
Сын убитого, Филипп Добрый, поклялся посвятить всю свою жизнь мести за отца. Характерный для эпохи жест! Он долго был верен клятве и оставался союзником англичан даже тогда, когда это стало очевидно невыгодно для Бургундии.
Но сначала победы англичан были несомненны: они покорили половину Франции. В 1420 году в городе Труа Карл VI и Генрих V английский подписали договор, который французские авторы и сегодня называют позорным. Конечно, безумный король не понимал, что он творит, – считается, что его рукой водила Изабелла Баварская. В соответствии с договором Генрих V становился регентом вплоть до смерти Карла VI. В дальнейшем же он должен был жениться на дочери французского короля Екатерине и их наследники должны были окончательно объединить короны. Что же касается дофина, то он приговаривался к изгнанию из Франции. Причем Изабелла Баварская (считается, что за немалую плату) публично заявила, что Карл вообще не сын короля.
Ситуация была безнадежной. Но вмешалось провидение. В 1422 году молодой и цветущий английский король Генрих V умер от болезни. А всего через шесть недель после него скончался и Карл VI Безумный. Идея двуединой монархии рассыпалась. И вот тогда дофин Карл провозгласил себя королем. Его сторонники – приверженцы партии арманьяков – устроили ему коронацию в Пуатье. Это было не вполне законно: французские короли с незапамятных времен должны были короноваться только в Реймсе. Франция обрела сомнительного короля, но с несомненным девизом войны против англичан и их союзников бургундцев.
А в феврале 1429 года, на следующий день после того как Карлу исполнилось 26 лет, к нему в замок Шинон пришла Жанна д'Арк. Об этой легендарной встрече написано бесконечно много. Пришедшая издалека деревенская девушка утверждала, что голоса святых Маргариты, Екатерины и Михаила сказали ей: «Иди к дофину». Когда ее спросили, почему она называет короля милым дофином, она объяснила: «Пока он не коронован в Реймсе, он дофин для меня». По словам Жанны, она пришла от имени Бога сказать Карлу, что он победит и что он – законный король.
Карл VII не торопился встречаться с этой сомнительной божьей посланницей. Его уговорила теща, Иоланта Арагонская, женщина яркая и властная. Она очень любила прорицателей, пророков, колдунов, что весьма типично для позднего Средневековья.
Есть разные описания первой встречи Карла и Жанны. Точно известно, что она пришла в мужском костюме, с волосами, постриженными в кружок.
Все это было совершенно поразительно. К тому же она сразу узнала, кто из присутствующих – король, хотя он и пытался спрятаться за спинами придворных. Жанна решительно обратилась к нему, опустившись на колени, и сказала, что послана Богом, чтобы помочь дофину добиться справедливости – победить англичан и короноваться в Реймсе.
Карл повел себя в этой необычной ситуации очень разумно. Внутренне сомневаясь, он сдержанно ответил, что это должна подтвердить коллегия знатоков права и богословия. Расследование состоялось. Сама королевская теща Иоланта принимала участие в работе комиссии, которая должна была среди прочего уточнить, действительно ли Жанна – Дева. Богословы сказали Карлу, что девушка благочинна, умна и заслуживает доверия. И тогда он сделал то, о чем Жанна просила, – отослал ее к войску. И состоялся знаменитый триумф Девы в Орлеане.
Карл остался в Пуатье. Осада с Орлеана была снята без его участия. Жанне удалось добиться успеха благодаря сильным военачальникам и, конечно, вере в чудо, которую она породила у солдат. Освободив Орлеан от осады, она остановила англичан на пути к Буржскому королю, то есть спасла его. Но на торжества по поводу снятия осады Карл не приехал. Его ждали, даже город украсили особенно торжественно, но он без объяснений не появился.
С Жанной он встретился вскоре после торжеств в аббатстве близ Орлеана. Главное, что он ей сказал: «Отдохни, Жанна. Ты так устала! Ты столько дней сражалась!» Это была правда. Жанна провела много времени в доспехах, участвовала в битве, была ранена. Но в ответ на предложение короля она разрыдалась. Он довел ее до слез, сказав вместо слов истинной благодарности это страшное «отдохни». Карл хотел немедленно отослать ее, но она в слезах умоляла позволить ей провести его через земли, оккупированные англичанами, в Реймс для коронации.
Жанна говорила: «Клянусь, я надежно поведу благородного дофина Карла и его войско, и он будет коронован в Реймсе». Эту миссию она выполнила. На пути к Реймсу важнейшие города сдались без боя, потому что могучая слава Жанны следовала впереди ее. И сама Дева была впереди со своим белым знаменем. И вот наконец 17 июля 1429 года состоялась коронация в Реймсе. После этого Карл VII – король в полном юридическом смысле слова. Это стало событием для всей Западной Европы. Характерно, что на коронации присутствовала делегация герцога Бургундского. Он почувствовал, что оставаться совсем в стороне не стоит, раз во Франции появился законный король.
В торжествах по поводу собственной коронации Карл не мог не участвовать, и ему пришлось быть рядом с Жанной. В соборе она стояла со знаменем. Позже, на суде инквизиции, ее спросили: «Почему ты позволила себе держать знамя в соборе?» Она сказала: «Оно столько трудилось, что оно это заслужило». Но чувствовал ли это Карл, было ли знамя победителей и ему так необходимо?
Карл слышал, что «Да здравствует Дева!» на улицах кричали не меньше, чем «Да здравствует король!». И это не могло ему нравиться. Вся его дальнейшая линия поведения в отношении Жанны – это медленное, как вообще свойственно ему, потаенное, скрытное движение к тому, чтобы убрать ее с исторической арены.
В его документах она практически не упоминается. Один или два раза, и очень бегло. Рядом с Карлом – его советник, его главный временщик де ла Тремуйль, который ненавидит Жанну и боится соперничества. Враждебное Жанне окружение короля при его молчаливом согласии сделало все возможное, чтобы провалилась ее попытка взять штурмом Париж. И вот дело сделано – Жанна покинула королевский двор, отправилась биться за французские крепости в долине реки Луары. Блеск ее славы больше не угрожает Карлу VII.
Как известно, Жанна попала в плен к бургундцам. Нам никогда уже не узнать, кто именно и как осуществил это практически и, главное, кто был, выражаясь современным языком, «заказчиком» этого захвата. Бургундцы продали пленницу англичанам, которые организовали над ней судебный процесс.
Он длится целый год, страшный последний год ее жизни. За все это время – ни звука в ее защиту. Карл VII, который стал легитимным королем только благодаря Жанне, молчит и ничего не предпринимает. Его поведение иногда оправдывают тем, что Жанну судили не за военные действия, а за ересь. А во времена абсолютной духовной монополии католической церкви, если король вступается за еретичку, это делает его трон очень шатким. Так или иначе, лишенная королевской поддержки, Жанна сражается одна, и это свое последнее сражение она морально выигрывает, но страшной ценой. В 1430 году она казнена. И даже после ее смерти Карл XVII о ней будто не вспоминает.
В эти годы он становится действующим политиком и военачальником. Он лично, причем успешно, руководит военными действиями в конце Столетней войны. Став во главе армии, он не терпит ни одного поражения. В 1436 году его войска вступают в Париж. За этим следует громадный дипломатический успех – договор в 1435 году в Аррасе с герцогом Бургундским, который отказался от союза с английским королем. В 1448–1450 годах французы освобождают Нормандию и занимают Руан – город, где судили Жанну.
Во время этих событий Карл кажется совершенно преображается. Он ведет самостоятельную политику. В ходе освобождения Нормандии он создает постоянное конное и пешее войско, которое приходит на смену феодальным отрядам. Он вводит постоянные налоги. В 1438 году он решается подписать Прагматическую санкцию – документ об ограничении прав Папы Римского на территории Франции. Он идет почти на открытый конфликт с папством. Это смело. Теперь уже никто не может сказать, что он номинальный король.
А сильных людей рядом с собой он не терпел, как и прежде. Один из его советников – Жак Кер, который проводил налоговую реформу и даже ссужал короля деньгами, был арестован и тихо, без каких-либо открытых обвинений заключен в тюрьму.
И только через годы после казни Жанны д’Арк Карл VII тайно инициировал ее реабилитацию. После освобождения Руана он писал своему советнику, доктору теологии Гийому Буйе: «В этом городе был проведен некий процесс, организованный нашими старинными врагами и противниками англичанами». Король лишь намекнул на то, что результаты процесса надо пересмотреть.
Процесс реабилитации был проведен очень тщательно в 1455–1456 годах. В результате опроса многочисленных свидетелей, было принято решение «аннулировать осуждение» Жанны д’Арк. Спустя четверть века после расправы над героиней ее доброе имя было восстановлено. Однако цель Карла VII, вероятно, была и в том, чтобы никто не смел связывать его коронацию с «еретичкой».
Последние годы жизни Карла VII были омрачены конфликтом с сыном, будущим Людовиком XI. Изгнанный отцом из-за подозрений в том, что слишком откровенно ждал его смерти, сын бежал не к кому-либо, а к герцогу Бургундскому. После этого Карл не видел сына 12 лет – до самой своей кончины.
К старости у Карла стали все ярче проступать черты безумия, унаследованные от отца. Он панически боялся быть отравленным по приказу Людовика. Из-за этого король фактически перестал принимать пищу – и умер от истощения.
Через столетия оказалось, что Карл VII больше всего интересен истории как «милый дофин» Жанны д'Арк. Конечно, он стал со временем заметным политиком и провел важные реформы, – но это, в сущности, могли сделать и другие. А история Жанны и дофина абсолютно уникальна.
Сулейман Великолепный Взлет перед закатом
Великолепным турецкого правителя именовали в Европе. Подданные же называли его Кануни – Законодатель. Это был десятый турецкий султан, правивший с 1520 по 1566 год. При нем Османская империя достигла пика своего величия. Как известно, после высшей точки, зенита, согласно законам физики, возможно движение только в одну сторону – вниз. Оно и началось после правления Сулеймана Великолепного. В XVII веке империя пришла к закату, а в XX-м после поражения в Первой мировой войне, распалась.
С 1922 года Турция – светское государство, республика.
Сулейман Великолепный лично возглавил 13 военных компаний, 10 из которых – в Европе. В нем самом было много европейского. Но, несмотря на большое число военных походов, некоторые султаны – его предшественники – завоевали больше территорий, чем он. Его слава напрямую связана с расцветом искусств в годы его правления. При нем создано чудо архитектуры – мечеть Селимие в городе Эдирне, недалеко от Стамбула, в европейской, балканской части Турции.
Сохранилось изображение Сулеймана, наверняка идеализированное. Он очень красив. Точеный профиль, небольшая аккуратная бородка… и невероятно огромный тюрбан. И, несмотря на такой головной убор, – проскальзывает что-то европейское в его внешности.
Сулейман родился около 1495 года. Его дед, Баязид II, имел прозвище Святой (а такие прозвища в те времена случайно не давались). Его правление вошло в историю Османской империи как редкостно миролюбивое и спокойное, без массовых убийств, которые так характерны для последующих периодов турецкой истории.
Баязид Святой назначил своего внука Сулеймана, тогда еще ребенка, наместником в Крыму. Крымское ханство – один из обломков громадной Орды – признало себя вассалом османских правителей. Юность Сулеймана прошла в городе Кафа (это нынешняя Феодосия) – центре тогдашней мировой работорговли.
Отец Сулеймана, султан Селим I, вошел в историю с прозвищем Грозный, по-турецки Явуз. Он восстал против своего состарившегося отца, чтобы помешать получить власть своему старшему брату Ахмеду.
Надо сказать, что в Османской империи в те времена существовала примечательная традиция: новый правитель при вступлении на престол убивал всех своих братьев. Зачем? «Дабы избежать братоубийственных войн и розни». Этот закон перестали соблюдать только в XVII веке, когда казнь заменили заточением.
Поднятое Селимом в 1511 году восстание оказалось неудачным. Он бежал в Крым, к юному сыну Сулейману. Тот принял его, поддержал, дал возможность подготовить армию, и Селим снова пошел на Стамбул. На сей раз он добился низложения своего отца Баязида и отправил его в изгнание. Но по пути бывшего султана отравили. Такова была кровавая увертюра правления Сулеймана Великолепного.
Когда Селим I пришел к власти, он уничтожил около 40 своих сводных братьев, а заодно и других родственников мужского пола. Кроме того, он истребил шиитов в Малой Азии – примерно 45 тысяч человек. Он был очень скор на расправу и говорил: «Править – это сурово карать». До XIX века дожило турецкое проклятие: «Чтоб тебе быть визирем у султана Селима!» Это означает, что тебя каждую минуту могут либо удавить, либо отравить.
Интересно, что в том же XVI столетии на Руси некто Ивашко Пересветов, как говорят, выходец из Литвы, подавал царю Ивану Васильевичу «эпистолы» – записки, в которых советовал принять «грозность» по примеру турецких султанов как государственную необходимость. Он писал: «О, если б к московской истинной вере, да правда турецкая, так ведь с русскими сами ангелы беседовали бы». И нельзя не признать, что Иван Васильевич Грозный был во многом подобен Селиму Явузу. Показательно, что османские правители XVI века не были настолько отрешены от Европы, а московские – от Азии, насколько может на первый взгляд показаться. Османская империя в ту эпоху играла важную роль в европейской истории.
Это государство выросло на развалинах восточной части великой Римской империи. Оно было создано тюркскими племенами в Анатолии в эпоху заката Византии и существовало до создания Турецкой республики в 1922 году. Империя-долгожитель!
В XVI веке европейская часть Османской империи была по размеру сопоставима с азиатской. Сейчас европейская Турция – это территория вокруг Стамбула, причем не такая уж маленькая: там расположены три города с населением более 100 тысяч человек каждый. До сих пор турецкие футбольные клубы играют в Европейской лиге, а сама Турция претендует на вхождение в Евросоюз. Эта претензия – след угасшей звезды, европейской звезды Османской империи.
Основателем государства был некто Осман, правивший в 1259–1326 годах. Он получил от своего отца Эртогрула пограничный удел, или «удж», как его называли турки, Сельджукского государства в Малой Азии. Есть версия, что Осман со своими войсками помог туркам-сельджукам противостоять монголо-татарам. И за это турки укрепили его «удж», из которого потом родилась империя.
С XIV века потомки Османа начали движение в Европу, на Балканский полуостров, движение страшное, неукротимое. Казалось, ничто не способно его остановить. Главной турецкой военной силой стали созданные тогда же, в XIV веке, войска янычар. Слово «янычар» буквально означает «новое войско». Оно было создано в соответствии с гениальным замыслом. Янычары – это рабы султана, набиравшиеся только из детей христиан, в том числе и славян, воспитанные в полной изоляции от семьи, от родины и своей веры. Для таких, как они, через много столетий появится в литературе слово «манкурты» – люди, не знающие своих корней, всецело преданные султану. Кроме того, турки создали великолепный флот и даже сдавали его в аренду некоторым европейским державам.
В 1389 году османы одержали величайшую победу на Косовом поле в Южной Сербии. Их противники – сербы, боснийцы и их союзники – проявили истинный героизм. В этом сражении султан Мурад I был убит в собственном шатре легендарным сербским князем Милошем Обиличем. Несмотря на это, войска султана победили и продолжили движение на запад. В 1453 году Мехмед II завоевал Константинополь. Эта лавина остановилась лишь у стен Вены, хотя сейчас турецкая власть на территории Австрии кажется даже гипотетически невозможной. Огромные завоевания были у османов и на Востоке. При Селиме I они захватили Сирию, Египет и часть Персии. Царствование Сулеймана стало вершиной мощи и непобедимости турецкого войска.
В 25 лет Сулейман унаследовал власть у своего отца Селима. Итальянский политик Паоло Джовио писал об этом: «Бешеный лев оставил своим наследникам ласкового ягненка».
Благодаря действиям Селима I Сулейману не пришлось исполнять закон об истреблении ближайших родственников мужского пола. У него к моменту наследования не было таких конкурентов.
Судьба избавила его от подобного злодейства. И как ни удивительно, в обществе, где кровопролитие – норма, тот факт, что делать этого не пришлось, вызвал к молодому султану общую симпатию.
Подданные сразу отметили его благоразумие. Например, разрешил плененным прежде, при его грозном отце, ремесленникам и купцам из других стран вернуться на родину. Этот благожелательный шаг существенно улучшил торговлю. Правда в Османской империи торговля понималась однобоко. Ее правители хотели, чтобы все товары только ввозились в Турцию: не понимая роли экспорта, предпочитали импорт. Тем не менее, торговля оживилась.
Кроме того, Сулейман настаивал на создании светских законов – и они были созданы. В большинстве стран мусульманского Востока в то время никаких светских законов не существовало, действовали лишь законы Шариата. Принятое при Сулеймане законодательство, судя по всему, позволяло учитывать особенности завоеванных стран. Это было очень важно, чтобы разрастающаяся империя не делалась пороховой бочкой.
Сулейман вырос в Крыму, его любимая жена Роксолана была славянкой. Его тянуло в Европу, и именно туда он совершил большую часть походов. Кроме этого, он, продолжая политику отца, воевал с Ираном и отнял у него Западную Армению, Грузию и Ирак. В 1534 году Сулейман покорил Тунис, но ненадолго. Через год император Священной Римской империи Карл V отвоевал его обратно. Там же, в Северной Африке, вассалом Сулеймана признал себя Алжир.
И все-таки важнейшей целью оставалась Европа, а главными противниками – австрийские Габсбурги. Вражда с ними достигла апогея при Карле V. Серьезный удар Сулейман направил также против Венгрии – тогда заметного в Западной Европе и очень воинственного королевства. Венгры наследовали умение воевать и стремление к войне от своих предков – гуннов. Политическим центром Венгрии в XVI веке был Белград, являющийся сейчас столицей Сербии.
Древние греки считали, что где-то на Балканском полуострове находится вход в царство Аида, то есть в ад, и там постоянная война неизбежна. Так или иначе, оттуда начался поход Александра Македонского.
В первый год правления, в 1521-м, Сулейман покорил Белград. Это был большой военный успех. В следующем году он занял маленький остров Родос, расположенный между Турцией и Грецией, – мощный военный центр духовно-рыцарского Ордена иоаннитов. Иоанниты видели свою главную задачу в заботе о больных, нищих, страждущих, но умели и воевать. На Родосе у них были мощные укрепления. Итальянцы провели там значительную реставрацию, фактически выстроив все заново, но по точным эскизам прошлого. Обороняющиеся полгода выдерживали жестокую осаду, но поняли, что им не устоять, и сдались Сулейману, который в этот момент продемонстрировал свои европейские, а не восточные черты. Побежденных рыцарей не истребил поголовно, а позволил им уйти, не затребовав даже выкупа. Иоанниты ушли и обосновались на Мальте.
А Сулейман двинулся в Венгрию. В 1526 году он одержал победу над венграми, чехами и хорватами при городе Мохач. В сражении погибло 8 тысяч венгров из 20-тысячного войска, в бою пали 8 епископов. После битвы была сложена пирамида из 8 тысяч голов, а Сулейману принесли голову венгерского короля Людовика (Лайоша) II. Гора отрубленных голов – отражение азиатского отношения к цене человеческой жизни.
Продвигаясь в глубь страны, Сулейман взял Буду (этот город, объединенный с Пештом, стал столицей современной Венгрии). В 1529 году турки осадили Вену. Однако взять город им не удалось, несмотря на значительное численное превосходство: армия Сулеймана составляла около 120 тысяч человек.
Надо помнить, что в Средние века и раннее Новое время осада города – это тяжелейшее испытание не только для осажденных, но и для осаждающих. Под стенами крепости войско страдает от болезней и морального разложения. Начинается мародерство и падает боевой дух армии. И Сулейман Великолепный, потеряв около 40 тысяч человек из своих 120 тысяч, отступил.
Сулейман вновь двинулся в поход против Австро-Венгрии в 1532 году. Дойти до Вены ему не удалось, но значительная часть Венгрии осталась под его властью.
В 1536 году Сулейман добился важного дипломатического успеха – заключил союз с Францией против Северной Италии. Он провел несколько победоносных военных кампаний против Венеции – серьезного соперника, обладавшего могучим флотом.
Почему Франция – лидер европейской цивилизации – пошла на союз с мусульманской Османской империей? Это стало результатом вражды внутри европейского стана.
Главным врагом для французской монархии были Габсбурги. А поскольку Сулейман воевал с ними, Франция сочла возможным воспользоваться турецкой военной мощью. И в дальнейшем западноевропейские державы не раз с удовольствием наблюдали, как ослабляли друг друга два монстра, две агрессивные империи. Приятнее всего в такой ситуации остаться в стороне, не вмешиваясь в смертельно опасную игру.
Когда Франциск I заключил союз с Сулейманом Великолепным, французские купцы получили льготы, а турецкий флот был предоставлен в распоряжение французского короля. Сегодняшние исследователи полагают, что французы XVI века воспринимали договор с османами как обычный европейский союз двух императоров. Сулейман же понимал все совершенно иначе. Он полагал, что поощряет торговыми льготами и предоставлением флота тех, кто признал величие турецкого султана.
Итак, французам удалось направить на Габсбургов мощную разрушительную силу Османской империи. В 1540–1547 годах вспыхнула новая война, по итогам которой вассалом Сулеймана стала румынская Трансильвания. Венгерские земли были фактически разделены на турецкую и австрийскую части.
Но и эта война с Австрией не стала последней. Османы вновь выступили против Габсбургов в 1551 году, в 1552-м осадили Эгерскую крепость. О ее героической обороне есть прекрасный венгерский фильм «Звезды Эгера». Талантливое произведение искусства передает средствами кино дух сопротивления османскому нашествию, который жил в Центральной Европе. И для христиан-европейцев было совершенно безразлично, какой именно султан направляет силы османов в сердце Европы. Сулейман был «Великолепным» лишь в глазах своих подданных на Востоке.
До последнего дня своей жизни Сулейман оставался воителем. В промежутках же между военными кампаниями он вел пышную дворцовую жизнь, поощрял искусство. Сам султан писал стихи, приближал к себе поэтов. Его любимцем был Абдул Бакы, которого называли в Турции «султаном» турецких поэтов. При дворе Сулеймана был и знаменитый зодчий Синан. Он построил три великие мечети, которые считаются шедеврами мировой архитектуры: Селимие, Шахзаде («заде» означает по-персидски «рожденный», «шах-заде» – сын шаха, принц) и Сулеймание.
Сулейман пытался провести и административную реформу, но она оказалась неудачной. Вообще постоянные завоевания не способствовали успехам в управлении: каждое новое приращение земель прибавляло империи и проблем.
Когда султан был в походах, управлением занимался визирь Ибрагим-паша. Он погиб от интриг любимой жены своего господина. Роксолана, которая, вероятно, была дочерью священнослужителя, католика или православного, провела в гареме практически всю свою жизнь и стала мастерицей по части интриг. Она хотела, чтобы престол достался ее сыну Селиму, и ради этого шла на все. Она добилась казни не только великого визиря, но и старшего сына Сулеймана, Мустафы.
Рожденный другой любимой женой Сулеймана, Мустафа был официальным наследником. С юности он отличался деспотизмом и жестокостью и стал бы, видимо, вполне традиционным восточным правителем.
Роксолана устроила так, чтобы были изготовлены подложные письма от Мустафы, который якобы писал иранскому шаху и готовил заговор против отца. Поверив в предательство, султан приказал убить сына.
Сулейман умер в Венгрии во время очередного завоевательного похода. Ему было уже за 70. Тело было доставлено в Турцию с великой пышностью.
Сын Роксоланы, Селим, вошел в историю под именем Селим II Пьяница. Мусульманин-пьяница – просто невероятное сочетание! Может быть, Роксолана дала ему не вполне правоверное исламское воспитание. Был он еще и поэтом, что сочетается с пьянством гораздо чаще.
Под властью Селима II Османская империя начала терпеть военные поражения. Главное – в 1571 году, в морском сражении при Лепанто. В этой битве Испания, Венеция, Мальта, Генуя, Савойя в союзе нанесли первый сокрушительный удар по османскому движению на запад. До этого ни одна победа европейцев над турками не выглядела столь убедительной. Теперь же был развеян миф о непобедимости Османской империи.
Сулейман Великолепный не увидел заката своего государства. Его правление, с человеческой точки зрения, можно назвать счастливым. Он создал османский золотой век. Но этим были заложены и основы трагедии. Очень долго потом значительная часть турецкого общества стремилась к тому, чтобы все оставалось как при Сулеймане. Но попытка остановить историю – это смерть.
Жак де Моле Крах тамплиеров
Всем, кто в детстве не отрываясь читал Мориса Дрюона, знакомо имя Жака де Моле – двадцать третьего и последнего Великого магистра Ордена Бедных рыцарей Христа, или Ордена Иерусалимского храма – тамплиеров. Этому монашескому ордену посвящено великое множество исследований, в том числе французских, переведенных на русский язык. Среди них – книги Режин Перну «тамплиеры», Марселя Лобе «Трагедия Ордена тамплиеров», Ги Фо «Процесс тамплиеров», Жака Бордонова «Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке».
А вот индивидуальная биография Жака де Моле, можно сказать, отсутствует. Он человек без биографии. Известна лишь его трагедия. Именно его ужасная гибель сделала его знаковой фигурой европейской истории.
До момента своей страшной смерти Жак де Моле – не очень умный, не гибкий, политически наивный магистр, абсолютно уверовавший в то, что величие Ордена – навсегда, потому что величие, опирающееся на деньги, это надежно. Большое заблуждение во все эпохи!
Жак де Моле родился в 1244 году. Он родом из Бургундии, из рыцарской семьи. Никаких деталей о его семье история не сохранила. Можно с уверенностью предполагать, что образования он не получил, возможно, даже писал с большим трудом. Это не редкость в рыцарской среде того времени.
В 1265 году, в возрасте 21 года, он посвящен в члены духовного рыцарского Ордена тамплиеров в присутствии двух высокопоставленных представителей этой организации – Эмбера Де Пейро, генерального визитатора Ордена в Англии и Франции, и Амори де Ла Роше, магистра Франции. Европейский масштаб.
В те годы Бургундия фактически представляла собой самостоятельное государство. Был у нее шанс остаться таковым в истории. Но этого не произошло. В XIV–XV веках герцоги Бургундские были европейскими государями. И только ближе к концу XV века, в 1477 году, в битве при Нанси эта страница была перевернута: швейцарско-лотарингские войска при поддержке Франции разбили бургундское войско Карла Смелого. Герцогство Бургундское навсегда вошло в состав Французского королевства.
В середине XIII века у бургундского рыцарства были глубокие традиции в области морали, политики, военного дела. Важную роль в их становлении сыграли Крестовые походы, в которых бургундцы активно участвовали.
Западноевропейское рыцарство присвоило себе особый статус защитников христианских святынь на Ближнем Востоке. В 1096 году начался Первый крестовый поход: европейцы пошли отвоевывать Святую землю у турок-сельджуков и в 1099-м взяли штурмом Иерусалим.
Казалось бы, миссия выполнена – крестоносцы вернули католической церкви величайшие святыни, связанные с жизнью, смертью и вознесением Иисуса Христа.
Однако они не знали, что это лишь начало огромной драмы.
В результате крестовых походов на Ближнем Востоке возникло несколько рыцарских государств: Иерусалимское королевство и вассально зависимые от него графства и герцогства – Антиохия, Триполи и Эдесса. На гребне этого успеха появились и духовно-рыцарские Ордена. Они объединяли рыцарей, воюющих за святое дело.
Создатели Ордена тамплиеров, оформившегося в 1118 или в 1119 году, примерно через 20 лет после успеха Первого крестового похода, не были монахами. Согласно преданию, это были девять отважных французских рыцарей во главе с Гуго Де Пайеном. Они образовали братство для защиты паломников на дорогах Палестины.
Нужно сказать, что для Средневековья очень важна магия чисел. Особая значимость числа 3 связана с образом Святой Троицы. А 9 – это 3 раза по 3. В течение 9 лет 9 доблестных рыцарей позволяли паломникам спокойно следовать в Иерусалим и никого не принимали в свое братство.
Рыцарские Ордена были в определенной степени национальными. Если Орден тамплиеров объединил французов, то в возникшем одновременно с ним Ордене госпитальеров преобладали итальянцы.
Разные рыцарские Ордена были заняты, по сути, одним делом. И это должно было рано или поздно породить между ними какую-нибудь форму соперничества. Так и произошло.
Каждое братство получило от Иерусалимского короля место для своего размещения. Тамплиерам досталось некое сооружение, которое, по преданию, стояло на месте древнего иудейского храма царя Соломона. Христиане превратили это здание в церковь. Отсюда другое название тамплиеров – рыцари храма.
Что известно о ранних тамплиерах? Они были бедны. Это подчеркивает их первоначальный символ – два всадника, сидящие верхом на одном коне. В литературе сохранился их романтический образ. Французский писатель Жюль Руа в пьесе «Благородная кровь» говорит о них: «С непокрытыми головами, стриженые и бородатые, в белых плащах с алым крестом. Плащи развевались у них за плечами, подобно крыльям ангелов. Они стремительно носились на низкорослых арабских скакунах от битвы к битве, погибали один за другим, истекая кровью, и все это ради единственной цели, отвергнутой обществом, – ради вечного спасения и чести христианства». Ах, если бы так и было!
Параллельно складывался другой, народный облик тамплиеров. Дело в том, что Орден стремительно богател, используя разнообразные способы накопления богатства. Тамплиеры фактически изобрели аккредитив: люди вкладывали деньги или сокровища в один монастырь в одной стране, получали бумагу и с нею отправлялись в другую страну, где в другом монастыре могли получить наличные. Если же «вкладчик» погибал, что случалось даже очень часто, деньги оставались у тамплиеров.
Талантливые финансисты, тамплиеры ввели очень строгие правила. К их уставу приложил руку Бернар Клервоский, один из самых суровых законодателей церкви. В соответствии с уставом Орден получал от братьев особенно много имущества. С бедных паломников денег не брали: это уронило бы рыцарей в глазах религиозной общественности, однако богатых людей они принимали в свое братство с условием пожертвований в пользу Ордена земель – основного богатства в эпоху Средневековья.
Но, конечно, правила касались не только пожертвований. Тамплиер, например, не имел права отступить в сражении, если против него выступало не больше чем три человека. Трудно сказать, как рыцарь мог вести такие подсчеты во время боя, но «на всякий случай» тамплиеры никогда не отступали. По крайней мере, так гласит молва. И они действительно многократно демонстрировали это, проявляя отчаянное мужество в сражениях. Известно было, что тамплиер не дрогнет, даже истекая кровью перед лицом смерти. Захваченные в плен тамплиеры не отрекались от веры, когда мусульманские правители предлагали им за это жизнь. Предпочитали мучительную казнь.
В 1187 году тамплиеры во главе с Великим магистром героически сражались в битве при Хаттине. Рыцари потерпели поражение, что в итоге привело к потере Иерусалима, но их воинская доблесть стала широко известна.
Сам Великий магистр Ордена, предшественник Жака де Моле, раненый, сражался у стен Акры, пока не упал мертвым.
Дела на Востоке шли все хуже и хуже. Несколько раз Иерусалим переходил из рук в руки. В очередной раз Вечный город был утрачен крестоносцами в 1244 году, в год рождения Жака де Моле.
В это время происходило угасание крестоносного движения. После победоносного Первого похода подобных успехов достичь больше не удавалось. В Четвертом походе 1202–1204 годов были хотя бы финансовые приобретения – за счет ограбления христианской Византии. Пятый поход против Египта в 1217–1221 годах вообще не дал никаких результатов. По итогам Шестого похода 1228–1229 годов Иерусалим в очередной раз временно перешел к христианам – и вновь был захвачен мусульманами.
Последние Крестовые походы – Седьмой и Восьмой – возглавил яркий политический деятель, французский король Людовик IX Святой. Он истово веровал в крестоносную идею, но и его усилия оказались безрезультатными, а сами походы – мучительными. Людовик Святой скончался во время подготовки Восьмого крестового похода в 1270 году. Со времени очередной утраты Иерусалима прошло меньше тридцати лет. Многие помнили, как город и прежде переходил из рук в руки, и считали, что он потерян не окончательно.
Во второй половине XIII века тамплиеры располагали значительными военными силами: около 15 тысяч рыцарей и 45 тысяч пехоты. Для Средневековья это серьезная армия. Кроме того, у них были корабли и значительные денежные средства.
Жаку де Моле было к этому времени уже около 30 лет. Он наверняка глубоко верил в дело крестоносцев. Об этом свидетельствует его участие в военных кампаниях на Святой Земле: в морских налетах на Александрию (город в Египетском султанате), походах в Акру, попытках отбить остров Тартос близ Кипра. Именно Жак де Моле захватил остров Руад, полагая, что там можно разместить главную базу. Большого военного успеха бог ему не послал, да и, наверное, в это время уже не приходилось ждать успехов от крестоносцев на Ближнем Востоке.
Зато Жак де Моле сделал карьеру внутри Ордена – дорос до Великого прецептора Англии. А в 1293 году, в возрасте 49 лет, он стал после смерти предшественника Великим магистром Ордена. После этого он в течение нескольких лет в Италии, Франции, Англии пытался собрать деньги на Крестовый поход. Великий магистр был уверен, что христиане вернутся в Палестину. В этом его поддерживал Папа Римский Бонифаций VIII.
У Жака де Моле было великое множество проектов – от договора с Малой Арменией до обращения в христианство монголов и привлечения их к войне против турок. Безусловно, нам сегодня все это кажется абсурдом. Но ведь люди XIII века не могли знать, что живут в период зенита Средневековья, за которым последует неминуемый закат.
Де Моле организовал отправку на Кипр, куда перебралась резиденция Ордена тамплиеров, кораблей с зерном, оружием, одеждой. Но Ордену было тесно в кипрском Лимассоле. Вообще рыцарские Ордена переживали в этот период большую драму. Ведь они были созданы для защиты тех земель, которые теперь оказались утрачены.
Одни Ордена, и среди них Тевтонский, сумели перестроиться, поставить перед собой новые задачи. В Европе тоже были объекты для христианизации и длительных завоеваний, например народы Прибалтики. Положение других было безысходным. На Кипре и на ближайших к нему землях жили только христиане. Правда, еще шла Реконкиста – борьба за освобождение народов Пиренейского полуострова от арабов, но и она уже вступила в решающую фазу и не требовала вмешательства.
Тамплиеры искали себе применения и нового места дислокации. В 1306-м или начале 1307 года Жак де Моле по приглашению французского короля приехал во Францию. Там у Ордена уже была резиденция в Париже – замок Тампль. Великий магистр встретился в Пуатье с Папой Климентом V, всецело зависевшим от французского короля.
Жака де Моле очень ласково принял и сам король – Филипп IV по прозвищу Красивый. Это был крупный, сильный, воинственный человек. Морис Дрюон называет его Железным королем.
Филипп окружил себя правоведами – они назывались легистами, такими как Гийом де Ногарэ и Ангерран де Мариньи. Король добился огромных успехов в централизации Франции. Он присоединил к королевскому домену путем династического брака корону Наварры, графства Шампань, Ангумуа, город Лион с округой. Правда, он же потерпел страшное, не сразу понятое им самим поражение во Фландрии, которую не смог поглотить. В 1302 году организованные фландрские горожане вырезали французские гарнизоны (это событие получило название Брюггская заутреня). Потом произошла битва при Куртрэ, или «битва шпор», в которой фландрское ополчение разбило французских рыцарей. И все-таки в целом Филипп укрепил центральную власть.
Прославился король и тем, что проводил внезапные массовые и очень успешные конфискации имущества евреев. Тех евреев, которые подолгу жили в его королевстве, занимались финансовыми операциями, многим давали в долг, в том числе и самому королю… а он вдруг изгонял их, отбирая у них богатства. Несколько выселений евреев и страшных еврейских погромов давали французской короне кое-какой доход, однако не избавляли от проблем: Филипп IV продолжал испытывать постоянные финансовые затруднения. И он надумал обложить налогами духовенство. В сущности, дело было не только в денежных средствах. На пути к абсолютной власти церковь была единственным серьезным конкурентом монарха.
Филипп вступил в конфликт с Папой Бонифацием VIII. Подобного не знала средневековая Европа. Гийом Ногарэ отправился к Папе в город Ананьи, где тот в это время находился, и нанес ему какое-то оскорбление. В источниках отражены разные варианты: ударил по лицу, открыл ногой дверь в резиденцию, безобразно разговаривал… Как говорится в одном наивном исследовании, «не вынеся унижений, гордый старик вскоре скончался».
Сведя в могилу Бонифация VIII, Филипп посадил на его место Климента V, не напрасно рассчитывая, что тот будет ему покорен. Папская резиденция была перенесена во Францию, в город Авиньон. Очевидная дикость! Апостол престола Святого Петра, с рождения христианства находившийся в Риме, перебрался во Францию почти на 70 лет.
Интересно, что Филипп собирался и сам вступить в Орден тамплиеров – но его не приняли. Он, однако, горячо приветствовал Великого магистра и даже просил его стать крестным отцом одного из королевских детей. Правда, несмотря на такую демонстративную близость, де Моле проявил неуступчивость в одном вопросе. Ему предложили обдумать будущее объединение тамплиеров и госпитальеров на основании того, что их цели очень близки. Такая перспектива не могла не привлекать Филиппа IV, так как давала ему шанс овладеть обоими Орденами. Скорее всего, он рассчитывал сделать новым Великим магистром одного из трех своих сыновей.
Де Моле возражал по многим пунктам. Его возражения документально зафиксированы. Казалось бы, он цеплялся за мелочи, но приближающейся настоящей беды не чувствовал.
12 октября 1307 года, накануне того страшного дня, когда по всей Франции были арестованы тамплиеры – около трех тысяч человек, он присутствовал на похоронах родственницы короля, принцессы Екатерины Де Куртене, супруги Карла де Валуа, внучки императора Византии. Де Моле стоял рядом с королем и в соответствии с обрядом держал в руке кусок шнура, которым был окантован гроб. Невозможно быть ближе к королевской персоне!
Поэтому случившиеся наутро внезапные аресты были восприняты как чудовищное недоразумение, ужасная ошибка. А ведь и в XX веке такая иллюзия возникала у многих жертв незаконных репрессий.
Поводом для массовых арестов стал донос некоего Экьо де Флуарана, на всяческие безобразия, которые якобы творятся в Ордене. Нужно сказать, что незадолго до этого он был исключен из Ордена. Такие случаи бывали. Из Ордена тамплиеров действительно исключали за некоторые проступки, в том числе за пьянство. (Была, правда, поговорка «Пьет, как тамплиер», но так говорили только от зависти к богатству.) До этого Экьо де Флуаран пытался изложить то же самое королю Арагона Хайме II и предложил ему разобраться с тамплиерами, которых было немало на Пиренейском полуострове. Король Хайме не откликнулся, хотя на всякий случай дал Флуарану денег. Доносчики, как правило, не остаются внакладе.
Упорный Флуаран добрался до Филиппа IV – и тот, вероятно, с восторгом принял его донос. Приказывая арестовать тамплиеров, французский король лицемерно писал, что это «дело горестное, прискорбное, которое воистину подвергает в ужас, о котором страшно слышать, отвратительное преступление, гнусное деяние». И ссылался на «донесения многих людей, достойных доверия». Не было, конечно, этих «многих людей».
Когда тысячи тамплиеров были арестованы, началось следствие. В роли свидетелей выступали исключенные члены Ордена. Некоторые руководствовались обидой. Других запугали или подкупили. Но те и другие согласились дать чудовищные показания. Процесс длился долгих семь лет.
Выяснилось, что у тамплиеров есть тайные обряды, которые они скрывают от всех людей. При посвящении в члены Ордена принимаемый должен был якобы плюнуть на крест или на изображение Христа! Назывались и другие непристойные действия. Некоторые свидетельствовали, что тамплиеры поклоняются Бофамету – это какая-то загадочная голова, некий идол. Мало того – оказалось, что на собраниях тамплиеров якобы бывает сам Сатана. Лжесвидетели описывали его внешность и утверждали, что от него пахнет серой. Средневековые люди очень хорошо знали, как выглядит Дьявол: они видели его изображения на стенах церквей.
Очень скоро под пытками (жестокость которых превзошла все пределы) Жак де Моле дрогнул и подписал все, чего от него требовали. Правда, он все-таки подчеркнул, что при посвящении плюнул не на крест, а на пол.
По уставу судить тамплиеров мог только Папа Римский. Ведь до 1312 года Орден не был упразднен, а Жак де Моле оставался Великим магистром. Климент V начал следствие, но оно шло вяло. Папа предлагал наказать тамплиеров не слишком сурово.
Но Филиппа Красивого это никак не устраивало. Слухи о несметных сокровищах тамплиеров сделали свое дело. Когда де Моле в свое время въехал в Париж, за ним несли сундуки, наполненные сокровищами. Это было грандиозным искушением для французского короля. И Филипп IV тоже плюнул – если не на распятие, то на свою совесть. Ведь всего за год до этого он нашел убежище у тамплиеров во время бунта против его налоговой политики, против порчи монеты. Тамплиеры спасли ему жизнь. А выйдя из укрытия, он сказал: «Вы, наверное, сами бунт и организовали». Он отрешился от всего, что связывало его с тамплиерами.
Он добился, чтобы процесс пошел более интенсивно. Видимо, главным мотивом для французского короля было то, что финансово независимые тамплиеры фактически строили во Франции «государство в государстве». Это решительно не совпадало с очевидным укреплением центральной власти в стране. Не менее 150 тамплиеров во главе с Великим магистром подписали признание. Почему дрогнул Жак де Моле? Кроме чудовищных физических страданий была еще одна причина – надежда на личную встречу с папой. Он надеялся продемонстрировать Клименту V всю нелепость предъявленных обвинений. Но надежда оказалась напрасной.
Некоторые члены Ордена, сначала признавшие свою вину, позже отказались от этих показаний. И тогда начались казни. Это должно было устрашить и тех, кто намеревался заступиться за тамплиеров.
Казнь Жака де Моле состоялась в Париже. На ней присутствовали Филипп IV, Климент V, Ногарэ и многие другие. Все происходило на маленьком островке близ острова Сите (сейчас это центральный район Парижа). Тамплиеры, которых вели на казнь, были искалечены пытками, изуродованы, физически сломлены. Но в последние мгновения жизни они будто поднялись над всем земным. И Жак де Моле произнес свои пророческие проклятья.
Поскольку он сначала признался, а потом отрекся, его, вторично впавшего в ересь, было приказано казнить на медленном огне. Но таким образом его не только покарали – ему дали время высказаться. По легенде, сначала он проклял себя – за слабость. Но сказал, что верит во всепрощение Господне. А потом произнес: «Назначаю тебе, Филипп, тебе, Папа Климент, тебе Гийом де Ногарэ, встречу – не позже чем через год».
И все сбылось. Папа Климент V умер через месяц, скоропостижно и таинственно. Гийом де Ногарэ – через месяц после папы, в возрасте 43 лет, тоже необъяснимо почему. Филипп IV – через семь месяцев, в возрасте 46 лет. Он упал с лошади, получил травму – и уже не выздоровел. Затем правили его сыновья, и все неизменно умирали, не оставляя мужского потомства. А через 20 с небольшим лет началась Столетняя война. Причем связь ее с этими событиями очевидна. Со смертью сыновей Филиппа IV пресеклась линия династии Капетингов, что стало одним из важных поводов к началу военных действий.
Тайна сокровищ тамплиеров осталась загадкой на все времена. Некие бесценные клады то ли не существовали вовсе, то ли до сих пор сокрыты в тайнике, так и не раскрытом Жаком де Моле. И хотя люди нашего времени прекрасно понимают, что тамплиеры поддались вечному искушению богатством, стали ростовщиками и банкирами, их мученический конец оставляет в памяти романтический облик, например, такой, который представил французский писатель Жюль Руа в XX веке.
Тоётоми Хидэёси Из крестьян в самураи
Кто такой Тоётоми Хидэёси? Человек, живший в XVI столетии, с 1537-го по 1598 год. Современник Ивана Грозного, который был старше его всего на семь лет, а умер существенно раньше. В отличие от своего знаменитого российского современника, Хидэёси происходил из низов. Но добился, как и русский царь Грозный, огромной власти в своей стране.
Японские острова, боже мой, как это далеко! Просто другой мир. Многое в обычаях живущего там народа очень непривычно для Европы. Тем не менее, вглядевшись, понимаешь, что борьба за власть одинакова повсюду. Во многом похожи и люди, рвущиеся к власти, как бы далеко друг от друга они ни находились.
Выйдя из крестьянской среды, Хидэёси достиг самой высокой власти, которую можно было тогда вообразить. Император не в счет: для средневековых японцев он бог и сын неба. Он даже не правит – он вечный символ. А Хидэёси идет к реальной власти. Он стал единственным в японской истории крестьянином, занявшим должность дадзедайдзина – великого министра. Он добился невозможного!
Был Хидэёси и регентом. И мечтал о мировом господстве. На этом основании современные гиды, показывая его невиданный дворец в городе Осака, говорят: «Это был наш, японский, Наполеон Бонапарт». Мечта о мировом господстве – это единственное, что дает основание для такого сопоставления. Да и «мир» виделся японскому политику XVI века и европейскому завоевателю века XIX-го абсолютно по-разному. Для японца эпохи Средневековья «мировое господство» значило покорить Китай, Корею и, может быть, Индию. «Мир» на этом заканчивался.
Впрочем, и такого «мирового господства» Хидэёси не достиг. Зато по его воле было сделано очень много для объединения разобщенной феодальной Японии. Как все претендующие на славу великого правителя, Хидэёси провел важные реформы. Благодаря этому его глубоко почитают в современной Японии. Правда, так было не всегда.
Что же это была за страна – Япония XVI столетия? Она находилась на самом краю света – и это не вполне метафора. На ней кончался физически достижимый мир. В XIII веке о ней слышал совершенно фантастические рассказы великий путешественник Марко Поло, долго живший при китайском дворе. Марко Поло записал, что в Японии вдоль побережья стоят дома под золотыми крышами. Эти рассказы не имели ничего общего с реальностью. Но почему вокруг Японии возникали такие удивительные легенды? Чтобы понять это, надо заглянуть в глубины японской истории. Происхождение страны действительно было особенным.
Некоторые исследователи считают, что первоначальное население Японских островов пришло из Юго-Восточной Азии, с существовавшего некогда материка Сунда (район современной Индонезии), который поглотил Мировой океан. Часть населения погибавшего материка направилась на юго-восток, в Австралию. Другая часть – на северо-восток, на Японские острова. Некоторые специалисты настаивают, что этнически австралийские аборигены и исконные жители Японии – айны – очень похожи: у них мягко-волнистые волосы и вообще вовсе не классическая азиатская внешность. Со временем айны были вытеснены со своих земель, почти уничтожены, сейчас сохраняются лишь небольшие резервации на севере острова Хоккайдо.
На рубеже новой эры появились и другие переселенцы с континента. Не вызывает сомнений, что какая-то их часть пришла из Южного Китая, возможно через корейский полуостров. Особая цепкость тех, кто заселял Японию, отчаянная борьба за каждый клочок земли были связаны не только с тем, что острова не очень большие, но и с тем, что уйти с них по тогдашним меркам было уже некуда. Психология оказавшихся на краю мира кое-что объясняет в японской истории.
В Японии было долгое Средневековье. При всей азиатской экзотике эта феодальная цивилизация в принципиальных моментах похожа на средневековую европейскую. То же землевладение, те же крестьяне, сидящие на земле и попадающие в разные формы зависимости, та же борьба феодалов – только масштаб земельных владений поменьше. Становление японского Средневековья приходится на VII–IX века, расцвет – на X–XIV. Примерно так же, как в Западной Европе.
Зенит Средневековья – это высшая точка развития замкнутой аграрной инфраструктуры, жестко структурированной элиты, начало стремительного развития городов, политическая разобщенность – и бешеная борьба за то, кому удастся ее преодолеть.
Полного совпадения цивилизаций Востока и Запада быть, безусловно, не может. Например, в средневековой Японии крестьянин, который был тесно связан со своим земельным наделом, должен был отдавать две трети урожая в пользу государства и властителя. Это очень много. Причем все подати измерялись в коку. Коку – это объем риса, достаточный для содержания одного воина в течение года. Примерно 180 килограммов.
Тоётоми Хидэёси появился на свет в момент, когда политическая разобщенность достигла уровня хаоса. Все крупные землевладельцы воевали со всеми. Позади была эпоха ранних сегунатов. Сегун – это военный правитель, который управляет страной, формально получив от императора такие полномочия. Император остается чисто символической фигурой. Но через определенное время и сегуны оказались безвластны. Было неясно, кто теперь получит реальную власть.
Хидэёси родился в 1536 или 1537 году в деревне Накамуру провинции Овари. Сейчас эта бывшая деревня входит в состав города Нагоя. Семья была, скорее всего, крестьянская, хотя не исключено, что отец – Киносита Яэмон был слугой или даже мелким самураем. Он как солдат участвовал в междоусобных войнах, был ранен в ногу, вернулся в деревню и снова стал крестьянствовать.
Мать – Нака, из соседней деревни. Позже, по мере того как Тоётоми Хидэёси продвигался к власти, был создан миф о том, что она имела знатное происхождение. Объясняли это тем, что в деревне жили знатные люди, сосланные туда за провинности. А Нака служила у каких-то знатных и богатых людей. Но все это было выдумано, чтобы облагородить происхождение ее великого сына.
В средневековой Японии был обычай несколько раз менять имена в течение жизни. Так что при рождении мальчик был назван просто Хиеси. После совершеннолетия юношу стали называть Киносито Токини. В 26 лет он женился и взял имя Хидэёси, которое осталось при нем. А Тоётоми – это аристократическая фамилия, которую он через много лет получил от императора, приближаясь к вершинам власти. Тоётоми Хидэёси – так он именовался в последние 12–13 лет своей жизни.
А пока – голодное детство. Когда Хиеси было восемь лет, умер его отец. Мать вышла замуж второй раз. Всего в семье было четверо детей – двое от первого брака, двое – от второго. Отчим крайне неприязненно, видимо даже с ненавистью, относился к старшему мальчику. Мало того, что это неродной сын, лишний рот при малом достатке. Есть еще один, для Средневековья очень понятный резон. Хиеси внешне был удивительно нехорош. Как говорят современники, почти уродлив. И при этом подвижный, шустрый. Отсюда его прозвище – Косару, Обезьянка. Всю дальнейшую жизнь друзья звали его ласково – Обезьянка, а враги – Черная Обезьяна, Злобная Обезьяна, Коронованная Обезьяна.
Для средневекового человека отталкивающая внешность – отражение некоего промысла богов. Если человек не соответствовал строгим канонам красоты, считалось, что с ним что-то не так. И мать с отчимом отправили Хиеси в храм. Была в Японии такая традиция – хэраси, «сокращение ртов»: бедные семьи могли отдавать детей в храм, чтобы те не умерли с голоду. В храме им предстояло прислуживать и учиться основам грамоты. Как там жилось Хиеси – неизвестно. Но вряд ли очень уж хорошо.
В возрасте 15 лет он бежал оттуда, скитался, кормился случайными заработками. Рубил лес, пытался торговать по мелочам. Есть версия, что побывал в разбойниках. И на дороге случайно встретил своего первого благодетеля. Это был, условно говоря, самурай средней руки – Мацусита Кахэй.
Самураи – военное сословие, которое в то время только формируется, а потом станет закрытым, замкнутым именно по воле Тоётоми Хидэёси. Сам вырвавшись в самураи, он сделает так, чтобы другим это не удавалось. Но во времена его юности многие выходцы из крестьян, которые служили в войсках и научились военному искусству, могли стать самураями.
Мацусита сначала не понял, кто перед ним, ребенок или обезьяна. Темное лицо, смутные, необычайно подвижные черты. Но почему-то именно это странное существо он взял в свой дом.
Хиеси попал в мир самураев, или буси, что означает «воин». Дружины богатых феодалов вербовались из крестьян. К XVI веку у самураев, как и у западноевропейского рыцарства, выработался особый кодекс чести – неписаный, но строжайший – бусидо. Буквально это слово переводится как «путь самурая-воина». У самурая должны были быть три основные доблести: ти – мудрость, дзин – гуманность и ю – храбрость. Было и нечто отличавшее самураев от рыцарей – то, как они понимали готовность умереть за своего сюзерена. На Западе предполагалось – умереть в бою. В Японии же, если сюзерен трагически погиб, преданный самурай, его воин, должен покончить с собой. С этим связана знаменитая традиция сэппуку (другое название – харакири) – лишение себя жизни путем взрезания живота. Это целый торжественный ритуал. Приобщенность к нему отделяет самураев от простого народа. Условно считается, что искусство самообороны, которое разработали самураи, легло в основу дзюдо. Крестьяне тоже пытались создать собственную самозащиту. Их приемы стали базой для каратэ.
Покровитель Хиеси не был ни особенно богат, ни особенно знатен. В его доме юноша провел примерно три года. Там в 16 лет он прошел обряд инициации, повзросления, когда молодому человеку выбривают голову или половину головы и дают взрослое имя. Получил ли тогда будущий Тоётоми Хидэёси и самурайский меч – неизвестно.
Почему он ушел от своего первого благодетеля? Мацусита прослышал, что в провинции, откуда происходил Хиеси, появились новые доспехи – не кожаные, а металлические, более прочные и ценные. Очень хотелось их получить! Поэтому юноше дали денег и отправили на его родину, в провинцию Овари. В средневековых источниках информация часто бывает не очень точной. Понятно одно: ни он сам, ни деньги не вернулись. Судя по всему он купил доспехи, но не благодетелю, а себе. Правда, забегая вперед, можно сказать, что безнадежно неблагодарным в отношении Мацусита Тоётоми Хидэёси не был: достигнув высокой власти, он вознаградил первого благодетеля поместьем и землей. Но пока он присвоил деньги и не вернулся.
Почему? Стал искать более высокого покровителя. И нашел – в лице знаменитейшего человека того времени по имени Ода Нобунага. Это был объединитель Японии. Он 17 лет находился у власти и был фактически диктатором. Тоётоми Хидэёси оказался у него на службе до того, как тот поднялся на вершину власти и пережил это восхождение вместе с ним.
Всего Хидэёси провел при Нобунага 27 лет и выжил под его железной рукой. Ода отличался настоящей свирепостью. Известно, что однажды, когда у него в замке проводили ремонт, ему что-то не понравилось – и он лично снес мечом голову одному из работников.
Как же Хидэёси удалось выделиться при таком господине? Тем более на фоне блистательных полководцев, которыми был окружен Ода Нобунага. Для них Хидэёси не более чем «гражданский выскочка». Зато, как ни удивительно, «носитель сандалий» (так называлась первая должность восемнадцатилетнего Хидэёси) оказался успешным хозяйственником.
В резиденции Ода, которую он очень ценил, начался ремонт обвалившихся укреплений. Шел он медленно и не очень успешно. И вот Нобунага поручил заняться этим Хидэёси. И тот за три дня так мобилизовал рабочих, что произошло чудо! Причем он сам лично во всем участвовал, поражая окружающих подвижностью и верткостью. Ода Нобунага умел ценить чудеса. Хидэёси был замечен. Может быть, даже именно за это он был пожалован в самураи, что, конечно, вызвало насмешки военных. Они не знали, как заблуждаются!
Проявил он себя и в строительстве военных укреплений. В 1566 году Ода, который все время с кем-нибудь воевал, поручил Тоётоми Хидэёси создать укрепление на болоте. Казалось бы, это вообще невозможно. Но он справился за ночь. Так он умел организовать людей. В итоге удалось провести успешный штурм вражеского замка. С тех пор многие относились к Хидэёси с уважением.
А он двигался дальше – и превратился в настоящего полководца. В 70-х годах XVI века в составе армии Ода Нобунага он участвовал в важных военных операциях, а в 1570 году, в походе против правителей северной провинции из рода Асакура, был оставлен прикрыть отступление. То есть на верную смерть. По самурайским понятиям было бы достойно умереть в этом арьергарде. Такое случалось, кстати, и в Западной Европе. Французский эпос донес до нас историю графа Роланда, точно так же защищавшего арьергард армии Карла Великого. Рыцарь Роланд красиво умер в последнем бою. А Тоётоми Хидэёси, к изумлению всех, не только защитил отступавшую армию Ода Нобунага, но и вернулся живым и невредимым.
С этого момента он был признан в самурайской среде. Никого больше не интересовало, что он начинал как носитель сандалий и, говоря современным языком, хозяйственник. Став полководцем, Хидэёси приблизился к вершинам власти. Ибо в зените средневековой восточной инфраструктуры путь к высшей власти идет только через войну. Все сегуны были военными предводителями.
В течение нескольких лет Тоётоми Хидэёси командовал военными отрядами. Он участвовал в одной из самых знаменитых битв того времени – сражении при Нагасино. Ода был жестокосердным человеком, но прогрессивным военным. Он модернизировал войско и, помимо традиционной конницы, создал отряд пехотинцев с аркебузами. Так ему удалось победить знаменитую конницу рода Такэда, которая считалась непобедимой, но отступила перед солдатами, вооруженными огнестрельным оружием.
Это было первое масштабное применение огнестрельного оружия. Оно несколько десятилетий назад было завезено в Японию португальцами, долго имевшими монопольное право на торговлю с японцами, и прежде всего – на поставку вооружения. Но широко огнестрельное оружие не применялось. Чтобы было понятно, что произошло в битве при Нагасино, можно использовать историческую аналогию. Когда против лихой конницы Буденного и Ворошилова, казавшейся непобедимой в Гражданскую войну, идут танки, силы становятся просто несопоставимыми.
Ода Нобунага продемонстрировал истинное полководческое мастерство. Послушав иностранных военных советников, он грамотно расставил аркебузиров, продумал очередность стрельбы, чтобы, когда одни заняты перезарядкой, стреляли другие. Получился настоящий шквальный огонь. После этого сражения аркебуза начала вытеснять меч – главное оружие японского воина, символ не просто мужества и доблести, но и священной императорской власти.
Надо сказать, что и в Западной Европе распространение огнестрельного оружия ознаменовало закат эпохи рыцарства. Пушки пробили неприступные стены замков. Рыцарь, продающий свой меч, сделался не нужен – и сословие угасло. Различия между Востоком и Западом порой не так велики, как кажется на первый взгляд.
Что же происходило в жизни Тоётоми Хидэёси? Будучи помощником главнокомандующего, он однажды не согласился с военной операцией, которую разрабатывал штаб. К мнению Хидэёси не прислушались, решение было принято, приказ есть приказ. Но этот независимый человек совершил дикий поступок – он покинул штаб. Просто ушел. Строго говоря, это было дезертирство.
Операция, как и предсказывал Хидэёси, оказалась неудачной. Но дезертира в любом случае ожидала смерть. Если бы не мудрый Ода, которому уже не так много оставалось жить на свете… Он решил не казнить виновного, сказав: «Он пригодится». И ограничился, так сказать, «дисциплинарным взысканием».
В 1582 году, во время войны против рода Мори – закоренелых врагов Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси приказано было взять неприступный замок Такамацу. В Средние века существовало понятие неприступной крепости. Таков был, например, французский монастырь Монт-Сен-Мишель в Нормандии, который за 25 лет английской оккупации во второй половине Столетней войны так и не был взят англичанами.
Чтобы справиться с поставленной задачей, Тоётоми Хидэёси сделал ставку на инженерное творчество. Он приказал разрушить дамбы вокруг крепости. Многочисленные реки изменили русло – и замок превратился в остров. Он оказался отрезан от всех коммуникаций. Понятно было, что он вот-вот падет. И именно в этот момент пришло известие о гибели великого Ода Нобунага. Он вынужден был совершить сэппуку, став жертвой жестокого предательства. Предателем стал Акэти Мицухидэ – военный, равный по рангу Тоётоми Хидэёси. Все могло сложиться иначе…
Но уж если все произошло именно так, быстрый ум бывшего носителя сандалий сразу же определил линию поведения. Тоётоми Хидэёси объявил себя мстителем за предательство и помчался в Киото.
Конечно, таких «мстителей» набралось немало. Главным соперником Хидэёси стал Токугава Иэясу – будущий сегун. Важно было, кто первым прибудет в столицу. И оба гнали своих солдат. Тем временем изменник получил аудиенцию у императора и объявил себя сегуном. Но на карту было поставлено буквально все, и Тоётоми Хидэёси не знал ни страха, ни усталости. За три дня его армия проделала несколько сотен километров. Такой скорости не развил ни один другой конкурирующий «мститель». По пути были засады, но юркому Хидэёси удалось и это преодолеть.
Достигнув Киото, Хидэёси пошел войной на Акэти Мицухидэ. Он посягнул на особу, которую признал император, разгромил врага и уничтожил. Потом схватился с еще одним претендентом – Сибата Кацуиэ, победил и его. Ничто не могло остановить человека, так рвавшегося к власти.
В 1583 году Хидэёси писал о разгромленном сопернике: «Когда повсюду воцарилось безмолвие, Кацуиэ убил свою жену, детей, прочих членов семьи, а потом вскрыл себе живот одновременно с восемьюдесятью из его вассалов. Он поднялся на девятый этаж своего донжона (имеется в виду башня в центре замка), откуда обратил несколько слов к тем, кто собрался внизу, и объявил о намерении покончить с собой, чтобы послужить примером грядущим поколениям. Его люди, потрясенные, промокали слезы рукавами одежд, надетых поверх доспехов». Почему эта леденящая кровь сцена описана с таким спокойствием? Надо помнить, что в средневековой Японии такое поведение было нормативным. Заметим: победитель подчеркивает, что его соперник ушел достойно.
Потом Тоётоми Хидэёси удалось стравить между собой сыновей покойного благодетеля Ода Нобунага и объявить наследником его трехлетнего внука. Сыновья были отправлены в монастырь, а внук – в замок Гифу. Как пишут специалисты по японской истории, «с тех пор его никто не видел».
Фактически у Хидэёси остался один потенциальный враг – Токугава Иэясу. Чувствуя, что одолеть его не удастся, Хидэёси с ним поладил. Они обменялись заложниками. Со стороны Тоётоми заложницей выступала его собственная мать. Он всегда говорил о том, как он ее обожает. Но и Токугава отправил в заложники родного сына. Так утвердилась система заложничества – санкин катай, ставшая нормативным средством разрешения противоречий в Японии XVI века.
В силу своего крестьянского происхождения Тоётоми Хидэёси не мог назваться сегуном. Ему разрешалось бы это сделать, если бы он был усыновлен кем-то из потомков сегунов. Такая практика существовала. Но никто из них на это не согласился.
Тогда Хидэёси нашел себе хорошую должность. Может быть, это решение даже показалось ему лучшим. В 1585 году он объявил себя регентом (кампаку) при символическом, безвластном императоре. Но и этого ему было мало! Он стал также дайдзедайдзином – главным министром. В 48 лет он получил наконец высшую власть. И удерживал ее в течение 13 лет.
В 1587 году, уже пробыв некоторое время у власти, Тоётоми Хидэёси решил всем продемонстрировать, кто он. Он пригласил к себе самого императора. Встреча должна была состояться в грандиозном дворце Дзюракудай в Киото.
Домашним у Тоётоми Хидэёси был другой замок – в Осаке, грандиозный, построенный из громадных плит, сопоставимых с теми, из которых сложены древнеегипетские пирамиды. Вся Япония таскала эти камни. Только в этой резиденции он чувствовал себя в безопасности. А дворец Дзюракудай был построен для изящества и красоты и заполнен прекрасными вещами, драгоценными произведениями искусства, многие из которых были привезены из Китая.
В предыдущие 150 лет императоры Японии, эти живые боги, не наносили визитов смертным людям. И вот Тоётоми Хидэёси, человек с непомерным честолюбием, добился визита безвластного императора по имени Гоедзэй. Торжества подробно описаны в источниках. Улицы Киото были заполнены народом, восторженно лицезревшим живое божество. Императора принесли во дворец Дзюракудай, где он провел несколько дней. Тоётоми Хидэёси делал ему ценные подарки – земли и дворцы. Не император подданному, а подданный императору! И они были приняты!
Но если императору-символу не приходилось особенно тревожиться за судьбу страны, то Тоётоми Хидэёси должен был выстраивать и внутреннюю, и внешнюю политику.
Во внутренних делах Хидэёси вновь проявил себя заботливым хозяйственником. Он обустраивал Японию. Это даже дало основание автору современного биографического исследования, француженке русского происхождения Даниэль Елисеев, дать книге о Тоётоми Хидэёси несколько преувеличенный подзаголовок – «Создатель современной Японии».
Главное достижение регента – земельный кадастр. Земля закреплялась за основной массой крестьян. Но и крестьяне были закреплены за землей. При этом они отдавали землевладельцам две трети урожая. Тоётоми Хидэёси писал по этому поводу: «Нужно, чтобы кадастр был составлен повсюду с большой тщательностью. Если его составляли без тщательности, это надо рассматривать как преступление». А значит – взять в заложники жен и детей виновных. Это, по словам Хидэёси, «мера хорошая».
Кроме того, на крестьян были возложены обязанности, которые в Европе и в России называли гужевыми повинностями. Эти правила предусматривали, на какое расстояние крестьяне должны доставлять товары в города. И эти расстояния Тоётоми Хидэёси все время увеличивал.
Из-за огромных поборов и тяжелых гужевых повинностей в стране начались крестьянские выступления, страшные, как и все бунты Средневековья. Но и подавление было жестоким. Тоётоми Хидэёси приписал: «Если же кто-то смеет противиться, то если это владелец крепости, его надо блокировать в этой крепости и убить всех, не щадя никого. Если это крестьяне из самых презренных, их надо убить всех».
Ради наведения порядка Тоётоми Хидэёси приказал провести перепись населения и закрепить сословные границы, прекратить свободный переход из сословия в сословие. Теперь для других стало недоступно то, что удалось ему самому.
Все эти серьезные реформы были направлены на то, чтобы прекратить прежний политический и экономический хаос. Забирая у крестьян две трети урожая, Тоётоми Хидэёси обеспечивал питание воинов, а значит, порядок.
Он хотел, чтобы порядок стал вечным. Для этого был издан его самый колоритный указ – «об изъятии мечей» у крестьян. Отныне они не должны были иметь никакого оружия. У крестьян отняли не только мечи.
Им запрещалось иметь серпы, вилы, ножи. Все это хранилось на складе у деревенского старосты и выдавалось подконтрольно. Зато самураям разрешено было вместо одного меча носить два. Вот откуда знаменитый сюжет классического фильма «Семь самураев». Вот почему крестьянские общины вынуждены были нанимать воинов для своей защиты.
Изъятое оружие Тоётоми Хидэёси велел направить на создание гигантской статуи Будды. Переплавить металл на скобы для статуи! Он явно пытался осенить свой деспотический указ чем-то божественным.
Кстати, что значит «божественное» для Тоётоми Хидэёси? В Японии XVI века сосуществовало несколько конфессий. И по крайней мере с одной из них он решительно разошелся. Португальские миссионеры появились в Японии давно, и их деятельности никто не препятствовал. Тоётоми Хидэёси первый проявил нетерпимость в отношении христиан. По одной из версий, он увидел в христианской церкви опасного соперника в борьбе за власть.
Вероятно, ему не нравилось и то, что европейские проповедники рассказывали о великих земных правителях. Для него европейцы были западными варварами. Как мог он смириться с тем, что они восславляли своих королей, в особенности Филиппа II Испанского. Хидэёси показали условную карту, отражавшую колоссальный масштаб владений Филиппа II. Такое соперничество было невыносимо!
Могли быть и другие соображения. Некоторые исследователи упоминают даже об упорстве девушек-христианок, которые не желали идти к первому министру в наложницы. А у него, начинавшего сходить с ума от неограниченной власти, было уже немыслимое число наложниц, которых ему, по японской традиции, заботливо подбирала законная супруга. Вряд ли поведение каких-то девушек могло стать истинной причиной притеснения христиан. Но гонения действительно были.
Наконец, Тоётоми Хидэёси, как и все тираны-централизаторы, был озабочен расширением территорий, над которыми властвовал. Самые удачные его шаги в этом направлении – завоевание островов Сикоку и Кюсю, к югу и юго-западу от главного японского острова Хонсю, где находилась его столица Киото. Покорять новые территории были посланы огромные армии, от 100 до 200 тысяч человек. Завоевание шло нелегко. На острове Кюсю, который был экономически и стратегически очень важен, вспыхнуло сопротивление, организованное влиятельным родом Симадзу. Сначала Хидэёси попробовал вступить с противниками в переговоры, но получил такой ответ от главы рода: «Тоётоми Хидэёси захватил императора. Приказы, которые отдаются от имени последнего, вовсе не обязательно выражают желание повелителя. Этот Тоётоми Хидэёси, полагаясь на удачу, которая последнее время улыбалась ему, думает, что можно свысока говорить со мной. Так обезьянья морда полагает, что принудит меня к повиновению, оскорбляя меня! Что за жалкий наглец!» После этого ничего не оставалось кроме войны.
Завоевания островов оказались успешными и совершенно вскружили Тоётоми Хидэёси голову. Ему казалось, что теперь он может все. У него возникли планы мирового господства. То есть господства над Китаем, Кореей и, может быть, туманно известной Индией. Реальных размеров Китая Хидэёси не представлял. Да в то время у Китая и не было строгих границ.
Для начала Тоётоми Хидэёси решил завладеть Кореей, бывшей формально вассалом Китая. Он писал правителю Кореи Вану: «Расправив крылья, как дракон, я покорил Восток, устрашил Запад». Так японский властитель расценивал покорение сравнительно небольших островов Сикоку и Кюсю.
«Покорил юг и сокрушил север». Это означает – подавил сепаратизм феодалов. «Быстрый и грандиозный успех сопровождал мое возвышение, подобно восходящему солнцу осветив всю землю». Здесь он уже явно сравнивает себя с императором.
«Я соберу могучую армию и вторгнусь в великую Мин». Это Китай. «Холод моих мечей заполнит все небо над четырьмястами провинциями». Названное в тексте количество провинций условно. Оно означает просто, что их много. «Если я приступлю к исполнению этого замысла, то надеюсь, что Корея станет моим авангардом, пусть же преуспеет в этом. Ибо моя дружба с вашей почтенной страной целиком зависит от того, как вы себя поведете, когда я направлю свою армию против Китая». Итак, он предложил Корее добровольно сдаться и стать его союзницей в борьбе против Китая. Этот политический расчет оказался глубоко неверным.
В жизни Тоётоми Хидэёси началась полоса неудач. Первый крах он потерпел в домашней, личной жизни. Как не подумать о том, что и японские боги наказывают за грех гордыни!
У Хидэёси не было сына-наследника. Его жена, видимо, была бесплодна. Конечно, при огромном гареме он имел бесчисленное количество детей. Рождались и мальчики. Но очень рано умирали. Наконец в 1589 году, когда Тоётоми Хидэёси было 52 года, его любимая юная наложница по имени Едогими, родственница Ода Нобунага, родила мальчика Цуругамацу. Тоётоми Хидэёси лишился разума от радости. Он даже писал себе письма от имени сына-младенца. И отвечал на них. Эти письма сохранились. «Я получил Ваше письмо, оно меня очень порадовало. Я Вам отвечаю. Будьте хорошим мальчиком». Чистое безумие!
А в 1591 году, в возрасте двух лет, мальчик умер. Для Тоётоми Хидэёси это был внутренний крах. Только мировое господство могло компенсировать страшную потерю.
В 1592 году тысяча кораблей двинулась на завоевание Кореи, так и не изъявившей готовности перейти из вассальной зависимости от Китая к союзу с Японией. Для Кореи привычнее был большой и несколько вялый в тот период Китай, чем малознакомая воинственная Япония.
Сначала был успех. На первом этапе войны японцы захватили столицу Кореи Пхеньян. Они демонстрировали крайнюю жестокость. Японские завоеватели тщательно подсчитывали отрезанные уши и носы убитых корейцев. Их отправляли в Японию для статистики. Доходило до сотен тысяч. О достоверности этих цифр судить нельзя. Но по сей день в Киото есть место, которое называется «Могила ушей».
Закономерно, что в Корее началось бешеное сопротивление. Нашелся очень талантливый флотоводец, адмирал Ли Сунсин. Пользуясь тем, что корейские корабли были лучше укреплены, он громил японцев на море. Фактически он утопил японский флот.
Чтобы избавиться от опасного противника, японцы путем подкупа и шпионажа сумели скомпрометировать Ли Сунсина. Он чудом остался жив и был разжалован в рядовые. Правда, через некоторое время его вернули – и он одержал новые победы.
Тоётоми Хидэёси собирался лично отправиться в Корею, но так этого и не сделал. В 1595 году судьба подарила ему последнее утешение. Наложница Едогими опять родила сына, которого назвали Хидэери. Казалось бы, рождение позднего долгожданного наследника должно было смягчить нрав тирана. Но нет – многие авторы свидетельствуют, что он, напротив, окончательно потерял человеческий облик. Ему было за 60, и он торопился создать условия для передачи власти единственному сыну. Это была вовсе не любовь к ребенку. Это была любовь к собственной власти.
До рождения Хидэери Тоётоми Хидэёси готовил в преемники своего племянника, сына сестры, Хидэцугу, которого для этого усыновил. Мальчик был официально объявлен наследником. Ради этого Хидэёси даже передал ему должность кампаку.
Но с появлением младенца племянник сделался помехой на его пути.
Несчастного Хидэцугу обвинили во всем, что только можно было придумать: в разврате, шпионаже, приверженности христианству и даже садизме. И его принудили совершить сэппуку. Но и этого мало. Добившись самоубийства племянника, Тоётоми Хидэёси приказал зверски перебить всех близких ему людей, родственников и друзей, около 20 человек. Для этого были наняты бандиты с большой дороги. После этого дворец Дзюракудай, где Тоётоми Хидэёси когда-то принимал императора и где затем жил наследник, был полностью уничтожен.
Многие замечали в поведении Тоётоми Хидэёси признаки безумия. К тому же начались неудачи в войне с Кореей. Возвращенный к командованию Ли Сунсин вновь громил японцев на море. А на суше развернулась партизанская война, которая, по замечанию Л.H. Толстого, не бывает неудачной. Это справедливо во все времена и для всех народов.
Для человека, мысленно приравнявшего себя к императору, военное поражение было невозможно. Тоётоми Хидэёси собрал совет из приближенных людей, среди которых был и Токугава Иэясу, и взял с них клятвы в том, что они всегда будут верой и правдой служить его сыну Хидэери. Конечно, они поклялись. И конечно, потом они нарушили свои клятвы. Они глубоко ненавидели эту всевластную обезьяну и с нетерпением ждали ее ухода.
После смерти Тоётоми Хидэёси его сменил Токугава Иэясу. Династия Токугава закрепилась у власти в Японии на 264 года, до середины XIX века.
Хидэери на протяжении 20 лет жил в изоляции в Осаке. И хотя Токугава женил его на своей внучке, это не помешало жестоко покончить и с ним, и с внучкой, которая оказалась верной женой. Судьба наследников высшей власти часто бывает трагической. В Западной Европе принцы и принцессы – своего рода «династический товар». На Востоке – жертвы на заклание.
Конечно, Тоётоми Хидэёси не мог этого предвидеть. Но предчувствие трагедии есть в прощальном стихотворении, которое он написал чуть ли не за несколько часов до кончины. В нем он упоминает Нанива – свой любимый замок в Осаке:
Я пришел, как роса, Я уйду, как роса. Моя жизнь, мое творение в Нанива – (это Осака. – Н.Б) Не более чем сновидение сновидения.Какое позднее озарение!
«Сумма теологии» Фома Аквинский
Фома Аквинский – аристократ, философ и полемист
Фома Аквинский – один из крупнейших средневековых теологов и философов, признанный католиками Учителем Церкви и святым, а его учение – наиболее близким католическому вероучению. Однако в нашей книге мы оставим в стороне, насколько это возможно, специфические теологические проблемы и сосредоточимся на Фоме Аквинском как на философе, по-своему решавшем главные вопросы философии, над которыми размышляли мыслители и Античности, и Нового времени и продолжают размышлять наши современники.
Жизнь Фомы Аквинского была не очень длинна (он прожил около пятидесяти лет) и не была насыщена внешними событиями, хотя и богата духовно. Родился он примерно в 1224 году (в то время году рождения, в отличие от даты смерти, не придавалось большого значения, и разные источники и исследователи называют разные даты), в родовом замке в Роккасекке, на юге Апеннинского полуострова. Пяти лет от роду его отдали в бенедиктинский монастырь Монтекассино, славившийся своей ученостью, а через десять лет Фома Аквинский поступил в Неапольский университет, основанный в 1224 году его родственником, императором Фридрихом II. В то время в этом регионе жило много мусульман, иудеев и греков, пользовавшихся значительной свободой; становился популярным Аристотель, Фома приобщился к его философии.
Родители хотели, чтобы сын стал аббатом богатого монастыря Монтекассино – это соответствовало бы его происхождению, но он увлекся идеями ордена проповедников, основанного святым Домиником, в котором очень высоко ценилось образование и практиковался нищенский образ жизни, что шокировало его родителей. Фома пытался уйти в доминиканский монастырь, однако родственники схватили его по дороге и заточили в башню родового замка. Фома оставался тверд в своем решении. Рассказывают, что братья подослали к нему блудницу, чтобы отвлечь от стремления в монастырь, но Фома выгнал ее, размахивая горящей палкой, а ночью к нему во сне явились ангелы, которые оскопили его горящей веревкой и дали белый пояс целомудрия.
Увидев непреклонность Фомы Аквинского, семья смирилась с его решением. Он вступил в доминиканский орден и сначала учился в Парижском университете, потом в Кёльнском, где преподавал знаменитый философ Альберт Великий. Затем Фома преподавал в различных городах Европы, активно участвовал в делах церкви и при этом всего лишь за два десятка лет сумел написать огромное количество трудов. Говорят, что когда все книги Фомы Аквинского погрузили в телеги, понадобилось семь телег. Однако в 1273 году Фоме было видение: его труды горят как полова, после чего он перестал писать. В следующем году его призвали на собор в Лион, однако по пути он свалился с лошади, зацепившись за ветку, и через некоторое время умер в монастыре Фоссанова. Здесь перед смертью, по просьбе монахов, он все же составил комментарии к библейской Песни песен, славящей любовь.
Труды Фомы Аквинского включают два обширных трактата, охватывающих широкий спектр тем: «Сумма теологии» и «Сумма против язычников» (которую также называют «Суммой философии»), дискуссии по теологическим и философским проблемам («Дискуссионные вопросы» и «Вопросы на различные темы»), подробные комментарии на несколько книг Библии, на двенадцать трактатов Аристотеля, на «Сентенции» Петра Ломбардского, на трактаты Боэция, Псевдо-Дионисия и на анонимную «Книгу о причинах», а также ряд небольших сочинений на философские и религиозные темы, письма и стихотворные тексты для богослужения. Это множество трудов Фома сумел составить благодаря прогрессивной методике работы, в процессе которой ему помогали несколько человек: одни чинили перья и растирали чернила, другие записывали под диктовку, причем Фома мог диктовать несколько текстов одновременно. Собственноручно он писал редко и испытывал некоторые затруднения с письмом – его автографы очень трудно разобрать, к тому же он путал зеркальные буквы и парные слова (вроде «право-лево»).
Труды Фомы Аквинского, особенно его «Дискуссионные вопросы» и «Комментарии», явились во многом плодом его преподавательской деятельности, включавшей, согласно традиции того времени, диспуты и чтение авторитетных текстов, сопровождающееся комментариями. На диспутах обычно задавался вопрос, например «Существует ли Бог?», затем студенты придумали доводы в пользу тезиса, что Бога не существует. Потом учитель, в противовес этим аргументам, давал свое решение вопроса и ответы на доводы. Такая структура в урезанном виде сохранилась и в «Сумме теологии», где обычно приводится 3–4 аргумента, а в «Дискуссионных вопросах» их может быть и около 20.
Учение Фомы Аквинского, несмотря на противодействие со стороны традиционалистов (некоторые из томистских положений были осуждены парижским архиепископом Этьеном Тампье в 1277 году), оказало большое влияние на католическую теологию и философию, чему способствовали канонизация Фомы в 1323 году и признание его наиболее авторитетным католическим теологом в энциклике Aeterni patris папы Льва XIII в 1879 году. Идеи Фомы Аквинского получили развитие в рамках философского направления, именуемого «томизмом» (его наиболее яркими представителями являются Томмазо де Вио (Каэтан) и Ф. Суарес), оказали некоторое влияние на развитие нововременной мысли (особенно заметно это прослеживается у Лейбница). В течение ряда веков философия Фомы не играла заметной роли в философском диалоге, развиваясь в узкоконфессиональных рамках, но с конца XIX века учение Фомы вновь начинает вызывать широкий интерес и стимулировать актуальные философские исследования; возникает ряд известных под общим наименованием «неотомизм» направлений, активно использующих философию Фомы. Однако и вне неотомизма философия конца XIX–XX века также неоднократно продуктивно обращалась к средневековым концепциям. Вот самые известные примеры: понятие «интенции» у Брентано, в социальной философии (понятие «хабитуса»), в философии языка (например, обращение к формальному анализу высказывания у Романа Якобсона), в аналитической философии (есть даже такое направление – «аналитический томизм»). Влияние Фомы Аквинского распространялось не только на философию, но и в целом на культуру – томизм играет существенную роль в «Улиссе» Джеймса Джойса, в поэтике Поля Клоделя.
Фома Аквинский создал оригинальное учение, но сам он не стремился быть философом и создавать философскую систему. В своих трудах он активно использовал любое мнение, которое считал верным, даже если оно принадлежало язычнику, мусульманину или иудею. Вместе с тем его сочинения зачастую были откликами на актуальные проблемы и споры, а таковых тогда было немало. Во-первых, европейцы активно общались с мусульманами и многое заимствовали из их культуры. Во-вторых, в самой Европе активизировались различные движения манихейского типа (катары, вальденсы, альбигойцы, богомилы на Востоке), которые католики пытались победить силой. Ко времени рождения Фомы Аквинского относится кровопролитный Альбигойский крестовый поход; но уничтожить силой идеологию невозможно. Наконец, внутри самой католической церкви происходили изменения, связанные, в частности, с проникновением арабской философии и через нее – аристотелизма, к чему многие католики относились враждебно. И, по существу, все наиболее важные проблемы, над которыми размышлял Фома, были изначально актуальными и публицистическими, но для их решения потребовалось и использование тезауруса мировой философии, и поиск оригинальных решений.
Принцип подхода Фомы Аквинского к иноконфессиональной мысли отличается от того, который господствовал в его эпоху. Так, Бонавентура, полемизируя с учением аверроистов, делает упор на его несовместимость с католическим вероучением. Нечто противоречит Библии – и на этом можно поставить точку. Но такие доводы имеют силу лишь для единоверцев Бонавентуры. Такой принцип можно назвать «исключающим».
Фома Аквинский формулирует «включающий принцип»: с единоверцами, в случае расхождения взглядов, следует полемизировать, опираясь на основы вероучения, с еретиками – опираясь на тексты, признаваемые и католиками, и еретиками, с иноверующими – опираясь на общие принципы и философские доводы. Единственные лица, которые находятся вне полемики, – это люди, отрицающие самоочевидные принципы здравого смысла. Их позиция по большей части самопротиворечива и заставляет усомниться в том, что они сами понимают смысл своих слов (таким самопротиворечивым утверждением будет, например, заявление «движения не существует» или «люди не обладают способностью познания», так как согласно данным тезисам исповедующий их человек не обладает способностью движения и познания). Поэтому Фома Аквинский говорит о двух путях богопознания: теологии, основанной на Откровении и обращенной к католикам (она изложена в «Сумме теологии»), и теологии, основанной на свете естественного разума, которая не может противоречить теологии Откровения, поскольку и оно, и разум человеку дарованы Богом (эта теология изложена в «Сумме против язычников», где ведется дискуссия с теми, кто отвергает христианское Писание).
Христианским мыслителям понадобилось обращаться к философии еще в самом начале распространения христианства. Это делалось прежде всего для того, чтобы защищать свою веру от язычников, которым многие ее постулаты казались безумными (например, сотворение из ничего, воплощение Бога в человеческой природе, триединство Божественных Лиц, воскресение во плоти). Так создавалась христианская апологетика (апология – букв. «речь в защиту»). Но оказалось, что и внутри христианской церкви люди, считающие себя христианами, придерживаются различных точек зрения по самым важным вопросам. Например, являются ли отношения между тремя Лицами иерархическими? Или какова природа Иисуса Христа? Поэтому на первых церковных соборах в результате обсуждения этих вопросов были утверждены догматы, гласящие, что три Лица едины в своем существе, а Иисус Христос в одном Лице соединяет природу Бога и человека. Христианские мыслители, обосновывая свою точку зрения, обращались к философии стоиков (Тертуллиан) или аристотеликов (Немезий Эмесский, позже Дамаскин), но наиболее часто – к философии Платона и неоплатоников. Однако платоническое учение во многих позициях принципиально противоречит христианству, поэтому, используя его доводы и лексику, христиане рисковали отойти от своего вероучения.
Фома Аквинский радикально меняет эту ситуацию. Он показывает, что именно философия Аристотеля, которую он считал самым полным воплощением возможностей естественного разума человека, более соответствует христианскому мировоззрению. Такой пример: христиане верят в жизнь вечную. Но жизнь вечную чего? Платон в своих диалогах приводит множество доказательств бессмертия души, но ценой очищения души от тела. Вообще, согласно Платону, человек – это душа, она временно пользуется телом, будучи заключена в нем, как в темнице. Может ли христианин, верующий в воскресение в теле, использовать платонизм? Аристотель, по мнению арабских комментаторов, отвергает бессмертие души, сохраняя лишь такую возможность для небольшой интеллектуальной части, лишенной каких-либо личностных характеристик. Но Фома Аквинский показывает, что Аристотель скорее ставит вопрос о бессмертии и не дает явного и окончательного ответа. Если проанализировать аристотелевскую психологию и развить содержащиеся в ней потенции, то окажется, что, во-первых, душа человека субстанциально едина, в ней нет отдельных интеллектуальной, чувственной и растительной частей, во-вторых, душа является субстанциальной формой тела; таким образом, если интеллект неразрушим (Фома использует это слово, поскольку о бессмертии можно говорить лишь применительно к человеку в целом), то неразрушима вся душа, а будучи формой тела, она требует воскресения в теле, поскольку природа ничего не творит тщетно. Таким образом, получается, что, в отличие от платоновской, философия Аристотеля не только доказывает неразрушимость души, но и позволяет надеяться на воскрешение в теле.
В начале XIII века в христианском мире распространились различные учения, их можно назвать «манихейскими», по имени Мани, создавшего в III веке в Персии особое понимание мира, в основе которого лежит представление о вечном противоборстве двух начал, благого и злого, и человек, состоящий из души и тела, оказывается на границе этой борьбы. Это учение и его версии принимали и продолжают принимать многие люди, поскольку оно дает простую, удобную и непротиворечивую картину мира.
Христианам было довольно трудно бороться с таким учением; так, Августин был около десяти лет манихеем, затем писал антиманихейские трактаты, но не смог найти действенные аргументы против манихейства, да и сам до конца не освободился от него. Легенда гласит, что Фома Аквинский был приглашен ко двору короля Людовика Святого. Здесь он сидел молча, погруженный в раздумья, а затем ударил кулаком по столу и воскликнул: «Так мы урезоним манихеев!» Для этого ему пришлось разработать особое понимание того, что такое бытие, понимание Бога как Сущего, концепцию «аналогии существования» и понимание зла как лишенности блага. Таким образом, существовать и давать существование всему другому может только благо, Бог, а зло несамостоятельно, паразитически существовует на благе.
Извне в христианский мир активно проникали арабская культура и философия. Во многих европейских университетах стал модным аверроизм – учение, созданное на основе философии мусульманского мыслителя и комментатора Аристотеля Аверроэса. Аверроизм включал в себя множество позиций, с которыми спорили христиане: учение о двух истинах, божественной и философской, которые могут противоречить друг другу, но одновременно быть верными, учение о вечности мира, о том, что можно достичь высшего блаженства без помощи Бога, ведя созерцательную жизнь… Но наибольшие споры вызывал монопсихизм. Согласно этому учению наш разум отличен от разума другого человека только из-за того, что у нас различные тела и различный чувственный опыт. Если разум отделится от тела, то эти различия исчезнут и наш разум фактически станет единым. Монопсихизм вызывал резкое неприятие Фомы Аквинского, понимавшего человека как существенное единство души и тела и признававшего ценность отдельной личности: каждый человек сотворен Богом и для каждого Христос является Спасителем.
Полемизируя с аверроистами в специально написанном трактате «О единстве интеллекта» (также эта полемика ведется в «Дискуссионном вопросе о душе», в главе 2 из вопроса 76 части первой «Суммы теологии», приводимой в этой книге, и в «Комментариях на трактат “О душе”»), Фома Аквинский использует два подхода. Первый – лингвистический анализ, имеющий целью доказать, что те положения, которые Аверроэс и аверроисты приводят в качестве аристотелевских, на самом деле противоречат как подлинному учению Аристотеля, так и его греческим интерпретациям. Фома уличал оппонентов в том, что они либо неверно устанавливают, является то или иное положение мнением самого Аристотеля или же изложением чужой позиции, либо неверно воспринимают модальность сказанного – они часто принимают за утверждение то, что на самом деле является постановкой проблемы, вопросом или гипотезой, либо вырывают ту или иную формулировку из общего контекста аристотелевской философии и даже непосредственно ближайшего контекста трактата «О душе» и наполняют ее совершенно другим смыслом. Второй подход использует путь доказательный, «демонстративный», когда из самоочевидного положения следуют выводы, противоречащие ноологии Аверроэса.
Споры с манихеями и аверроистами совсем не канули в прошлое. И сейчас мы часто можем встретиться с «субстантивацией зла», когда сам человек, группа людей или страны признаются воплощением зла, а не носителями пороков, и потому их нужно уничтожить, а не исправлять или попытаться понять. Также распространено мнение, что отдельный человек, его мысли и устремления неважны, что он должен подчиняться коллективному разуму, решающему все за него. Если всмотреться в современные политические и социальные споры и баталии, то за сиюминутной конкретикой мы опять можем различить облики манихейства или аверроизма, с которыми сражался Фома Аквинский.
Или еще такой спор – его тема может показаться современному человеку очень странной. В католической мысли возникла идея о чистилище, особом месте между раем и адом, поначалу довольно смутная. Эту идею развивал Фома Аквинский, и после его трудов она стала ясной и общепринятой в католическом мире. Фому тревожил такой вопрос: если есть рай и ад, то куда попадут люди праведные, но родившиеся до рождества Христова и в силу этого не имевшие возможности принять Его учение? Это же не их вина, и было бы несправедливо, если бы они оправились в ад. Или какова посмертная судьба младенцев, которые умерли, не успев принять крещения (а детская смертность была в те времена очень высока)? Фому Аквинского совсем не радовала такая перспектива, что только небольшая группа людей из тех, кому повезло пройти процедуру крещения и которые ни разу в жизни не оступились, окажутся в раю, а остальные – в аду. Поэтому помимо рая и ада должны быть места для тех, кто совершил легкие грехи, но может очиститься (чистилище), и для тех, кто не успел принять христианства (лимб праотцов и лимб младенцев).
Важны ли эти рассуждения для современного мира, для решения наших насущных проблем, тем более что и сами католики в 2007 году упразднили учение о лимбе, а вера в ад, рай и чистилище является личным делом, а не религиозной доктриной? В книге «Культура и взрыв» Ю. Лотмана противопоставляются культуры российская и западная. В нашей культуре господствует дихотомическое мировоззрение. Переход от одной противоположности к другой осуществляется при помощи взрыва, сотрясающего общество до самого основания. В рамках такого мировоззрения мы обречены метаться из крайности в крайность, непрерывно уничтожая старое и возводя с нуля новое, которое опять будет разрушено. Западное мировоззрение предполагает нечто третье, опосредующее, дающее возможность вести диалог, идти на компромиссы, веками накапливать различные ценности. Конечно, на Западе тоже бывают взрывы, но они не затрагивают некой основы. В Париже на площади (сейчас она красноречиво называется площадью Согласия) может непрерывно работать гильотина, но повседневная жизнь простого провинциального буржуа или крестьянина при этом мало меняется. О причинах такой ориентации на дихотомию или трихотомию Лотман говорил еще в 1977 году в статье, написанной совместно с Б. Успенским («Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)»). В этой статье авторы усматривают причину в том, что, в то время как в русской культуре было жесткое противопоставление ада и рая, в католической культуре разрабатывалось учение о некотором медиаторе – чистилище.
В противовес манихейству и моно-психизму Фома Аквинский занимается утверждением понятия, которое станет ключевым для европейской культуры, – личности. Изначально слово «личность» (πρόσωπον по-гречески или persona по-латински) значило нечто противоположное современному пониманию, обозначая неподвижную маску, личину, надеваемую актером на сцене. Эта маска имела раструб у рта, чтобы речь звучала громче, и с этим связывали этимологию этого слова, возводя его к глаголу personare – «громко звучать»; но такая этимологизация неверна, поскольку в этих двух словах различное количество гласной «о».
«Персона» также является фундаментальным понятием римской юриспруденции (наряду с «вещью» и «действием»), обозначая человека как индивидуума, занимающего конкретное положение в социуме, в то время как homo обозначает его как экземпляр вида, a caput – как единицу, подлежащую сбору податей или военной обязанности. В правовом смысле персоной может считаться любое юридическое лицо, но не каждый человек: например, раб не является персоной.
Совсем другой смысл это слово обрело в христианстве эпохи первых соборов, когда велись тринитарные и христологические споры: Троица – три персоны одной природы, а Христос – одна персона, соединяющая две природы. То есть персона, личность – прежде всего Бог. Но человек, согласно Писанию, создан по образу и подобию Бога. Он несет в себе нечто божественное, например, в триединой структуре психики, о чем писал Августин. Для Фомы Аквинского это подобие заключается в том, что человек наделен неким достоинством (опять-таки слово, получившее специфическое значение в тринитарных спорах), обладая способностью мыслить и совершать свободный выбор, хотя и несовершенным образом, и поэтому может познавать Бога и стремиться к нему, совершенствуя это достоинство.
Истоки новоевропейского представления о достоинстве обычно связывают с периодом Возрождения и Нового времени. Но это понятие широко употребляется в трудах Фомы Аквинского (около 2500 мест). Правда, само слово «достоинство» он употребляет в различных смыслах и различных контекстах, не только для обозначения сущностного свойства личности. Однако эти слово-употребления также представляются важными, поскольку оказывают влияние на интересующее нас употребление. Во-первых, слово «достоинство» используется для перевода греческого слова «аксиома», также этимологически связанного с понятием «аксиос» – достойный. В этом смысле достоинство – это основоположение, ясное само по себе, необходимым образом находящееся в разуме и наделяющее ясностью и необходимостью все остальные положения, основанные на нем. Во-вторых, это слово относится к божественной сущности и активно используется в тринитарных спорах, например, при обсуждении вопроса, являются ли достоинства Отца (в том числе и отцовство) теми же самыми, что и Сына, если они едины по сущности.
Третье словоупотребление, в отношении к человеческой личности, можно рассматривать как исток современного употребления. Достоинство – это то, что присуще личности в ее единстве и уникальности и является ее основанием (отметим, что в современном понимании скорее из личности проистекает ее достоинство, чем из достоинства личность). Согласно Фоме Аквинскому, личность – это «то, что является наиболее совершенным во всей природе», для нее существенно быть господином своих действий, «действовать, а не приводиться в действие». Достоинство личности обозначает, что она не может использоваться как средство, но сама является целью в себе (это положение предвосхищает формулировку категорического императива Канта: «Относись к другому (и к самому себе) как к цели, а не как к средству»).
К достоинству личности прежде всего относится ее разумность. Вопросам об интеллекте человека, о познании посвящена большая часть «Трактата о человеке» из «Суммы теологии». Человеку дан разум, чтобы он мог познавать себя и окружающий мир, совершать разумные поступки и устремляться к Богу. Такой интеллектуализм разделялся далеко не всеми мыслителями той эпохи. Многие ученики Альберта Великого становились мистиками, учившими о непосредственной связи людей с Богом. В жизни Фомы Аквинского также были моменты озарения, во время которых он даже, согласно легендам, поднимался над землей, что, должно быть, было очень эффектно, учитывая его вес. Однако мистические озарения бывают крайне редко и у небольшого числа людей. Ведь человек создан не ангелом, он связан с телом и послан в материальный мир, и его разум озарен лишь небольшим огоньком, в котором мы можем интуитивно созерцать нечто, принимаемое нами за аксиомы, а затем от них переходить от одного познания к другому, постепенно расширяя наше понимание. Другие мыслители, в основном относящиеся к францисканскому ордену, ставили выше разума волю и любовь. Но воля стремится ко благу, чтобы такое стремление было, и, чтобы оно было правильным, нам нужно прежде познать разумом, что это – благо.
Наряду с разумом человеку дан и другой (но связанный с первым) дар – свобода воли. Проблема свободы воли – одна из основных тем европейской метафизики, начиная с Аристотеля и по сей день. И это не удивительно, ведь сама суть европейской цивилизации неразрывно связана с этой проблемой, причем «свобода воли» представляет собой «тотальный факт», имеющий религиозные, социальные, юридические, экономические, культурные и психологические импликации. Само существование целого ряда институтов: педагогических, экономических, юридических и проч. – зависит от определенного понимания свободы воли. Но именно в Средние века, и особенно в трудах Фомы Аквинского, было выработано то понимание свободы воли, которое легло в основу современного понимания личности. Это может показаться удивительным, поскольку человек в эту эпоху был сильно зависим от исторических событий, от материальных, природных потребностей и условий, от влияния небесных тел, от универсальных рациональных концептов, от влияния дьявольских сил и, наконец, от Божественного всеведения и предопределения, которые, как кажется, совершенно противоречат самому понятию «свободной воли», что обычно способствует развитию фатализма.
Человека можно сравнить с мореплавателем в бурном море. Этот мореплаватель из страха, что корабль потонет, бросает груз в море. Если он не сделает этого, судно пойдет ко дну. Можно ли считать его действия свободными? Согласно Фоме, такой акт является как раз необходимым; другой образ действия был бы безумием, а не выражением свободы. Но дело в том, что эта необходимость относится к средству, а не к цели, ведь, прежде чем пуститься по морю, человек, действуя по своей воле, поставил перед собой некую цель, предполагающую путешествие по морю как необходимое средство, включая значительные риски. То есть Фома Аквинский рассматривает этот случай как часть определенной стратегии, а не как изолированная ситуация, в которой, непонятно почему, очутился человек. Но он был свободен выбрать иную цель. И напротив, есть цели, которые человек не волен избирать. Наше желание стремится к благу, а наивысшим благом является Бог. Частное благо не определяет волю с необходимостью, поскольку человек может, даже мысля в данный момент это благо, желать что-либо другое, что представляется благим в другом отношении. Так, человек может хотеть то, что вредно для здоровья, но приятно для вкуса, вполне осознавая вред этого. Но даже в случае блаженства или благ, направленных на достижение блаженства, нельзя говорить о полной детерминации; блаженство желается с необходимостью в том смысле, что человек не может желать его противоположности. Но в данный момент человек может и не думать о блаженстве и, таким образом, не желать его актуально. Бог, как высшее благо, является необходимой целью нашей воли, однако к этой цели ведут различные средства (и их мы можем выбирать), они, в свою очередь, также являются целями низшего плана, также требующими средств, которые, напротив, являются более детерминированными (как в вышеприведенном случае с тонущим кораблем). Получается своего рода принцип неопределенности. Принятие цели низшего плана, к примеру желания быть здоровым, богатым или известным, резко сужает коридор наших возможностей. Если мы желаем быть здоровыми, уже не приходится выбирать, вести ли нам здоровый образ жизни или нет, следовать рекомендациям врачей или нет. То есть в отношении средств мы менее свободны. Но мы более свободны в отношении целей, поскольку совсем не обязательно желать быть здоровым, богатым или известным. Блаженство является наивысшей целью, и мы в этом случае совершенно детерминированы в отношении цели. Однако существуют ли определенные и ясные пути, ведущие к нему? Парадокс в том, что, абсолютно детерминированно стремясь к блаженству, мы должны избирать средства для его достижения. Чем выше детерминированность целей, тем больше неопределенность в выборе средств, и наоборот.
Помимо различия цели и средства (а любое действие находится в их цепи, являясь при этом как целью, так и средством для других действий) важным является учет обстоятельств, в которых совершается любое действие, поскольку они привносят свой существенный момент, вплоть до того, что принципиально меняют ситуацию, а также последствий, в том числе отдаленных и непреднамеренных. Учесть все обстоятельства и все последствия ограниченный человеческий разум не в состоянии, но это не избавляет от ответственности. То, что лучник, стрелявший по кустам и убивший находящегося в них человека, не знал об этом, не является оправданием, поскольку ему следовало бы убедиться в безопасности своих действий. Если мы представим себе существо чисто рациональное, то оно, будучи не в состоянии просчитать все обстоятельства и последствия из-за дефицита времени (ведь оно еще и смертное), не смогло бы совершить вообще никакого действия, даже, например, выбрать в супермаркете ту или иную пачку овсянки. Для этого необходим минимальный акт воли, а он может привести к неправильному выбору. Таким образом, получается, что, совершая любое действие, человек неизбежно (или хотя бы высоковероятно) совершает зло хотя бы в отдельных последствиях. Однако Фома Аквинский рассматривает не только отдельный акт в его сложной связи с обстоятельствами и последствиями, но и в целом человеческое поведение, поскольку имеет значение именно оно, а не отдельный акт. Да, мы можем, намереваясь сделать добро, совершить в результате злой акт. Но мы можем постфактум подвергнуть свои действия рефлексии, раскаяться, попытаться исправить это зло и скорректировать дальнейшее поведение.
В Средние века считалось, что выбор человека ограничивают и сверхъестественные силы – влияние звезд или дьявола. Впрочем, наши современники тоже нередко верят в астрологию или нечистую силу. Фома Аквинский не отрицает того факта, что небесные тела так или иначе могут воздействовать на человека. Однако это воздействие по своему характеру принципиально не отличается от воздействий других чувственно воспринимаемых объектов. Например, аппетитная пища воздействует на волю человека не с меньшей, а даже с большей необходимостью. Воздействие небесных тел является лишь одной из множества различных причин, находящихся в сложных соотношениях друг с другом. Равным образом Фома Аквинский полемизирует с представлением о том, что человеческая воля может быть без остатка подчинена дьявольским силам. Дьявол не в состоянии прямо воздействовать на интеллект или волю человека, он может лишь представить ему нечто как благое, путем убеждения или возбудив страсти вроде вожделения или гнева. Но и в том и в другом случае от человека зависит, принимать дьявольские соблазны или сопротивляться им.
Наиболее сложный вопрос, связанный со свободой воли, – противоречие между этой свободой и божественным предопределением. Бог является неизменной причиной всех вещей и движений. Также Он обладает вечным и необходимым познанием всякой вещи. Можно ли в таком случае вообще говорить о существовании случайных, контингентных событий в мире, в том числе актов свободной воли? Однако Бог, будучи благим, стремится сотворить сложный и многообразный мир. В таком мире следует допустить различные регионы бытия, обладающие разными степенями совершенства. И наряду с необходимыми вещами вроде движения планет допускаются и многообразные регионы, где случаются контингентные события. Такой мир является более совершенным, чем стоический мир, в которым все подчинено строгому детерминизму. Он является не механизмом, но, скорее, живым существом, а в совершенном живом существе каждый орган должен служить целому, а не быть самостоятельным совершенством. Глаз – самый прекрасный и совершенный орган, но животное, состоящее из одних глаз, выглядело бы просто чудовищным. Особым украшением мира являются существа, наделенные свободной волей. Без них мир потерял бы смысл, распался. Поэтому Бог не приводит в движение волю, жестко детерминируя ее. Ведь Бог является причиной движения во всех вещах согласно их природе (в легких вещах – так, чтобы они перемещались вверх, а в тяжелых – вниз), и «лишать вещи их собственных действий – это значит препятствовать благости Бога». Воля также приводится в движение Богом согласно ее природе, не по необходимости, но таким образом, который неопределенно относится ко многим различным вещам. Таким образом, предопределение как раз и заключается в том, что Бог делает некоторые вещи контингентными или свободными. И коль скоро божественному предопределению ничто не может препятствовать, то ничто не может препятствовать и существованию в мире свободных деятелей. Вместе с тем конечная цель каждого существа – достигнуть сходства с Богом, «поэтому противоречило бы предопределению отнимать у существа то, посредством чего оно достигает божественного сходства. Но добровольный деятель достигает божественного сходства, действуя свободно, поскольку Бог обладает свободной волей» (Сумма против язычников, III, 73).
Другой сложный парадокс связан с божественным познанием. Бог знает все, что было, есть и будет. Таким образом, если человек размышляет, сидеть ему или стоять, Бог уже в этот момент безошибочно видит еще не совершенный выбор. Фома Аквинский строит модель божественного знания на примере нашего познания (этот пример он заимствует у Боэция). Предположим, мы смотрим с возвышения на идущих по дороге людей. Они могут повернуть налево или направо, это их свободный выбор. Но если мы уже увидели, что человек повернул налево, становится ли тем самым необходимым тот выбор, который человек совершил за мгновение до этого? То, что человек сейчас идет по левой дороге, это необходимый факт, но отсюда не следует, что он был необходимым до того, как выбор был сделан.
Фома Аквинский не только утверждал определенное понимание личности, но и способствовал действию институтов, в которых личность может существовать в обществе. Одним из таких институтов была исповедь. В более ранние времена были распространены публичные формы исповеди, не предполагающие тайны (так, в памятнике конца I – начала II века. «Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (Дидахе 4.14) говорится: «Исповедуй в церкви свои грехопадения»). Учение Фомы Аквинского знаменует переход к индивидуальной исповеди, требующей интимной обстановки. Таким образом формировалась особая персональная субъективность исповедующегося, требующая углубленности в себя и умения анализировать свои душевные переживания и поступки. Меняется и субъект обращения исповеди: если коллективная исповедь фактически рассчитана на восприятие других людей, то тайная исповедь обращена непосредственно к Богу. Когда человек исповедуется публично, то он ощущает себя скорее коллективным, чем индивидуальным субъектом и осознает себя греховным даже в том, чего он лично не совершал (так некий мужчина, принявший обет безбрачия, может, несмотря на это, исповедоваться в нарушении супружеской верности); индивидуальная исповедь заставляет четко прочертить границы своей персональной субъектности.
Основной подход Фомы Аквинского к вопросу о тайне исповеди основан на том, что он полагает исповедь кающегося перед священнослужителем неким внешним актом, являющимся своего рода знаком внутреннего акта раскаяния перед Богом, и именно это определяет ее сакральную ценность. Но коль скоро Бог скрывает грехи тех, кто раскаивается перед Ним, необходимо, чтобы содержание исповеди оставалось сокрытым, иначе утрачивается сакральная действенность покаяния, являющегося ключом к спасению. Вместе с тем Фома Аквинский обращает внимание и на прагматический аспект тайны исповеди: она побуждает людей исповедоваться с большей охотой и доверием.
Таким образом, философия Фомы Аквинского, которая может показаться современному читателю совершенно чуждой и по «схоластической» форме, и по содержанию, тесно связана с установлением фундаментальных основ современного мира и с решением насущных вопросов. Современные мыслители все чаще обращаются к наследию Фомы, иногда в весьма неожиданных местах. Например, Джорджо Агамбен, один из самых важных и парадоксальных мыслителей нашего времени, создает концепцию «Грядущего сообщества», обращаясь к представлениям Фомы о лимбе, об искре, которая не гаснет ни в каком человеке, даже в Каине, к полемике Фомы и Дунса Скота о принципе индивидуации. Славой Жижек, сумевший сделать философию частью современных масс-медиа, в своем труде «Кукла и карлик» то и дело приводит обширные цитаты из Честертона, в свою очередь опиравшегося на Фому Аквинского. Сейчас, как и много веков назад, ведется спор о субъекте, личности, свободе воли – эти понятия порой отвергались во второй половине XX века, но Ален де Либера привлекает философию Фомы для нового обоснования субъекта. Понятие синдересис опять возникает в этических дискуссиях относительно поиска оснований для этики и политики. И наша книга имеет своей целью не просто дать читателю информацию о философии давно ушедшей эпохи, а показать, что Фома Аквинский может быть нашим собеседником и современником.
«Сумма теологии» (Summa theologiae (1265–1273), написана в Риме, Париже и Неаполе) считается главным произведением Фомы Аквинского. В этой книге он пытается систематизировать итоги своих трудов и изложить их в достаточно доступном и кратком виде, прежде всего для студентов-теологов. Это определяет особенности трактата, в котором излагается «священное учение», то есть рациональная система, базирующаяся на истинах, считающихся богооткровенными. «Сумма теологии» состоит из трех частей (причем вторая, в свою очередь, разделена на две): pars prima, pars prima secundae, pars secunda secundae и pars tertia (согласно наиболее распространенной традиции цитирования части обозначаются римскими цифрами – S. th. I, I–II, II–II, III); каждая часть состоит из трактатов, разделенных на вопросы, в свою очередь подразделяющиеся на главы-артикулы (обозначаются соответственно q. и a.). Такое строение текста, как отметил теоретик культуры Эрвин Панофски в работе «Готическая архитектура и схоластика», делает его похожим на готический собор, имеющий форму стрельчатой арки, в которую вписаны три меньшие арки, также состоящие из арок, и т. д. В заглавие каждой главы выносится спорный вопрос, затем следует несколько аргументов, приводимых от лица оппонентов, далее приводятся решение вопроса и ответы на аргументы. Каждая глава тесно связана со всеми остальными общей системой аргументации и снабжена внутренними отсылками, формирующими гипертекст. Его можно читать, начиная с интересующего читателя вопроса, а затем переходя по мере надобности к другим. «Сумма теологии» не была завершена Фомой в связи с пережитым им экстатическим видением, в котором его труды были объяты пламенем «как полова». После этого он прекратил писать. Работа была закончена Реджинальдом из Пиперно, секретарем и другом Фомы, основывающимся на имеющихся материалах. Полная «Сумма теологии» содержит 38 трактатов, 612 вопросов, подразделенных на 3120 глав, в которых обсуждается около 10 000 аргументов.
«Сумма теологии» не является произведением, посвященным узкой проблематике, а представляет собой свод, стремящийся к максимальному охвату как фундаментальных проблем высокого уровня обобщения, так и предельно конкретных вопросов, и включающий в себя практически все основные части философии: онтологию, гносеологию, этику и в имплицитном виде – эстетику (однако в «Сумме теологии» Фома не уделяет отдельного внимания логике и натурфилософии). Значительная часть трактата посвящена чисто теологическим темам, хотя и исследуемым при помощи философского аппарата (в особенности часть III, где говорится о воплощении, деяниях, страстях Христа (q 1–59) и таинствах (60–90)).
В «Сумме теологии» Фома ведет активный диалог с философскими концепциями, выработанными в различных исторических, национальных и конфессиональных обстоятельствах; наиболее часто он обращается к Аристотелю, Августину, Псевдо-Дионисию Ареопагиту, Боэцию, Аверроэсу, Авиценне, Ибн Гебиролю, что не умаляет значения Фомы как оригинального мыслителя.
Прежде всего Фома обосновывает необходимость теологии как науки, со своими целью, предметом и методом исследования (1), трактуемой им как наука о первопричине и предельной цели всего сущего. Поэтому «Сумма теологии» начинается с трактата о Боге, Его сущности и свойствах (2–43), а затем переходит к рассмотрению сотворенного мира (44–109). Из части I наиболее важными в философском отношении являются вопрос 2, в котором приводятся пять доказательств существования Бога; учение о совпадении сущности и существования в Боге (3), понятие о Боге как о сущем, составляющее ядро философии Фомы (13–14), о тождестве в Боге сущего, благого (5) и единого (11). Теория «сотворения из ничего» получила обоснование в гл. 44–46; основы гносеологии заложены в учении об идеях (15) и в концепции истины как «соответствия» интеллекта и вещи (16–17); а основы этики – в теории зла как «лишенности» блага (48–49). Важное место отведено учению о человеке как о существе, составленном из духовной и телесной субстанции (75), исследованию природы человеческой души и ее сущностного единства с телом (76), взаимосвязи интеллектуальной и желающей способностей души, на основании которой Фома доказывает наличие у человека свободы воли (83) и вырабатывает теорию познания, описывающую движение от эмпирического восприятия единичных конкретных вещей к предельно абстрагированному познанию (84–89).
Самая обширная часть II, делящаяся на части I–II и II–II, содержит подробно разработанный трактат по антропологии и этике. I–II начинается с формулирования предельной цели человека (1), заключающейся в достижении наивысшего счастья, состоящего в созерцании Бога (2–5), и именно способ достижения этой цели определяет ход анализа человеческих способностей и действий. Действие рассматривается как сложное единство произвольного и непроизвольного, интеллектуального и волевого, внутренних интенций и внешних обстоятельств, и каждый из этих моментов определяет наличие блага или зла в конкретном поступке (6–21). Обстоятельно проанализировав страсти души (любовь и ненависть, желание и отвращение, наслаждение и боль, надежду и отчаяние, отвагу и страх, гнев (22–48), Фома переходит к определению устоявшихся навыков (хабитусов), добродетельных и греховных (49–89) и завершает часть трактатом о «естественном» и человеческом законах, основывающихся на вечном, божественном законе (90–95).
В II–II Фома анализирует добродетели и способности человека и противоположные им греховные наклонности; исследование, в частности, таких феноменов, как надежда (17), отчаяние (20), радость (28), страх (125), великолепие (134), гнев (158), любопытство (167) и др., во многом предвещают интерес к человеческим экзистенциалам в более поздней философии; уделено также внимание необычным явлениям, таким как предвидение будущего (171–174), экстатические состояния (175) и др. В конце этой части Фома обращается к утверждению преимущества созерцательного типа жизни над деятельным (179–182).
«Сумма теологии» быстро завоевала широкую популярность, и количество рукописных копий, изданий и переводов едва ли поддается учету. Первая печатная публикация (части secunda secundae) была выполнена Петером Шеффером, издателем из Майнца, в 1467 году, а первое полное издание осуществлено в Базеле в 1485 году. Наиболее значительные издания (в рамках полного собрания), повлиявшие на последующие, – «Piana» (Рим, 1570 год, по повелению папы Пия V) и «Leonina» (Рим, с 1882 года, по повелению Льва XIII, с классическими комментариями Томазо де Вио (XVI в.).
В нашем издании мы выбрали лишь малую часть вопросов из первой части «Суммы теологии», которые представляются, с одной стороны, наиболее ключевыми для понимания философии Фомы Аквинского, с другой – сохраняющими наибольшую актуальность для современного читателя. Эти вопросы сгруппированы в разделы, заглавия разделов принадлежат составителю. Ссылки даны непосредственно в тексте в кратком виде, с обозначением общепринятой пагинации (в случае Платона и Аристотеля) или номеров книг или разделов и глав в остальных случаях, тексты Писания в общепринятом формате. Перевод К.В. Бандуровского (некоторые вопросы (14, 19, 22, 45, 75, 76, 79, 82–84) совместно с М.М. Гейде).
Константин БандуровскийБог
«Сумма теологии» начинается с гносеологического вопроса: в какой мере вообще мы можем познавать Бога, каким образом и как это познание соотносится с нашим познанием в целом. Фома Аквинский придерживается последовательно рационалистического подхода, полагая, что человеку дан разум затем, чтобы он активно познавал мир и его создателя, Бога. Однако наш разум – «слабый огонек», способный освещать лишь небольшие участки знания, которые принимаются за основоположения, и от них переходить шаг за шагом (то есть дискурсивно) к другим истинам. Пользуясь нашим естественным разумом, мы можем открыть только небольшую часть истин о Боге (например, что Бог существует), в то время как другие останутся непознаваемыми для нас (к примеру, каким образом Бог может быть триединым). Но непознаваемое для нас не значит противоречащее разуму вообще, просто наш разум не способен этого познать. Для разума блаженных, то есть людей, после смерти приобщившихся к Богу, или ангелов триединство вполне познаваемо. Кроме того, наша жизнь ограниченна и полна различными заботами, а философское размышление требует много времени. Поэтому помимо науки, базирующейся на естественном разуме, которая изложена Фомой Аквинским в «Философской сумме» («Сумме против язычников»), необходима другая наука, теология, основывающаяся не на истинах, открываемых разумом, а на истинах, открытых Богом в Священном Писании, ведь знать их важно для спасения души. О том, что это за наука, идет речь в первом вопросе «Суммы теологии».
1. Священное учение
Вопрос 1. О священном учении – каково оно и на что распространяется
Для того чтобы намерение наше удерживалось в неких точных границах, необходимо прежде всего исследовать само священное учение – каково оно и на что оно распространяется.
И относительно этого следует поставить десять вопросов:
1. О необходимости этого учения.
2. Является ли это учение наукой?
3. Едино ли оно или множественно?
4. Теоретическое ли оно или практическое?
5. О его соотношении с другими науками.
6. Есть ли оно – мудрость?
7. Каков его предмет?
8. Доказательно ли оно?
9. Надлежит ли ему использовать метафоры или символические обороты речи?
10. Следует ли этому учению истолковывать Священное Писание согласно многим смыслам?
Глава 1. Необходимо ли, чтобы помимо философских дисциплин имелось другое учение?
Относительно первого следует рассмотреть такое положение: считается, что нет необходимости, чтобы помимо философских дисциплин имелось другое учение. Ведь человек не должен стремиться к тому, что превосходит его разум, согласно Екклезиастику (Иисусу, сыну Сирахову): «Не испытывай то, что превыше тебя» (Сир. 3, 21). Но то, что подвластно разуму, в достаточной мере изучается в философских дисциплинах. Следовательно, кажется излишним, чтобы помимо философских дисциплин имелось другое учение.
2. Кроме того, наука может быть только о сущем, поскольку ничто не может познаваться, кроме истинного, которое обратимо с сущим. Но все сущее исследуется в философских дисциплинах, даже сам Бог, поэтому некая часть философии называется теологией, или божественной наукой, как ясно из шестой книги «Метафизики» Философа (1026а 19). Следовательно, нет необходимости, чтобы помимо естественных дисциплин имелось другое учение.
Обратимость истинного и сущего: в онтологии Фомы Аквинского используется три наиболее общих понятия: сущее, благое и истинное, которые можно отнести к любому объекту. Эти понятия являются обратимыми, то есть сколько в какой-либо вещи бытия, настолько же она блага и истинна, и наоборот. Различие этих понятий связано с тем, как именно мы рассматриваем какую-либо вещь: если саму по себе, то она сущая, если она предмет нашего желания – благая, если объект познания – истинная.
Философ – Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ, создатель одной из наиболее влиятельных философских систем, охватывающих логику, онтологию, теорию познания, психологию, этику, политологию, естественные науки. Выработал концептуальный аппарат, который активно используется Фомой Аквинским. Количество цитат из Аристотеля, приводимых им, превышает количество цитат из всех остальных философов; Фома Аквинский считал аристотелевскую философию высшим выражением способности естественного разума человека и потому называл его просто Философом. Практически все сочинения Аристотеля подробным образом прокомментированы Фомой.
Но этому противоречит то, что говорится во Втором послании к Тимофею (2 Тим. 3, 16): все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления, для праведности. Но богодухновенное Писание не относится к естественным дисциплинам, которые суть изобретения человеческого разума. Следовательно, полезно, что помимо физических дисциплин есть другая наука, вдохновленная Богом.
Отвечаю: следует сказать, что было необходимо для спасения человека, чтобы, помимо физических дисциплин, которые исследуются посредством человеческого разума, было некое учение, основанное на Божественном Откровении. И прежде всего потому, что человек направлен к Богу как к некоторой цели, которая превосходит постигаемое разумом, согласно Исайе: «Глаз не видал Бога, кроме Тебя, который столько предуготовил почитающим Его» (Ис. 64, 4). Но надлежит, чтобы людям, которые должны направлять свои намерения и действия к цели, была заранее известна цель. Поэтому было необходимо для спасения, чтобы благодаря Божественному Откровению человеку стало известно то, что превышает человеческий разум.
Что же до того, что можно понять о Боге человеческим разумом, то было необходимо, чтобы человек был наставлен Божественным Откровением, поскольку истина о Боге, постигнутая разумом человека, обнаружилась бы лишь немногими, и после долгого времени, и с примесью многих заблуждений; от знания же этой истины зависит все спасение человека, каковое – в Боге. Поэтому, чтобы спасение людей произошло и более подобающе, и более верно, было необходимо, чтобы они были наставлены в Божественном благодаря Божественному Откровению. Поэтому было необходимо, чтобы помимо философских дисциплин, которые исследуются разумом, имелось священное учение, полученное через Откровение.
1. Относительно первого следует сказать, что, хотя то, что превышает человеческое познание, не может разыскиваться человеком посредством разума, однако оно должно быть принято верой, поскольку оно открыто Богом. Поэтому там же продолжается (Сир. 3, 25): «Многое открыто тебе, что превышает человеческое постижение». И из такого рода вещей состоит священное учение.
2. Относительно второго следует сказать, что различное обоснование познаваемого производит различие наук; ведь астроном и натурфилософ делают одно и то же заключение, например что земля круглая, но астроном посредством математики (то есть отвлекаясь от материи), а натурфилософ посредством рассмотрения материи. Поэтому ничто не препятствует, чтобы изучаемое философскими дисциплинами, насколько оно познаваемо благодаря свету естественного разума, могло также изучаться другой наукой на том основании, что оно познается благодаря свету Божественного Откровения. Следовательно, теология, которая относится к священному учению, отличается по роду от той теологии, которая считается частью философии.
Разделение естественной и математической наук посредством их отношения к материи в целом характерно для Средневековья. Еще Боэций в трактате «Каким образом Троица есть единый Бог» писал, что математическое знание «исследует формы тел без материи и потому без движения», в то время как естественная наука «исследует формы тел вместе с материей, ибо в действительности формы неотделимы от тел. Тела оно рассматривает в движении, ибо движение присуще форме, соединенной с материей».
Глава 2. Является ли священное учение наукой?
1. Относительно второго следует рассмотреть такое положение: считается, что священное учение – не наука. Ведь любая наука исходит из самоочевидных оснований. Но священное учение исходит из постулатов веры, которые не самоочевидны, так как признаются не всеми: «ибо не во всех вера» (2 Фес. 3, 2), как говорится во Втором послании к Фессалоникийцам. Следовательно, священное учение – не наука.
2. Кроме того, не существует науки о единичном. Но священное учение изучает единичное – такое, как деяния Авраама, Исаака и Иакова и им подобных. Следовательно, священное учение не есть наука.
Но против этого то, что говорит Августин в трактате «О Троице» (XIV, 7): «Только эта наука наделена тем, посредством чего спасительнейшая вера зарождается, питается, защищается и укрепляется». Но эти слова относятся не к какой иной науке, кроме как к священному учению. Следовательно, священное учение есть наука.
Отвечаю: следует сказать, что священное учение есть наука. Но следует знать, что существует двоякий род наук. Одни исходят из оснований, известных благодаря естественному свету интеллекта: такие, как арифметика, геометрия и того же рода. Иные же исходят из оснований, известных благодаря свету более высокой науки: например, наука о перспективе исходит из оснований, ставших известными благодаря геометрии, а музыка – из оснований, известных благодаря арифметике. И священное учение есть наука такого рода, поскольку она исходит из оснований, известных благодаря свету более высокого знания, а именно знания, которым обладают Бог и блаженные. Поэтому подобно тому, как музыка доверяет основаниям, данным ей Арифметикой, так и священное учение доверяет основаниям, открытым ей Богом.
1. Относительно первого следует сказать, что основания любой науки или самоочевидны, или возводятся к чему-то известному в более высокой науке; и таковые, как сказано выше, суть основания священного учения.
2. Относительно второго следует сказать, что единичное рассматривается в священном учении не так, что оно является предметом изучения первичным образом, но оно введено скорее в качестве жизненного примера (подобно тому как единичное используется в моральных науках), а также для свидетельства об авторитете тех мужей, через кого было ниспослано нам Божественное Откровение, на котором основано Священное Писание, или учение.
Глава 3. Является ли священное учение единой наукой?
1. Относительно третьего следует рассмотреть такое положение: считается, что священное учение не является единой наукой. Ведь, как утверждает Философ в первой книге «Второй Аналитики» (87а 38), единая наука есть та, предмет которой относится к единому роду. Но Творец и творение, рассматривающиеся в священном учении, не охватываются одним родом. Следовательно, священное учение не является единой наукой.
2. Кроме того, в священном учении рассматриваются ангелы, телесные творения и человеческие нравы. Но таковые относятся к различным философским наукам. Следовательно, священное учение не является единой наукой.
Но против этого то, что в Священном Писании говорится о нем как о единой науке; ведь сказано в книге Премудрости (Прем. 10, 10): «Премудрость даровала ему знание святых».
Отвечаю: следует сказать, что священное учение – единая наука. Ведь единство способности и навыка должно рассматриваться согласно их объекту, но не в материальном аспекте, а согласно формальному основанию объекта. Например, человек, осел и камень сходятся в одном на формальном основании – «цвета», который есть объект зрения. Но поскольку Священное Писание рассматривает нечто согласно тому, что оно дано Богом в Откровении, то, в соответствии со сказанным выше (q. 1, а. 2), все, что относится к Божественному Откровению, сходится в одном формальном основании объекта этой науки и поэтому охватывается священным учением как единой наукой.
1. Относительно первого следует сказать, что священное учение определяет Бога и сотворенное не одинаково, но Бога в первичном смысле, а сотворенное согласно тому, что оно относится к Богу как к основанию или цели. Следовательно, единству этой науки ничто не препятствует.
2. Относительно второго следует сказать, что ничто не препятствует низшим способностям или навыкам различаться относительно тех материй, которые вместе подпадают под одну более высокую способность или навык, потому что более высокая способность или навык рассматривают объект на более универсальном формальном основании; так, например, объект общего чувства есть чувственно воспринимаемое, которое включает в себя и видимое, и слышимое. Поэтому общее чувство, хотя оно и единая способность, простирается на все объекты пяти чувств. И подобным образом то, что исследуется в различных философских науках, может рассматривать священная наука, будучи единой, на одном основании, а именно богооткровенности. Таким образом, для того, чтобы священное учение было как бы неким отпечатком божественной науки, она из всех – едина и проста.
Фома, следуя Аристотелю, делит чувства на внешние (sensus exteriores) и внутренние (sensus interiores). Внешних чувств пять: осязание, вкус, обоняние, слух и зрение; к внутренним относятся общее чувство, фантазия, память и оценивающая способность (vis aestimativa). Функция общего чувства заключается в том, чтобы координировать данные внешних чувств.
Глава 4. Является ли священное учение практической наукой?
1. Относительно четвертого следует рассмотреть следующее положение: считается, что священное учение – практическая наука. Ведь цель практики есть дело, согласно сказанному Философом во второй книге «Метафизики» (993b 21). Но священное учение направлено на дело, согласно Иакову (Иак. 1, 22): «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Следовательно, священное учение есть практическая наука.
2. Кроме того, священное учение разделено на Ветхий и Новый Закон. Но закон относится к моральной науке, которая есть наука практическая. Следовательно, священное учение есть практическая наука.
Но против этого то, что всякая практическая наука изучает совершаемое человеком; так, моральная наука изучает человеческие поступки, а архитектурная – строительство. Священное же учение есть прежде всего наука о Боге, деяния Которого величественнее человеческих. Следовательно, она не практическая, но в большей степени теоретическая наука.
Отвечаю: следует сказать, что священное учение, будучи единым, как сказано выше (q. 1, а. 3), распространяется на то, что относится к различным философским наукам, по формальному основанию, а именно поскольку в различных вещах она принимает во внимание то, что познаваемо благодаря божественному свету. Поэтому хотя среди философских наук одна – теоретическая, а другая – практическая, однако священное учение охватывает собой и ту и другую; подобно тому как Бог, посредством одной и той же науки, познает и Себя, и Свои творения. Все же оно в большей степени теоретическое, нежели практическое, потому что оно занимается божественными вещами прежде, чем человеческими действиями, каковыми оно занимается постольку, поскольку ими человек направляется к совершенному богопознанию, в котором состоит вечное блаженство.
И из этого ясен ответ на возражения.
Глава 5. Достойнее ли священное учение, чем другие науки?
1. Относительно пятого следует рассмотреть такое положение: считается, что священное учение не достойнее, чем другие науки. Ведь к достоинству науки относится достоверность. Но другие науки, в основаниях которых нельзя сомневаться, кажутся более достоверными, чем священное учение, основания которого, то есть постулаты веры, допускают сомнение. Следовательно, кажется, что другие науки достойнее ее.
2. Кроме того, более низкой науке надлежит принимать нечто от высшей; как, например, музыка принимает от арифметики. Но священное учение принимает нечто от философских дисциплин. Говорит же Иероним в «Послании к великому оратору города Рима» (Письмо 70), что древние ученые настолько оросили свои книги учениями и сентенциями стольких философских учений, что не знаешь, чем прежде надлежит восхищаться в них – светской эрудицией или библейской ученостью. Следовательно, священное учение ниже других наук.
Св. Иероним Стридонский (342–419 или 420), выполнил перевод Библии на латинский язык, признанный католиками официальным (т. н. Вульгата, «Общепринятая»), а сам Иероним считается святым покровителем переводчиков. Обладал обширными познаниями в области философии и литературы, знал множество языков. Он часто приводится Фомой, как пример эрудита. Православными почитается как Блаженный.
Но против этого: о других науках говорится как о служанках священного учения, например, в Притчах (Притч. 9, 3): «Она послала служанок своих провозгласить с возвышенности городской».
Отвечаю: следует сказать, что эта наука, и в той мере, в какой она теоретическая, и в той мере, в какой она практическая, превосходит все другие, как теоретические, так и практические. Ведь говорится, что среди теоретических наук одна достойнее другой или из-за большей достоверности, или из-за достоинства ее предмета. В обоих отношениях эта наука превосходит другие теоретические науки. В отношении достоверности потому, что другие науки обладают достоверностью за счет естественного света человеческого разума, который может заблуждаться; она же обладает достоверностью от света божественного знания, которое не может обманываться. В отношении достоинства предмета потому, что эта наука главным образом о том, что своей величественностью превосходит разум, в то время как другие науки рассматривают только то, что подчиняется разуму. Из практических же наук та достойнее, которая не направлена к более высокой цели, так, например, политическая достойнее, чем военная, ведь благо войска направлено ко благу государства. Но цель этого учения (поскольку оно практическое) есть вечное блаженство, к которому как к предельной цели направлены все прочие цели практических наук. Поэтому ясно, что в любом отношении она достойнее, чем другие науки.
1. Относительно первого следует сказать: ничто не препятствует тому, что нечто, достоверное по своей природе, есть менее достоверное для нас из-за немощи нашего интеллекта, который относится к наиболее ясному в природе, как глаза совы к свету солнца, как сказано во второй книге «Метафизики» Аристотелем (993b 31). Поэтому сомнение, которое возникает у некоторых относительно постулатов веры, происходит не из-за сомнительности вещи, но из-за немощи человеческого интеллекта; все же самое малое, что может иметься относительно познания самых высоких вещей, более желательно, чем наиболее достоверное знание, которое имеется относительно меньших вещей, как говорится в книге первой «О частях животных» Аристотеля (644b 31).
2. Относительно второго следует сказать, что эта наука может принимать нечто от философских дисциплин не так, как если бы она из необходимости нуждалась в них, но ради большей ясности того, что изучается в этой науке. Ведь она принимает свои основания не от других наук, но непосредственно от Бога, благодаря Откровению. И поэтому она не принимает от других наук как от высших, но использует их как низших и как служанок, подобно тому как архитектура использует подчиненные ей науки или как политическая – военную. И то, что она так использует их, происходит не из-за ее недостаточности или неудовлетворительности, но из-за недостаточности нашего интеллекта, которому легче руководствоваться тем, что познается благодаря естественному разуму (от которого происходят другие науки), нежели тем, что превышает разум, а именно оно и изучается в этой науке.
Глава 6. Является ли это учение мудростью?
1. Относительно шестого следует рассмотреть следующее положение: считают, что это учение – не мудрость. Ведь никакое учение, которое заимствует свои основания извне, не достойно имени мудрости; поскольку мудрому надлежит направлять, а не быть направляемым, как говорится Аристотелем в первой книге «Метафизики» (989а 18). Но это учение заимствует свои основания извне, как ясно из сказанного выше (q. 1, а. 2). Следовательно, это учение – не мудрость.
2. Кроме того, мудрости надлежит доказывать основания других наук. И поэтому о ней говорится, что она – глава наук, как ясно из шестой книги «Этики» (Аристотель. Никомахова этика, 1141а 20). Но это учение не доказывает оснований других наук. Следовательно, оно – не мудрость.
3. Кроме того, это учение приобретается посредством научения, в то время как мудрость имеется благодаря вдохновению от Бога; поэтому она перечисляется среди семи даров Святого Духа, как видно из пророчеств Исайи (Ис. 11, 2): «И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Следовательно, это учение – не мудрость.
Но против этого то, что говорится во Второзаконии в начале законодательства: «В этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов» (Втор. 4, 6).
Отвечаю: следует сказать, что это учение есть мудрость, величайшая среди человеческих мудростей; и не только в каком-либо роде, но просто. Поскольку мудрый должен направлять и судить, а суждение происходит тогда, когда посредством более высокой причины рассматриваются низшие, о том говорится, что он мудр в каком-либо роде, кто рассматривает самую высокую причину этого рода: как, например, в роде строительства тот мастер, который планирует форму дома, называется мудрым и архитектором, в отличие от низших мастеров, которые обтесывают бревна и добывают камень; поэтому говорится в Первом послании к Коринфянам: «Я… как мудрый строитель, положил основание» (1 Кор. 3, 10). И опять-таки в роде всей человеческой жизни благоразумный называется «мудрым», поскольку он направляет человеческие действия к должной цели. Потому говорится в Притчах: мудрость мужа – это благоразумие (Прит. 10, 23). Поэтому более всего называется мудрым тот, кто рассматривает просто наивысшую причину всей Вселенной, каковая есть Бог. Поэтому о мудрости говорится, что она есть знание божественного, как ясно из трактата «О Троице» Августина (XII, 14). Но священное учение в наиболее собственном смысле относится к Богу, согласно тому что Он – наивысшая причина, и не только относительно того, что Он познаваем по Его творениям (то, что познавали философы, как говорится в Послании к Римлянам: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них» (Рим. 1,19)), но также относительно того, что известно только Ему Самому о Себе и что сообщено другим через Откровение. Следовательно, священное учение более всего называется мудростью.
Просто (simpliciter) – важный термин в метафизике Фомы, согласно которому «каждая вещь называется «просто» по тому, что подобает ей сущностным образом, но «в некотором отношении» (secundum quid) называется по тому, что подобает ей акцидентально» (S. th., I, q. 17, а. 1).
Августин из Гиппона, Сев. Африка, (354–430), – самый значительный мыслитель латинской патристики, не создал завершенной философской системы, его мысль претерпела значительное изменение в ходе духовных исканий. Поэтому к наследию Августина апеллируют различные философы: католические, протестантские, православные, а также светские (например, экзистенциалисты). Тематика его сочинений весьма обширна, но основная их цель – познание души и Бога. В молодости Августин пережил увлечение манихейством, учением, согласно которому в мире противоборствуют два начала – Добро и Зло. Это учение позже вызвало резкую критику самого Августина, показавшего, что зло не является некоторой субстанцией. Отвернувшись от манихейства, он обратился к скептицизму, наиболее влиятельной античной школе в то время. Однако после обращения Августин решительно отверг скептическую позицию, согласно которой не существует ничего абсолютно истинного. Августин критикует скептиков не только с позиций верующего человека, признающего истину откровения, но и исходя из рациональных аргументов. В качестве примера истинных высказываний Августин приводит такие, отрицать которые значит впадать в противоречие (например, противоречиво отвергать собственное существование или существование истины). Также он полемизирует с пелагианами, считавшими, что для совершения благих поступков человеку достаточно естественного разума и свободной воли; вмешательство божественной благодати уничтожило бы нравственную заслугу человека и справедливое воздаяние. Августин заложил традицию согласования благодати и свободы воли, которую затем продолжил и Фома Аквинский. Наиболее оригинальный вклад он внес в осмысление феномена человеческой личности (многие исследователи приписывают именно ему «открытие человеческой личности»). Это проявилось и в его учении о бессмертии души, и в проведении параллели между теологическим учением о божественном триединстве и структурой души, где также обнаруживается триединство памяти, познания и воли. Историю своих личных духовных исканий и обращения Августин описал в книге «Исповедь», которую отличает глубина психологического анализа.
1. Относительно первого следует сказать, что священное учение заимствует свои основания не из некоторой человеческой науки, но от науки Божественной, которой, как самой высокой мудростью, направляется все наше познание.
2. Относительно второго следует сказать, что основания других наук или самоочевидны и не могут быть доказаны, или доказываются неким естественным разумом в некоей другой науке. Но познание, свойственное этой науке, есть то, которое получено через Откровение, а не то, которое получается посредством естественного разума. И поэтому ей нужно не доказывать основания других наук, но только судить о них. Все, что обнаруживается в других науках как противоречащее истине этой науки, всецело осуждается как ложное. Поэтому говорится во Втором послании к Коринфянам: «Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия» (2 Кор. 10, 4–5).
3. Относительно третьего следует сказать, что поскольку суждение относится к мудрости, то, согласно двоякому способу суждения, мудрость воспринимается двояко. Во-первых, случается, что некто судит посредством склонности: например, если он имеет свойство добродетели, то он судит правильно о том, что нужно делать добродетели, поскольку он склонен к ней. Поэтому и в десятой книге «Этики» (Аристотель. Никомахова этика. 1176а 17) говорится, что добродетельный человек есть мера и правило человеческих действий. Во-вторых, благодаря познанию – так некто, наставленный в моральной науке, мог бы судить о добродетельных действиях, даже если у него и не было бы добродетели. Первый способ суждения о божественных вещах относится к мудрости, которая считается даром Святого Духа, согласно Первому посланию к Коринфянам (1 Кор. 2, 15): «Но духовный судит обо всем…» и далее. И Дионисий говорит во второй главе «О божественных именах» (2, 9), что Иерофей научился не только научением, но и испытанием божественного. Второй способ суждения относится к этому учению, согласно тому, что овладевается посредством научения, хотя ее основания получаются из откровения.
Псевдо-Дионисий Ареопагит, христианский мыслитель V – нач. VI вв., труды которого приписывались долгое время Дионисию, члену афинского ареопага, обращенному в христианство ап. Павлом и упомянутому в «Деяниях апостолов» (17, 34). Это авторство подвергнул сомнению уже Лоренцо Валла; современные исследователи относят этот корпус текстов к VI веку и считают автором одного из неоплатоников. Труды Псевдо-Дионисия Ареопагита, переведенные в IX веке на латынь, пользовались большим авторитетом у латинских авторов; у Фомы Дионисий – один из наиболее цитируемых, 446 фрагментов из Дионисия цитируются в 1700 местах. В своем трактате «О божественных именах» Дионисий провел различие между двумя типами высказываний о Боге. Поскольку человек знает прежде всего окружающие его вещи и их свойства, он судит о Боге, исходя из чувственных вещей. При этом он может приписывать Богу свойства этого мира (Бог – благ, мудр, всемогущ и т. д.); такой способ высказывания называется положительным или катафатическим. Недостаток этого способа заключается в том, что мудрость Бога мыслится по аналогии с мудростью человека; однако людская мудрость не приличествует Богу, Бог скорее сверх-мудр и сверхблаг. Другой способ – когда мы отрицаем наличие у Бога свойств окружающего мира, говоря, что Бог немножественен (един), не-сложен (прост) и т. д. Такой способ называется отрицательным или апофатическим и является более адекватным. Дионисий также написал труды о «небесной иерархии (священноначалии)», организации ангельских чинов, осуществляющей максимально возможное уподобление Богу. В людском мире небесную иерархию продолжает церковная. Упоминаемый Дионисием Иерофей – член совета старейшин ареопага, священномученник, считающийся учеником ап. Павла и наставником Дионисия.
Глава 7. Является ли Бог предметом этой науки?
1. Относительно седьмого следует рассмотреть такое положение: считается, что Бог не есть предмет этой науки. Ведь в любой науке надлежит заранее полагать о предмете то, что он есть, согласно Философу во второй книге «Второй Аналитики» (71a 13), но эта наука не полагает о Боге то, что Он есть; ведь говорит Дамаскин: «В Боге есть нечто, о чем невозможно говорить»; следовательно, Бог не есть предмет этой науки.
Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753); имя в миру – Мансур ибн Серджун ат-Таглиби), богослов, один из Отцов Церкви, написавший важный труд «Источник знания» (одна из частей которого называется «Точное изложение православной веры» (в лат. пер. De fide orthodoxa, О вере православной), высоко ценимый и часто цитируемый Фомой Аквинским, в частности, за то, что Дамаскин, так же как и он сам, активно использует философию Аристотеля. В середине XIII века по указанию папы Евгения III этот труд был переведен на латинский язык, по-видимому, данным переводом и пользовался Фома. Ему также принадлежит комментированное изложение этой книги. Отметим, что слова «католическая» (вселенская) и «православная» до разделения церквей употреблялись как характеристика христианской церкви вообще.
2. Кроме того, все, что определяется в некоей науке, содержится в качестве предмета этой науки; но в Священном Писании определяется многое иное, нежели Бог, например сотворенное Богом и нравы людей; следовательно, Бог не есть предмет этой науки.
Но этому противоречит следующее: предмет науки есть то, о чем идет речь в науке: но в этой науке идет речь о Боге (ведь говорится «теология», то есть «речь о Боге»); следовательно, Бог есть предмет этой науки.
Отвечаю: следует сказать, что Бог является предметом этой науки. Ведь предмет так относится к науке, как объект к способности или навыку. Но, в собственном смысле, то обозначается как объект некоей способности или навыка, под определением чего все относится к этой способности или навыку: так, например, человек и камень относятся к зрению, поскольку они суть имеющие цвет. Поэтому «имеющее цвет» есть собственный объект зрения. В священном же учении все изучается, подразумевая Бога, – или сам Бог, или то, что имеет направленность к Богу как к основанию или цели; из этого следует, что Бог действительно есть предмет этой науки. Ведь это становится ясным из оснований этой науки, каковые суть постулаты веры, каковая есть в Боге. Тот же есть предмет и оснований, и всей науки, поскольку вся наука заключена в основаниях, как некая скрытая сила. Те же, кто размышляет о том, что изучается в этой науке, а не об основании, согласно которому оно рассматривается, выделяют другой предмет этой науки – или вещь и знак, или деяние спасения, или всего Христа, то есть главу и члены, ведь все это изучается в этой науке, но согласно направленности к Богу.
Апостолов часто сравнивают с членами Христова тела. Например, место из Августина (О согласии евангелистов), цитируемое Фомой в S. th., III, q. 43, а. 3: «Он является для всех учеников Своих, как бы для членов тела Своего, главою. Итак, когда они записали о том, что Он явил или сказал, то никаким образом уже не должно говорить, что Сам Он ничего не написал; ведь в действительности члены Его совершали то, что узнали из слов своего Главы, потому что Он повелел им, как бы рукам своим, записать, что ему было угодно, чтобы мы прочитали из Его деяний и изречений».
1. Относительно первого следует сказать, что, хотя о Боге мы не можем знать, что Он есть, все же мы используем в этом учении Его действия – или по природе, или по благодати – в качестве определения того, что рассматривается в этом учении относительно Бога; так и в любых философских науках исходя из следствия доказывают нечто о причине, принимая следствие в качестве определения причины.
2. Относительно второго следует сказать, что все иное, что определяется в священном учении, содержится под властью Бога не как части или виды, или акциденции, но как нечто тем или иным образом направленное к Нему.
Глава 8. Использует ли священное учение аргументацию?
В этой главе Фома использует дериваты от десяти близких по значению слов. Отложительный глагол argumentari (и его дериваты) имеет смысл аргументации вообще, в том числе ссылки на авторитет, – мы переводим его словом «аргументировать» (и соответственно дериваты); близкий ему arguere в контексте цитаты из ап. Павла значит «обличать», но по первому словарному значению и «доказывать», что позволяет Фоме использовать эту цитату; demonstrare и probare обозначают строгое выведение из посылок (мы переводим как «доказывать»); ostendere и manifestare – «делать явным»; solvere – «разрешать» (трудности, возражения, противоречащие мнения); значение «доказательства» имеют также слова ratio, locus и experimentum, которые мы переводим первое – как «довод» и «рассуждение», второе (значащее «имеющий смысловую завершенность период речи») – как «довод», а третье – «довод, основанный на опыте». Такое словоупотребление отличается от принятого в современной формальной логике. Согласно ей вся процедура называется «доказательством», довод, доказывающий тезис, – «аргументом», а ход аргументации – «демонстрацией».
1. Относительно восьмого следует рассмотреть такое положение: считается, что это учение не использует аргументацию. Ведь Амвросий в книге первой «О католической вере» (1, 13) говорит: «оставь аргументы в стороне там, где разыскивается вера». Но вера главным образом разыскивается в этом учении, поэтому говорится у Иоанна: «Сие же написано, дабы вы уверовали» (Ин. 20, 31). Следовательно, священное учение не использует аргументацию.
Амвросий Медиоланский (340–397), один из Отцов Церкви, епископ Милана, обративший в христианство Августина, автор богословских трудов, в частности «О католической вере».
2. Кроме того, если оно должно пользоваться аргументацией, то аргументация ведется или от авторитета, или от разума. Если от авторитета, то кажется, что это не приличествует ее достоинству, поскольку довод от авторитета – самый слабый, согласно Боэцию (Комментарий на «Топику» Цицерона, 1). Но если – от разума, то это не приличествует ее цели, потому что, согласно Григорию (Григорий Великий. Гомилии на Евангелие. II, 26), вера не имеет заслуги там, где человеческий разум приводит доводы, основанные на опыте. Следовательно, священное учение не должно пользоваться аргументацией.
Боэций, Аниций Манлий Северин (ок. 480–524), философ и ученый, помимо философских трудов составил компендиумы по арифметике и музыке, ставшие основой преподавания этих предметов в Средние века. Занимал высокую должность при дворе остготского короля Теодориха, был обвинен в измене и казнен. В заточении написал самый знаменитый труд «Утешение философией», в котором, исходя из своей жизненной ситуации, пытается дать обоснование того, почему в мире царит несправедливость и что может служить мотивом для совершения добродетельных поступков. Боэций приходит к выводу, что само совершение благого поступка несет в себе награду и что несправедливый поступок не может принести человеку действительное благо. Также в этой книге обсуждаются две важные для схоластики проблемы – соотношения времени и вечности, теодицеи (оправдания Бога: как примирить понятие о божественной благости с наличием зла в мире) и совместимости человеческой свободы воли с божественным предопределением. В своем труде Боэций стремится опираться лишь на разумную аргументацию и не апеллировать к авторитету Писания. Фома часто цитирует Боэция и написал комментарий на его труд «О Троице», где, в частности, разбираются темы, исследуемые в данном вопросе о священном учении.
Григорий I Великий (504–604), римский папа, один из Отцов Церкви, автор многочисленных толкований на книги Святого Писания.
Но против этого то, что говорится в Послании к Титу о епископе: «Избирайте держащегося истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать» (Тит. 1, 9).
Отвечаю: следует сказать, что, поскольку другие науки не ведут аргументацию для доказательства своих оснований, но аргументируют от оснований для того, чтобы сделать явным другое в этих науках, так и это учение не ведет аргументацию для доказательства своих оснований, которые есть постулаты веры, но от них оно переходит к прояснению другого; так, Апостол в Первом послании к Коринфянам проводит аргументацию от воскресения Христа к доказательству общего воскресения (1 Кор. 15, 12). Однако следует принять во внимание, что в философских науках низшие науки не доказывают своих оснований и не спорят с теми, кто отрицает их, но оставляют это более высокой науке; в то время как самая высокая из них, метафизика, спорит с теми, кто отвергает основания, если только противник соглашается с чем-либо; но если он не соглашается ни с чем, то она не может спорить с ним, хотя и может разрешать его доводы. Поэтому Священное Писание, так как оно не имеет ничего более высокого, при помощи доказательств спорит с тем, кто отвергает основания, только если противник соглашается с чем-либо из того, что обнаруживается через Божественное Откровение; так, например, мы спорим с еретиками, исходя из авторитета священного учения и исходя из одного постулата, против тех, кто отрицает другой. Если же противник не верит ни во что из Божественного Откровения, то не остается никаких средств для доказательства постулатов веры посредством доводов, но только для разрешения его доводов против веры, если он приводит таковые. Поскольку же вера основывается на безошибочной истине, а исходя от истины невозможно доказать противоположное, ясно, что те мнимые доводы (probatio), которые выдвигаются против веры, не есть доказательства, но есть разрешимые аргументы.
1. Относительно первого следует сказать: хотя аргументы от человеческого разума не имеют доводов для доказательства того, что принадлежит вере, однако это учение аргументирует от постулатов веры к другому, как выше сказано.
2. Относительно второго следует сказать, что аргументировать от авторитета более всего свойственно этому учению, поскольку его основания обнаруживаются благодаря откровению; таким образом, надлежит верить авторитету тех, кому было дано Откровение. Но это не умаляет достоинство этого учения, ведь хотя довод от авторитета, основанный на человеческом разуме, самый слабый, однако довод от авторитета, основанный на Божественном Откровении, самый сильный. Но священное учение действительно пользуется и человеческим разумом – не для доказательства веры (поскольку из-за этого устранилась бы заслуга веры), но для прояснения чего-то другого, что передается в этом учении. А поскольку благодать не устраняет природу, но совершенствует, следует, чтобы и естественный разум служил вере, так же как и естественная склонность воли следует любви. Поэтому Апостол говорит во Втором послании к Коринфянам: «Пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10, 5). И поэтому священное учение пользуется также авторитетами философов там, где они смогли познать истину посредством естественного разума; так, Павел в Деяниях приводит слово Арата, говоря: «Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "Мы род Божий" (Деян. 17, 28). Однако священным учением используются эти авторитеты только как внешние и вероятные аргументы; но авторитет канонических Писаний используется для аргументации и должным образом, и как необходимый, а авторитет других учителей Церкви – как тот, который используется для доказательства должным образом, но только как вероятный. Ведь наша вера опирается на откровение, сделанное апостолам и пророкам, которые написали канонические книги, а не на откровение (если таковое было), данное другим учителям. Поэтому Августин говорит в письме к Иерониму (Письмо 82): «Только к тем книгам Писания, которые провозглашены каноническими, я научился испытывать благоговейный трепет и почтение, поскольку я весьма крепко уверовал, что никто из их авторов не заблуждался в написанном. Но других авторов я читаю в той степени, в какой они преобладают над другими святостью и ученостью, не полагая одинаково истинным то, что они изведали и написали».
Арат (ок. 315–245 до н. э.) – греческий поэт из Македонии, основное сочинение – посвященная небесным явлениям поэма «Феномены», получившая широкую известность в античном мире. Ап. Павел цитирует именно это сочинение.
Глава 9. Надлежит ли Священному Писанию использовать метафоры?
1. Относительно девятого следует рассмотреть такое положение: считают, что Священному Писанию не надлежит использовать метафоры. Ведь то, что свойственно самому низкому учению, как кажется, не подобает той науке, которая занимает самое высокое место из всех, как выше сказано. Но действовать при помощи различных подобий и изображений свойственно поэтике, которая есть наименьшее из всех учений. Следовательно, не приличествует этой науке использовать такого рода подобия.
2. Кроме того, это учение, как кажется, направлено к прояснению истины. Поэтому тем, кто проясняет ее, положена награда; говорится же в Екклезиастике: «Те, которые объясняют меня, будут иметь жизнь вечную» (Сир. 24, 31). Но посредством такого рода подобий истина скрывается. Следовательно, не подобает этой науке передавать божественные истины, уподобляя их телесным вещам.
3. Кроме того, чем более высоки некие творения, тем более они приближаются к божественному подобию. Поэтому если некие из творений переносятся на Бога, то надлежит, чтобы для этого переноса избирались более высокие творения, а не более низкие; что часто и обнаруживается в Писании.
Но против этого то, что сказано Осией (Ос. 12, 10): «Я умножал видения и чрез пророков был уподоблен». Но передавать о чем-либо посредством подобия – значит использовать метафоры. Следовательно, священному учению надлежит использовать метафоры.
Отвечаю: следует сказать, что подобает Священному Писанию сообщать Божественное и духовное посредством уподобления телесному. Ведь Бог имеет попечение обо всем, в согласии с тем, что соответствует природе каждого. Но для человека естественно приходить к умопостигаемому через чувственное, потому что все наше познание имеет начало в чувстве. Поэтому в Священном Писании духовное надлежащим образом передается нам при помощи уподоблений телесному. Это то, что говорит Дионисий в первой книге «О небесной иерархии» (1, 5): «Невозможно для нас иначе быть просвещенными божественным лучом, если они не сокрыты разнообразием священных завес». То же подобает Священному Писанию, которое обращено ко всем сообща (согласно следующему в Послании к Римлянам: «Я должен… мудрецам и невеждам» (Рим. 1, 14)), – духовное представлять посредством уподоблений телесному, чтобы его поняли даже простые люди, которые посредством собственного разумения не способны к умопостигаемому.
1. Относительно первого следует сказать, что поэтом используются метафоры ради изображений, ведь изображение естественным образом способно услаждать человека. Но священное учение пользуется метафорами и по необходимости, и ради пользы, как выше сказано.
2. Относительно второго следует сказать, что луч Божественного Откровения не погашен чувственными образами, которыми он сокрыт, как говорит Дионисий (1, 5), но остается в своей истине, чтобы не позволять умам тех, кому было дано Откровение, останавливаться на подобиях, но поднимает их к познанию умопостигаемого, чтобы через тех, кому было дано Откровение, другие также получили бы наставление в этом. Поэтому то, что передается метафорически в одном месте Писания, в других местах излагается более ясно. И даже само сокрытие посредством образов полезно и для упражнения учащихся, и против насмешки неблагочестивых, о которых говорится у Матфея: «Не давайте святыни псам» (Мф. 7, 6).
3. Относительно третьего следует сказать, что, как учит Дионисий во второй главе «О небесной иерархии» (2), более подобает, чтобы в Писании Божественное передавалось под образами грубых тел, чем благородных, по трем причинам. Во-первых, поскольку таким образом людская душа скорее освобождается от заблуждения. Ведь кажется ясным, что это говорится о Божественном не в собственном смысле, в чем можно было бы сомневаться, если бы Божественное было выражено под образами благородных тел, особенно для тех, кто не помышлял ничего познать от благородных тел. Во-вторых, потому что этот способ более подобает для познания Бога, которым мы обладаем в этой жизни. Ведь о Нем нам скорее известно то, что Он не есть, чем то, что Он есть. Поэтому подобия тех вещей, которые наиболее удаляются от Бога, позволяют нам вернее судить о том, что существует свыше того, что мы говорим или думаем о Боге. В-третьих, потому что таким образом Божественное лучше сокрыто от недостойных.
Глава 10. Может ли в Священном Писании слово (Utera) иметь несколько смыслов?
1. Относительно десятого следует рассмотреть такое положение: считается, что в Священном Писании одно слово не может иметь несколько смыслов, которые суть: исторический или буквальный, аллегорический, тропологический, или моральный, и анагогический. Ведь множество смыслов в одном Писании производит замешательство и заблуждение и уничтожает всю силу доказательства. Поэтому из множества смыслов утверждений не получается аргументация; такая множественность есть знак неких заблуждений. А Священное Писание должно быть способно к пояснению истины без всякого заблуждения. Следовательно, в нем не должно передаваться несколько смыслов под одним словом.
Вопрос о смыслах Писания широко дебатировался в христианской теологии, породив особую дисциплину – герменевтику, или экзегетику. Было создано множество способов толкования текста, помимо буквального. Четыре уровня толкования, приводимые в первом аргументе, принадлежат богослову Иоанну Кассиану Массалийскому (360–435) и отличаются от классификации Августина во втором аргументе и Гуго Сен-Викторского в ответе на этот аргумент. В чем заключаются эти толкования, Фома Аквинский описывает в ответах на аргументы.
2. Кроме того, Августин говорит в книге «О пользе веры» (3), что Писание, которое называют Ветхим Заветом, сообщается четверояко – согласно истории, согласно этиологии, согласно аналогии и согласно аллегории. Но кажется, что эта четверка всецело отлична от четырех, упомянутых прежде. Следовательно, кажется неподобающим, чтобы объяснялось одно и то же слово Священного Писания согласно четырем смыслам, упомянутым прежде.
3. Кроме того, помимо упомянутых смыслов, имеется и параболический смысл, который не упоминается среди этих четырех.
Но против этого то, что говорит Григорий (Григорий Великий. Книги о нравственности или Комментарий на книгу Иова, 20, 1): «Священное Писание самим способом своего речения превышает каждую науку, потому что одна и та же речь, когда она повествует о деянии, передает и тайну».
Отвечаю: следует сказать, что автор Священного Писания – Бог, Тот, во власти Которого приспособить для обозначения не только слова (поскольку это может делать и человек), но также сами вещи. И таким образом, в то время как во всех других науках для обозначения используются слова, эта наука имеет такое свойство, что сами вещи, обозначенные словами, также обозначают нечто. Следовательно, то первое обозначение, посредством которого слова обозначают вещи, относится к первому смыслу, который есть смысл исторический, или буквальный. То же обозначение, посредством которого вещи, обозначенные словами, также обозначают другие вещи, называется духовным смыслом, который основывается на буквальном и предполагает его.
Но этот духовный смысл разделяется трояким образом. Ведь, как Апостол говорит в Послании к Евреям: Ветхий Закон – образ Нового Закона (Евр. 10, 1), а Новый Закон, как Дионисий говорит в трактате «О небесной иерархии» (1), есть образ будущей славы. В Новом же Законе то, что совершено главой, – знак того, что должны сделать мы. Поэтому если то, что есть в Ветхом Законе, обозначает то, что есть в Новом Законе, то это – аллегорический смысл. То, согласно чему совершенное Христом или тем, что обозначает Христа, есть знак того, что мы должны сделать, – это моральный смысл. Когда же они обозначают то, что относится к вечной славе, – это анагогический смысл. Поскольку же буквальный смысл – тот, на который направлен автор, а автор Священного Писания – Бог, Который все одновременно удерживает Своим интеллектом, то вполне подобает, как говорит Августин в двенадцатой книге «Исповеди» (XII, 31), чтобы даже согласно буквальному смыслу, в одном слове Писания было несколько смыслов.
1. Относительно первого следует сказать, что многообразие этих смыслов не производит эквивокации или другой вид многозначности, поскольку, как уже выше сказано, эти смыслы умножаются не из-за того, что одно слово обозначает многое, но потому, что сами вещи, обозначенные словами, могут быть знаками других вещей.
Таким образом, в Священном Писании не происходит никакого смешения, поскольку все смыслы основаны на одном, а именно буквальном, от которого только может вестись аргументация, но не от тех, о которых говорится аллегорически, как говорит Августин в письме к Винсенцию против донатистов (XCIII). Однако ничто из Священного Писания не погибает из-за этого, так как в духовном смысле не содержится ничего необходимого для веры, что бы Писание где-нибудь в другом месте не сообщало в буквальном смысле более явно.
2. Относительно второго следует сказать, что эти три – история, этиология, аналогия – относятся к одному буквальному смыслу. Ведь история, как объясняет Августин (О пользе веры), это когда нечто просто излагается; этиология же, когда обозначается причина сказанного, например когда Господь обозначил причину, почему Моисей позволил уходить от жен, а именно из-за человеческого жестокосердия (Мф. 19, 8); аналогия же, когда истина одного Писания показана так, чтобы не противоречить истине другого. Но только аллегория из этих четырех рассматривается в качестве одного среди трех духовных смыслов. Так и Гуго Сен-Викторский (О таинствах христианской веры, 1, 1, 4) понимает под аллегорическим смыслом также и анагогический, полагая в третьей из своих сентенций только три смысла, а именно исторический, аллегорический и тропологический.
Гуго Сен-Викторский (1096 или 1097–1141) – средневековый богослов, занимавшийся теорией познания, систематизацией наук и вопросами дидактики. Самый известный труд, посвященный этим вопросам, – «Дидаскаликон, или Семь книг назидательного обучения».
3. Относительно третьего следует сказать, что параболический смысл содержится в буквальном, поскольку словами обозначено одно – в собственном смысле, другое – образно. Буквальный смысл не есть сам образ, а то, что изображено образом. Ведь когда Писание называет руку Бога, смысл не в том, что у Бога есть такого рода телесный член, но то, что обозначается этим членом, а именно действенная власть. Из этого ясно, что ничто ложное не может никогда лежать в основе буквального смысла Священного Писания.
2. «Пять путей»: доказательства бытия Бога
«Пять путей» Фомы Аквинского – наверное, самая известная часть его философии. Примечательно, что на большинстве портретов он указывает на пять пальцев своей руки, как бы перечисляя свои доводы. Вместе с тем эти доказательства вызывали и вызывают наибольшие споры. Являются ли они вообще доказательствами, ведь сам Аквинский называет их именно «путями» (хотя слово «путь» в то время в логике вполне использовалось как синоним «доказательства»)? А если доказательство, то чего? Опять-таки, согласно тексту самого Фомы, речь идет о некотором объекте (первом двигателе, первой причине), и только совершив доказательство, он заключает: «А это и есть Бог».
Вопрос 2. О Боге – есть ли Бог
Итак, поскольку главное намерение этого священного учения – передавать знание о Боге, и не только согласно тому, как Он есть в себе, но и согласно тому, что Он есть начало и цель вещей (а особенно разумных творений), и это ясно из сказанного (q. 1, a. 7), то, намереваясь дать изложение этого учения, мы, во-первых, изложим учение о Боге; во-вторых, о движении разумных творений к Богу (часть II); в-третьих, о Христе, Который, согласно тому, что Он вочеловечился, есть для нас путь в нашем устремлении к Богу (часть III).
Рассмотрение же, относящееся к Богу, будет троякое. А именно, во-первых, мы рассмотрим то, что относится к божественной сущности; во-вторых, то, что относится к различию Персон (q. 27); в-третьих, то, что относится к происхождению творений от Бога (q. 44).
Относительно же божественной сущности, во-первых, следует рассмотреть, есть ли Бог; во-вторых, каков Он есть или, лучше, каков Он не есть (q. 3); в-третьих, следует рассмотреть то, что относится к Его деятельности, а именно знание, волю и могущество (q. 14).
Относительно первого ставится три вопроса:
1. Является ли то, что Бог есть, известным само по себе?
2. Является ли это доказуемым?
3. Есть ли Бог?
Глава 1. Является ли само по себе известным то, что Бог – есть?
Относительно первого следует рассмотреть такое положение: кажется, что то, что Бог есть, является известным само по себе.
2. Ведь называется нами «по себе известным» то, знание чего нам присуще естественным образом, как, например, это ясно относительно первых оснований. Но, как говорит в начале своей книги Дамаскин (О вере православной, I, 1, 3), знание о существовании Бога естественным образом всеяно во всех. Следовательно, то, что Бог есть, является самим по себе известным.
3. Кроме того, «по себе известным» называется то, что познается тотчас, как только познаны термины – это Философ в первой книге «Второй Аналитики» приписывал первым основаниям доказательства. Ведь как только познано, что есть целое и что есть часть, тотчас же познается, что всякое целое больше своей части. Но как только понято, что обозначает это имя – «Бог», тотчас же познается и то, что Бог – есть. Ведь этим именем обозначается то, по отношению к чему ничто не может обозначатся как большее; то же, что есть в действительности и в интеллекте, больше, чем то, что есть только в интеллекте; поэтому из того, что Бог есть в интеллекте, тотчас же, как только понято это имя – «Бог», следует также, что Он существует в действительности. Значит, то, что Бог – есть, известно само по себе.
Фома Аквинский имеет в виду знаменитый онтологический аргумент известного богослова Ансельма Кентерберийского (1033–1109). Ансельм, споря с атеистом, дает определение Бога как «то, больше чего ничего не может быть помыслено». Атеист соглашается с этим определением, поскольку оно не подразумевает бытия Бога. В таком случае Ансельм может помыслить все то же содержание, что и атеист, но прибавив к нему предикат бытия, то есть помыслить то, больше чего ничего нельзя помыслить. Получается, что утверждение атеиста противоречиво. А значит, истинно отрицание этого утверждения: «Неверно, что Бога нет». Следовательно, Бог есть. Фома Аквинский прежде всего ставит вопрос о том, возможен ли в принципе такой тип доказательства по отношению к Богу, при котором из чего-то, что нам известно само по себе (к примеру, мы знаем, что целое больше части без обращения к опыту, воспринимаем целое и части благодаря тому, что у нас уже есть такие идеи), можно дедуцировать нечто иное, что и делает Ансельм. Согласно Фоме, есть два возражения против этого. Во-первых, мы можем ошибаться, когда нам представляется, что нечто известно естественно и само по себе; вполне вероятно, что это результат долгой привычки и научения. Во-вторых, есть различие между тем, что известно просто само по себе, и тем, что известно нам. Мы, в силу ограниченности нашего разума, знаем далеко не все, что известно само по себе. Если интеллект ангела, в отличие от нашего, способен осознавать сущность Бога саму по себе, то из нее он вполне бы мог автоматически вывести Его существование, но нам не дано понимание сущности Бога прямым образом.
Кроме того, Фома Аквинский делает замечание относительно определения Бога, данного Ансельмом. Определение, лежащее в основе доказательства, должно быть простым, ясным и общепринятым. Определение Ансельма сложно, неясно и разделяется отнюдь не всеми: например, некоторые древние мыслители, представляли Богом мир, то есть нечто ограниченное, допускающее возможность помыслить нечто большее.
Наконец, и это самый важный аргумент, Фома Аквинский задает вопрос: а что именно доказывает Ансельм? Утверждая, что противоречиво мыслить Бога (как того больше чего и т. д.) без предиката существования, Ансельм доказывает только то, что мы с необходимостью должны мыслить Бога как существующего, но из этого не следует сама необходимость Его существования. То есть это некая необходимая идея (идеал) чистого разума, как скажет потом Кант.
Отталкиваясь от критики Ансельма, Фома приходит к выводу, что доказывать существование Бога само по себе нужно, исходя не из Его идеи, а из тех простых вещей, которые мы непосредственно наблюдаем.
4. Кроме того, то, что существует истина, является известным само по себе, поскольку тот, кто отрицает, что истина есть, допускает тем самым, что истина есть, ведь если истины нет, то истинно, что истины – нет. Но если существует нечто истинное, то надлежит, чтобы существовала истина. Бог же есть сама истина: «Я есмь путь, истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Следовательно, то, что Бог есть, является известным само по себе.
Но против этого: никто не может помыслить противоположность того, что известно само по себе, как это ясно, благодаря Философу, из четвертой книги «Метафизики» и из первой книги «Второй Аналитики», относительно первых оснований доказательства. Противоположность же того, что Бог есть, может быть помыслена, согласно Псалму 52, 1: «Сказал безумец в сердце своем – нет Бога». Следовательно, то, что Бог есть, не является известным само по себе.
Отвечаю: следует сказать: то, что нечто известно само по себе, случается двояко. Одним образом – согласно самому себе, но не для нас; другим образом – согласно самому себе и для нас. Ведь некое положение (как «человек есть живое существо») известно само по себе из-за того, что предикат включается в смысл субъекта, ведь «живое существо» выводится из смысла слова «человек». Итак, если о субъекте и предикате всем известно, что они есть, то это положение будет известным само по себе для всех; так, например, происходит в первых основаниях при доказательстве, термины которых относятся к неким общим понятиям, которые знает каждый, такие, как сущее и не-сущее, целое и часть, и тому подобное. Если же относительно предиката и субъекта кому-то не известно, что они есть, то положение, как таковое, будет известным само по себе, но не для тех, кому не известен предикат и субъект положения. И потому случается, как говорит Боэций в книге «О гебдомадах», что существуют некоторые концепции ума, общие и известные сами по себе, но только для мудрых, такие, как «бестелесное не находится в каком-либо месте».
Итак, я утверждаю, что это положение, «Бог – есть», как таковое известно само по себе, поскольку предикат есть то же самое, что и субъект; ведь Бог есть Его бытие, как далее будет ясно (q. 3, a. 4). Но поскольку мы не знаем о Боге того, что Он есть, для нас это положение не является известным самим по себе, но требуется ему быть доказанным посредством того, что более известно для нас и менее известно по природе, а именно посредством Его действий.
1. Итак, относительно первого следует сказать: познание того, что Бог – есть, в некотором общем смысле, при некоторой неясности, всеяно в нас естественным образом, а именно поскольку Бог есть блаженство для человека; ведь человек естественным образом желает блаженства, а то, что естественным образом желается человеком, и познается им естественным образом. Но это не есть просто познание того, что Бог есть; так, познавать идущего не значит познавать Петра, хотя бы Петр и был идущим; ведь совершенным благом человека, то есть блаженством, многие считают богатство, иные же – наслаждения, иные – нечто другое.
2. Относительно второго следует сказать: может быть так, что тот, кто слышит это имя «Бог», не понимает того, что им обозначается нечто, больше чего ничто не может быть помыслено, поскольку некоторые верили, что Бог есть тело. Но даже допустив, что некто понимает, что этим именем «Бог» обозначается то, что говорится, а именно то, относительно чего нельзя помыслить нечто большее, то все же из этого не следует, что он понимал бы, что обозначаемое именем есть в природе вещей, но только – что оно в содержимом интеллекта. Но невозможно доказать то, что Он есть в действительности, не допустив, что нечто, относительно чего не может быть помыслено большее, есть в действительности; что не допущено полагающими, что Бога – нет.
3. Относительно третьего следует сказать: то, что есть истина в общем смысле, известно само по себе; но то, что есть первая истина, неизвестно и само по себе, и для нас.
Глава 2. Доказуемо ли то, что Бог – есть?
Относительно второго следует рассмотреть такое положение: по-видимому, то, что Бог есть, – недоказуемо.
1. Ведь то, что Бог есть, – постулат веры. Но то, что относится к вере, недоказуемо; поскольку доказательство производится знанием, вера же относится к невидимому, как ясно из Апостола, из Послания к Евреям (11, 1). Следовательно, то, что Бог есть, недоказуемо.
2. Кроме того, средняя посылка в доказательстве есть включает определение того, чем нечто является (quod quid est). Но о Боге мы не можем знать, чем Он является, но только чем Он не является, как говорит Дамаскин (О вере православной, I, 1, 4). Следовательно, мы не можем доказать то, что Бог – есть.
3. Кроме того, если бы и доказывалось то, что Бог – есть, то это происходило бы, только исходя из Его действий. Но Его действия несоразмерны Ему, поскольку Сам Он бесконечен, а действия – конечны; конечное же несоразмерно бесконечному. Следовательно, поскольку причина не может быть доказанной, исходя из действия, ей несоразмерного, кажется, что то, что Бог – есть, не может быть доказанным.
Но против этого то, что говорит Апостол в Послании к Римлянам (1, 20): «Невидимое Бога рассматривается, познаваемое из того, что сотворено». Но этого не было бы, если бы то, что Бог – есть, невозможно было доказать исходя из того, что сотворено; ведь первое, что надлежит познавать о чем-то – это есть ли оно.
Отвечаю: следует сказать, что доказательство бывает двояким. Одно – из причины, и оно называется «из-за чего» (propter quid), и исходит из того, что первичнее просто. Другое – из действия, и оно называется доказательством «поскольку» (quia); и оно исходит из того, что первичнее относительно нас. Ведь поскольку некое действие в чем-то нам очевиднее, чем его причина, то от действия мы переходим к познанию причины. Из любого же действия может быть доказано то, что его собственная причина – есть, если только ее действие более известно для нас; поскольку если действие зависит от причины, то, при наличии действия, необходимо следует, что его причина существует первично. Поэтому то, что Бог – есть, поскольку это не известно само по себе для нас, доказуемо из действий, известных нам.
Итак, относительно первого следует сказать: то, что Бог есть, и прочее такого рода, что может быть известно о Боге естественным образом, о чем говорится в Послании к Римлянам (1, 19), – это не постулаты веры, а то, что предшествует постулатам; ведь вера так предполагает естественное познание, как благодать – природе, и как совершенство – совершенствующееся. Однако ничто не препятствует тому, что доказуемое и познаваемое само по себе принимается как достоверное тем, кто не ухватывает доказательство.
Относительно второго следует сказать: поскольку причина доказывается исходя из действия, то для обоснования того, что причина существует, необходимо использовать действие вместо определения причины; и это более всего относится к Богу. Поскольку для доказательства того, что нечто существует, необходимо принимать как средний термин то, что обозначает имя, но не то, что это есть, поскольку вопрос «чем это является?», следует за вопросом «есть ли это?». Имена же Бога переносятся от действий, как позже будет показано (q. 13, a. 1), поэтому для доказательства того, что Бог есть, исходящего из действия, мы можем принимать в качестве среднего то, что обозначает это имя «Бог».
Относительно третьего следует сказать, что исходя из действия, несоразмерного причине, невозможно получать совершенное познание о причине; однако из любого действия может быть для нас ясно доказанным то, что причина существует, как сказано. И, таким образом, из действий Бога может быть доказано то, что Бог – есть; хотя исходя из действий мы можем Его познавать не в совершенстве, не согласно Его сущности.
Глава 3. Есть ли Бог?
Относительно третьего следует рассмотреть такое положение: кажется, что Бога нет.
1. Поскольку если одна из противоположностей была бы бесконечной, то другая полностью уничтожилась бы. Но это понимается в этом имени «Бог», а именно, что Он есть некое бесконечное благо. Следовательно, если бы Бог был, не обнаруживалось бы ничего злого. Но злое обнаруживается в мире. Следовательно, Бога – нет.
2. Кроме того, то, что может совершаться посредством немногих начал, не творится многими. Но кажется, что если предположить, что Бога нет, то все, происходящее в мире, может совершаться благодаря другим началам; ведь то, что существует как природное, сводится к началу, которое есть природа; то же, что происходит от намерения, сводится к началу, которое есть человеческий разум или воля. Таким образом, нет никакой необходимости полагать, что Бог – есть.
Фома Аквинский начинает с аргументов атеистов. Он приводит ряд действительно веских доводов, которые по существу и по сей день являются наиболее убедительными и распространенными доводами против существования Бога. Один из них: Бог – бесконечное благо, а такое начало должно уничтожать противоположное ему, т. е. зло. Однако мы наблюдаем в мире огромное количество зла. Другой аргумент: все природное можно объяснить естественными причинами, все моральное – деятельностью свободных агентов. Поэтому допущение Бога не является необходимым. То есть в этой позиции предвещается и бритва Оккама, принцип, согласно которому не следует умножать сущности без необходимости, и ответ (возможно легендарный, но показательный) Лапласа Наполеону: «Ваше величество, в этой гипотезе я не нуждаюсь».
Но против этого то, что говорится в Исходе (3, 14) от лица Бога: «Я есмь Тот, Который есмь».
Отвечаю. Следует сказать: то, что Бог есть, может быть обосновано посредством пяти путей. Первый же и самый очевидный путь тот, который берется из движения. Ведь достоверно и установлено чувством, что нечто движется в этом мире. Все же, что движется, приводится в движение чем-то другим. Ведь что-либо движется только вследствие того, что оно находится в потенциальности относительно того, к чему оно движется; движет же нечто вследствие того, что оно актуально. Ведь «приводить в движение» есть не что иное, как выводить нечто из потенциальности в актуальность; из потенциальности же в актуальность ничто не может быть выведено иначе, нежели благодаря чему-то сущему актуально. Так актуально теплое, например огонь, делает дерево, которое потенциально теплое, актуально теплым, и, тем самым, приводит его в движение и изменяет его. Однако невозможно, чтобы то же самое было бы одновременно актуальным и потенциальным в отношении одного и того же, – но только в отношении различного; ведь актуально теплое не может быть одновременно потенциально теплым, но оно вместе с тем потенциально холодное. Следовательно, невозможно, чтобы нечто было движущим и движимым в отношении одного и того же и одним и тем же образом, или чтобы оно приводило в движение самое себя. Следовательно, все, что движется, должно приводиться в движение другим. Следовательно, если то, посредством чего нечто приводится в движение, также движется, то оно должно само приводиться в движение другим; и так же и о другом. Но этот процесс не может уходить в бесконечность; поскольку так не было бы ничего первично движущего; а вследствие этого и ничего движущего другое, поскольку вторичное движущее не движет иначе, как благодаря тому, что оно приводится в движение первично движущим, как, например, палка движет только благодаря тому, что приводится в движение рукой. Следовательно, необходимо прийти к чему-то первичному движущему, которое ничем не приводится в движение, и все под этим разумеют Бога.
Доказательства бытия Бога опираются на положения, которые, в свою очередь, нуждаются в доказательстве, оказывающемся значительно сложнее, чем само доказательство этого бытия. Утверждение «все, что движется, приводится в движение чем-то другим» в «Сумме против язычников» доказывается тремя способами. Один из них в том, что движущееся должно отталкиваться от неподвижного; даже если предмет движется «сам», в нем будет движущаяся и неподвижная часть, как движущаяся и неподвижная нога при ходьбе. Предмет, который двигался бы сам по себе целиком, был бы подобен барону Мюнхгаузену, который вытянул себя за косичку из болота без какой-либо точки опоры.
Второй путь – из смысла действующей причины. Ведь мы обнаруживаем, что в чувственно воспринимаемом есть порядок действующих причин; однако не обнаруживается (да это и невозможно), чтобы нечто было бы действующей причиной самого себя; поскольку, таким образом, оно было бы прежде самого себя, что невозможно. И невозможно, чтобы в действующих причинах процесс уходил в бесконечность, поскольку во всех упорядоченных действующих причинах первичное есть причина среднего, а среднее – причина последнего, будь средних много или будь оно только одно. Если же устранена причина, то устраняется действие; следовательно, если не было бы первичного среди действующих причин, не было бы ни последнего, ни среднего. Но если бы процесс среди действующих причин уходил бы в бесконечность, то не было бы первичной действующей причины; и, таким образом, не было бы ни последнего действия, ни средних действующих причин; что очевидно ложно. Следовательно, необходимо полагать некую первичную действующую причину, которую все называют Богом.
Третий путь исходит из возможного и необходимого, и он таков. Мы обнаруживаем среди вещей некоторые, могущие быть и не быть; так как обнаруживаются некоторые вещи, которые порождаются и разрушаются, и вследствие этого могущие быть и не быть. Но невозможно для чего-либо такого быть вечно: поскольку то, что может и не быть, в некоторый момент не существует. Таким образом, если все может и не быть, то в некоторый момент ничего из вещей не существовало бы. Но если это истинно, то и теперь ничего не было бы; поскольку то, что не есть, начинает быть только благодаря тому, что есть; таким образом, если бы ничего сущего не было, невозможно было, чтобы нечто начало быть, и, таким образом, ничего бы не было; что, очевидным образом, ложно. Следовательно, не всякое сущее лишь возможное, но надлежит, чтобы нечто было необходимым в действительности. Все же необходимое либо имеет причину своей необходимости вовне, либо не имеет. Ведь невозможно, чтобы процесс среди того необходимого, которое имеет причину своей необходимости, уходил в бесконечность, как и среди действующих причин, что уже обосновано. Следовательно, необходимо полагать нечто необходимое само по себе, не имеющее причину необходимости вовне, но которое является причиной необходимости для других; это все называют «Богом».
Четвертый путь берется из степеней, которые обнаруживаются в вещах. Ведь в вещах обнаруживается нечто более или менее благое, и истинное, и благородное; и так о другом того же рода. Но «более» и «менее» говорится о различном, поскольку оно различным образом приближается к тому, что есть наибольшее; так, например, более теплое – то, что более приближается к наибольшему теплу. Таким образом, есть нечто самое истинное, и наилучшее, и благороднейшее, и вследствие этого наиболее сущее; ведь то, что наиболее истинное, есть наиболее сущее, как говорится во второй книге «Метафизики» (993b 23–31). То же, что называется наибольшим в некотором роде, есть причина всего, что относится к этому роду. Так, например, огонь, который есть наиболее теплое, есть причина всего теплого, как говорится в той же книге. Следовательно, существует нечто, что для всего сущего есть причина бытия, и блага, и всякого совершенства; и это мы называем Богом.
Пятый путь берется из управления вещами. Ведь мы видим, что те вещи, которые лишены познания, а именно природные тела, действуют ради цели; это ясно из того, что они всегда или по большей части действуют одним и тем же образом, как бы преследуя наилучшее; поэтому ясно, что они достигают цели не случайно, но от намерения. То же, что не имеет познания, стремится к цели лишь будучи направленными чем-то познающим и мыслящим, как, например, стрела – лучником. Следовательно, есть нечто мыслящее, которое направляет к цели все природные вещи, и это мы называем Богом.
1. Итак, относительно первого следует сказать: как говорит Августин в «Энхиридионе», Бог, поскольку Он в высшей степени благ, никоим образом не допускал бы, чтобы было злое в Его творениях, если не был бы настолько всемогущ и благ, что творил благо даже из злого. Следовательно, бесконечной благости божьей присуще то, что Он допускает злое и из него сотворяет благое.
2. Относительно второго следует сказать: поскольку природа действует ради определенной цели, будучи направленной неким высшим деятелем, то необходимо действующее от природы возводить к Богу, как к первой причине. Сходным образом то, что действует из намерения, надлежит сводить к некоторой высшей причине, которая не является человеческими разумом и волей, поскольку они изменчивы и недостаточны; надлежит же все изменчивое и могущее быть недостаточным возводить к некоторому первичному неподвижному и самому по себе необходимому началу, как указано выше.
Исходя из чувственно познаваемых фактов, мы можем построить пять путей, три из них имеют одинаковую структуру и заимствованы у Аристотеля, четвертый – у Платона и пятый – у Иоанна Дамаскина. Несмотря на то что вся аргументация оказывается заимствованной, «пять путей» по праву связываются с именем Фомы Аквинского. Во-первых, он не просто излагает некий готовый текст Аристотеля, а, напротив, конструирует сложное доказательство, опираясь на различные доводы из различных произведений этого философа. Во-вторых, механическое перенесение аристотелевской аргументации было бы невозможно по той причине, что Аристотель опирается на многие положения, которые неприемлемы для христиан, например, считая, что мир существует вечно, в то время как, согласно Библии, он сотворен Богом в определенный момент. Поэтому Фоме в «Сумме против язычников» приходится еще и показать, что, несмотря на это, доводы Аристотеля могут использоваться христианами.
3. Божественное познание, воля и провидение
Этот вопрос состоит из шестнадцати глав: (1) есть ли в Боге познание, (2) познает ли Он самого себя, (3) охватывает (comprehendat) ли Он себя в познании, (4) есть ли Его познание Его субстанция, (5) познает ли Он отличное от Него, (6) имеет ли Он об отличном от Него собственное познание, (7) дискурсивно ли божественное познание, (8) есть ли оно причина вещей, (9) познает ли Бог то, чего нет, (10) зло, (11) единичные вещи, (12) бесконечное, (13) контингентные будущие события, (14) суждения, (15) может ли божественное познание изменяться, (16) осуществляет ли Бог спекулятивное или практическое познание вещей? Наиболее оригинальная часть размышлений Фомы Аквинского содержится в главах 9–11, отвечающих на вопросы: может ли Бог познавать то, чего нет, зло и случайные события? На эти вопросы обычно отвечали либо так, что божественное познание не познает такие вещи, будучи вечным, благим и неизменным, либо, если познает, то они перестают быть случайными. Фома Аквинский предлагает среднее решение, которое позволяло бы объяснить, каким образом Бог познает не-сущее, зло и случайное и вместе с тем, как сохраняется специфика таких предметов познания. Отметим, что решение, предлагаемое Фомой, не ограничивается применением в теологии. Подобные вопросы можно поставить и в отношении к нашему, человеческому познанию – как мы, люди, можем познавать эти сферы. Размышления Фомы Аквинского могут помочь ответить на эти вопросы.
Вопрос 14. О божественном познании
Глава 9. Познает ли Бог то, чего нет?
1. Кажется, что Бог не имеет познания не-сущего. Ведь божественное познание относится только к истинному. Но истинное и сущее обратимы. Следовательно, божественное познание не относится к не-сущему.
2. Кроме того, познание требует подобия между познающим и познаваемым. Но то, чего нет, не может иметь какого-либо подобия Богу, поскольку Он есть само бытие. Следовательно, то, чего нет, не может быть познано Богом.
3. Кроме того, божественное познание есть причина познанного им. Но оно не является причиной не-сущего, поскольку не-сущее не имеет причины. Следовательно, Бог не имеет познания не-сущего.
Но против: Апостол говорит о Боге в Послании к Римлянам (4, 17): «Который называет несуществующее, как существующее».
Отвечаю: следует сказать, что Бог познает все, что существует каким-либо образом. Но ничто не препятствует тому, чего нет просто, существовать некоторым образом. Ведь просто существует то, что существует актуально. То же, что не существует актуально, существует в потенции или самого Бога, или творения; или в активной потенции, или в пассивной, или в потенции предположения, воображения либо обозначения тем или иным образом. Следовательно, все, что может быть создано, или помыслено, или высказано творениями, а также то, что Бог Сам может сотворить, Он познает, даже если оно актуально не существует. И поэтому можно сказать, что Он также имеет познание не-сущего.
Приведя доказательства в пользу существования Бога, Фома Аквинский обращается к исследованию свойств Бога и тому, как мы можем о них говорить и как их именовать (qq. 3–13): Его простоты, совершенства, благости, бесконечности, неизменности, вечности и единства. Следующие вопросы посвящены действию Бога, «и поскольку некоторое действие есть то, что сохраняется в действующем, некоторое же переходит во внешнее действие, то в первую очередь мы говорим о познании (q. 14) и воле (q. 19), в последующих вопросах рассматривается то, что относится к воле абсолютным образом – любовь, справедливость и благодать (qq. 20–21), то, что относится и к воле, и к интеллекту – предвидение (q. 22), предопределение (q. 23) и книгу жизни (q. 24) – ведь познание находится в познающем, а воление – в волящем – и после этого – о потенции Бога (q. 25), которая рассматривается как начало божественного действия, переходящего во внешнее действие. Поскольку же познавать нечто значит жить, то после рассмотрения божественного познания следует рассмотреть вопрос о божественной жизни q. 18. И поскольку познание относится к истинному, то также должно будет рассмотреть вопрос об истине и ложности qq. 16–17. Опять-таки, поскольку всякое познанное находится в познающем, понятия же (rationes) вещей, согласно тому, то они находятся в познающем Боге, называются идеями, то к рассмотрению познания должно будет также присоединить рассмотрение вопроса об идеях q. 15». Из этих вопросов мы выбрали ряд наиболее сложных тем, в которых видна оригинальность подхода Фомы.
Но нам следует усматривать некоторое различие в том, что актуально не существует. Ведь нечто, не являющееся актуальным сейчас, или было, или будет, и говорят, что все это Бог познает знанием видения. Ведь поскольку божественное познание, каковое есть Его бытие, измеряется вечностью, которая, существуя без последовательности, охватывает время как целое, то интуиция Бога в настоящем распространяется на все время, и на все, что существует в каком-либо времени, как на то, что предстоит перед Ним как настоящее. Имеются также некоторые вещи, которые существуют в потенции Бога или творения, но которых, однако, нет, и не было, и не будет. И относительно них говорят, что Он имеет знание не видения, а простого понимания. И так говорят, поскольку то, что мы видим, имеет отдельное бытие вне видящего.
1. Итак, относительно первого следует сказать: то, что актуально не существует, может быть истинным согласно тому, что оно существует в возможности, ведь истинно то, что оно существует в возможности, и таким образом оно познается Богом.
2. Относительно второго следует сказать: поскольку Бог есть само бытие, то нечто существует в той мере, в какой оно причастно подобию Бога, как нечто в той мере является теплым, в какой оно причастно теплу. Так и то, что существует в возможности, даже если оно не существует актуально, познается Богом.
3. Относительно третьего следует сказать: божественное познание – причина вещей при присоединении воли. Поэтому надлежит, чтобы не все, что Бог познает, существовало в настоящем, или в прошедшем, или в будущем, а только то, чему Он пожелал или допустил быть. И опять-таки, в божественном познании находится не то, что оно есть, а то, что оно может быть.
Глава 10. Познает ли Бог злое?
1. Кажется, что Бог не познает злое. Ведь Философ говорит в третьей книге «О душе» (430 b 23), что интеллект, который не находится в потенции, не познает лишенность. Но злое есть лишенность благого, как говорит Августин (Исповедь, 3, 7). Следовательно, поскольку божественный интеллект никогда не находится в потенции, но всегда актуален, как явствует из сказанного (а. 2), то кажется, что Бог не познает злое.
Лишенность – важное понятие томистской философии, основывающееся на концепциях Аристотеля и Дионисия Ареопагита. Концепцию Аристотеля часто понимают как гилеморфизм – учение о форме и материи, однако кроме этих двух понятий Аристотель использует третье – лишенность. Для того, чтобы материя могла воспринять ту или иную форму, она должна быть лишена другой формы и быть готовой воспринять именно эту. Так, человек может быть лишен образованности и затем получить ее, в то время как камень лишен образованности и не может ее получить. Лишенность формы также является некоторой определенностью, например, темнота или болезнь являются, по Аристотелю, лишенностями. В философии неоплатонизма и особенно Дионисия Ареопагита понятие лишенности становится еще более важным, поскольку именно при его помощи Дионисий разрабатывает свое понимание зла не как некоторой субстанции, а как лишенности блага.
2. Кроме того, всякое познание или является причиной познанного, или имеет его в качестве причины. Но божественное познание не есть причина злого и не имеет злое в качестве причины. Следовательно, божественное познание не относится к злому.
3. Кроме того, все, что познается, познается или через свое подобие, или через противоположное ему. То же, что познает Бог, он познает посредством Своей сущности, как явствует из сказанного (а. 5). Но божественная сущность не является подобием злого, и зло не противоположно ей, ведь нет ничего, противоположного божественной сущности, как говорит Августин в двенадцатой книге «О граде Божием» (12, 2). Следовательно, Бог не познает злое.
4. Кроме того, то, что познается не посредством себя самого, а посредством другого, познается несовершенным образом. Но злое не познается Богом посредством себя самого, поскольку таким образом надлежало бы, чтобы злое было в Боге; ведь надлежит, чтобы познанное было в познающем. Следовательно, если оно познается посредством другого, то есть посредством благого, то оно познается Им несовершенным образом, что невозможно, поскольку никакое божественное познание не является несовершенным. Следовательно, божественное познание не относится к злому.
Но против: в «Притчах» (15, 11) говорится: «Преисподняя и погибель открыты Богу».
Отвечаю: следует сказать, что если некто познает нечто совершенным образом, то надлежит, чтобы он познавал все, что может привходить в познанное. Но существует нечто благое, в которое может привходить то, что оно разрушается посредством злого. Поэтому Бог не познавал бы это благое совершенным образом, если бы также не познавал злого. Однако нечто умопостигаемо согласно тому, что оно есть. Поэтому, коль скоро бытие злым есть лишенность благого, то тем самым, что Бог познает благое, он также познает злое; как посредством света познается тьма. Поэтому Дионисий говорит в седьмой главе «О божественных именах» (7, 2), что «Бог получает видение тьмы через Себя, видя тьму через свет».
1. Итак, относительно первого следует сказать, что слова Философа следует понимать таким образом, что тот интеллект, который не находится в потенции, не познает лишенность как лишенность, существующую в нем. И это соответствует его словам, сказанным ранее, что точка и все не познается как лишенность деления. И это происходит из-за того, что простые и неделимые формы существуют в нашем уме не актуальным образом, но только потенциально, и если бы они были в нашем уме актуально, то познавались бы не через лишенность. А таким образом все простое познают отделенные субстанции. Таким образом, Бога познает зло не посредством лишенности, существующей в Нем, а как противоположность добру.
2. Относительно второго следует сказать, что знание Бога является не причиной зла, а только причиной блага, посредством которого познается злое.
3. Относительно третьего следует сказать, что хотя зло не противоположно сущности Бога, которая не разрушается злом, но противоположно действиям Бога, которые Он знает посредством своей сущности, и, зная их, Он знает злое, которое противоположно им.
4. Относительно четвертого следует сказать: знание чего-либо только посредством чего-то иного несовершенно, если оно само по себе познаваемо. Но зло само по себе непознаваемо, поскольку суть зла в том, что оно лишенность блага. И, таким образом, оно не может быть определено или познано иначе, как через благо.
Глава 13. Относится ли божественное знание к будущим контингентным событиям?
1. Кажется, что божественное знание не относится к будущим контингентным событиям. Ведь от необходимой причины происходит необходимое действие. Но божественное знание является причиной познанного, как было сказано выше (q. 14, а. 8.). Следовательно, поскольку оно само является необходимым, то и познанное им должно быть необходимым. Следовательно, божественное знание не относится к контингентному.
Понятию «контингентное» трудно подобрать русский эквивалент. Основное значение глагола contingo связано с различными видами касания; реже этот глагол употребляется в значении «случаться». Впрочем, «случайное» покрывает лишь часть смысла «контингентного», поскольку несет в себе смысл неожиданности, неважности, того, чего не должно было бы быть, но в силу ряда обстоятельств есть, однако контингентное имеет равные возможности по отношению к противоположным альтернативам и происходит часто. Оно является не чем-то внешним (например, происходящим от наличия или отсутствия препятствия, согласно стоической концепции), а проистекающим из самой природы вещи. Трактовке контингентного как случайного также препятствует понимание как контингентного того, что зависит от разума и воли человека, обладающего свободой выбора, а также то, что контингентность природной вещи есть результат божественного замысла. Чаще всего понятие «контингентное» употребляется в противопоставлении к необходимому и синонимично возможному. Но возможное – чересчур широкое и многозначное слово; оно часто употребляется как противоположность действительному и в этом смысле не синонимично контингентному. Также контингентное не только является противоположностью необходимому, но и диалектически связано с ним, включает в себя его элемент. Именно связь необходимого с контингентным делает возможным «третий путь» – доказательство бытия абсолютно необходимой причины (=Бога), исходя из наличия в мире контингентного («Сумма теологии» I q. 2, a. 3.). То, что в контингентном есть элемент необходимого, приводит к тому, что Фома употребляет выражения вроде ex necessitate contingere (случаться по необходимости), не воспринимая это как оксюморон.
2. Кроме того, у всякого условного положения, чей антецедент является необходимым абсолютным образом, консеквент также является необходимым абсолютным образом. Ведь антецедент относится к консеквенту, как начало к заключению; из необходимых же начал следует только необходимое заключение, как доказывается в первой книге «Второй аналитики». Но следующее условное положение: «Если Бог познал, что нечто будет существовать, то оно будет существовать» – является истинным, поскольку божественное знание существует только относительно истинного. Антецедент же этого условного положения является абсолютно необходимым, с одной стороны, поскольку он вечен, с другой стороны, поскольку обозначается прошедшим временем. Следовательно, и консеквент является абсолютно необходимым. Следовательно, все познаваемое Богом является необходимым. И, таким образом, божественное знание не относится к контингентному.
Антецедент и консеквент, предшествующее и последующее, – термины формальной логики, обозначающие высказывания, которые составляют условное высказывание: «Если А, то В», «А предшествует В». Антицедентом в более широком смысле называют причину или условие чего-либо последующего.
3. Кроме того, все, познанное Богом, является сущим необходимым образом, поскольку даже все, познанное нами, является сущим необходимым образом; но при этом знание Бога является более достоверным, чем наше знание. Однако никакое контингентное будущее не является сущим необходимым образом. Следовательно, никакое контингентное будущее не является познанным Богом.
Но против то, что говорится в 32 Псалме (Пс. 32, 15): «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их», то есть людей. Но дела людей являются контингентными, как подлежащие свободному выбору. Следовательно, Бог знает будущие контингентные события.
Отвечаю: следует сказать, что, как было показано выше (q. 14, а. 9), Бог знает не только то, что существует актуально, но также те вещи, что существует только для Него в потенции, то есть – творения; некоторые же из них являются контингентными будущими событиями для нас; следовательно, Бог познает контингентные будущие события.
Для очевидности этого следует заметить, что нечто контингентное может быть рассмотрено двояким образом. Одним образом – в себе самом, согласно тому, что оно уже актуально существует. И таким образом оно рассматривается не как будущее, а как настоящее, и не как могущее произойти тем или другим образом, а как определенное к одному. И благодаря этому оно может безошибочным образом подлежать достоверному познанию, например чувству зрения, когда я вижу, что Сократ сидит. Другим образом контингентное может быть рассмотрено как существующее в своей причине. И в таком случае оно рассматривается как будущее и как контингентное, еще не определенное к одному, поскольку контингентная причина относится к противоположному. И в таком случае контингентное не подлежит с достоверностью какому-либо познанию. Поэтому если некто познает контингентное действие только в его причине, то он имеет о нем лишь предположительное знание.
Бог же познает все контингентное не только как оно существует в своей причине, но так же каждое из них как актуальное само по себе. И хотя контингентное становится актуальным последовательно, Бог познает контингентное не последовательно, каково оно в своем существовании и как познаем мы, а одновременно. Ведь Его познание соразмерно вечности, как и Его бытие, вечность же, существуя вся одновременно, охватывает все времена, как было сказано выше (q. 10, a. 2, ad 4). Поэтому все, что существует во времени, для Бога является настоящим от вечности, не только на том основании, что Он имеет у Себя идеи как настоящие, как говорят некоторые, но поскольку Его взгляд от вечности распространяется на все, как оно существует в своем настоящем. Поэтому ясно, что контингентное познается Богом безошибочно, коль скоро подлежит божественному взору согласно своему наличию, и тем не менее является будущим контингентным событием в соотнесенности со своей причиной.
1. Итак, относительно первого следует сказать: хотя высшая причина является необходимой, однако действие может быть контингентным благодаря ближайшей контингентной причине, например, произрастание растения является контингентным из-за ближайшей контингентной причины, хотя движение солнца, которое является первой причиной, является необходимым. И, схожим образом, познанное Богом является контингентным из-за ближайшей причины, хотя божественное знание, которое является первой причиной, является необходимым.
2. Относительно второго следует сказать: некоторые говорят, что антецедент: «то, что Бог познал это контингентное будущее событие» – является не необходимым, а контингентным, поскольку, хотя он в прошедшем времени, но подразумевает отношение к будущему. Но это не отменяет его необходимость, поскольку то, что имело отношение к будущему, имело его с необходимостью, даже если будущее следует не всегда. Другие же говорят, что этот антецедент является контингентным, поскольку составлен из необходимого и контингентного; так, контингентным является высказывание «Сократ есть белый человек». Но это возражение также является ничтожным. Ведь когда говорится: «Бог познал, что это контингентное будет существовать», то контингентное полагается здесь как предмет, обозначаемый словом, а не как первичная часть высказывания, поэтому контингентность или необходимость предмета, о котором говорится в высказывании, ничего не привносит для того, чтобы само высказывание было необходимым или контингентным, истинным или ложным. И таким же образом «Я сказал, что человек есть осел» может быть истинным так же, как и «Я сказал, что Сократ бежит» или «…что Бог есть», и тот же довод существует относительно необходимого и контингентного. Поэтому следует сказать, что этот антецедент является необходимым абсолютным образом. Однако не следует, говорят некоторые, чтобы и консеквент был необходимым абсолютным образом, поскольку антецедент является причиной, отдаленной от консеквента, который является контингентным благодаря ближайшей причине. Но это возражение является ничтожным. Ведь условное положение, чей антецедент был бы необходимой отдаленной причиной, а консеквент – контингентным действием, было бы ложным, как, например, если бы я сказал: «Если Солнце движется, то трава будет расти». И поэтому следует говорить иначе – что когда в антецеденте полагается нечто, относящееся к действию души, то консеквент следует понимать не согласно тому, что он есть сам по себе, а согласно тому, что он есть в душе, ведь одним является бытие вещи самой по себе и иным – бытие вещи в душе. Как, например, если я говорю: «Если душа познает нечто, то оно нематериально», то следует понимать так, что оно является нематериальным согласно тому, что оно находится в интеллекте, а не согласно тому, что оно таково само по себе. И, схожим образом, если я говорю: «Если Бог познал нечто, то оно будет», то консеквент следует понимать сообразно тому, что нечто подлежит божественному знанию, то есть коль скоро оно существует в своем наличии. И, таким образом, он необходим, как и антецедент, поскольку все, что есть, пока оно есть, с необходимостью существует, как говорится в первой книге Аристотеля «Об истолковании» (19a 23).
3. Относительно третьего следует сказать: то, что приводится в актуальное состояние во времени, познается нами последовательно во времени, но Богом – в вечности, которая превыше времени. Поэтому для нас, поскольку мы познаем будущие контингентные события как таковые, они не могут быть достоверными, но они достоверны только для Бога, чье познание существует в вечности превыше времени, подобно тому как тот, кто идет по дороге, не видит тех, кто будут идти после него, но тот, кто с некоторой высоты видит всю дорогу, одновременно видит всех, проходящих по дороге. И поэтому даже то, что познается нами, должно быть необходимым согласно тому, что оно есть само по себе, поскольку то, что суть контингентные будущие события сами по себе, не может быть познано нами. Но то, что познано Богом, должно быть необходимым согласно способу, посредством которого оно подлежит божественному познанию, как было сказано, но не абсолютным образом, согласно которому оно рассматривается в собственных причинах. Поэтому и это утверждение, что все познанное Богом существует с необходимостью, обычно понимается в различных смыслах, поскольку речь может идти либо о вещи, либо о сказанном. Если это понимается о вещи, то оно является разделенным и ложным и смысл его в том, что всякая вещь, которую познает Бог, является необходимой. Или можно понимать относительно сказанного, и таким образом оно является составным и истинным, и смысл его в том, что это сказанное, которое является познанным Богом, является необходимым. Но этому противостоят некоторые, говоря, что такое различие имеет место в формах, отделимых от субъекта; как если я говорю: «белое может быть черным», и это является ложным относительно сказанного и истинным относительно вещи, ведь вещь, которая является белой, может быть черной; но это сказанное, «белое есть черное», никогда не может быть истинным. В формах же, неотделимых от субъекта, вышеупомянутое различие не имеет места; как если я говорю: «черный ворон может быть белым», то и в том и в другом смысле это является ложным. Бытие же, познанное Богом, неотделимо от вещи, поскольку то, что познано Богом, не может быть непознанным. Но это обстоятельство имело бы место, если бы то, что я называю познанным, подразумевало бы некоторую расположенность, присущую субъекту. Но когда подразумевается действие познающего, то самой познанной вещи, хотя бы она и познавалась всегда, можно атрибутировать нечто согласно ей самой, что не атрибутируется ей, коль скоро она подлежит акту познания, как «быть материальным» атрибутируется камню самому по себе, но не атрибутируется ему согласно тому, что он является умопостигаемым.
Вопрос 15. Об идеях
После рассмотрения божественного знания остается рассмотреть идеи. И относительно этого имеются три вопроса:
1. Существуют ли идеи?
2. Существует ли их много или только одна?
3. Познаются ли Богом идеи всех вещей?
Глава 1. Существуют ли идеи?
1. Кажется, что идей не существует. Ведь Дионисий говорит в седьмой книге «О божественных именах» (7, 2), что Бог не познает вещь согласно идее. Но идеи полагаются не для чего иного, как для того, чтобы посредством них познавалась вещь. Следовательно, идей не существует.
2. Кроме того, Бог познает все в Себе Самом, как было сказано выше (q. 14, a. 5). Но Самого Себя, а, следовательно, и все другое Он познает не посредством идей.
3. Кроме того, идея полагается в качестве начала познания и действования. Но божественная сущность является достаточным началом познания и действования всего. Следовательно, нет необходимости полагать идеи.
Но против то, что говорит Августин в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (q. 46): «В идеях заключается такая сила, что никто не может быть мудрым, не познав их».
Отвечаю: необходимо полагать существование идей в божественном уме. Идеей же называется по-гречески то, что по-латински – «форма», поэтому под идеями подразумеваются формы разных вещей, существующие прежде самих вещей. Форма же какой-либо вещи, существующая прежде нее, может существовать двояко: или если она – прообраз того, чьей формой она называется, или если она – начало его познания, согласно чему говорится, что познаваемые формы существуют в познающем. В отношении и того и другого необходимо полагать существование идей. Что проясняется таким образом: ведь во всем, что порождается не случайно, форма необходимым образом является целью любого порождения. Но действующий не действовал бы благодаря форме, если бы в нем не было бы подобия формы. Это случается двояким образом: в некоторых действующих форма вещи, которой надлежит стать, предсуществует согласно естественному бытию, как в тех, что действует согласно природе; так человек порождает человека, и огонь – огонь. В некоторых же – согласно умопостигаемому бытию, как в тех, которые действуют согласно интеллекту, так подобие дома предсуществует в уме строителя. И это может быть названо идеей дома, поскольку мастер имеет намерение уподобить дом форме, которую схватывает посредством ума.
Следовательно, поскольку мир сотворен не случаем, а Богом посредством действующего интеллекта, как будет ясно ниже (q. 46, a.1), то необходимо, чтобы в божественном уме была форма, по подобию которой сотворен этот мир. А в этом и состоит понятие идеи.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что Бог не познает вещь согласно идее, существующей вне него. И таким же образом Аристотель (Метафизика, 997 b 6) опровергает мнение Платона об идеях, согласно тому, что тот считал их существующими самими по себе, а не в интеллекте.
Платон (ок. 429–347 до н. э.) – великий древнегреческий философ, высказавший гипотезу о существовании идей, вечных и самосущих, являющихся причинами существования вещей и основаниями их познания. Свою гипотезу он сам подвергает критике в диалоге «Парменид», а затем эту критику воспроизводит Аристотель. Христианские мыслители, в частности Августин, тоже критиковали эту гипотезу, поскольку существование вечных идей, с которыми Богу пришлось бы сообразовывать сотворение мира, ограничивает Его могущество и свободу воли. Фома Аквинский продолжает эту традицию, отмечая, что гипотеза идей принижает значимость существования индивидов, единичных вещей. Однако Фома был знаком с идеями Платона, в основном, из вторых рук, поскольку к тому времени на латинский язык было переведено лишь несколько диалогов Платона (еще в IV в. Халкидием «Парменид» и «Тимей» – Фома Аквинский оспаривает положение о вечном существовании материи, излагаемое в нем, и представление о том, что мир создает не только верховный бог, но и множество богов и демонов; а также «Менон» (в сер. XII в. Генрихом Аристиппом), излагающий концепцию обучения как припоминания того, что заранее существует в душе, которая также была подвергнута критике Аквинским).
2. Относительно второго следует сказать, что хотя Бог познает себя и другое посредством Своей сущности, однако Его сущность является действующим началом других вещей, а не Его Самого, и поэтому Он имеет понятие идеи согласно тому, что она относится к другим вещам, а не согласно тому, что она относится к самому Богу.
3. Относительно третьего следует сказать, что Бог в сущности Своей имеет подобие всех вещей. Поэтому идея в Боге есть не что иное, как сущность Бога.
Глава 2. Существует ли много идей или только одна?
1. Кажется, что не существует множества идей. Ведь идея в Боге есть его сущность. Но сущность Бога только одна. Следовательно, и идея – одна.
2. Кроме того, как идея является началом познания и действования, так и искусство и мудрость. Но в Боге не существует многих искусств и мудрости, и, следовательно, многих идей.
3. Если же скажут, что идеи умножаются согласно отношению к различным творениям, то можно возразить, что можественность идей существует вечно. Следовательно, если идей существует много, творения же являются временными, то временное было бы причиной вечного.
4. Кроме того, эти отношения существуют или согласно вещи только в творениях, или также в Боге. Если только в творениях, то, поскольку творения не являются вечными, множественность не была бы от вечного, если бы идеи умножались только согласно такого рода отношению. Если же они реально существуют в Боге, то следует, чтобы в Боге была иная реальная множественность, чем множественность Лиц, что противоречит Дамаскину (О вере православной, I, 10), говорящему, что в Божественном многое суть единое, кроме «непорожденности, порожденности и исхождения». Таким образом, не существует многих идей.
Но против то, что говорит Августин в «Книге восьмидесяти трех вопросов» (q. 46): «Идеи суть изначальные формы или понятия вещей, постоянные и неизменные, поскольку сами они не получили форму, и из-за этого вечны, и всегда существуют одним и тем же образом, поскольку содержатся в божественной сущности. Но в то время, как сами они не возникают и не исчезают, согласно им, однако, говорится, что оформляется все, что может возникать и исчезать, и все, что возникает и исчезает».
Отвечаю: следует сказать, что необходимо полагать существование многих идей. Для очевидности этого следует рассмотреть, что во всяком действии то, что является предельной целью, является собственным предметом намерения (intentum) первого действующего; как расположение войск является предметом намерения командира. То же, что является наилучшим в существующих вещах, есть благо порядка универсума, что ясно благодаря Философу в двенадцатой книге «Метафизики» (1075a 13). Следовательно, порядок универсума является собственным предметом намерения Бога, а не привходящим акцидентальным образом в результате преемственности действующих, – как некоторые говорили, что Бог сотворил только первое творение, каковое творение сотворило второе творение, и так далее – до тех пор, пока не было произведено все множество вещей; согласно этому мнению Бог имел только идею первого творения.
Но если порядок универсума сам по себе сотворен Им и является объектом Его намерения, то необходимо, чтобы Он имел идею порядка универсума. Ведь не может быть понятия какого-либо целого, если не имеется собственных понятий того, из чего составляется целое, как строитель не мог бы схватывать вид дома, если наряду с ним не существовало бы собственное понятие всякой его части. Так, следовательно, надлежит, чтобы в божественном уме были собственные понятия всех вещей. Поэтому Августин говорит в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (q. 46), что единичные вещи сотворены Богом посредством их собственных понятий. Поэтому следует, чтобы в божественном уме были многие идеи.
То же, что это никоим образом не противоречит божественной простоте, легко увидеть, если некто рассмотрит, что идея произведенного существует в уме производящего как то, что познается, но не как вид, посредством которого нечто познается, то есть как форма, делающая интеллект актуальным. Ведь форма дома в уме строителя есть нечто, познанное им, по уподоблению чему он придает форму дому. То же, что Бог познает многое, не противоречит Его простоте; но против Его простоты было бы, если бы Его интеллект получал бы форму благодаря многим видам. Поэтому многие идеи существуют в божественном уме как познанные им. Это можно рассмотреть таким образом: ведь Он познает свою сущность в совершенстве, поэтому познает ее согласно всякому способу, посредством которого Он познаваем. Но Он может быть познан не только согласно тому, что Он есть сам по себе, но и согласно некоторому способу уподобления ему творений. Но всякое творение имеет собственный вид, согласно которому оно некоторым образом причастно божественной сущности. Так, следовательно, коль скоро Бог познает свою сущность, которой таким образом подражает такое творение, то он познает ее как собственное понятие и идею этого творения. И схожим образом относительно других. И, таким образом, ясно, что Бог познает многие собственные понятия многих вещей, то есть многие идеи.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что божественная сущность называется идеей не потому, что она сущность, а потому, что она – подобие или понятие той или иной вещи. Поэтому, поскольку существуют многие понятия, познанные из одной сущности, постольку они называются многими идеями.
2. Относительно второго следует сказать, что мудростью и искусством называется то, посредством чего Бог познает, а идеей – то, что Бог познает. Бог же познает многое посредством единого, и не только согласно тому, что оно есть само по себе, но также согласно тому, что оно является познанным, то есть – познание многих понятий вещей. Так, когда мастер познает форму дома в материи, то говорится, что он познает дом, когда же он познает форму дома как созерцаемую им, то благодаря тому, что он познает себя познающим ее, он познает идею или понятие дома. Бог же не только познает многие вещи благодаря своей сущности, но также познает себя, познающего многое посредством своей сущности. Но это значит познавать многие понятия вещей, или то, что в его интеллекте существуют многие идеи как познанные.
3. Относительно третьего следует сказать, что такого рода отношения, посредством которых умножаются идеи, имеют в качестве причины не вещи, а божественный интеллект, соотносящий свою сущность с вещами.
4. Относительно четвертого следует сказать, что отношения, умножающие идеи, существуют не в сотворенных вещах, а в Боге. Однако они не реальные отношения, как те, благодаря которым различаются Лица, а отношения, познанные Богом.
Глава 3. Познаются ли Богом идеи всех вещей?
1. Кажется, что не у всего, что познает Бог, есть идеи. Ведь в Боге нет идеи зла, поскольку следовало бы, что зло есть в Боге. Но зло познается Богом. Следовательно, не у всего, что познает Бог, есть идеи.
2. Кроме того, Бог познает то, чего нет, и то, чего не было и чего не будет, как выше было сказано (а. 9). Но у таких вещей нет идеи, поскольку Дионисий говорит в пятой главе «О божественных именах» (5, 8), что прообразы суть акты божественной воли, определяющие и создающие вещи. Следовательно, не все, что познается Богом, имеет идею в Нем.
3. Кроме того, Бог познает первую материю, которая не может иметь идею, поскольку не имеет никакой формы. Следовательно – то же, что ранее.
4. Кроме того, известно, что Бог знает не только виды, но также роды, и единичные вещи, и акциденции. Но у них нет идей, согласно положению Платона, который первым ввел идеи, как говорит Августин (в Книге о восьмидесяти трех вопросах, 46). Следовательно, все, познанное Богом, имеет идею в Нем.
Но против: идеи суть понятия, существующие в божественном уме, как ясно из Августина (там же, 46). Но Бог имеет собственное понятие всего, что он познает. Следовательно, он имеет идеи всего, что он познает.
Отвечаю, следует сказать: поскольку идеи полагаются Платоном как начала познания вещей и их порождения, то идея имеется у всего, коль скоро оно полагается в божественном уме. И она может быть названа прообразом согласно тому, что она – начало создания вещей и относится к практическому познанию. Согласно же тому, что она – познающее начало, она называется понятием и может также относиться к спекулятивной науке. Следовательно, коль скоро она – прообраз, то относится ко всему, что производится Богом в какое-либо время. Согласно же тому, что она – познающее начало, она относится ко всему, что познается Богом, даже если не производится ни в какое время, и ко всему, что познается Богом согласно собственному понятию и согласно этому познается им умозрительным образом.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что зло познается Богом не посредством собственного понятия, но посредством понятия благого. И поэтому зло не имеет идеи в Боге ни согласно тому, что идея есть прообраз, ни согласно тому, что она – понятие.
2. Относительно второго следует сказать, что о том, чего не было и не будет, Бог не имеет практического познания иначе, как только виртуально (virtute). Поэтому относительно этого в Боге нет идей согласно тому, что идея обозначает прообраз, но только согласно тому, что она обозначает понятие.
3. Относительно третьего следует сказать, что Платон, согласно некоторым, полагал, что материя не сотворена, и поэтому считал, что существует не идея материи, а со-причина материи. Но поскольку мы полагаем, что материя сотворена Богом, однако без формы, то материя имеет идею в Боге, однако не отличающуюся от идеи составного. Ведь материя сама по себе не имеет бытия и не является познаваемой.
4. Относительно четвертого следует сказать, что роды не могут иметь идеи, отличные от идеи вида, согласно тому что идея обозначает прообраз, поскольку всякий род возникает только в каком-либо виде. И схожим образом обстоит дело с акциденциями, которые неразделимым образом сопровождают субъект, поскольку они возникают одновременно с субъектом. Акциденции же, которые прибавляются к субъекту, имеют особые идеи. Ведь мастер создает посредством формы дома все акциденции, которые изначально сопровождают дом, но те, которые прибавляются к уже созданному дому, такие как картины или что-либо другое, он создает посредством какой-либо другой формы.
Индивиды же, согласно Платону, не имеют идеи, отличной от идеи вида, и поскольку единичные вещи индивидуируются посредством материи, которую он полагал несотворенной, как говорят некоторые, и со-причиной идеи, и поскольку интенция природы состоит в видах, и она производит частные вещи только для того, чтобы в них сохранялись виды. Но божественное провидение распространяется не только на вид, но и на единичные вещи, как говорится ниже (q. 22, a. 3).
Вопрос 16. Об истине
Коль скоро познание касается истинного, то после рассмотрения вопросов о божественном знании следует поставить вопросы об истине.
И относительно этого ставится восемь вопросов:
1. Есть ли истина в вещи или только в интеллекте?
2. Есть ли она только в соединяющем и отделяющем интеллекте?
3. Об отношении истинного к сущему.
4. Об отношении истинного ко благому.
5. Есть ли Бог – истина?
6. Истинно ли все истинное благодаря одной истине или множеству?
7. О вечности истины.
8. О ее неизменности.
Глава 1. Есть ли истина только в интеллекте?
Относительно первого рассмотрим следующее положение: считается, что истина есть не только в интеллекте, но скорее в вещах. Ведь Августин, во второй книге «Монологов» (II, 4 и 5), осуждает такое понимание истинного: «Истинно только то, что видится», так как из этого следовало бы, что камни, скрытые в сокровеннейшем лоне земли, не были бы истинными камнями, поскольку они не видны. Он также осуждает в той же книге и следующее: «Истинное есть то, что обстоит так, как представляется познающему, если он хочет и может познавать», поскольку из этого следовало бы, что ничто не было бы истинным, если бы никто не мог познавать. И он определяет истинное таким образом: «Истинное есть то, что есть». Следовательно, кажется, что истина есть в вещах, а не в интеллекте.
2. Кроме того, все, что истинно, истинно благодаря истине. Таким образом, если истина есть только в интеллекте, то ничто не было бы истинным иначе, как на основании того, что оно познается. Но это заблуждение древних философов, которые говорили: все, что представляется, – есть истинное, из чего следовало, что противоположности одновременно истинны, поскольку различным людям представляется, что они одновременно истинны.
3. Кроме того, то, благодаря чему вещь такова, само больше этой вещи, как ясно из «Второй Аналитики» (Аристотель, 72а 29). Но мнение и речь истинны или ложны на основании того, что вещь есть или не есть, согласно Философу в «Категориях» (4b 8). Следовательно, истина есть скорее в вещах, чем в интеллекте.
Но этому противоречит то, что говорит Философ в шестой книге «Метафизики» (1027b 25), что истинное и ложное не в вещах, но в интеллекте.
Отвечаю: следует сказать, что подобно тому, как «благое» именует то, к чему стремится желание, так и «истинное» именует то, к чему стремится интеллект. Но есть различие между желанием и интеллектом или любым познанием, поскольку познание есть то, соответственно чему познанное есть в познающем, а желание – то, соответственно чему желающий склоняется к самой желаемой вещи. И, таким образом, конечная цель желания (которая и есть «благое») существует в желаемой вещи, а конечная цель познания (которая и есть «истинное»), существует в самом интеллекте. Но благо есть в вещи, коль скоро она имеет отношение к желанию, и, следовательно, смысл блага переходит к желанию от желаемой вещи, согласно чему желание называется «благим», поскольку вещь – благая; и подобно этому коль скоро истинное есть в интеллекте, согласно чему он сообразуется с понятой им вещью, то необходимо, чтобы смысл «истинного» переходил от интеллекта к понятой им вещи, ведь понятая вещь называется «истинной» потому, что она имеет некоторое отношение к интеллекту.
Но понятая вещь может относиться к интеллекту или сама по себе, или акцидентально. Сама по себе она относится к интеллекту, от которого она зависит в отношении своего бытия, а акцидентально – к интеллекту, который может ее познать; как, например, мы говорим, что здание соотносится само по себе с интеллектом мастера и акцидентально с интеллектом, от которого оно не зависит. Однако суждение о вещи совершается не согласно тому, что присуще ей акцидентально, но согласно тому, что присуще ей само по себе. Поэтому о некоей вещи говорится, что она истинна абсолютно, согласно ее отношению к интеллекту, от которого она зависит; и, таким образом, об искусственных вещах говорится, что они истинны, если они относятся к нашему интеллекту: ведь о здании говорится, что оно истинно, если оно получает подобие формы, которая есть в уме мастера, и о речи говорится, что она истинна, поскольку она – знак истинного интеллекта. И, сходным образом, о природных вещах говорится, что они истинны, поскольку они приобретают подобие тех образов, которые суть в божественном уме. Ведь о камне говорят «истинный камень», так как он приобретает природу, свойственную камню, согласно предсуществующему замыслу в божественном интеллекте. Следовательно, истина есть прежде всего в интеллекте и вторичным образом – в вещах, согласно тому, что они соотносятся с интеллектом как с основанием.
И, согласно этому, истина обозначается различным образом. Ведь Августин говорит в книге «Об истинной религии» (36): «Истина есть то, благодаря чему показывается то, что есть». И Иларий говорит (О Троице, 5): «Истинное есть прояснение и проявление бытия». И это определение относится к истине, согласно тому, что она есть в интеллекте. Что же касается истины вещей согласно их отношению к интеллекту, то к ней относится такое определение Августина в книге «Об истинной религии» (36): «Истина есть высшее сходство с основанием без какого бы то ни было несходства». И определение Ансельма (Кентерберийского, Об истине, 11) таково: «Истина есть правильность, воспринимаемая только умом»; ведь то правильно, что согласуется с основанием. И некое определение Авиценны (Метафизика. VIII, 6) таково: истина каждой вещи есть свойство ее бытия, которое в ней непреходяще. Сказанное же, что истина – это соответствие вещи и интеллекта, может относиться и к тому, и к другому.
Иларий (ок. 315–367) – епископ Пиктавийский, богослов, автор трактата «О Троице», где он полемизирует с арианами, утверждая божественность Сына.
Абу Али ибн Сина, в латинской традиции Авиценна (980–1037), выдающийся философ, врач, астроном, родом из Бухары. Его главный труд называется «Аш-Шифа» и включает в себя ряд трактатов на различные темы, в том числе «Метафизику», переведенную в XII в. на каталонский, а затем с каталонского на латинский. В этом труде Ибн Сина создал оригинальную систему метафизики, оказавшую большое влияние как на арабскую, так и на западноевропейскую философию. Ибн Сина провел различие между сущностью вещи (ее идеей) и актом существования вещи, которые могут не совпадать (так, мы знаем, что такое химера и можем ее наглядно представить, но вместе с тем известно, что она не существует (т. е. сущность и существование в ней различны)). В других вещах сущность и существование соединены, однако не так, чтобы существование этой вещи следовало с необходимостью из ее сущности: это возможное сущее, оно может быть, а может и не быть. Но для того, чтобы мир возможных вещей обрел существование, должно быть некоторое необходимое сущее, в котором из его сущности с необходимостью следовало бы существование – такое сущее есть Бог. Таким образом, Ибн Сина осуществляет доказательство бытия Бога. Бог существует вечно. Из него вечно и необходимым образом проистекает (подобно неоплатонической эманации) разумное сущее, которое Ибн Сина называет первой интеллигенцией. Бог творит только одно сущее, поскольку он сам един и прост и поскольку одна причина может сотворить одно действие. От первой интеллигенции ведет начало целый ряд все более отдаляющихся от Бога интеллигенций, последняя из них, десятая, посылает формы в материю, в результате чего возникает материальный мир. Эта же интеллигенция, будучи деятельным разумом, освещает наш воспринимающий разум, благодаря чему мы оказываемся способными мыслить.
1. Относительно первого следует сказать, что Августин говорит об истине вещи и исключает из определения этой истины соотношение с нашим интеллектом; ведь то, что акцидентально, исключается из любого определения.
2. Относительно второго следует сказать, что древние философы говорили, что образы природных вещей не проистекают из какого-либо интеллекта, но произведены случайно. Но поскольку они замечали, что истинное влечет соотношение с интеллектом, они были принуждены основывать истину вещей на их отношении к нашему интеллекту. Из этого следовали несообразности, которые опровергает Философ в четвертой книге «Метафизики» (1009a–1011a). Однако таковых несообразностей не следует, если мы положим, что истина вещей состоит в соотношении с божественным интеллектом.
3. Относительно третьего следует сказать: хотя истина нашего интеллекта причиняется вещью, все же не следует, чтобы смысл истины находился в вещи первично, как, например, не следует, чтобы смысл здоровья находился в лекарстве прежде, чем в живом существе; ведь достоинство лекарства, а не его здоровье, есть причина здоровья, так как здесь о действующей причине говорится не унивокально. И, сходным образом, бытие вещи, а не ее истина, причиняет истину в интеллекте. Поэтому Философ и говорит, что мнение или речь истинны потому, что вещь – есть, а не потому, что вещь истинна (Категории, 4b 8).
Унивокальное и эквививокальное употребление слова: эквивокальное – когда одно слово имеет различный смысл, омонимический или метафорический, в отличие от унивокального употребления, когда одно слово мы употребляем в строгом смысле. Фома Аквинский также вводит понятие аналогии: одно слово по отношению к разным вещам употребляется в разном, но аналогичном смысле. Так, говоря о бытии Бога, человека или камня, мы говорим не унивокально, но и не эквивокально, мы имеем в виду несколько разные вещи (бытие Бога вечно, в отличие от человеческого), при этом бытие Бога относится к Его сущности так же, как бытие человека к его сущности.
Глава 2. Есть ли истина только в соединяющем и отделяющем интеллекте?
Относительно второго следует рассмотреть такое положение: считается, что истина есть не только в соединяющем и отделяющем интеллекте. Ведь Философ говорит в третьей книге «О душе» (430b 27): подобно тому как чувства всегда истинны в отношении свойственного им чувственно воспринимаемого, так и интеллект всегда истинен в отношении «того, что есть». Но соединения и отделения нет ни в чувстве, ни в интеллекте, познающем «то, что есть». Следовательно, истина не только в соединении и отделении, осуществляемых интеллектом.
Соединяющий и отделяющий интеллект, то есть составляющий субъектно-предикатные конструкции, утвердительные или отрицающие.
2. Кроме того, Исаак говорит в книге «Об определениях», что истина – соответствие вещи и интеллекта. Но вещам может соответствовать как интеллект, постигающий сложное, так и постигающий простое; точно так же и чувство, ощущающее вещь так, как она есть. Следовательно, истина не только в соединяющем и отделяющем интеллекте.
Исаак Израэли (845–940), иудейский врач и философ, живший в Египте, главный труд – «Книга определений», над комментарием к ней Фома работал в конце жизни. Фома приписывает Израэли приводимое определение истины, но на самом деле это высказывание Авиценны, которое затем анонимно цитировалось Вильгельмом Оксерским, Александром Гальским, Филиппом Канцлером и др.
Но этому противоречит то, что говорит Философ в шестой книге «Метафизики» (1027b 27): относительно простого и «того, что есть» не существует истины, ни в разуме, ни в вещах.
Отвечаю: следует сказать, что, как говорилось ранее (q. 16, a. 1), истинное есть, согласно своему первичному смыслу, в интеллекте. Но так как всякая вещь истинна согласно тому, что она имеет форму, свойственную ей по природе, то необходимо, чтобы и интеллект, коль скоро он познающий, был истинным, когда он обладает подобием познанной вещи, которое становится его формой в процессе познания. По этой причине истина определена согласно сообразию интеллекта и вещи. Поэтому познать это сообразие – значит познать истину. Но ее никоим образом не познает чувство. Ведь, хотя зрение обладает подобием видимого, все же оно не познает соотношения, которое есть между увиденной вещью и тем, что оно само приняло от нее. Интеллект же может познать собственное сообразие с умопостигаемой вещью; но он не постигает его, когда он познает о чем-то «то, что оно есть». Однако когда он судит, что с вещью обстоит дело так, что она как бы есть эта форма, которую он постиг относительно этой вещи, то лишь тогда он познает и высказывает истину. И это он делает, соединяя и отделяя: ведь в каждом предложении он или прилагает к некоей вещи, обозначенной как субъект, некоторую форму, обозначенную как предикат, или отделяет ее: и из этого ясно видно, что чувство истинно по отношению к любой вещи, как и интеллект, когда он познает «то, что есть»; но не в том смысле, что он познает или утверждает истину. Подобным образом происходит с несоставными речами. Поэтому истина может быть в чувстве или в интеллекте, познающем «то, что есть», как в некоторой истинной вещи, но не как познанное в познающем, что подразумевает имя «истинное»; ведь совершенство интеллекта есть истиное как познанное. И поэтому, говоря в собственном смысле, истина есть в соединяющем и отделяющем интеллекте, но не в чувстве и не в интеллекте, познающем «то, что есть».
И из этого следует разрешение возражений.
Глава 3. Обращаются ли истинное и сущее?
Относительно третьего следует рассмотреть следующее положение: считается, что истинное и сущее – необратимы. Ведь истинное, в собственном смысле, есть в интеллекте, как сказано (q. 16, a. 1), но сущее же – в вещах; следовательно, они необратимы.
2. Кроме того, то, что распространяется на сущее и на не-сущее, необратимо с сущим. Но истинное распространяется и на сущее и на не-сущее; поскольку истинно положение «то, что есть – есть»; и «то, что не есть – не есть». Следовательно, кажется, что «истинное» и «сущее» необратимы.
3. Кроме того, то, что соотносится как первичное и последующее, по-видимому, необратимо. Но истинное, как кажется, первичнее сущего, ведь сущее постигается только на основании истинного. Следовательно, кажется, что они необратимы.
Но этому противоречит то, что говорит Философ в первой книге «Метафизики» (993b 30): «То же самое расположение вещей в бытии и в истине».
Отвечаю: следует сказать, что, подобно тому как благое имеет смысл желаемого, так же и истинное имеет отношение к познанию. Но насколько что-либо имеет от бытия, настолько оно познаваемо. Поэтому говорится в третьей книге «О душе» (431b 21), что благодаря чувству и интеллекту «душа, некоторым образом, есть всё». И поэтому как благое обратимо с сущим, так и истинное. Но как благое добавляет к сущему смысл «желаемого», так и истинное добавляет соотношение с интеллектом.
1. Относительно первого следует сказать, что истинное есть и в вещах, и в интеллекте, как сказано (q. 16, a. 1). Но истинное, которое есть в вещах, обратимо с сущим в отношении субстанции, в то время как истинное, которое есть в интеллекте, обратимо с сущим, как проявляющееся с явленным – это относится к смыслу истинного, как уже сказано. Хотя можно сказать, что сущее также есть в вещах и в интеллекте, как и истинное; но надлежит истинному быть изначально в интеллекте, сущему же – изначально в вещах; и это происходит так, потому что истинное и сущее отличаются по смыслу.
2. Относительно второго следует сказать, что не-сущее не имеет в себе того, благодаря чему оно познавалось бы; все же оно познается настолько, насколько интеллект делает его познаваемым. Поэтому истинное утверждается о не-сущем, поскольку не-сущее есть некое сущее в разуме, – то есть постигнутое разумом.
3. Относительно третьего следует сказать: когда говорится, что сущее может быть постигнуто только рассматриваемое как истинное, то это может быть понято двояко. Во-первых, может пониматься так, что сущее постигается, только если из постижения сущего возникает его смысл как истинного; и в этом случае сказанное истинно. Во-вторых, может пониматься так, что сущее может постигаться, только если постигнут его смысл как истинного; и это ложно. Но истинное может постигаться, только если оно постигается в смысле сущего; поскольку сущее подпадает под смысл истинного. И, подобно этому, когда мы сравниваем умопостигаемое с сущим; ведь сущее не может пониматься, не будучи умопостигаемым. Но все же сущее может пониматься так, что не понимается его умопостигаемость. И, сходным образом, познанное сущее – истинно, но не всегда при постижении сущего может быть постигнуто истинное.
Глава 4. Первичнее ли благое, чем истинное по смыслу?
Относительно четвертого следует рассмотреть положение: считается, что благое первичнее истинного по смыслу. Ведь то, что универсальнее, то первичнее по смыслу, как ясно из первой книги «Физики» (189a 5). Но благое более универсально, чем истинное, ведь истинное есть некое благо, а именно в интеллекте. Следовательно, благое первичнее истинного по смыслу.
2. Кроме того, благое есть в вещах, но истинное в соединении и отделении, осуществляемых интеллектом, как сказано (q. 16, a. 2). Но то, что есть в вещи, первичнее того, что в интеллекте. Следовательно, благое первичнее истинного по смыслу.
3. Кроме того, истина есть некий вид добродетели, как ясно из третьей книги «Этики» (Аристотель, Никомахова этика, 1127a 29). Но «добродетель» заключается в «благом»; ведь существует, как говорит Августин (О свободном произволении, II, 19), благое качество ума. Следовательно, благое первичнее, чем истинное.
Но этому противоречит следующее: то, что есть в большем числе вещей, то первичнее по смыслу. Но истинное есть в том, в чем нет благого, как, например, в математике. Следовательно, истинное первичнее по смыслу, чем благое.
Отвечаю: следует сказать, что, хотя благое и истинное обращаются с сущим относительно их носителя, все же они отличаются по смыслу. И поэтому истинное, говоря в абсолютном смысле, первичнее, чем благое, что ясно из двух оснований. Во-первых, из того, что истинное ближе к сущему, которое первичнее, чем благое, ведь истинное относится к своему бытию просто и непосредственно, а смысл «благого» следует из сущего, поскольку сущее некоторым образом совершенно – ведь таково желаемое. Во-вторых, это явствует из того, что познание по природе предшествует желанию. Следовательно, поскольку истинное относится к познанию, а благое – к желанию, то на этом основании истинное должно быть первичнее по смыслу, чем благое.
1. Относительно первого следует сказать, что воля и интеллект взаимосвязаны: ведь интеллект понимает волю, а воля желает, чтобы интеллект понимал. Следовательно, среди того, что относится к объекту воли, заключено также и то, что относится к интеллекту; и наоборот. Поэтому в порядке желаемого благое существует как универсальное, а истинное – как частное, в то время как в порядке умопостигаемого – наоборот. Таким образом, из того, что истинное есть нечто благое, следует то, что благое первичнее в порядке желаемого, но не то, что оно просто первичнее.
2. Относительно второго следует сказать: нечто первичнее по смыслу, поскольку оно первичнее попадает в интеллект. Но интеллект постигает прежде всего само сущее; во-вторых, он постигает то, что он постигает сущее; и в-третьих, он постигает, что он желает сущее. Поэтому смысл сущего – первый, смысл истинного – второй, и смысл благого – третий; хотя благое – в вещах.
3. Относительно третьего следует сказать, что добродетель, о которой говорится, что она истина, – не есть истина вообще, но некоторая истина, согласно которой человек показывает словом и делом, каков он. Но об истине «жизни» говорится в частном смысле, потому что человек исполняет в своей жизни то, к чему он направлен божественным интеллектом; ведь, как уже сказано (q. 16, a. 1), истина существует и в других вещах. Истина же «справедливости» есть то, согласно чему человек соблюдает то, что надлежит по отношению к ближнему, согласно порядку закона. Следовательно, нельзя вести доказательство от этих частных истин к истине вообще.
Глава 5. Есть ли Бог – истина?
Относительно пятого следует рассмотреть положение: считается, что Бог – не истина. Ведь истина существует в соединении и отделении, осуществляемых интеллектом. Но в Боге нет ни соединения, ни отделения. Следовательно, в Нем нет истины.
2. Кроме того, истина, согласно Августину в книге «Об истинной религии» (36), есть сходство с основанием. Но в Боге нет сходства с основанием. Следовательно, в Боге нет истины.
3. Кроме того, все, что сказано о Боге, говорится о Нем как о первопричине всего; так, например, бытие Бога – причина всякого бытия; Его благость – причина всего благого. Следовательно, если истина – в Боге, то все истинное было бы от Него. Но истинно, что некто грешит; следовательно, это было бы от Бога; что, как очевидно, ложно.
Но этому противоречит то, что сказано у Иоанна (Ин. 14, 6): «Я есмь путь и истина и жизнь».
Отвечаю: следует сказать, что, как говорилось (q. 16, a. 1), истина обнаруживается в интеллекте потому, что он постигает вещь как она есть, и в вещи, потому, что она имеет бытие, сообразуемое с интеллектом. Но в самой большой степени она находится в Боге. Ведь Его бытие не только сообразуется с Его интеллектом, но оно само есть то, что себя познает, и Его познание есть мера и причина всякого другого бытия и всякого другого интеллекта и Он Сам есть Свое бытие и познание. Отсюда следует, что не только в Нем есть истина, но что Он Сам – высшая и первая истина.
1. Относительно первого следует сказать, что хотя в божественном интеллекте нет ни соединения, ни отделения, все же Он простым действием интеллекта судит обо всем и познает все в совокупности; и, таким образом, истина есть в Его интеллекте.
2. Относительно второго следует сказать, что истина нашего интеллекта есть то, согласно чему он сообразуется со своим основанием, то есть с вещами, от которых он получает познание. Истина же вещей есть то, согласно чему они сообразуются с их основанием, а именно с божественным интеллектом. Но этого нельзя сказать, говоря в собственном смысле о божественной истине; разве что, возможно, согласно тому, что истина принадлежит Сыну, Который имеет основание. Но если мы говорим об истине в сущностном смысле, то это можно понять, только если утвердительное высказывание разъяснять отрицательным, то есть когда говорится: «Отец есть от Себя, потому что Он не есть от другого». Подобно этому, божественная истина может быть названа «сходством с основанием», поскольку Его бытие не отлично от его интеллекта.
3. Относительно третьего следует сказать, что не-сущее и лишенность не имеют истины сами по себе, но только в интеллектуальном постижении. Но всякое интеллектуальное постижение – от Бога. Поэтому вся истина, которая есть в том, что я говорю: «То, что некто прелюбодей, – истинно» – всецело от Бога. Но если из этого делается вывод: «Следовательно, причина, по которой этот человек прелюбодействует, – Бог», то происходит ошибка акцидента.
Ошибка акцидента – название логической ошибки, когда случайный признак отождествляется с существенным признаком.
Глава 6. Существует ли только одна истина, согласно который все истинно?
Относительно шестого вопроса следует рассмотреть такое положение: считается, что есть только одна истина, согласно которой все истинно. Ведь, согласно Августину (О Троице, XV, 1), «нет ничего превышающего человеческий ум, кроме Бога». Но истина больше, чем ум человека, иначе ум судил бы об истине, в то время как он судит обо всем согласно истине, а не согласно себе самому. Поэтому только Бог есть истина. Следовательно, нет никакой другой истины, кроме Бога.
2. Кроме того, Ансельм говорит в книге «Об истине» (13): «Как время относится к временным вещам, так и истина относится к истинным вещам». Но есть только одно время для всех временных вещей. Следовательно, есть истина, в соответствии с которой все вещи истинны.
Но этому противоречит то, что говорится в Псалме (Пс. 11, 2): «Истины раздроблены среди сынов человеческих».
Отвечаю: следует сказать, что в одном смысле истина, посредством которой все вещи истинны, – одна, но в другом смысле – нет. Для того чтобы сделать это ясным, следует знать, что когда что-либо сказывается о многих вещах унивокально, то оно находится в каждой из них согласно собственному основанию, например «животное» находится в каждом виде животного. Но когда что-либо сказывается о многих вещах по аналогии, то оно находится согласно собственному основанию только в одной из них, от которого именуются остальные. Так, например, «здоровое» говорится о живом существе, о моче и о лекарстве, но здоровье есть только в живом существе; однако от здоровья живого существа и лекарство именуется «здоровым», поскольку оно воздействует на его здоровье, и моча именуется «здоровой» поскольку она указывает на его здоровье. И хотя «здоровья» нет ни в лекарстве, ни в моче, все же в них имеется нечто, посредством чего одно сотворяет здоровье, а другое – указывает на него. Но, уже сказано (q. 16, a. 1), что истина первично есть в интеллекте и вторичным образом в вещах, согласно тому что они относятся к божественному интеллекту. Следовательно, если мы говорим об истине, поскольку она существует в интеллекте, согласно надлежащему основанию, то во многих сотворенных интеллектах суть многие истины и даже в одном и том же интеллекте суть многие истины, согласно множественности познанного. Поэтому глосса на упомянутый Псалом (Петра Ломбардского) «Истины раздроблены среди сынов человеческих» поясняет, что как много подобий отражено от одного лица человека в зеркале, так много истин отражено от одной божественной истины. Но если же мы говорим об истине, согласно тому, что она есть в вещах, то все они суть истинны благодаря одной первичной истине, с которой каждая из них уподобляется согласно своей сущности. И, таким образом, хотя сущностей или форм вещей – множество, все же одна истина божественного интеллекта, сообразно с который все вещи именуются «истинными».
1. Относительно первого следует сказать, что душа судит обо всех вещах не согласно любой истине, но согласно первичной истине, поскольку она отражена в душе как в зеркале, в соответствии с первичным умопостигаемым. Из этого следует, что первичная истина больше, чем душа. И все же даже сотворенная истина, которая есть в нашем интеллекте, больше, чем душа, но не просто, а в некотором отношении, – насколько она есть ее совершенство; так и о знании можно было бы сказать, что оно больше, чем душа. Все же истинно, что ничто субсистентное не больше, чем разумная душа, кроме Бога.
2. Относительно второго следует сказать, что высказывание Ансельма истинно согласно тому, что о вещах говорят, что они истинны в их соотношении с божественным интеллектом.
Глава 7. Вечна ли сотворенная истина?
Относительно седьмого вопроса следует рассмотреть такое положение: кажется, что сотворенная истина – вечна. Ведь говорит Августин в книге «О свободном произволении» (II, 8), что нет ничего более вечного, чем понятие круга и того, что два и три – пять. Но их истина – сотворенная. Следовательно, сотворенная истина – вечна.
2. Кроме того, все, что есть всегда, – вечно. Но универсалии суть везде и всегда. Следовательно, они вечны. Следовательно, и истинное, как наиболее универсальное.
3. Кроме того, то, что истинно в настоящем, всегда было в прошлом истинным относительно своего будущего. Но как истина положений о настоящем – сотворенная истина, так и истина положений о будущем. Следовательно, некоторая сотворенная истина – вечна.
4. Кроме того, все, что не имеет начала и конца, – вечно. Но истина высказываемого не имеет начала и конца. Ведь если истина началась, а ранее не была, то было бы истинным, что истины нет, и некоторая истина была бы истинной, и так истина была бы раньше своего начала. И, сходным образом, если полагается, что истина имеет конец, следует, что если бы она исчезла, то было бы истинным, что истины – нет. Следовательно, истина вечна.
Но против: только Бог вечен, как сказано выше (q. 10, a. 3).
Отвечаю: следует сказать, что истина высказываемого есть не что иное, как истина интеллекта. Ведь высказываемое находится и в интеллекте, и в слове. Согласно же тому, что оно в интеллекте, оно имеет истину само по себе, но согласно тому, что оно в слове, оно называется истинным, поскольку обозначает некоторую истину интеллекта, а не поскольку существует некая истина в высказываемом как в субъекте. Подобно тому как моча называется здоровой не от здоровья, которое было бы в ней, а от здоровья живого существа, которое она обозначает, так и выше сказано (q. 16, a. 1), что вещь называется истинной от истины интеллекта. Поэтому если бы не было никакого вечного интеллекта, то никакая бы истина не была бы вечной. Но поскольку только божественный интеллект вечен, то истина имеет вечность только в нем. И из этого не следует, что вечно нечто другое, помимо Бога, поскольку истина божественного интеллекта есть сам Бог, как сказано выше (q. 16, a. 5).
1. Относительно первого следует сказать, что понятие круга и то, что два и три – пять, имеет истину в божественном уме.
2. Относительно второго следует сказать: то, что нечто может быть всегда и везде, можно понимать двояко. Во-первых, поскольку оно обладает в себе тем, что оно распространяется на все времена и места – так Богу подобает бытие везде и всегда. Во-вторых, поскольку оно не имеет в себе того, чем бы оно определялось к некоторому месту или времени – так первая материя называется единой не оттого, что имеет единую форму, как человек един единством единой формы, но посредством отделения всех отличающих форм. И, таким образом, о какой-либо универсалии говорится, что она везде и всегда, поскольку универсалия абстрагируется от «здесь и теперь». Но из этого не следует, что ее бытие вечно, иначе как в интеллекте, если есть некий вечный интеллект.
3. Относительно третьего следует сказать: то, что есть теперь, было будущим, прежде чем оно стало в настоящем, поскольку то, что оно будет, было в его причине. Поэтому, если бы причина была устранена, оно не было бы будущим. Но только первая причина – вечна. Поэтому из того, что нечто есть, не следует, что всегда было истинным его бытие в будущем, иначе как если есть вечная причина того, чтобы оно было в будущем. Таковая же причина – только Бог.
4. Относительно четвертого следует сказать: поскольку наш интеллект не вечен, то и истина высказываемого, которое формируется нашим интеллектом, не вечна, но некогда началась. И, прежде чем такого рода истина появилась, не истинно было бы говорить, что такая истина есть, кроме как об истине божественного интеллекта, в котором одном истина – вечна. Но теперь истинно говорить, что истина не существует, и это истинно той истиной, которая теперь в нашем интеллекте, а не истиной в сфере вещей. Ведь эта истина о не-сущем; не-сущее же получает то, что оно истинно, не от себя, но только от интеллекта, постигающего его. Поэтому настолько истинно говорить, что истины не было, насколько мы схватываем ее небытие как предшествующее ее бытию.
Глава 8. Неизменна ли истина?
Относительно восьмого вопроса следует рассмотреть такое положение: кажется, что истина неизменна. Ведь говорит Августин в книге «О свободном произволении» (II, 12), что истина не равна уму, поскольку была бы изменяемой, как и ум.
2. Кроме того, то, что остается после всякого изменения, – неизменно, подобно тому как первая материя не порождена и неразрушаема, поскольку остается после любого порождения и разрушения. Но истина остается после всякого изменения, поскольку после всякого изменения истинно говорить, что нечто «есть» или «не есть». Следовательно, истина – неизменна.
3. Кроме того, если истина высказывания изменялась бы, то более всего она изменялась, следуя изменению вещи. Но оно не меняется таким образом. Ведь истина, согласно Ансельму (Об истине, 7), есть некая правильность, коль скоро нечто осуществляет то, что оно восприняло в божественном уме. Такое положение: «Сократ сидит» – приняло от божественного ума такое свойство, чтобы оно обозначало, что Сократ сидит. Но оно это обозначает, даже когда он не сидит. Следовательно, истина положения никоим образом не изменяется.
4. Кроме того, где та же самая причина, там то же самое следствие. Но та же самая вещь есть причина истины таких трех положений: «Сократ сидит», «Сократ будет сидеть» и «Сократ сидел». Следовательно, их истина та же самая. Но надлежит, чтобы одно из них было истинным. Следовательно, остается неизменной истина этих положений и, на том же основании, любого другого положения.
Но против то, что сказано в Псалме (Пс. 11, 2): «Истины раздроблены среди сынов человеческих».
Отвечаю: следует сказать, что, как выше сказано (q. 16, a. 1), истина в собственном смысле есть только в интеллекте, вещь же называется истинной от истины, которая есть в каком-либо интеллекте. Поэтому изменяемость истины надлежит рассматривать относительно интеллекта. Его же истина состоит в том, что он имеет сообразность с познанными вещами. Эта же сообразность может изменяться двояко, как и любое другое подобие, из-за изменения разных терминов отношения. Поэтому одним образом истина изменяется из части интеллекта, из-за того, что он принимает некое другое мнение о вещи, обстоящей одним и тем же образом. Другим образом, если при сохранении того же мнения изменяется вещь. И того и другого достаточно для изменения из истинного в ложное. Следовательно, если есть некий интеллект, в котором не может изменяться мнение или из восприятия которого не может ускользнуть некая вещь, то в нем истина неизменна. Таков божественный интеллект, как ясно из вышесказанного (q. 14, a. 15). Поэтому истина божественного интеллекта неизменна. Истина же нашего интеллекта – изменяема, но не так, чтобы она сама была субъектом изменения, а коль скоро наш интеллект меняется от истины ко лжи, в этом смысле и формы могут называться изменяемыми. Истина же божественного интеллекта, согласно которой природные вещи зовутся истинными, всецело неизменна.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что Августин говорил о божественной истине.
2. Относительно второго следует сказать, что истинное и сущее – обращаемы. Поэтому как сущее порождается и разрушается не само по себе, но акцидентально, коль скоро то или это сущее разрушается или порождается, как говорится в первой книге «Физики», так и истина изменяется не потому, что не остается никакой истины, но потому, что не остается истина, которая была прежде.
3. Относительно третьего следует сказать, что положение не только имеет истину подобно тому, как о других вещах говорится, что они имеют истину, – коль скоро они осуществляют то, что они восприняли в божественном уме. Но говорится, что положение имеет истину неким особым образом, коль скоро оно обозначает истину интеллекта, которая состоит в сообразности интеллекта и вещи. Когда же она устранена, изменяется истина мнения и, следовательно, истина положения. Так и это положение, «Сократ сидит», когда он сидит, истинно и истиной вещи, коль скоро она есть некий означающий звук, и истиной обозначения, коль скоро оно обозначает истинное мнение. Когда же Сократ встает, остается первая истина, но изменяется вторая.
4. Относительно четвертого следует сказать, что с сидением Сократа, которое есть причина истины этого положения – «Сократ сидит», не тем же самым образом обстоит дело и когда Сократ сидит, и после того, как он сидел, и до того, как сел бы. Поэтому и истина, причиненная этим, обстоит различным образом; и различным образом означаются положения о настоящем, прошедшем и будущем. Поэтому, хотя одно из трех положений истинно, не следует, что остается неизменной одна и та же истина.
Вопрос 17. О ложности
Далее речь пойдет о ложности, и относительно этого ставятся четыре вопроса:
1. Есть ли ложность в вещах?
2. Есть ли ложность в чувстве?
3. Есть ли ложность в интеллекте?
4. О контрарности истинного и ложного.
Глава 1. Есть ли ложностьв вещах?
Относительно первого рассмотрим следующее положение: считается, что в вещах ложности нет. Ведь говорит Августин во второй книге «Монологов» (II, 8), что если истинное – то, что существует, то из этого следует, что ложного нет нигде; но это противоречиво с любой точки зрения.
2. Кроме того, «ложь» говорится от «лгать»; но вещи не лгут; поскольку, как говорит Августин в книге «Об истинной религии» (33), они не показывают ничего иного, кроме собственного вида. Следовательно, ложное не находится в вещах.
3. Кроме того, об истинном в вещах говорят согласно их соотношению с божественным интеллектом, как сказано выше (q. 16). Но всякая вещь, коль скоро она есть, подражает Богу. Следовательно, всякая вещь истинна без ложности; и, таким образом, никакая вещь не ложна.
Но этому противоречит то, что говорит Августин в книге «Об истинной религии» (34): «Всякое тело есть истинное тело и ложное единство, поскольку оно подражает единству, не будучи единством». Но всякая вещь подражает божественному единству, однако ей его недостает. Следовательно, во всех вещах есть ложность.
Отвечаю: следует сказать, что, поскольку истинное и ложное противоположны, а противоположности относятся к тому же самому, необходимо прежде искать ложность там, где изначально находится истина, то есть в интеллекте. Ведь в вещах истина и ложность суть только в их отношении к интеллекту. И так как нечто называется просто на основании того, что подобает ему сущностным образом, но в некотором отношении называется на основании того, что подобает ему акцидентально, то вещь, со своей стороны, может быть названа ложной просто, когда она относится к интеллекту, от которого зависит, и с которым соотносится сущностным образом, но относительно направленности к другому интеллекту, с которым она соотносится акцидентальным образом, она может быть названа ложной только в некотором отношении. Но природные вещи зависят от божественного интеллекта так, как искусственные вещи от человеческого. Следовательно, об искусственных вещах просто и сущностным образом говорится, что они – ложны, если они утрачивают форму, приданную им искусством; поэтому говорят, что некий мастер производит ложное творение, если ему недостает от действия искусства.
Слово «искусство» в Средние века (как и в Античности) имело более широкое значение, обозначая любое ремесло.
Таким образом, в вещах, зависящих от Бога, нельзя обнаружить ложность в их соотношении с божественным интеллектом; поскольку все, что бы то ни оказывалось в вещах, происходит от установления божественного интеллекта, за исключением, возможно, только действия тех, кто действует по своей воле, во власти которых отклониться от установления божественного интеллекта, в чем и состоит зло провинности; согласно этому сами грехи называются в Писании неправдами и ложью, по такому Псалму (Пс. 4, 3): «Почему вы любите суету и ищите лжи?»; так же, как, напротив, добродетельное деяние названо «истиной жизни», поскольку оно подчиняется установлению божественного интеллекта; так, например, говорится у Иоанна (Ин. 3, 21): «Поступающий по правде идет к свету».
Но по отношению к нашему интеллекту, с которым природные вещи соотносятся акцидентально, они могут быть названы ложными (но не просто, а в некотором отношении), двояко. Во-первых – на основании обозначения, как, например, говорится, что ложно в вещах то, что обозначается или представляется речью или интеллектом, которые ложны. В соответствии с этим способом о любой вещи можно сказать, что она ложна в отношении того, что ей не присуще; как если бы мы сказали, что диаметр – ложное соизмеримое, как говорит Философ в пятой книге «Метафизики» (1024 b 19). И так же говорит Августин во второй книге «Монологов» (II, 10): «Истинный трагик – ложный Гектор»; так же как, напротив, что-нибудь может быть названо истинным, в отношении того, что ему соответствует. Во-вторых, вещь может быть названа ложной по модусу причины – и, таким образом, говорится, что та вещь ложна, которая по природе способна производить ложное мнение. И поскольку нам присуще судить о вещах по внешним появлениям, так как наше знание возникает из чувства, которое первично и сущностным образом имеет дело с внешними проявлениями, поэтому о том, что во внешних проявлениях имеет подобие других вещей, говорится, что оно – ложно относительно тех вещей; например, желчь есть ложный мед; и олово – ложное серебро. Относительно этого Августин говорит во второй книге «Монологов» (II, 6), что ложными мы называем те вещи, которые принимаем за истинноподобные, и Философ говорит в «Метафизике» (1024 b 21): «Ложным» называется то, что по природе склонно казаться не таким, каково оно есть, или тем, что оно не есть. И таким же образом о человеке говорят «фальшивый», поскольку он восхищается ложными мнениями или речами, а не потому, что он может измышлять их; иначе в этом смысле мудрые и ученые люди назывались бы «фальшивыми», как сказано в третьей книге «Метафизики» (Аристотель, 1025a 2).
1. Относительно первого следует сказать, что вещь, соотносящуюся с интеллектом, называют истинной относительно того, что она есть, и ложной относительно того, что она не есть. Поэтому «истинный трагик – ложный Гектор», как сказано во второй книге «Монологов» (II, 10). Таким образом, подобно тому как в том, что есть, находится некоторое не-бытие, так в том, что есть, находится и некоторый смысл ложности.
2. Относительно второго следует сказать, что вещи обманывают не по их сущности, но акцидентально. Ведь они предоставляют случай для лжи потому, что они представляют подобие того, существованием чего они не обладают.
3. Относительно третьего следует сказать, что о вещах говорится, что они – ложны, не в соотношении с божественным интеллектом, потому что это означало бы, что они просто ложны, но в соотношении с нашим интеллектом, а значит, они ложны лишь в некотором отношении.
4. Относительно четвертого аргумента, поскольку он выставляется как противоположный, следует сказать, что подобие, или неподходящее представление, вводит смысл ложности, только если предоставляет случай для ложного мнения. Следовательно, не обо всем, что есть подобие, говорится, что это – ложные вещи; но только когда есть такое подобие, что ему по природе присуще производить ложное мнение, и не в любом случае, но в большинстве.
Глава 2. Есть ли ложность в чувстве?
Относительно второго следует рассмотреть следующее положение: считается, что в чувстве ложности нет. Ведь говорит Августин в книге «Об истинной религии» (33): «Если все телесные чувства свидетельствуют так, как они ощущают, то я не знаю, чего же больше мы можем требовать от них». Таким образом, кажется, что мы не обманываемся чувствами; и, следовательно, ложности в чувстве нет.
2. Кроме того, Философ говорит в четвертой книге «Метафизики» (1010b 2), что ложность надлежит не чувству, а воображению.
3. Кроме того, в не-сложном нет ни истинного, ни ложного, но только в сложном. Но соединение и отделение не принадлежит чувству. Следовательно, в чувстве нет ложности.
Но этому противоречит то, что говорит Августин во второй книге «Монологов» (II, 6): «Очевидно, что мы обманываемся во всех чувствах, обольщаясь сходством».
Отвечаю: следует сказать, что ложность следует разыскивать в чувстве только там, где в нем есть истина. Но истина находится в чувстве не так, чтобы чувство познавало истину, а поскольку от чувственно воспринимаемого оно получает истинное восприятие, как сказано выше (q. 16, a. 2), и это случается благодаря тому, что чувство воспринимает вещи такими, каковы они суть. Поэтому случается, что ложность есть в чувстве из-за того, что оно воспринимает вещи или судит о них иначе, чем они суть.
Но вещь может быть познана, поскольку в чувстве есть подобия вещей, а подобие некоей вещи есть в чувстве трояко. Во-первых, первично и сущностным образом – так в зрении есть подобие цветов, и другого собственного чувственно воспринимаемого. Во-вторых, сущностным образом, но не первично – так в зрении есть подобие формы, величины, и другого чувственно воспринимаемого, общего для всех чувств. В-третьих, не первично и не сущностным образом, но акцидентально; так, в зрении есть подобие человека, но не поскольку он есть человек, а поскольку иметь такой цвет случается человеку.
Таким образом, чувство не имеет никакого ложного знания относительно свойственного ему чувственно воспринимаемого, кроме как акцидентально и в немногих случаях, тогда, когда из-за расстроенности органа оно получает ощущаемую форму неверно; так же как другое, пассивно воспринимающее из-за его расстроенности получает неверно впечатления от активно воздействующего. И так, например, случается, что больным, по причине нездорового языка, приятное кажется горьким. Но относительно чувственно воспринимаемого, общего чувствам, и акцидентального, даже в правильно расположенном чувстве может быть ложное суждение, потому что чувство относится к ним не прямо, но акцидентально, или как последствие того, что оно обращено к чему-то другому.
1. Относительно первого следует сказать, что аффицирование чувства есть его самовосприятие. Поэтому из того, что чувства возвещают, что они аффицированы, следует, что мы не обманываемся в суждении, в соответствии с которым мы судим, что мы нечто чувствуем. Но из-за того, что чувство аффицируется иначе, чем вещь есть на самом деле, следует, что оно порой возвещает нам о вещи иначе, чем та есть; и таким образом мы обмануты чувством относительно вещи, но не относительно самого ощущения.
2. Относительно второго следует сказать, что о ложности говорится, что она не свойственна чувству, так как чувство не обманывается относительного собственного объекта. Поэтому в другом переводе более ясно говорится, что «чувство свойственного ему чувственно воспринимаемого никогда не ложно». Ложность приписывается фантазии, поскольку она представляет подобие вещи даже в ее отсутствие. Поэтому когда кто-либо обращается к подобию вещи, как будто бы к самой вещи, то из такого восприятия следует ложность. И по этой причине Философ говорит в пятой книге «Метафизики» (1024b 23), что о тенях, картинах и снах говорится, что они ложны, поскольку они обладают подобиями вещей, которые не существуют в наличии.
Фантазия – это слово, имеющее греческое происхождение, Фома Аквинский заимствует у Аристотеля, выделявшего в душе особую способность, фантазию, отличающееся от продуктивной способности (то есть того, что мы сейчас называем фантазией или воображением). Фантазия у Аристотеля – это способность, которая сохраняет запечатленные в душе образы предметов (фантазмы), даже когда они не воспринимаются нами, благодаря чему мы способны их помнить.
3. Относительно третьего следует сказать, что из этого рассуждения следует, что ложность не находится в чувстве, поскольку оно не знает истинного и ложного.
Глава 3. Есть ли ложность в интеллекте?
Относительно третьего следует рассмотреть такое положение: считается, что ложности нет в интеллекте. Ведь, говорит Августин в 32 вопросе из «83-х различных вопросов», «каждый, кто обманывается, не понимает того, в чем он обманывается». Но о ложности говорится, что она бывает в каком-либо познании потому, что мы обмануты ею. Следовательно, ложности в интеллекте нет.
2. Кроме того, Философ говорит в третьей книге «О душе» (433a 26), что интеллект всегда правилен. Следовательно, ложности в интеллекте нет.
Но этому противоречит сказанное в третьей книге «О душе» (430a 27), что там, где есть соединение понятий, есть истинное и ложное. Но соединение понятий происходит в интеллекте. Следовательно, истинное и ложное суть в интеллекте.
Отвечаю: следует сказать, что, подобно тому как вещь имеет бытие благодаря свойственной ей форме, так и познающая способность имеет познание благодаря подобию познанной вещи. Поэтому, подобно тому как природная вещь не утрачивает от бытия, которое принадлежит ей по ее форме, но может утратить от чего-либо акцидентального или дополнительного, например человек – от того, что ему надлежит обладать двумя ногами, но не от того, что ему надлежит быть человеком, так и способность знания не потерпит неудачу в познании вещи, подобие которой оно получило, но может потерпеть неудачу в отношении чего-то дополнительного к ней или акцидентального в ней. Таким образом, как уже сказано (q. 16, a. 2), зрение обманывается не в отношении свойственного ему чувственно воспринимаемого, но относительно чувственно воспринимаемого, общего всем чувствам, которое относится к нему добавочно или относительно ощущаемого акцидентально. Но, как прямо информировано чувство благодаря подобию свойственного ему чувственно воспринимаемому, так и интеллект благодаря подобию чтойности вещи. Поэтому, как интеллект не обманывается относительно «того, что есть», так и чувство относительно свойственного ему чувственно воспринимаемого. Но в соединении и отделении он может обмануться, когда он приписывает вещи, чтойность которой он постигает, то, что не согласуется с ней или противоположно ей. Как интеллект относится к суждению о такого рода вещах, так и чувство – относительно суждения о чувственно воспринимаемом, общем нескольким чувствам, или акцидентальном.
Однако наблюдалось и такое различие, о котором прежде было сказано относительно истины (q. 16, a. 2), что ложность может существовать в интеллекте не только потому, что познание, осуществляемое интеллектом, ложно, но потому, что он сознает ложь, подобно тому как и истину; в чувстве же ложность не осознается, как сказано выше.
Но поскольку ложность интеллекта сама по себе есть только относительно соединения, осуществляемого интеллектом, то акцидентально может быть ложность и в том действии интеллекта, посредством которого он познает «то, что есть» – поскольку к нему прибавляется соединение, осуществляемое интеллектом. Это может осуществиться двояко. Во-первых, согласно тому, что интеллект приписывает определение одного другому, например определение круга он приписывает человеку. Поэтому определение одной вещи ложно для другой. Во-вторых, согласно тому, что интеллект соединяет друг с другом части определения, которые не могут сочетаться. В этом случае определение не только ложно по отношению к некоей вещи, но и ложно само по себе. Если, например, составить такое определение: «разумное четвероногое животное», то интеллект, так определяющий, ложен, поскольку он ложен в формировании такого сочетания: «некоторое разумное животное – четвероного». По этой причине при познании простых чтойностей интеллект не может быть ложен; он или истинен, или совсем ничего не понимает.
1. Относительно первого следует сказать: поскольку чтойность вещи это собственный объект интеллекта, относительно которого мы в собственном смысле говорим, что мы нечто познаем, когда сводим его к «тому, что есть», и так мы судим о нем; например, так случается при указаниях, в которых нет никакой ложности. В этом смысле следует понимать вышеприведенные слова Августина, что «всякий, кто обманывается, не понимает того, в чем он обманывается», а не так, что никто не обманывается ни в каком действии интеллекта.
2. Относительно второго следует сказать, что интеллект всегда правилен, когда он обладает первыми основаниями, относительно которых он не обманывается по той же самой причине, по которой он не обманывается относительно «того, что есть». Ведь самоочевидные основания суть те, которые тотчас познаются, как только поняты термины, из-за того, что предикат полагается в определении субъекта.
Глава 4. Контрарны ли истинное и ложное?
Относительно четвертого следует рассмотреть такое положение: кажется, что истинное и ложное не контрарны. Ведь истинное и ложное противоположны как сущее и не-сущее, так как истинное есть то, что есть, как говорит Августин (Монологи, II, 5). Но сущее и не-сущее не противоположны контрарно. Следовательно, истинное и ложное не контрарны.
2. Кроме того, одно из контрарных не находится в другом. Но ложное есть в истинном, поскольку, как говорит Августин в книге «Монологов», трагик не был бы ложным Гектором, если бы не был истинным трагиком. Следовательно, истинное и ложное не контрарны.
3. Кроме того, в Боге нет какой-либо контрарности, ведь ничто не контрарно божественной субстанции, как говорит Августин (О граде божьем, XII, 2). Но Богу противоположна ложность, ведь в Писании (Иерем. 8, 5) идол называется ложным, согласно глоссе, «они держатся ложного», то есть идолов. Следовательно, истинное и ложное не контрарны.
Но против то, что говорит Философ во второй книге «Об истолковании», ведь он полагает ложное мнение контрарным истинному.
Отвечаю: следует сказать, что истинное и ложное противоположны как контрарные, а не как утверждение и отрицание, как некоторые говорили. Для ясности этого следует знать, что отрицание и не полагает нечто, и не определяет себе некоторого субъекта. И поэтому можно сказать это о сущем и не-сущем, как, например, «не сидящий», «не видящий». Лишенность же не полагает нечто, но определяет себе субъект. Ведь отрицание существует в субъекте, как говорится в четвертой книге «Метафизики» (1004а 10), так «слепой» говорится о том, кому по природе надлежит видеть. Контрарное же и полагает нечто, и определяет субъект, ведь черное есть некий вид цвета. Ложность же полагает нечто. Ведь есть ложное, как говорит Философ в четвертой книге «Метафизики» (1011b 26), из того, что сказывается или кажется нечто сущее не-сущим или не-сущее – сущим. И, как истинное полагает соответствующее восприятие вещи, так ложное – не соответствующее восприятие вещи. Поэтому ясно, что истинное и ложное – контрарны.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать: то, что есть в вещах, есть истина вещи, но то, что есть так, как оно схвачено, есть истина интеллекта, в котором истина существует первичным образом. Поэтому и ложное есть то, что не есть так, как оно схвачено. Схватывание же сущего и не-сущего не контрарны, как доказывает Философ во второй книге «Об истолковании» (25b 33), – что такое мнение, «благое есть благое», контрарно мнению, что «благое не есть благое».
2. Относительно второго следует сказать, что ложное основывается в контрарном ему истинном, но не так, как злое в контрарном ему благом, а как в том, что является его субъектом. И это поэтому случается и в том и в другом, поскольку истинное и благое суть наиболее общие понятия и обращаются с сущим, поэтому, как всякая лишенность основывается в субъекте, который есть сущее, так всякое злое основывается в некотором благом и всякое ложное – в некотором истинном.
3. Относительно третьего следует сказать: поскольку контрарное и противоположное относительно того же самого по природе появляется привативным образом, поэтому не существует чего-либо контрарного относительно Бога, рассматриваемого самого по себе, и не относительно понятия Его благости, и не относительно понятия Его истинности, поскольку в Его интеллекте не может быть какой-либо ложности. Но в нашем схватывании Он имеет нечто контрарное, ведь истиному мнению о Нем контрарно ложное мнение. И так ложные идолы зовутся противоположными божественной истине, коль скоро ложное мнение об идолах контрарно истинному мнению о единстве Бога.
Вопрос 19. О божественной воле
Вопрос 19 состоит из 12 глав: (1) «Есть ли в Боге воля?», (2) «Волит ли Бог иное, чем он Сам?», (3) «Волит ли Бог все с необходимостью?», (4) «Является ли воля Бога причиной вещей?», (5) «Следует ли приписывать божественной воле какую-либо причину?», (6) «Всегда ли исполняется божественная воля?», (7) «Является ли божественная воля изменяемой?», (8) «Придает ли божественная воля необходимость желаемым вещам?», (9) «Есть ли в Боге воля ко злому?», (10) «Обладает ли Бог свободным произволением (liberum arbitrium)?», (11) «Следует ли различать в Боге волю относительно знака (utrum sit distinguenda in deo voluntas signi)?», (12) «Надлежащим ли образом полагают пять знаков относительно божественной воли (запрещение, предписание, совет, действие и позволение)?». Из этих тем мы выбрали две, наиболее парадоксальные: как соотносится свободная воля Бога с необходимостью и как сочетается необходимость, которая придается Богом сотворенным вещам, со случайностью и свободной волей в них.
Глава 3. Волит ли Бог с необходимостью все, что Он волит?
1. Кажется, что все, что Бог волит, Он волит с необходимостью. Ведь все, что волит Бог, Он волит от вечности, иначе его воля была бы изменяемой. Следовательно, все, что Он волит, Он волит с необходимостью.
2. Кроме того, Бог волит иное, чем Он, коль скоро Он волит свою благость. Но Бог волит свою благость с необходимостью. Следовательно, Он волит с необходимостью нечто иное, чем Он Сам.
3. Кроме того, нечто, естественным образом существующее от Бога, является необходимым, поскольку Бог Сам по Себе – необходимое бытие и начало всякой необходимости, как было показано выше (q. 2, a. 3). Но для Него естественно волить то, что Он волит, поскольку в Боге не может быть ничего, противоречащего естеству, как говорится в пятой книге «Метафизики» (Аристотель, 1015b 15). Следовательно, то, что Бог волит, Он волит с необходимостью.
4. Кроме того, положение «существует не необходимым образом» равнозначно «может и не существовать». Следовательно, если не является необходимым, чтобы Бог волил нечто из того, что Он волит, то возможно, чтобы Он не волил этого; и возможно, чтобы Он волил то, чего Он не волит. Следовательно, божественная воля может осуществляться так или иначе по отношению к тому и другому, и, таким образом, она несовершенна, поскольку все, что может осуществляться так или иначе, несовершенно и изменяемо.
5. Кроме того, тот, кто относится к тому и другому равным образом, не действует, если не склоняется чем-либо к одному из них, как говорит Комментатор в комментарии ко второй книге «Физики». Следовательно, если воля Бога в чем-либо относится к тому и другому равным образом, то следует, чтобы Он определялся к действию чем-либо другим и, таким образом, имел бы некоторую более первичную причину.
Комментатор – Фома Аквинский называет Аристотеля просто Философом, а Комментатором – Абу ал-Валида Ибн-Рушда, в латинской традиции Аверроэса (ок. 1126 – ок. 1198), выдающегося философа, врача и ученого, родом из Кордовы, бывшего судьей в Севилье и придворным врачом у султана Марокко. Аверроэсу принадлежит множество комментариев к Аристотелю, причем многие сочинения прокомментированы трижды (имеются большие, средние и малые комментарии), высоко ценимые Фомой Аквинским. Так, он использует концепцию Аверроэса о единичности субстанциальных форм, т. е. дающих вещи бытие в отличие от привходящих, акцидентальных форм, дающих определенное качество, например цвет. Вместе с тем Фома полемизирует со многими идеями Аверроэса и его последователей, латинских аверроистов, не всегда различая идеи собственно Аверроэса и аверроистов. В соответствии с Аристотелем Аверроэс считал философскую деятельность, разумное созерцание истины, наивысшим блаженством, доступным, однако, немногим людям. Остальные делятся на тех, кто способен приблизиться к истине благодаря риторическим аргументам, и тех, кто может воспринимать вероятностные суждения. Поэтому то, что считается истинным для философов, непригодно для остальных людей, созерцающих истину в образной форме. В этом коренится теория двойной истины, с которой полемизировал Фома Аквинский. Также он полемизирует с концепцией, утверждающей, что разум людей сущностно един и получает отличия только в земной жизни, в соединении с телом, а после смерти сливается в единый разум.
6. Кроме того, то, что Бог знает, Он знает с необходимостью. Но как божественное знание является Его сущностью, так и божественная воля. Следовательно, то, что Бог волит, Он волит с необходимостью.
Но против то, что говорит о Боге Апостол (Ефес. 1, 11): «Тот, Кто творит все по решению своей воли». То же, что мы творим по решению воли, мы волим не по необходимости. Следовательно, то, что волит Бог, он волит не по необходимости.
Отвечаю: следует сказать, что нечто называется необходимым двояким образом: то есть, в абсолютном смысле и исходя из предпосылки. Нечто считается необходимым в абсолютном смысле или из-за определенного соотношения терминов высказывания, а именно если предикат заключается в определении субъекта (так, необходимым является «человек есть животное») или если субъект связан с понятием предиката (как необходимым является «число есть четное или нечетное»). И в этом смысле «Сократ сидит» не является необходимым. Однако, хотя это высказывание не является необходимым в абсолютном смысле, оно может быть названо необходимым исходя из предпосылки, ведь если предпослано, что он сидит, то необходимо, чтобы он сидел, пока он сидит.
Таким образом, относительно того, что волит Бог, следует принять во внимание, что нечто, волимое Богом, является необходимым в абсолютном смысле, однако это не является истинным в отношении всего, что Он волит. Ведь божественная воля имеет необходимую связь с Его благостью, как со своим собственным объектом. Поэтому Бог с необходимостью волит, чтобы Его благость существовала, так же как и наша воля с необходимостью волит блаженство. Так и всякая иная способность имеет необходимую расположенность к собственному и первичному объекту, как зрение – к цвету, поскольку к его понятию зрения относится то, что оно направляется на цвет.
Отличное же от Себя Бог волит, коль скоро оно упорядочено к Его благости как к цели. То же, что существует ради цели, мы волим не с необходимостью (с какой волим цель), если оно не таково, что без него цель не может быть достигнута (например, когда мы нуждаемся в пище, поскольку желаем сохранить жизнь, и нуждаемся в корабле, если хотим переправиться). Но в таком случае мы не из необходимости желаем то, без чего цель может быть достигнута, как, например, коня для прогулки, поскольку мы можем добраться и без него (и то же в других случаях). Поскольку же благость Бога совершенна и может существовать без чего-либо другого, ведь от другого не прибавляется ей никакого совершенства, то, следовательно, воление отличного от Него не является необходимым в абсолютном смысле, однако необходимо исходя из предпосылки, ведь если предпослано, что Он нечто волит, то Он не может этого не волить, поскольку Его воля не может изменяться.
1. Итак, относительно первого следует сказать: из того, что Бог от вечности волит нечто, не следует, что необходимо, что Он это волит, иначе, чем исходя из предпосылки.
2. Относительно второго следует сказать, что, хотя Бог с необходимостью волит Свою благость, однако то, что Он волит ради Своей благости, Он волит без необходимости, поскольку Его благость может существовать без других вещей.
3. Относительно третьего следует сказать, что не является естественным для Бога волить нечто не из необходимости. И, тем не менее, это не является неестественным или противоестественным, а произвольным.
4. Относительно четвертого следует сказать, что иногда некоторая необходимая причина имеет не необходимое отношение к какому-либо действию, происходящее из-за недостаточности в действии, а не из-за недостаточности в причине. Так, сила Солнца имеет не являющееся необходимым отношение к чему-либо из того, что случайным образом происходит здесь, не из-за недостатка в солнечной силе, а из-за недостатка действия, происходящего от причины не по необходимости. И схожим образом то, что Бог без необходимости волит нечто из того, что Он волит, происходит не из-за недостатка божественной воли, а из-за недостатка, который подобает предмету воления согласно его понятию, то есть поскольку оно таково, что совершенная благость Бога может существовать без него. И этот недостаток присущ всякому сотворенному благу.
5. Относительно пятого надлежит сказать, что контингентная сама по себе причина должна определяться к действию чем-либо внешним. Но божественная воля, которая сама по себе обладает необходимостью, сама определяет себя к предмету воления, к которому имеет не необходимое отношение.
6. Относительно шестого следует сказать, что как божественное бытие само по себе необходимо, так и божественное воление и божественное знание; однако имеет необходимое отношение божественное знание к познаваемому, но не божественная воля к предмету воления. Это происходит потому, что знание относится к вещам согласно тому, что они есть в познающем, воля же относится к вещам согласно тому, что они есть сами по себе. Следовательно, поскольку все иное, чем Бог, имеет абсолютное бытие согласно тому, что оно есть в Боге, а не согласно тому, что оно есть само по себе, то оно имеет абсолютную необходимость, так что оно необходимо само по себе; поэтому все, что Бог знает, Он знает с необходимостью, но не все, что Он волит, Он волит с необходимостью.
Глава 8. Придает ли божественная воля необходимость вещам?
1. Кажется, что воля Бога придает волимым Им вещам необходимость. Ведь Августин говорит в «Энхиридионе» (103): «Никто не будет спасен кроме того, кого Бог захочет спасти. И потому должно просить Его, чтобы Он захотел, поскольку если Он захочет, то это необходимо произойдет».
2. Кроме того, всякая причина, которой нельзя воспрепятствовать, производит свое действие с необходимостью, поскольку природа всегда действует одинаковым образом, если что-либо не воспрепятствует, как говорится во второй книге «Физики» (199 b 18). Но воле Бога нельзя воспрепятствовать, ведь Апостол говорит (Римл. 9, 19): «Кто устоит против Его воли?». Следовательно, воля Бога придает волимым Им вещам необходимость.
3. Кроме того, то, что получает необходимость от более первичного, является необходимым в абсолютном смысле; так, животное с необходимостью является смертным, поскольку является составленным из противоположных частей. Но вещь, сотворенная Богом, относится к божественной воле как к чему-то более первичному, от чего она получает необходимость, поскольку истинным является такое условное положение (conditionalis): если Бог волит нечто, то оно существует; но всякое истинное условное положение является необходимым. Итак, следует, что все, что волит Бог, является необходимым в абсолютном смысле.
Но против: Бог волит, чтобы возникло все благое, что возникает. Следовательно, если Его воля придает вещам необходимость, то следует, чтобы все благое происходило с необходимостью. И, таким образом, исчезает свободное произволение, размышление (consilium) и все такого же рода.
Отвечаю: следует сказать, что божественная воля придает необходимость некоторым предметам воления, но не всем. Некоторые хотели отнести основание этого к средним причинам, поскольку то, что производится посредством необходимых причин, является необходимым, то же, что производится посредством контингентных причин, является контингентным. Но это положение не кажется удовлетворительным по двум причинам. Во-первых, поскольку действие какой-либо первой причины является контингентным из-за второй причины на том основании, что действию первой причины препятствует действие второй причины; так, силе солнца препятствует недостаток, существующий в растении. Но никакой недостаток во вторичной причине не может препятствовать тому, чтобы Бог производил свое действие. Во-вторых, если отличие контингентного от необходимого относится только ко вторым причинам, то следует недопустимый вывод, что это происходит помимо намерения и воли Бога.
Поэтому лучше сказать, что это случается ради действенности божественной воли. Ведь когда некоторая действующая причина приходит к действию, то действие следует причине не только согласно тому, что оно происходит, но также согласно способу его становления и бытия, ведь из-за из слабости действующей силы в семени случается, что сын рождается несхожим с отцом в акциденциях, которые относятся к способу бытия. Итак, поскольку божественная воля является наиболее действенной, следует не только то, что происходит нечто, чему Бог волит происходить, но и то, чтобы оно происходило таким образом, каким Бог волит ему происходить. И одному Бог волит происходить с необходимостью, другому же – контингентно, чтобы существовал порядок в вещах ради совершенствования универсума. И поэтому одним действиям Он предназначил необходимые причины, которые не могут претерпевать ущерб и от которых действия происходят с необходимостью, другим же предназначил контингентные, могущие претерпевать ущерб причины, от которых действия происходят контингентным образом. Следовательно, действия, волимые Богом, происходят контингентным образом не из-за того, что ближайшие причины контингентны, а из-за того, что Бог пожелал, чтобы они происходили контингентным образом, предназначив для них контингентные причины.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что в этих словах Августина должно понимать необходимость в вещах, волимых Богом, не абсолютно, а условно, ведь необходимо, чтобы истинным было условное положение: если Бог нечто волит, то необходимо, чтобы оно существовало.
2. Относительно второго следует сказать, что из того, что ничто не может устоять против божественной воли, следует не только, чтобы волимое Богом происходило, но и то, чтобы оно происходило контингентным либо необходимым образом, так, как Он волит ему происходить.
3. Относительно третьего следует сказать, что последующее получает необходимость от первичного согласно способу первичного. Поэтому и то, что происходит по воле Бога, имеет такую необходимость, какую Бог волит, чтобы оно имело, то есть или абсолютную, или только условную. И, таким образом, не все является абсолютно необходимым.
Вопрос 22. О божественном провидении
Глава 2. Все ли подлежит божественному провидению?
1. Кажется, что не все является предметом божественного провидения. Ведь никакой предмет провидения не является случайным. Следовательно, если бы все было предвидимым Богом, то ничто не было бы случайным и, таким образом, исчезли бы случай и удача, что является противоречащим общепринятому мнению.
2. Кроме того, всякий мудрый провидец исключает, если может, недостаток и зло из того, относительно чего он питает заботу. Мы же видим, что в вещах существует много злого. Следовательно, или Бог не может этому воспрепятствовать и, таким образом, не является всемогущим, или Он не имеет заботу обо всем.
3. Кроме того, то, что происходит с необходимостью, не требует предвидения или благоразумия, поскольку, согласно Философу в шестой книге «Этики» (1140 a 35), благоразумие есть правильное понимание случайного, относительно которого существует решение и выбор. Поскольку же многое в вещах происходит с необходимостью, то, следовательно, не все подлежит провидению.
4. Кроме того, все, что предоставляется самому себе, не подлежит провидению какого-либо управляющего. Но человек предоставлен Богом самому себе, согласно следующему в пятнадцатой книге Екклезиастика (Сир. 15, 14): «Бог сделал человека в начале и отдал его в руки его собственного решения», и в частности дурного, согласно следующему (Пс. 80, 13): «Он предоставил им действовать согласно желаниям их сердец». Следовательно, не все подлежит божественному провидению.
5. Кроме того, Апостол говорит (Кор. I 9, 9): «Бог не печется о волах» и, на том же основании, – о всех неразумных творениях. Следовательно, не все подлежит божественному провидению.
Но против: в восьмой книге Премудрости (8, 1) о божественной мудрости говорится, что она «быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу».
Отвечаю: следует сказать, что некоторые полностью отвергали провидение, как Демокрит и эпикурейцы, полагающие, что мир сотворен случайно. Некоторые же полагали, что только неразрушимое подлежит провидению, а разрушимое – не в отношении индивидов, но в отношении видов (которые неразрушимы). От их лица в Книге Иова (22, 14) говорится: «Облака – завеса Его; Он обходит небесную ось и не смотрит на нас». Но рабби Моисей исключает из общности разрушимого людей из-за величия интеллекта, которому они причастны, относительно же других разрушимых творений он следовал мнению других.
Демокрит Абдерский (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) и эпикурейцы (последователи Эпикура, ок. 342 – ок. 271 до н. э.) полагали, что мир состоит из пустоты и атомов, неделимых частиц, из их соединения рождаются вещи. Согласно Демокриту, атомы движутся хаотично, согласно Эпикуру – параллельно падают в бесконечной вселенной, но в некоторый момент совершают отклонение, приводящее к сталкиванию и образованию вещей и миров. Также Демокриту принадлежит учение о восприятии, согласно которому от предметов непрерывно источаются мельчайшие частицы, образующие образы (idola), воспринимаемые нашими органами чувств. Эту концепцию критикует Фома Аквинский в 84 вопросе.
Рабби Моисей – имеется в виду Моисей Маймонид (ок. 1135–1204), выдающийся еврейский богослов и врач, автор труда «Путеводитель колеблющихся». Этот труд здесь и во многих других местах цитирует Фома Аквинский. Согласно Маймониду, Бог управляет видами, а не индивидами, но избранные люди, достигшие морального и интеллектуального совершенства, удостаиваются прямого управления Богом. В изложении выше учения эпикурейцев и «некоторых» Фома следует Маймониду, который приписывает Аристотелю учение «некоторых», Фома Аквинский поправляет его.
Однако необходимо сказать, что все подлежит божественному провидению, не только общее, но и единичное. Это явствует из следующего: ведь поскольку всякий действующий действует ради цели, то подчинение действия цели распространяется настолько, насколько распространяется причинность первого действующего. И из-за этого случается, что в действиях какого-либо действующего происходит нечто, не подчиненное его цели, поскольку это действие следует из какой-либо другой причины, находящейся вне намерения действующего. Причинность же Бога, являющегося первым действующим, распространяется совершенно на все сущее, не только на начала вида, но также на индивидуальные начала, и не только на неразрушимое, но также и на разрушимое. Поэтому необходимо, чтобы все, что каким-либо образом имеет бытие, было подчинено цели, положенной от Бога, согласно следующему у Апостола (Римл. 13, 1): «Те, кто суть от Бога – подчинены цели». Следовательно, поскольку провидение Бога есть не что иное, как основание подчинения вещей цели, как было сказано, то необходимо, чтобы все в такой степени подлежало провидению, в какой оно причастно бытию. И сходным образом выше было показано (q. 14, a. 6 et 11), что Бог познает все: и общее, и частное. А поскольку Его познание относится к вещи так, как познание в некотором искусстве к произведению искусства, как выше было сказано (q. 14, a. 8.), то необходимо, чтобы все подлежало Его порядку, подобно тому как все произведения искусства подлежат порядку искусства.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что по-разному дело обстоит с универсальными и с частными причинами. Нечто может избежать порядка частной причины, но не порядка универсальной причины. Ведь нечто изымается из порядка частной причины только из-за некоторой другой препятствующей частной причины; так, действие воды препятствует сжиганию дерева. Поэтому, поскольку все частные причины подводятся под универсальную причину, невозможно, чтобы какое-либо действие избежало порядка универсальной причины. Следовательно, коль скоро какое-либо действие избегает порядка какой-либо частной причины, то говорится, что это произошло случайно или беспричинно относительно частной причины; но относительно универсальной причины, от порядка которой она не может отклониться, говорится, что это было предвиденным. Так и встреча двух слуг, хотя по отношению к ним она случайна, является, однако, предвиденной господином, который умело направил их в одно место таким образом, чтобы один не знал о другом.
2. Относительно второго следует сказать, что иначе дело обстоит с тем, кто имеет заботу о частном, и с тем, кто провидит общее, поскольку тот, кто провидит частное, устраняет недостаток из того, что подлежит его заботе, насколько может, но тот, кто провидит общее, допускает, чтобы в некотором частном случался некоторый недостаток, не препятствующий благу целого. Поэтому разрушения и недостатки в природных вещах называются противными частной природе, однако они относятся к намерению универсальной природы, поскольку недостаток одного переходит в благо другого или даже целого универсума; ведь разрушение одного есть порождение другого, посредством чего сохраняется вид. Следовательно, поскольку Бог – универсальный провидящий всего сущего, то к Его провидению относится то, что Он допускает, чтобы в каких-либо частных вещах были некоторые недостатки, что не препятствует совершенному благу универсума. Но если бы все зло подавлялось, то многие благие вещи были бы изъяты из универсума, ведь не было бы жизни льва, если не было бы умерщвления животных, и не было бы стойкости мучеников, если бы не было гонения тиранов. Поэтому Августин говорит в «Энхиридионе» (11): «Всемогущий Бог никоим образом не допустил бы, чтобы в Его творениях было какое-либо зло, если бы Он не был до такой степени всемогущим и благим, чтобы творить благое даже из злого». И кажется, что этими двумя доводами, которые мы сейчас разрешили, были движимы те, кто устраняли от божественного провидения разрушимое, в котором обнаруживается случайное и злое.
3. Относительно третьего следует сказать, что человек не является устроителем природы, но использует в действиях искусства и разума природные вещи для своей пользы. Поэтому человеческое предвидение не распространяется на необходимое, которое происходит из природы. Но на это распространяется провидение Бога, Который является творцом природы. И, по-видимому, этим доводом были движимы те, которые исключали из божественного провидения ход природных вещей, относя его к материальной необходимости, как Демокрит и другие древние натурфилософы.
4. Относительно четвертого следует сказать: тем, что говорится, что Бог предоставил человека самому себе, человек не исключается из божественного провидения, но показывается, что за ним не закрепляется некоторая способность, определенная к одному, как у природных вещей, которые действуют только лишь как бы направленные чем-то другим к цели, но не действуют сами по себе, как разумные создания посредством свободного выбора, благодаря которому они решают и выбирают. Поэтому ясно говорится: «В руки их решения». Но поскольку сам акт свободного выбора возводится к Богу как к причине, то необходимо, чтобы то, что происходит из-за свободного выбора, подлежало божественному провидению, ведь предвидение человека содержится в провидении Бога, как частная причина – в универсальной причине. Бог же имеет провидение относительно справедливых людей некоторым более совершенным образом, чем относительно нечестивых, поскольку не допускает, чтобы против них происходило нечто, что в конце концов препятствовало бы их спасению, ведь «любящим Бога все содействует ко благу», как говорится в Послании к Римлянам (8, 28). Но из-за того, что Он не удерживает нечестивого от зла греха, говорится, что Бог его оставил. Однако не таким образом, что тот полностью исключается из Его провидения; в противном случае он обратился бы в ничто, если бы не сохранялся Его провидением. И кажется, что таким доводом был движим Туллий (Цицерон. О предсказаниях. 11, 5), который исключал из божественного провидения человеческие действия, относительно которых мы принимаем решение.
Туллий – Марк Туллий Цицерон (106–43 до н. э.) – древнеримский политический деятель и философ, излагавший древнегреческую философию на латинском языке и создавший латинскую философскую терминологию. Наиболее оригинально его учение в области политики, права и морали, ему принадлежит одна из наиболее значительных попыток защитить свободу человека в рамках античного мира. Фома Аквинский неоднократно обращается к трудам Цицерона. В «Дискуссионных вопросах о зле», (q. 6) он почти буквально приводит пассаж из трактата «О судьбе», взятый, очевидно, из цитаты, приводимой в «О граде Божием» Августина.
5. Относительно пятого следует сказать: поскольку разумное творение распоряжается своим действием благодаря свободному выбору, как было сказано (q. 19, a. 10), то оно подлежит божественному провидению некоторым особым образом, то есть нечто вменяется ему в вину или в заслугу и нечто воздается ему в качестве возмездия или наказания. И в этом смысле Апостол устраняет заботу Бога от волов, однако не таким образом, что индивиды неразумных творений не относятся к божественному провидению, как полагал рабби Моисей.
Глава 3. Относится ли Божественное провидение ко всему непосредственным образом?
1. Кажется, что Бог провидит все не непосредственным образом. Ведь что-либо, относящееся к достоинству, должно атрибутироваться Богу. Но к достоинству какого-либо царя относится то, что он имеет посланников, посредством которых он осуществляет провидение над подчиненными. Следовательно, Бог тем более провидит все не непосредственным образом.
2. Кроме того, к провидению относится направление вещи к цели. Целью же какой-либо вещи является ее совершенство и благо. Ко всякой же причине относится приведение своего действия ко благому. Следовательно, всякая действующая причина является причиной действия, осуществляемого провидением. Следовательно, если бы Бог провидел все непосредственным образом, то все вторичные причины устранялись бы.
3. Кроме того, Августин говорит в «Энхиридионе» (17), что «лучше некоторое незнание, чем знание, например, ничтожного», и то же говорит Философ в двенадцатой книге «Метафизики». Но все, что является лучшим, должно атрибутироваться Богу. Следовательно, Бог не имеет непосредственного провидения относительно ничтожного и злого.
Но против: в Книге Иова (Иов. 34, 13) говорится: «Кого иного Он установил над землей? Или кого поставил над миром, который создан?». Григорий (Григорий Великий, Книга о нравственности или Комментарий на Книгу Иова, 14, 20) комментирует это: «Он Сам правит миром, который Сам сотворил».
Отвечаю: следует сказать, что к божественному провидению относятся два действия, то есть знание порядка провидимых вещей по отношению к цели и осуществление этого порядка, которое называется управлением. Относительно первого из них Бог провидит все непосредственным образом. Поскольку Он имеет в своем интеллекте понятие всего, также наименьшего, то Он и предназначил некоторые причины к некоторым действиям и дал им способность к произведению этих действий. Поэтому надлежит, чтобы Он прежде имел порядок этих действий в своем уме. Относительно же второго действия существуют некоторые средние божественные провидения. Поэтому низшими вещами Он управляет посредством высших и не из-за недостатка Его способности, а из-за избытка Его благости, чтобы достоинство причинности также сообщалось творениям. И в соответствии с этим отвергается мнение Платона (Тимей, 40 а), которое сообщает Григорий Нисский, полагающее провидение трояким образом. Первое из них относится к высшему Богу, Который первично и изначально предвидит духовные вещи и, следовательно, весь мир в отношении родов, видов и универсальных причин. Второе же провидение, посредством которого предвидятся единичные, порождаемые и разрушимые вещи, и его он приписывает богам, которые совершают круговое движение небес, то есть отделенным субстанциям, которые движут небесные тела по кругу. Третье же провидение относится к человеческим делам, и он приписывает его демонам, которых платоники считали посредниками между нами и богами, как сообщает Августин в девятой книге «О граде Божием» (9, 1).
Средние божественные провидения – это понятие, недостаточно проясненное самим Фомой, имело значительную «историю воздействия», отразившуюся в концепции «среднего знания» иезуита Луиса де Молины (1535–1600), стремившегося защитить человеческую свободу воли от детерминизма: два способа божественного знания, описываемых Фомой (видение прошлого, настоящего и будущего сущего и простое познание прошлого, настоящего и будущего не-сущего), он дополняет «средним знанием», благодаря которому Богу известно условное будущее контингентных событий, и именно таким образом Он предзнает (но не детерминирует) будущие действия людей. Против этого учения доминиканец Доминго Банес (также апеллируя к текстам Фомы) выдвинул более детерминистскую концепцию «физического преддвижения». Согласно этой концепции человек не может принять благодать, если он заранее «физически» (т. е. не-морально, просто и непреложно) не подвигается к этому Богом. Несколько ранее Молины Суарес подверг критике концепцию gratia excitans (побуждающей благодати) как несовместимую с учением о свободе выбора, а затем использовал против нее учение Молины о «среднем знании». Суарес выделял и христологический аспект этой полемики – концепция «физического преддвижения» противоречит свободному самопожертвованию Христа. Однако сам термин «физическое преддвижение» Суарес принимал, понимая под ним помощь, оказываемую божественной благодатью, не устраняющую свободное действие воли, а согласующуюся с ней. Полемика молинистов и последователей Банеса вызвала широкий резонанс (отзвуки которого можно обнаружить, например, у Вольтера, полемизировавшего с концепцией «физического преддвижения»).
Григорий Нисский (ок. 335–394) – христианский богослов, один из Отцов-капподокийцев; но здесь имеется в виду трактат «О природе человека» философа-неоплатоника Немезия, епископа Эмесского (род. ок. 390), компендиум капподокийской антропологии, приписываемый долгое время Григорию Нисскому.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что обладание посланниками, осуществляющими провидение царя, относится к достоинству царя, но то, что он не имеет знания о том, что они делают, происходит от его недостаточности. Ведь всякое действующее знание является тем более совершенным, чем более частные вещи, относительно которых оно действует, охватываются его вниманием.
2. Относительно второго следует сказать: то, что Бог непосредственно обладает провидением относительно всех вещей, не исключают вторичные причины, которые являются исполняющими Его порядок, как ясно из сказанного выше (q. 19, a. 5 et 8).
3. Относительно третьего следует сказать, что для нас лучшим является незнание злого и ничтожного, коль скоро оно препятствует рассмотрению лучшего, поскольку мы не можем одновременно познавать многое и поскольку познание злого в это время обращает нашу волю ко злому. Но этого не происходит в случае Бога, который одновременно видит все единым взглядом и воля Которого не может быть склоненной ко злому.
Глава 4. Сообщает ли божественное провидение необходимость вещам, которые предвидит?
1. Кажется, что божественное провидение сообщает необходимость предвидимым вещам. Ведь всякое действие, имеющее некоторую сущностную причину, которая уже есть или будет и из которой оно с необходимостью следует, происходит с необходимостью, как доказывает Философ в шестой книге «Метафизики» (1027a 30). Но провидение Бога, поскольку оно вечно, существует ранее всего, и действие следует из него с необходимостью, ведь божественное провидение не может потерпеть неудачу. Следовательно, божественное провидение придает предвидимым вещам необходимость.
2. Кроме того, всякий предвидящий утверждает свое действие, насколько может, так, чтобы оно не изменялось. Но Бог является всемогущим. Следовательно, Он придает вещам, провидимым Им, твердость необходимости.
3. Кроме того, Боэций говорит в четвертой книге «Об утешении философией» (4, 6), что судьба, происходящая от неизменных начал провидения, связывает действия и судьбу людей нерасторжимой связью. Следовательно, кажется, что провидение сообщает необходимость провиденным вещам.
Но против: Дионисий говорит в четвертой книге «О божественных именах» (4, 23), что «к провидению не относится разрушение природы». Но то, что вещи контингентны, относится к их природе. Следовательно, божественное провидение не придает вещам необходимость, исключающую контингентность.
Отвечаю: следует сказать, что божественное провидение сообщает необходимость некоторым вещам, но не всем, как верили иные. Ведь к провидению относится направлять вещь к цели. Но помимо божественной благости, которая есть цель, отделенная от вещей, и изначального блага, существующего в самих вещах, существует совершенство универсума, которого не было бы, если бы в вещах не существовали все степени бытия. Поэтому к божественному провидению относится произведение всех степеней сущего. И поэтому оно предназначает одним действиям необходимые причины, чтобы они происходили необходимым образом, другим же – случайные причины, чтобы они происходили случайным образом, будучи ближайшими причинами.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что действие божественного провидения состоит не только в том, чтобы нечто происходило каким бы то ни было образом, но чтобы нечто происходило или контингентно, или с необходимостью. И поэтому безошибочно и необходимо происходит то, чему божественное провидение положило происходить безошибочно и необходимо, и контингентно происходит то, чему по плану божественного провидения надлежит происходить контингентно.
2. Относительно второго следует сказать, что неизменный и точный порядок божественного провидения состоит в том, чтобы то, что провидится им, происходило таким образом, каким оно его провидит – или необходимым, или контингентным.
3. Относительно третьего следует сказать, что та нерасторжимость и неизменность, о которой говорит Боэций, относится к точности провидения, которая не испытывает недостаток ни в произведении своего действия, ни в способе осуществления того, что оно провидит, но не относится к необходимости действия. И надлежит принять во внимание, что необходимое и контингентное собственным образом следуют сущему, коль скоро оно таково. Поэтому модус контингентности или необходимости подпадает под провидение Бога, который является универсальным провидящим всего сущего, но не под провидение каких-либо частных провидящих существ.
4. Проблема filioque
Вопросы 27–43 составляют трактат о Пресвятой Троице. Вопрос о Троице носит в большей степени узкотеологический, чем философский характер, поэтому мы не включили этот трактат в наше издание. Фома Аквинский полагает, что путем естественного человеческого разума и философского размышления мы не можем прийти к таинству Троицы. Вопросы, как Бог может быть единым и троичным одновременно или как три Лица могут быть единосущими, ставят наш разум в тупик. Поэтому истины о Троице даются в Откровении, и задача теолога их верно понять и объяснить людям. Впрочем, естественный разум также может получить некоторое несовершенное представление о Троице на основании того, что человек создан по образу и подобию Бога и в его душе в процессе самопознания обнаруживается отражение божественного триединства: согласно Августину, в нас заключены способности помнить, знать и желать (любить), причем эти способности как отличаются друг от друга, так и составляют единое целое, и ни одна из них не может действовать без другой. Но мы выбрали из этого трактата лишь один вопрос, о Святом Духе, чтобы показать, как Фома Аквинский применяет философский анализ к решению теологических проблем. Вместе с тем этот вопрос может быть наиболее интересным для отечественного читателя, так или иначе причастного к православной культуре. Именно здесь проходит важный догматический раздел между католицизмом и православием. Согласно православному Символу веры Дух исходит только из Отца, а католики добавляют к этому «и от Сына». Этот вопрос, называемый вопросом о filioque, продолжает вызывать ожесточенные споры, поэтому интересно, как аргументирует католическую позицию человек, признанный Учителем католической Церкви.
Вопрос 36. О Лице Святого Духа
Далее следует рассмотреть то, что относится к вопросу о Лице Святого Духа, Который называется не только «Духом Святым», но также еще и «любовью», и «даром Божьим». Итак, об имени Святого Духа у нас четыре вопроса:
1. Является ли это имя, Святой Дух, собственным именем для какого-либо божественного Лица?
2. Исходит ли то божественное Лицо, что называется Святой Дух, от Отца и Сына?
3. Исходит ли Он от Отца через Сына?
4. Являются ли Отец и Сын единым началом Святого Духа?
Глава 1. Является ли это имя, Святой Дух, собственным именем для какого-либо божественного Лица?
1. Кажется, что это имя, Святой Дух, не является собственным именем какого-либо божественного Лица. Ведь никакое имя, общее для трех Лиц, не является собственным именем какого-либо из них. Но это имя, Святой Дух, является общим для всех трех Лиц. Ведь Иларий в восьмой книге «О Троице» (VIII, 25) показывает, что иной раз под Духом Божьим понимается Отец, как в случае, когда говорится «Дух Господень на Мне» (Лк. 4, 18), иной раз – Сын, как в случае, когда Сын говорит: «Я Духом Божьим изгоняю бесов» (Мф. 12, 28), показывая, что изгоняет Он бесов силой Своего естества, иной раз – Дух Святой, как в стихе: «Излию от Духа Моего на всякую плоть» (Деян. 2,17). Следовательно, это имя, Святой Дух, не есть имя, собственное для какого-либо божественного Лица.
2. Кроме того, имена божественных Лиц сказываются относительно друг к другу, как говорит Боэций в книге «О Троице» (5). Но это имя, Святой Дух, не сказывается таким образом. Следовательно, это имя не является собственным для одного Лица.
3. Кроме того, поскольку Сын есть имя некоторого божественного Лица, то нельзя сказать о Нем: «сын того» или «сын иного». В то время как говорится «дух того или иного человека». Так, сказано: «Сказал Господь Моисею: возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них» (Чис. 11, 16–17), и «Опочил дух Илии на Елисее» (4 Цар. 2, 15). Следовательно, представляется, что Святой Дух не есть имя, собственное для какого-либо божественного Лица.
Но против этого говорится: «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Дух Святой» (1 Ин. 5,7). И Августин говорит в седьмой книге «О Троице» (VII, 4): «Когда спрашивается, “Что за три?”, то мы говорим: “Три Лица”». Следовательно, Дух Святой есть имя Божественного Лица.
Отвечаю: следует сказать, что хотя в сфере божественного имеется два исхождения, но одно из них, осуществляемое по способу любви, не имеет собственного имени, как сказано выше (q. 27, a. 4, ad 3). Почему и отношения, которые устанавливаются в соответствии с исхождением такого рода, не названы, о чем также сказано выше (q. 28, a. 4). Поэтому и имя Лица, исходящего таким образом, на том же основании, не имеет собственного имени. Но, подобно тому как некоторые имена, в соответствии с привычным употреблением, применяются для того, чтобы обозначать вышеупомянутые отношения (так, словом «исхождение» и «излияние» мы именуем то, что, в собственном смысле, представляется в большей степени сообразным нашим актам познания, чем отношениям), так и для обозначения божественного Лица, которое исходит по способу любви, принято, в соответствии с употреблением в Писании, имя Святого Духа.
И соответствие употребления такого имени можно обосновать двумя способами. Во-первых, из самой общности того, что называется «Святой Дух». Ведь говорит Августин в пятнадцатой книге «О Троице» (XV, 17): «Поскольку Святой Дух является общим для двух, то в собственном смысле Он Сам называется тем, что Они оба в общем, ведь и Отец есть Дух, и Сын – Дух, и Отец – свят, и Сын – свят». Во-вторых, из собственного значения этого имени. Ведь имя «дух» в вещах телесных означает некое побуждение и движение, ведь дыхание и ветер мы именуем «духом». Свойством же любви является то, что она движет и подвигает волю любящего к возлюбленному. А святость приписывается тем вещам, которые направлены к Богу. Таким образом, поскольку божественное Лицо исходит по способу любви, посредством которой любят Бога, то Оно подобающе именуется «Святой Дух».
1. Итак, относительно первого следует сказать: если брать выражение «Дух Святой» как состоящее из двух слов, то оно является общим всей Троице. Именем «дух» означается нематериальность божественной субстанции, ведь даже телесный дух невидим и немного имеет от материи, и поэтому мы называем этим именем всякие нематериальные и невидимые субстанции. Именем же «святой» обозначается чистота божественной благости. Если же брать «Дух Святой» как одно выражение, то, согласно церковному употреблению, оно приспособлено к обозначению одного из трех Лиц, а именно того, которое исходит по способу любви, на вышеприведенном основании.
2. Относительно второго следует сказать: хотя выражение «Дух Святой» не обозначает отношения, тем не менее оно используется для обозначения отношения, поскольку оно приспособлено для обозначения Лица, отличного от других лишь в плане отношения. Однако в этом имени также можно усмотреть некоторое отношение, если «Дух» понимать как «выдыхаемый».
3. Относительно третьего следует сказать, что в имени Сына подразумевается только отношение Того, Кто происходит от начала, к началу. Но в имени Отца выражается отношение самого начала, и то же в имени Духа, поскольку оно подразумевает некую движущую силу. Быть же началом в отношении какого-либо божественного Лица не подобает ничему сотворенному, но – наоборот. И потому может быть сказано «Отче наш» и «Дух наш», но говорить «Сын наш» нельзя.
Глава 2. Исходит ли Святой Дух от Сына?
1. Кажется, что Святой Дух не исходит от Сына. Поскольку, согласно Дионисию (О божественных именах, 1), «нельзя осмелиться говорить что-либо о субстанциальной божественности кроме того, что от Бога явлено нам в божественных речениях». Но во Священном Писании не сказано, что Святой Дух исходит от Сына, а лишь то, что Он исходит от Отца, как явствует из Иоанна (15, 26): «Дух Истины, Который от Отца исходит». Следовательно, Святой Дух не исходит от Сына.
2. Кроме того, в Символе веры Константинопольского собора говорится так: «Веруем в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца исходящего, со Отцем и Сыном сопоклоняемого и сославимого». Таким образом, нельзя прибавлять к нашему символу то, что Дух Святой исходит от Сына, а те, кто прибавляет это, подлежат отлучению.
В этом вопросе Фома Аквинский упоминает три собора.
Никейский (Первый Вселенский) состоялся в июне 325 года в Никее; на нем был утвержден Никейский Символ веры и осуждена арианская ересь, согласно которой Сын является не единосущным, а подобосущным Отцу.
Первый Константинопольский (Второй Вселенский) был созван в 381 году. На нем был утвержден догмат об исхождении Святого Духа от Отца и дополнен Никейский Символ веры.
Эфесский (Третий Вселенский) проходил в Эфесе в 431 году. На нем была осуждена ересь Нестория, считавшего, что Дева Мария родила не Бога, а человека, соединенного со Словом Божьим, поэтому ее следует именовать не Богородицей, а Христородицей.
3. Кроме того, Дамаскин (О вере православной, 1, 8) пишет: «Мы говорим, что Дух Святой – от Отца, и именуем Его Духом Отца; но мы не говорим, что Дух Святой – от Сына, хотя именуем Его Духом Сына». Следовательно, Святой Дух не исходит от Сына.
4. Кроме того, ничто не исходит от того, на ком покоится. Но Святой Дух покоится на Сыне. В житии блаженного Андрея говорится: «Мир вам и всем, кто верует во единого Бога Отца, и во единого Сына Его, Единого Господа нашего Иисуса Христа, и во единого Духа Святого, от Отца исходящего и покоящегося на Сыне». Следовательно, Святой Дух не исходит от Сына.
Андрей Константинопольский (ум. 963), юродивый, житие которого было очень распространено в православном мире.
5. Кроме того, Сын исходит как слово. Но представляется, что наш дух не исходит в нас от нашего слова. Следовательно, Святой Дух не исходит от Сына.
6. Кроме того, Святой Дух совершенным образом исходит от Отца. Следовательно, излишне говорить, что Он исходит от Сына.
7. Кроме того, как говорится в третьей книге «Физики» (Аристотель, 203b 30), «в вечных вещах не различаются бытие и возможность», а в божественной сфере и того менее. Но Дух Святой может различаться с Сыном, даже если не исходит от Него. Как говорит Ансельм в книге «Об исхождении Святого Духа» (4): «Сын и Дух Святой получают бытие от Отца, но различным образом, поскольку один рождается, а другой – исходит, и посредством этого Они различны друг от друга». И после этого он добавляет: «И если бы Сын и Дух Святой не были многими посредством чего-либо другого, Они были бы различны лишь посредством этого». Следовательно, Святой Дух различается с Сыном, не получая существования от Него.
Но против этого – то, что говорит Афанасий: «Святой Дух происходит от Отца и от Сына. Он не создан, не сотворен, не рожден, но исходит».
Афанасий Великий (ок. 295–373) – один из греческих Отцов Церкви, богослов, наиболее известный борьбой с арианами, утверждавшими, что Сын лишь подобосущен Отцу, а не единосущен. Эти два слова в греческом языке отличаются только одной буквой, йотой, от чего пошло выражение «не уступить ни на йоту». Так называемый «Афанасьевский символ веры», цитируемый Фомой, Афанасию, скорее всего, не принадлежит, однако в его трудах есть другие места, которые можно понимать как утверждения об исхождении Святого Духа через Сына (возможно, на это ссылается Фома далее) и от Сына.
Отвечаю: следует сказать, что необходимо, чтобы Святой Дух был от Сына. Ведь если бы Дух не был от Него, то никоим образом не мог бы с Ним различаться как Лица. Это явствует из сказанного выше (q. 28, a. 3; q. 30, a. 2). Ведь невозможно говорить, что божественные Лица различаются между собой абсолютным образом, поскольку следовало бы, что у трех Лиц не будет единой сущности, поскольку все, что говорится абсолютно, относится к единству сущности. Остается только признать, что Лица различаются только отношениями. Но отношения Лиц могут различаться только как противоположные. Это ясно из следующего: Отец обладает двумя отношениями, в одном из которых Он находится к Сыну и в другом – ко Святому Духу. Однако эти отношения, поскольку они не противоположны, устанавливают не два Лица, но только Лицо Отца. Следовательно, если было бы, что у Сына и у Святого Духа имелось только два отношения, в которых каждый из Них находится к Отцу, то эти отношения не являлись бы взаимно противоположны, как и те два отношения, в которых Отец находится к Ним. Поэтому, коль скоро Лицо Отца – одно, следовало бы, чтобы Лицо Сына и Святого Духа было одним, имея два отношения, противоположные двум отношениям Отца. Но это еретично, поскольку отвергает веру во Троицу. Следовательно, должно, чтобы Сын и Дух Святой находились во взаимно противоположных отношениях. В свою очередь, в божестве не может быть других противоположных отношений, кроме отношений происхождения, как показано выше. А противоположные отношения происхождения понимаются как отношения начала и того, что от начала. Следовательно, остается необходимость либо говорить, что Сын от Святого Духа, чего не говорит никто, либо что Святой Дух от Сына, что исповедуем мы.
С этим согласуется смысл исхождения и того и другого. Ведь как выше сказано (q. 27, a. 2; q. 28, a. 4), что Сын исходит по способу разума, как Слово; а Дух Святой – по способу воли, как Любовь. Также необходимо, чтобы Любовь исходила от Слова, поскольку мы любим что-либо, в соответствии с тем, что охватываем это пониманием в разуме. Отсюда и в соответствии с этим ясно, что Святой Дух исходит от Сына.
Также этому учит сам порядок вещей. Ведь мы обнаруживаем, что от одного исходит множество, лишенное упорядоченности, только если в этом множестве наличествует материальное различие: так, один мастер производит множество ножей, материально отличных друг от друга и не находящихся во взаимной упорядоченности. Но в случае вещей, в которых наличествует не исключительно материальное различие, во множестве произведенного всегда присутствует определенная упорядоченность. Почему и в порядке произведенных творений также является красота божественной премудрости. Следовательно, если от одного Лица Отца исходят два Лица, а именно Сын и Дух Святой, то они должны находиться во взаимной упорядоченности. Но не может им приписываться какой-либо другой порядок, кроме природного, согласно которому один происходит от другого. Таким образом, невозможно говорить, что Сын и Дух Святой так исходят от Отца, что ни один из Них не исходит от другого, если только кто-нибудь не припишет им материального различия, что нелепо.
Поэтому и сами греки считают, что исхождение Святого Духа происходит в некотором порядке относительно Сына. Так они допускают, что Дух Святой есть Дух Сына и что Он есть от Отца через Сына. И о некоторых из них говорят, что они допускают, что Святой Дух есть от Сына или что Дух истекает от Него, но не исходит. Представляется, что это происходит либо по незнанию, либо из крайнего упрямства. Но если кто-нибудь будет рассматривать этот вопрос прямо, то он найдет, что среди всех слов, обозначающих какое-либо возникновение, слово «исхождение» является наиболее общим. Ведь мы используем его для обозначения любого происхождения, например, линия исходит из точки, луч – от Солнца, ручей – из источника, и подобным образом говорим обо всем другом. Поэтому если мы используем такое словоупотребление, говоря обо всем, относящемся к происхождению, можно заключить, что Святой Дух исходит от Сына.
1. Итак, относительно первого следует сказать: мы не должны говорить о Боге того, что не находится в Священном Писании либо по букве, либо по смыслу. Но хотя по букве в Священном Писании не сказано, что Святой Дух исходит от Сына, тем не менее мы обнаруживаем это по смыслу, прежде всего там, где Сын говорит о Святом Духе: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет» (Ин. 16, 14). Но нужно помнить правило, когда читаем Писание: то, что говорится об Отце, должно разуметь и о Сыне, даже если добавлено исключающее выражение, если только Отец и Сын не различаются согласно противоположным отношениям. Так, когда Господь говорит: «Никто не знает Сына, кроме Отца» (Мф. 11, 17), то не исключается, что Сын может знать Себя. Таким образом, в случае, если сказано, что Дух Святой исходит от Отца, и даже если добавлено, что от одного лишь Отца, то в таком случае Сын не исключается, поскольку Отец и Сын противопоставляются не в отношении начала Святого Духа, но лишь в том, что этот – Отец, а тот – Сын.
2. Относительно второго следует сказать, что на каждом из соборов некий Символ утверждался из-за некоторого заблуждения, которое осуждалось на этом соборе. Согласно этому, каждый собор не составлял Символа, отличного от изначального, но, ради противодействия возникшей ереси, более подробно истолковывал то, что содержалось в букве изначального Символа, что-либо к нему прибавляя. Поэтому в определении Халкидонского собора сказано, что собиравшиеся на Константинопольском соборе утвердили учение о Святом Духе не для того, чтобы внести упущенное предшественниками, собиравшимися в Никее, но проясняя его понимание против еретиков. Таким образом, поскольку во времена древних соборов заблуждение тех, кто говорит, что Святой Дух не исходит от Сына, еще не возникло, то не было необходимости утверждать такое прояснение. Но впоследствии, когда появилось такое заблуждение, на одном из соборов, созванном в западных областях, было утрвеждено положение, подтвержденное властью Римского епископа, властью которого собирались и древние соборы и получали силу их решения. Тем не менее это положение неявно содержалось в том, что говорилось об исхождении Святого Духа от Отца.
3. Относительно третьего следует сказать: то, что Святой Дух не исходит от Сына, впервые было сказано несторианами, как видно из осуждения одного из несторианских символов на Эфесском соборе. Этому заблуждению также следовал несторианин Феодорит и многие после него, среди которых был и Дамаскин. Потому в этом вопросе не следует придерживаться его мнения. Хотя некоторые говорят, что Дамаскин не исповедует бытия Святого Духа от Сына, но и не отрицает, судя по его словам.
Феодорит (ок. 386–457), блаженный, богослов из Антиохии, епископ Кирский, его упрекали в симпатиях к несторианству (в криптонесторианстве) и осудили на Втором Эфесском соборе, но оправдали на Халкидонском. На самом деле Феодорит осуждал несториан, но в формулировке осуждения не соглашался со св. Кириллом Александрийским, так что Фома Аквинский не совсем справедливо причисляет его к несторианам.
4. Относительно четвертого следует сказать: то, что Святой Дух называется покоящимся или пребывающим на Сыне, не исключает исхождения от Него, поскольку и Сын называется пребывающим в Отце, но при этом и исходящим от Отца. Также Святой Дух называется покоящимся на Сыне, как любовь любящего покоится на возлюбленном; или, что касается человеческого естества Христа, согласно словам Писания: «На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1, 33).
5. Относительно пятого следует сказать, что слово в божественной сфере понимается не по подобию со словом, произносимым голосом, от которого не исходит дух (сказанное так можно понимать лишь метафорически), но – согласно подобию слову в уме, от которого исходит любовь.
6. Относительно шестого следует сказать: из-за того, что Святой Дух исходит от Отца совершенным образом, не только не излишне говорить, что Святой Дух исходит от Сына, но совершенно необходимо. Ведь одна сила у Отца и Сына, и все, что от Отца, необходимо есть и от Сына, если это не противоречит свойству сыновства (Сын – не от Себя Самого, хотя от Отца).
7. Относительно седьмого следует сказать: Святой Дух различается с Сыном как Лица тем, что происходжение одного отличается от происхождения другого. Но само различие в происхождении существует вследствие того, что Сын есть только от Отца, Дух же Святой – от Отца и от Сына. Иначе бы происхождения не различались, как показано выше.
Глава 3. Исходит ли Святой Дух от Отца через Сына?
1. Кажется, что Святой Дух не исходит от Отца через Сына. Ведь то, что исходит от кого-либо через другого, не исходит непосредственно от него. Таким образом, если Святой Дух исходит от Отца через Сына, то Он не исходит непосредственно от Отца. А это кажется нелепым.
2. Кроме того, если Святой Дух исходит от Отца через Сына, то Он исходит не иначе, как благодаря Отцу. Но то, благодаря чему что-то происходит, само обладает этим в большей степени. Следовательно, Он исходит в большей степени от Отца, чем от Сына.
3. Кроме того, Сын обладает бытием через рождение. Таким образом, если Святой Дух – от Отца через Сына, то следует, что прежде порожден Сын, а после исходит Святой Дух. Следовательно, исхождение Святого Духа не вечно. А это еретическое мнение.
4. Кроме того, когда говорится, что кто-либо действует через другого, то может быть сказано и наоборот; так мы говорим, что царь действует через судью, но можно сказать, что и судья действует через царя. Но мы никоим образом не скажем, что Сын излияет Святого Духа через Отца. Следовательно, никак нельзя сказать, что Отец излияет Святого Духа через Сына.
Но против этого – то, что говорит Иларий в книге «О Троице» (12, 57): «Сохрани, молю, исповедание веры моей, чтоб всегда обретал Отца, Тебя, и почитал Сына Твоего с Тобой, и стяжал Духа Святого Твоего, Который через Единородного Твоего».
Отвечаю: следует сказать, что во всех высказываниях, где говорится, что кто-то действует через другого, такой предлог, «через», означает в причинном смысле некоторую причину или начало этого действия. Но, поскольку действие является средним по отношению к действующему и содеянному, иногда та причина, к которой относится предлог «через», является причиной действия, поскольку исходит от действующего. И тогда она является причиной для того, чтобы действующее действовало, будь ли то причиной целевой, или формальной, или действующей (т. е. движущей): целевая – как когда мы говорим, что мастер трудится ради выгоды, формальная – как когда мы говорим, что он трудится благодаря своему умению, а движущая – когда мы говорим, что он трудится из-за повеления другого. Иногда же причинное высказывание, в котором употребляется «через», обозначает причину действия, согласно тому, что определяет к действию, как когда мы говорим, что мастер трудится посредством молотка. Но здесь обозначается не то, что молоток является причиной, заставляющей мастера действовать, а что он причина совершенного мастером как того, что исходит от мастера, и того, чтобы из рук мастера выходило именно это. И таким образом некоторые и говорят, что этот предлог «через» иногда обозначает власть прямо, когда говорится, что царь действует через судью, а иногда косвенно, когда говорится, что судья действует через царя.
Здесь Фома Аквинский использует учение Аристотеля о четырех причинах (упоминая только три): чтобы произошло некоторое действие, необходимо сочетание четырех причин (или некоторых их них): материальной – наличия материи, из которой что-либо производится (строительный материал при постройке дома), инструментальной (действия рабочих под руководством архитектора), формальной (план дома и работ, созданный архитектором) и целевой (предназначение дома).
Таким образом, поскольку Сын имеет от Отца то, что от Него исходит Святой Дух, то можно сказать, что Отец излияет Святого Духа через Сына; или что Святой Дух исходит от Отца через Сына, что является одним и тем же.
1. Относительно первого следует сказать, что в любом действии следует рассматривать две стороны, а именно действующий субъект и силу, которой он действует; как огонь нагревает посредством тепла. Таким образом, если в Отце и Сыне рассматривать ту силу, которой Они излияют Святого Духа, то здесь не будет ничего опосредующего, поскольку эта сила является одной и той же. Если же рассматривать сами излияющие Лица, когда Святой Дух исходит сообща от Отца и Сына, то обнаруживается, что Святой Дух исходит непосредственно от Отца, коль скоро Он от Отца, и опосредованно, коль скоро Он от Сына. И в этом смысле говорится, что Он исходит от Отца через Сына. Подобно этому Авель произошел непосредственно от Адама, поскольку Адам был ему отцом, и опосредованно, поскольку матерью ему была Ева, которая произошла от Адама; хотя представляется, что пример материального происхождения не годится для обозначения нематериального исхождения божественных Лиц.
2. Относительно второго следует сказать: если бы Сын принимал от Отца нумерически другую силу для излияния Духа Святого, то следовало бы, что Сын был бы как будто вторичная и инструментальная причина, и, таким образом, Дух исходил бы в большей степени от Отца, чем от Сына. Но в Отце и Сыне – нумерически одна и та же сила, которой Они излияют, и потому Дух исходит равным образом от того и другого. Хотя иногда говорится об исхождении от Отца первично и в собственном смысле, по причине того, что Сын имеет эту силу от Отца.
3. Относительно третьего следует сказать: как порождение Сына совечно Родителю, поскольку Отец не был прежде, чем родил Сына, так исхождение Святого Духа совечно своему началу. Поэтому Сын не был рожден прежде, чем исшел Святой Дух, но и тот и другой – вечны.
4. Относительно четвертого следует сказать: когда говорится, что кто-либо действует через другое, обратное верно не всегда, так, мы не говорим, что молоток действует через мастера. В свою очередь, мы говорим, что судья действует через царя, поскольку судье свойственно действовать, так как он господин своему действию. Молотку же свойственно не действовать, а использоваться в действии, потому он именуется орудием. Говорится же, что судья действует через царя, хотя предлог «через» обозначает среднее, потому что, насколько субъект первичнее в действии, насколько его сила более непосредственна по отношенению к совершенному, потому что вторую причину подвигает к совершению действия первая причина, поэтому и в науках, использующих доказательства, первые начала называются непосредственными. Таким образом, поскольку судья, согласно порядку действующих субъектов, является средним, то говорится, что царь действует через судью, согласно же порядку сил говорится, что судья действует через царя, поскольку тому, что сила царя делает так, что действие судьи приводится к совершению. Но в том, что касается сил, не существует порядка между Отцом и Сыном, он существует только в том, что касается субъектов. В этом смысле и говорится, что Отец излияет через Сына, а не наоборот.
Глава 4. Являются ли Отец и Сын единым началом Святого Духа?
1. Кажется, что Отец и Сын не являются единым началом Святого Духа. Ведь Святой Дух, как кажется, не исходит от Отца и Сына на основании того, что Они единое: ни по природе, потому что Святой Дух таким образом исходил бы также от Себя Самого, будучи по природе единым с Ними, ни в силу того, что Они единое по какому-либо свойству, потому что, как представляется, одно свойство не может принадлежать двум субъектам. Следовательно, Святой Дух исходит от Отца и Сына, поскольку Они многие. Следовательно, Отец и Сын не являются единым началом Святого Духа.
2. Кроме того, когда говорится, что Отец и Сын единое начало Святого Духа, то здесь не может иметься в виду единство согласно Лицам, потому что таким образом Отец и Сын были бы одним Лицом. Также это не единство свойств, потому что, если Отец и Сын – единое начало Святого Духа в силу единого свойства, то, на том же основании, представляется, что в силу двух свойств Отец является двумя началами Сына и Святого Духа, что является нелепым. Следовательно, Отец и Сын не являются единым началом Святого Духа.
3. Кроме того, Сын схож с Отцом не более, чем Святой Дух. Но Святой Дух и Отец не являются единым началом по отношению к какому-либо из божественных Лиц. Следовательно, и Отец и Сын не являются таким началом.
4. Кроме того, если Отец и Сын являются единым началом Святого Духа, то или они то единое, которое есть Отец, или единое, которое не есть Отец. Но ни одно из этих положений не допустимо, потому что если бы это был Отец, следовало бы, что Сын есть Отец, а если это не Отец, следовало бы, что Отец не есть Отец. Следовательно, не должно говорить, что Отец и Сын являются единым началом Святого Духа.
5. Кроме того, если Отец и Сын являются единым началом Святого Духа, то можно сказать и обратное, что единым началом Святого Духа являются Отец и Сын. Но это представляется ложным, поскольку то, что называется началом, надлежит подстанавливать или на место Лица Отца, или на место Лица Сына, и в обоих случаях это ложно. Следовательно, также ложно и то, что Отец и Сын являются единым началом Святого Духа.
6. Кроме того, единство по сущности дает тождество. Поэтому если Отец и Сын являются единым началом Святого Духа, то следует, что Они являются одним и тем же началом. Но многие это отрицают. Следовательно, нельзя говорить, что Отец и Сын являются единым началом Святого Духа.
7. Кроме того, Отец и Сын и Святой Дух именуются единым Творцом, потому что Они единое начало творения. Но Отец и Сын являются не единым излияющим, а двумя, как полагают многие. И это согласно словам Илария, который говорит во второй книге «О Троице» (II, 29), что Святой Дух должно исповедать исходящим от Отца и Сына как от Его начал. Следовательно, Отец и Сын не являются единым началом Святого Духа.
Но против этого то, что говорит в пятой книге «О Троице» Августин (V, 14), что Отец и Сын не два, но – одно начало Святого Духа.
Отвечаю: следует сказать, что Отец и Сын являются едиными во всем, в чем между Ними нет различия в противоположных отношениях. Поэтому, раз в том, что они есть начало Святого Духа, Они не не находятся в противоположных отношениях, следует, что Отец и Сын являются единым началом Святого Духа.
Однако некоторые говорят, что выражение «Отец и Сын являются единым началом Святого Духа» употребляется в несобственном смысле. Потому что, если это имя, «начало», в единственном числе обозначает не Лицо, а свойство, то, как они говорят, что оно должно пониматься как прилагательное, и поскольку прилагательное не определяется через прилагательное, то выражение «Отец и Сын являются единым начальным Святого Духа» нелепо, если только «единое» не принимать как наречие, тогда был бы смысл: «являются единоначальным», то есть по единому образу действия. Но подобным образом может быть сказано, что Отец – два начала Сына и Святого Духа, то есть двояким образом. Следовательно, должно сказать, что, если это имя, «начало», обозначает свойство, тем не менее оно обозначает его как существительное, как и имена «отец» или «сын», даже в сотворенных вещах. Поэтому число оно получает от обозначенной формы, как и другие существительные. В таком случае: как Отец и Сын суть Единый Бог, ввиду единства формы, обозначенной словом «Бог», так Они суть единое начало Святого Духа вследствие единства свойства, означаемого именем «начало».
1. Относительно первого следует сказать: если говорится о излияющей силе, то Святой Дух исходит от Отца и Сына, поскольку Они едины в отношении этой силы, которая некоторым образом обозначает природу, обладающую свойством, о чем будет сказано ниже (q. 41, a. 5). То же, что единым свойством обладают два субъекта, у которых одна природа, не является неподобающим. Если же рассматриваются субъекты излияния, то Святой Дух исходит от Отца и Сына как от многих, потому что Он исходит от Них как любовь, которая объединяет двух.
2. Относительно второго следует сказать: когда говорится, что Отец и Сын являются единым началом Святого Духа, то имеется в виду единое свойство, которым является форма, означенная в имени. Тем не менее не следует, что ввиду многих свойств можно называть Отца многими началами, поскольку это подразумевало бы множественность субъектов.
3. Относительно третьего следует сказать: подобие или неподобие приписывается божественности не согласно соотносительным свойствам, а согласно существу. Поэтому как Отец не более подобен Себе, чем Сыну, так и Сын не более подобен Отцу, чем Святой Дух.
4. Относительно четвертого следует сказать: эти два высказывания, а именно «Отец и Сын являются единым началом, которое есть Отец» и «Отец и Сын являются единым началом, которое не есть Отец», не являются контрадикторными. Поэтому не является необходимым, что истинно только одно из них. Поэтому, когда мы говорим, что «Отец и Сын являются единым началом», то, что именуется началом, обозначает не определенный единичный субъект, а скорее общий для двух Лиц совместно. Поэтому в выводе имеется ошибка фигуры высказывания, когда смешивается общее и единичное употребление.
Контрадикторные (противоречащие) понятия или высказывания – отрицающие друг друга и не могущие быть истинными одновременно, они также не допускают среднего (третьего) понятия (белое и небелое), в отличие от контрарных (противоположных), которые не исключают друг друга и допускают нечто среднее (белое, черное и серое).
5. Относительно пятого следует сказать, что высказывание «Одно начало Святого Духа является Отец и Сын» также истинно. Ведь то, что именуется началом, является субъектом, обозначающим не одно Лицо, а, как сказано, общим для двух.
6. Относительно шестого следует сказать: вполне подобающе может быть сказано, что «Отец и Сын являются одним началом», поскольку имя «начало» – общий субъект для двух Лиц вместе.
7. Относительно седьмого следует сказать: некоторые говорят, что, хотя Отец и Сын являются единым началом Святого Духа, тем не менее Они два «излиятеля» из-за различия субъектов, как и два излияющих, поскольку эти действия относятся к субъектам. Но это основание не применимо к имени Творец, поскольку: Святой Дух исходит от Отца и Сына как от двух различных Лиц, как сказано, тогда как творение исходит от Трех Лиц не так, что Они различные Лица, а поскольку Они едины по сущности. Но, представляется, лучше будет сказать, что поскольку «излияющие» – прилагательное, а «излиятель» – существительное, то мы можем сказать, что Отец и Сын суть два излияющих из-за различия субъектов, но не два излиятеля в силу единства излияния. Ведь имена прилагательные получают число от субъектов, а существительные от самих себя, согласно обозначаемой форме. А то, что Иларий говорит, что Святой Дух от Отца и Сына как от начал, следует объяснить, что он существительное поставил вместо прилагательного.
Сотворение мира
Вопросы 44–49 относятся к «Трактату о сотворении мира». Из тем этого трактата мы выделили ключевые и наиболее сложные. Одна из них, обсуждаемая в вопросе 45, – творение мира из ничего, один из важных постулатов, на которых базируется и который стремится обосновать христианская мысль в отличие от античной. Последняя основана на принципе «из ничего ничего не возникает», исходя из него Платон и Аристотель считали, что материя или материальный мир должны существовать вечно. Другим сложным вопросом является вопрос о разнообразии и неравенстве вещей, существующих в мире (вопрос 47). Как единый и благой Бог мог сотворить множество различных вещей, из которых одна менее совершенна, чем другая? На этот вопрос многие предшественники Фомы Аквинского давали различные ответы: источником разнообразия считалась материя, а не замысел Бога, или же творение мира приписывалось множеству второстепенных божеств.
Вопрос 45. О способе эманации вещей из первого начала
Далее обсуждается способ эманации вещей от первого начала, который называется «творение». Об этом задается восемь вопросов:
(1) Что такое творение?
(2) Может ли Бог творить нечто?
(3) Есть ли творение – нечто, существующее в природе вещей?
(4) Чему подобает быть сотворенным?
(5) Только ли Богу подобает творить?
(6) Есть ли оно общее для всей Троицы или собственное действие какой-либо Персоны?
(7) Есть ли в сотворенных вещах какой-либо отпечаток Троицы?
(8) Присутствует ли творение в делах природы и искусства?
(Вопросы 6–7, относящиеся к тринитарной проблематике, опущены. – Прим. пер.).
Глава 1. Что такое творение?
1. Кажется, что слово «творить» не значит «делать нечто из ничто». Ведь Августин говорит в «Против противников закона и пророков» (1, 23): «Делать (facere) – значит создавать то, чего не было совсем, творить же (creare) – значит из того, что уже было, составлять нечто путем извлечения (educendo)».
2. Кроме того, достоинство действия и движения усматривается из их целей. Следовательно, действие, ведущее от благого к благому и от сущего к сущему, более достойно, чем то, которое от ничего к чему-то. Но кажется, что творение – действие наиболее достойное и первое среди всех действий. Следовательно, оно осуществляется не от ничто к чему-то, а скорее от сущего к сущему.
3. Кроме того, этот предлог «из» подразумевает наличие некоторой причины, и скорее – материальной, как когда мы говорим, что статуя изготовляется из меди. Но ничто не может быть материей сущего и никоим образом – его причиной. Следовательно, творить не значит «делать из ничто нечто».
Но против: глосса на следующее в Книге Бытия (1, 1): «В начале сотворил Бог небо» и далее, гласит: «Творить значит делать из ничто нечто».
Отвечаю: следует сказать, что, как было сказано выше (q. 44, a. 2), надлежит рассмотреть не только эманацию какого-либо частного сущего от некоторого частного деятеля, но также эманацию всего сущего от универсальной причины, то есть – Бога, и эту эманацию мы обозначаем словом «творение». То же, что происходит в случае частной эманации, не полагается прежде этой эманации, как если бы порождался человек, но раньше не было человека, а человек возник из не-человека, и белое из не-белого. Поэтому, если рассматривать универсальную эманацию всего сущего от первого начала, то невозможно, чтобы некое сущее полагалось прежде этой эманации. Но «ничто» есть то же самое, что «никакое сущее». Следовательно, как порождение человека осуществляется из не-сущего, то есть «не-человека», так и творение, то есть эманация всего бытия, осуществляется из не-сущего, то есть из ничего.
В q. 44, a. 2 «Сотворена ли первая материя Богом» говорится о том, что возникновение вещи может определяться акцидентальной (вещь как «такая-то» (напр. белая)) или субстанциальной формой (вещь как «это» (напр. человек)). Для объяснения такого возникновения достаточно привлечения частных причин. Однако рассмотрение вещи как сущей, ее произведение в бытие вообще (а не в некоторое частное сущее), требует наличия универсальной причины.
1. Итак, относительно первого следует сказать: Августин использует имя «творение» эквивокально, согласно тому, что «быть сотворенным» говорится о тех, кто преображаются в лучших, как когда говорят, что «кого-то сотворили епископом». Но мы говорим о творении не таким образом, а так, как было сказано.
2. Относительно второго следует сказать: изменения принимают вид и достоинство не от предела, от которого они исходят, а от предела, к которому они стремятся. Следовательно, какое-либо изменение тем более совершенно и первично, чем более совершенен и первичен предел, к которому стремится это изменение, даже если предел, от которого оно исходит, противоположенный пределу, к которому оно стремится, более несовершенный. Так, простое порождение более достойно и первично, чем изменение, из-за того что субстанциальная форма более достойна, чем привходящая форма; однако предел, от которого исходит порождение (который есть лишенность субстанциальной формы), более несовершенен, чем противоположное, то есть предел, от которого исходит изменение. И, схожим образом, творение более совершенно и первично, чем порождение и изменение, поскольку предел, к которому стремится творение, – вся субстанция вещи. То же, что понимается как предел, от которого творение исходит, есть просто не-сущее.
3. Относительно третьего следует сказать: когда говорится, что «нечто возникло из ничего», то предлог «из» обозначает не материальную причину, а только порядок, как когда говорится, что «из утра стал полдень», то есть «после утра стал полдень». Но следует знать, что этот предлог «из» может включать отрицание, подразумеваемое в том, что я называю «ничто», или быть включенным в него (т. е. из ничего – не из чего. – Прим. пер.). Если говорится первым способом, то утверждается порядок тем, что показывается отношение того, что есть, к предшествующему небытию. Если же отрицание включает предлог, то порядок отвергается и смысл таков: «становится из ничего» значит «не становится из чего-либо», как когда говорится «он говорит ни о чем», поскольку он не говорит о чем-либо. Однако когда говорится «из ничего стало нечто», верен и тот и другой способ понимания. Но первым способом этот предлог «из» подразумевает порядок, как было сказано, а вторым способом он подразумевает материальную причину, существование которой отрицается.
Глава 2. Может ли Бог сотворить нечто?
1. Кажется, что Бог не может сотворить нечто. Ведь согласно Философу, древние мыслители принимали в качестве общего изначального понятия, существующего в уме, что «ничто не происходит из ничего» (Физика, 187a 28). Но могущество Бога не распространяется на противоположное первым началам – как если бы Бог сделал так, чтобы целое не было больше своей части или чтобы утверждение и отрицание одновременно были бы истинны. Следовательно, Бог не может делать нечто из ничего, то есть творить.
2. Кроме того, если «творить» значит «делать нечто из ничего», следовательно, «быть сотворенным» означает «становиться чем-то». Но всякое становление есть изменение. Следовательно, творение есть изменение. Но всякое изменение осуществляется на основании некоторого субъекта, что ясно из определения движения, ведь движение есть акт существующего в потенции. Следовательно, невозможно, чтобы нечто производилось Богом из ничего.
3. Кроме того, необходимо, чтобы то, что создано, когда-либо было создано. Но нельзя сказать «То, что творится, одновременно создается и создано», поскольку в постоянных вещах то, что создается, не есть то же, что создано, что уже есть, так, чтобы нечто одновременно было бы и не было. Следовательно, если нечто создается, то его созданию предшествует бытие уже созданным. Но это может быть, только если ранее существует субъект, в котором происходит созидание чего-либо. Следовательно, невозможно, чтобы нечто создавалось из ничего.
4. Кроме того, нельзя преодолеть бесконечное расстояние. Но между сущим и ничто – бесконечное расстояние. Следовательно, не случается так, что из ничего становится нечто.
Но против то, что говорится в Книге Бытия (Быт. 1, 1): «В начале сотворил Бог небо и землю».
Отвечаю. Следует сказать: не только не является невозможным, что нечто сотворено Богом, но и необходимо полагать, что все сотворено Богом, как это обнаруживается из сказанного выше (q. 44, a. 1). Ведь когда некто делает что-либо из чего-либо, то, из чего он делает, существует прежде его действия, а не производится самим действием; так, мастер изготовляет предмет из природных вещей, например из дерева и меди, которые имеют в качестве причины не действие мастера, а действие природы. Но сама природа служит причиной вещи в отношении формы и предполагает материю. Следовательно, если бы Бог творил только из чего-либо полагаемого прежде, то следовало бы, чтобы это полагаемое прежде не имело бы Его в качестве причины. Но выше было показано (q. 44, a. 1 et 2), что в сущем не может быть ничего, что не было бы от Бога, который есть универсальная причина всего бытия. Поэтому необходимо сказать, что Бог производит вещь в бытие из ничего.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что древние философы, как было сказано выше (q. 44, a. 2), рассматривали только эманацию частных действий от частных причин, которые своему действию с необходимостью предполагают нечто, и согласно этому было их общее мнение: «из ничего ничто не становится». Однако это неверно относительно первой эманации из универсального начала вещей.
2. Относительно второго следует сказать, что творение называется изменением только в меру нашего понимания. Ведь к понятию изменения относится то, что нечто одно и то же иным образом обнаруживается теперь и раньше; ведь иногда есть одно и то же актуально сущее, обнаруживающееся иным образом сейчас и раньше, как в движениях согласно количеству, и качеству, и месту, иногда же есть одно и то же сущее только в потенции, как при субстанциальном изменении, чьим субъектом является материя. Но в творении, посредством которого производится вся субстанция вещей, не может быть усмотрено нечто одно и то же, обнаруживающееся иным образом теперь и раньше, если только не согласно познанию, как если познается, что некоторая вещь раньше вообще не существовала и затем она возникла. Но поскольку действие и претерпевание сходятся в субстанции движения и различны только согласно различным отношениям, как говорится в третьей книге «Физики» (202b 20), то надлежит, чтобы при удалении движения оставались бы только различные отношения в творящем и сотворенном. Но поскольку, как было сказано (q. 13, a. 1), способ обозначения следует способу познания, то творение обозначается по способу изменения, и поэтому говорят, что творить значит из ничто делать нечто. Однако «делать» и «быть сделанным» подходят здесь больше, чем «изменять» и «изменяться», поскольку «делать» и «быть сделанным» подразумевают отношение причины к действию и действия к причине, а изменение – только последование.
Согласно Фоме, «мы можем дать имя чему-либо только в мере нашего понимания» (q. 13, a. 1, «Может ли быть дано какое-либо имя Богу?»). Так, поскольку мы не знаем сущности Бога, мы можем именовать Его только исходя из известных нам Его творений. Таким образом, мы мыслим акт «творения из ничего» через более понятное изменение, хотя между ними существует принципиальное различие, о чем и идет здесь речь.
3. Относительно третьего следует сказать: в том, что создается без движения, одновременно сосуществует «создаваться» и «быть созданным», будет ли такое сотворение пределом движения, подобно освещению (ведь нечто одновременно освещается и освещено), или не будет пределом движения, подобно тому как слово в сердце одновременно принимает форму и оформлено. И в этом случае то, что создается, уже есть, но когда говорят «создается», то обозначают, что оно получает бытие от другого и что раньше его не было. Поэтому, коль скоро творение осуществляется без движения, нечто одновременно и творится, и сотворено.
4. Относительно четвертого следует сказать, что это возражение происходит из ложного допущения, будто бы есть некое бесконечное среднее между ничто и сущим, что явно является ложным. Происходит же это ложное допущение из-за того, что «творением» обозначают некоторое изменение, существующее между двумя пределами.
Глава 3. Есть ли творение – нечто в сотворенном?
1. Кажется, что творение не есть нечто, существующее в сотворенном. Ведь если творение, понимаемое как претерпевание, атрибутируется сотворенному, то творение, понимаемое как действие, атрибутируется Творцу. Но творение, понимаемое как действие, не есть нечто в Творце, поскольку тогда следовало бы, чтобы в Боге было нечто временное. Следовательно, творение, понятое как претерпевание, не есть нечто, существующее в сотворенном.
2. Кроме того, нет ничего среднего между Творцом и тварью. Но «творение» обозначает среднее между тем и другим, ведь оно – не Творец, поскольку оно не вечно, и не сотворенное, поскольку надлежало бы на том же основании полагать другое творение, посредством которого оно бы творилось, и так до бесконечности. Следовательно, творение не есть нечто.
3. Кроме того, если творение есть нечто помимо сотворенной субстанции, то надлежит, чтобы оно было его акциденцией. Но всякая акциденция существует в субъекте. Следовательно, сотворенная вещь была бы субъектом творения. И, таким образом, субъект творения и его предел был бы одним и тем же. Это невозможно, поскольку субъект первичнее акциденции и сохраняет акциденцию; предел же является более поздним, чем действие и претерпевание, пределом которых он является, и при его осуществлении действие и претерпевание прекращаются. Следовательно, само творение не есть какая-либо вещь.
Но против: лучше становиться чем-то согласно всей субстанции, чем согласно субстанциальной или акцидентальной форме. Но порождение (простое или происходящее в некотором отношении), посредством которого нечто становится согласно субстанциальной или акцидентальной форме, есть нечто в порожденном. Следовательно, тем более творение, посредством которого нечто становится согласно всей субстанции, есть нечто в сотворенном.
Отвечаю: следует сказать, что творение полагает нечто в сотворенном только согласно отношению, поскольку то, что творится, не создается посредством движения или изменения. Ведь то, что создается посредством движения или изменения, создается из чего-либо предсуществующего, как то происходит при частном произведении какого-либо сущего; но так не может происходить в произведении всего бытия универсальной причиной всего сущего, то есть Богом. Поэтому Бог, творя, без движения производит вещь. Если же устранить движение от действия и претерпевания, то остается только отношение, как было сказано (a. 2, ad 2). Поэтому остается, чтобы творение в твари было только некоторым отношением к Творцу как началу ее бытия, подобно тому как в претерпевании, которое происходит при движении, подразумевается отношение к началу движения.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что творение, понимаемое активно, означает божественное действие, которое есть Его действие в отношении к твари. Но отношение к твари в Боге не реальное, а только отношение мыслимое. Отношение же твари к Богу есть реальное отношение, как было сказано выше (q. 13, a. 7), когда речь шла о божественных именах.
2. Относительно второго следует сказать: поскольку творение понимается как изменение, как было сказано (a. 2, ad 2), изменение же есть некоторым образом среднее между движущим и движимым, то поэтому и творение понимается как среднее между творением и тварью. Однако «творение», понимаемое страдательно, существует в сотворенном и есть сотворенное. И поэтому не надлежит, чтобы оно творилось посредством другого творения, поскольку отношения (ведь они по самому своему существу подразумевают «к чему-то другому») соотносятся не посредством каких-либо других отношений, а посредством самих себя, как уже было сказано выше (q. 42, a. 1, ad 4), когда речь шла о равенстве Лиц.
3. Относительно третьего следует сказать, что сотворенное есть предел творения, согласно тому, что творение понимается как изменение, но согласно тому, что оно есть отношение, сотворенное является его субъектом, и первичнее его в бытии, поскольку субъект первичнее акциденции. Но оно имеет некоторое понятие первичности в части объекта, в отношении которого говорится, то есть как начало сотворенного. И однако не следует, чтобы до тех пор, пока сотворенное есть, говорилось «оно творится», поскольку творение подразумевает отношение сотворенного к творцу при некоторой новизне или изначальности.
Глава 4. Подобает ли быть сотворенным составным и субсистирующим вещам?
1. Кажется, что быть сотворенным не подобает составным и субсистирующим вещам. Ведь в «Книге о причинах» (4) говорится: «Первая из сотворенных вещей есть бытие». Но бытие сотворенной вещи не является субсистирующим. Следовательно, не подобает называть сотворенными субсистирующие и составные вещи.
«Книга о причинах», также ошибочно называемая «Книга Аристотеля о представлении чистого блага», создана неизвестным арабским автором (ок. IX в.) в виде откомментированных выдержек из «Начал теологии» неоплатоника Прокла (412–485) и переведена неизвестным переводчиком (возможно, Ричардом из Кремоны, XII в.) на латинский. Она состоит из тридцати двух положений, сопровожденных доказательствами или пояснениями. Фома Аквинский (знавший о подлинном истоке этой книги) цитировал ее более чем в 100 местах и составил к ней комментарий.
Субсистирующие вещи – самостоятельно существующие единичные вещи во всей их полноте, на которые мы можем указать, как на «это» или «то», в отличие от формы или акциденции, которые не могут существовать самостоятельно, без своего субъекта.
2. Кроме того, то, что творится, сотворено из ничего, составные же субстанции состоят не из ничего, а из своих составляющих. Следовательно, составным субстанциям не подобает быть сотворенными.
3. Кроме того, посредством первой эманации собственным образом производится то, что полагается в основу второй, подобно тому как природные вещи, которые полагаются за основу при действии искусства, производятся посредством порождения в природе. Но то, что полагается в основу порождения в природе, есть материя. Следовательно, то, что творится собственным образом, есть материя, а не составное.
Но против то, что говорится в первой главе Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю». Ведь небо и земля – составные субсистирующие вещи. Следовательно, творение сказывается о них надлежащим образом.
Отвечаю: следует сказать, что «быть сотворенным» значит некоторым образом «быть созданным», как было сказано (q. 44, a. 2, ad 2). «Быть созданным» же относится к бытию вещи. Поэтому «быть созданным» и «быть сотворенным» собственным образом подобает тому, чему подобает бытие. Оно же собственным образом подобает субсистирующим вещам, будь они простыми, как отделенные субстанции, или составными, как материальные субстанции. Ведь бытие собственным образом подобает тому, что имеет бытие, и таковы вещи, субсистирующие в своем бытии. Формы же, и акциденции, и все другое такого рода, называются сущими не так, как если бы они сами были, а потому, что нечто, к чему они относятся, существуют; так белизна называется сущей на том основании, что ее субъект бел. Поэтому, согласно Философу (Метафизика 1028a 8), об акциденции более надлежащим образом говорится «то, что относится к сущему», чем «сущее».
Итак, акциденции, формы и все такого рода, которое не субсистирует, скорее сосуществующие, чем сущие, таким образом скорее должны называться «сотворенными вместе» (concreata), чем сотворенными. Сотворенные же в собственном смысле суть субсистенции.
1. Итак, относительно первого следует сказать: когда говорится «первая из сотворенных вещей есть бытие», то слово «бытие» подразумевает не сотворенный субъект, но собственный смысл объекта творения. Ведь нечто называется сотворенным из-за того, что оно есть сущее, а не из-за того, что оно есть «это сущее», поскольку творение есть эманация всего бытия из универсального сущего, как было сказано (a. 1). И существует схожий способ высказывания, когда говорится, что первое видимое есть цвет, хотя то, что видится в собственном смысле, есть окрашенное.
2. Относительно второго следует сказать, что творение не означает установления составной вещи из прежде существующих начал, но составное называется сотворенным таким образом, что оно производится в бытие вместе со всеми своими началами.
3. Относительно третьего следует сказать, что этот довод доказывает не то, что творится только материя, а то, что материя существует только вследствие творения. Ведь творение есть произведение всего сущего, а не только материи.
Глава 5. Только ли Богу подобает творить?
1. Кажется, что не только Богу подобает творить, поскольку, согласно Философу (О душе, 415a 26; Метеорологика, 3980a 14), «совершенно то, что может создавать себе подобное». Но нематериальные творения более совершенны, чем материальные творения, которые могут создавать подобное себе, ведь огонь порождает огонь и человек порождает человека. Следовательно, нематериальная субстанция может создавать субстанцию, подобную себе. Но нематериальная субстанция может быть созданной только путем творения, поскольку не имеет материи, из которой создавалась бы. Следовательно, некое сотворенное может творить.
2. Кроме того, чем больше сопротивление со стороны созданного, тем большая сила требуется в создающем. Но противоположное сопротивляется больше, чем ничто. Следовательно, создание чего-либо из противоположного, которое осуществляет сотворенное, требует большей силы, чем создание чего-либо из ничего. Следовательно, сотворенное тем более может совершить творение.
3. Кроме того, сила созидающего рассматривается согласно мере того, что создается. Но сотворенное сущее конечно, как было доказано выше (q. 7, aa. 2, 3, 4), когда речь шла о бесконечности Бога. Следовательно, для произведения посредством творения чего-либо сотворенного требуется только конечная сила. Но обладание конечной силой не противоречит понятию творения. Следовательно, не является невозможным, чтобы сотворенное творило.
Но против то, что говорит Августин в третьей книге «О Троице» (3, 8): «Ни благие, ни злые ангелы не могут быть творцами какой-либо вещи». Следовательно, другие сотворенные еще менее.
Отвечаю: следует сказать, что достаточно ясно при первом рассмотрении, согласно предшествующему (a. 1), что творение может быть собственным действием только для Бога. Ведь надлежит, чтобы более универсальные действия возводились к более универсальным и более первичным причинам. Среди всех же действий наиболее универсально само бытие. Поэтому надлежит, чтобы оно было собственным действием первой и наиболее универсальной причины, то есть Бога. Поэтому и в «Книге причин» говорится: «И интеллигенция, и наша душа дает бытие лишь постольку, поскольку действует посредством божественного действия» (3). Производить же бытие в абсолютном смысле, а не коль скоро оно «это» или «то», относится к понятию творения. Поэтому ясно, что творение – это собственное действие самого Бога. Но случается, что нечто причастно собственному действию кого-либо другого не посредством собственной силы, а инструментально, поскольку действует в силу другого; так, медь посредством силы огня имеет способность нагревать и воспламенять. И согласно этому некоторые придерживаются мнения, что, хотя творение есть собственное действие универсальной причины, однако какая-либо из более низких причин, коль скоро она действует в силу первой причины, может творить. И так полагал Авиценна (Метафизика, 9, 4), что первая отделенная субстанция, сотворенная Богом, творит и другую, следующую за ней, и субстанцию мира, и его душу, а также что субстанция мира творит материю низших тел. И согласно этому же способу Учитель говорит в «Сентенциях» (IV, D, 5, q. 3), что Бог может сообщать сотворенному способность творения, чтобы творить посредством служителей, а не собственной власти. Но этого не может быть. Ведь вторая инструментальная причина причастна действию высшей причины лишь потому, что она действует посредством чего-либо, собственного для нее, придавая материи расположенность для произведения действия изначального действующего. Следовательно, если бы не совершалось ничего согласно тому, что является собственным для нее, то она напрасно употреблялась бы для действия, и не следовало бы, чтобы были определенные инструменты для определенных действий. Ведь мы видим, что топор, при разрубании дерева, к которому он способен из-за особенности своей формы, производит форму скамьи, то есть осуществляет собственное действие изначального деятеля. То же, что есть собственное действие творящего Бога, есть то, что полагается прежде всего другого, то есть – абсолютное бытие. Поэтому ничто не может создаваться посредством придания расположенности и инструментальным образом для совершения такого действия, если не предпосылается творение из ничего того, что могло бы быть расположенным посредством действия инструментального деятеля. Таким образом, следовательно, невозможно, чтобы какому-либо сотворенному подобало творить, ни собственной силой, ни инструментальным образом, ни как служителем. И прежде всего нелепо говорить о каком-либо теле, которое творило бы, поскольку всякое тело действует, лишь касаясь или приводя в движение, и, таким образом, требует в своем действии нечто предсуществующее, к чему можно было бы прикоснуться или что можно двигать, а это противоречит понятию творения.
Учитель – имеется в виду Петр Ломбардский (ум. 1160), богослов и философ, написавший труд «Сентенции» в четырех книгах, представляющий собой разбитые по вопросам выдержки из трудов Отцов Церкви, прежде всего Августина. Этот труд, по своему тематическому строению напоминающий «Сумму теологии», служил в качестве обязательного учебника в средневековых университетах, и существовало специальное научное звание, «бакалавр сентенций», для учителей, которые читали со студентами эту книгу. Фома Аквинский также занимался преподаванием «Сентенций» и составил к ним комментарий.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что нечто совершенное, причастное какой-либо природе, создает подобное себе, не производя эту природу в абсолютном смысле, а прилагая ее к чему-либо. Ведь этот конкретный человек не может быть причиной человеческой природы в абсолютном смысле, поскольку таким образом он был бы причиной себя самого, но он – причина того, что в этом конкретном порожденном человеке есть человеческая природа. И таким образом он предполагает в своем действии означенную материю, благодаря которой есть этот человек. Но как этот человек причастен человеческой природе, так и всякое сотворенное сущее причастно, я бы так сказал, природе бытия, поскольку только Бог есть Его бытие, как было сказано выше (q. 7, a. 1 et 2). Следовательно, никакое сотворенное сущее не может производить какое-либо сущее в абсолютном смысле, но лишь постольку, поскольку служит причиной бытия в этом конкретном нечто, и, таким образом, надлежит, чтобы прежде познавалось то, посредством чего нечто есть это конкретное нечто, чем действие, посредством которого оно создает подобное себе. В сфере же нематериальных субстанций не может быть прежде обнаружено нечто, посредством чего она есть эта конкретная субстанция, поскольку она такова благодаря своей форме, посредством которой имеет бытие, ведь нематериальные субстанции суть субсистирующие формы. Следовательно, нематериальная субстанция может произвести другую нематериальную субстанцию, подобную себе, не в отношении ее бытия, а в отношении некоторого добавочного совершенства; как если мы говорим, что более высший ангел просвещает низшего, как говорит Дионисий (О небесной иерархии, 4, 10). Согласно этому способу также осуществляется отечество в небесных сущностях, как явствует из слов Апостола в Послании к Ефесянам (3, 15): «От Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». И из этого также с очевидностью явствует, что никакое сотворенное сущее не может быть причиной чего-либо, если не прежде не положено нечто. Что противоречит понятию творения.
Фома Аквинский использует оппозицию означенная/неозначенная материя: означенная существует в определенных измерениях, имеет определенную высоту, длину и ширину, определена в пространстве и времени. В понятии человека также наличествует представление о том, что он – материальное существо, имеющее кости и плоть, но эта материальность понимается неопределенно. Таким образом, Сократ отличается от человека вообще означенностью материи, «этой костью» и «этой плотью». Поскольку материя сама по себе никак не определена, она становится означенной не из своей собственной природы, а от формы.
2. Относительно второго следует сказать: нечто создается из противоположного акцидентальным образом, как говорится в первой книге «Физики» (190b 27), сущностным же образом нечто создается на основании субъекта, который существует потенциально. Следовательно, противоположное сопротивляется действующему, поскольку препятствует потенции перейти в акт, в который стремится ввести его деятель; так огонь стремится привести материю воды в акт, подобный себе, но ему препятствует форма и противоположные расположенности, которыми его потенция как бы сковывается и не осуществляется в действии. И чем более будет скована потенция, тем большая сила требуется в действующем для возведения потенции в акт. Поэтому если изначально не существует никакой потенции, то требуется, чтобы в действующем была еще большая потенция. Таким образом, ясно, что гораздо большая сила требуется, чтобы создать нечто из ничего, чем при создании из противоположного.
3. Относительно третьего следует сказать, что сила созидающего рассматривается не только на основании созданной субстанции, но также на основании способа созидания, ведь большее тепло нагревает не только сильнее, но и быстрее. Следовательно, хотя творение некоторого конечного действия не указывает на бесконечное могущество, однако творение его из ничего указывает на бесконечное могущество. Это явствует из сказанного выше (ad 2). Ведь если для действующего требуется тем большая сила, чем более потенция удалена от акта, то надлежит, чтобы сила действующего без какой-либо прежде существующей потенции, каковым действующим является творящий, была бы бесконечной, поскольку нет никакой соразмерности между отсутствием всякой потенции и какой-либо потенции, которую предполагает сила действующего в природе, как и между не-сущим и сущим. И поскольку никакое сотворенное не обладает абсолютным бесконечным могуществом, как и бесконечным бытием, как было доказано выше (q. 7, a. 2), то остается, что никакая тварь не может творить.
Глава 8. Примешивается ли творение в действия природы и искусства?
1. Кажется, что творение примешивается в действиях природы и искусства. Ведь в каком-либо действии природы и искусства производится некоторая форма. Но она не производится из чего-либо, поскольку не имеет материю в качестве своей части. Следовательно, она производится из ничего. И таким образом в каком-либо действии природы и искусства есть творение.
2. Кроме того, действие не может быть могущественнее причины. Но в природных вещах не обнаруживается что-либо действующее, помимо акцидентальной формы, которая есть активная или пассивная форма. Следовательно, субстанциальная форма не производится посредством действия природы. Следовательно, остается, чтобы она возникала посредством творения.
3. Кроме того, природа создает подобное себе. Но в природе обнаруживается нечто, порожденное чем-то неподобным себе, как явствует в отношении животных, порожденных в результате гниения. Следовательно, их форма существует не от природы, а от творения. И тот же довод относительно других сущих.
Начиная с Античности и вплоть до опытов Пастера (1862) существовало мнение, что некоторые формы примитивной жизни могут самозародиться в результате гниения материи.
4. Кроме того, то, что не творится, не является творением. Следовательно, если к тем вещам, которые существуют от природы, не присоединяется творение, то следует, чтобы вещи, существующие от природы, не являются творениями, что является еретическим положением.
Но против: Августин в «Комментарии на Книгу Бытия» (5, 6) отличает действие роста, которое является действием природы, от действия творения.
Отвечаю: следует сказать, что это сомнение возникает из-за того, что некоторые, признающие существование скрытых форм, считали, что есть формы, которые не имеют начала от действия природы, а скорее возникли в материи. И так казалось им из-за незнания материи, поскольку они не умели делать различия между потенцией и актом; ведь из-за того, что формы потенциально предсуществуют в материи, они полагали, что те предсуществуют просто.
Другие же полагали, что формы придаются или причиняются по способу творения неким отделенным от материи агентом. И согласно этому к любому действию природы примешивается творение. Но так казалось им из-за незнания формы. Ведь они не учитывали то, что форма естественного тела это не то, что субсистирует само по себе, а то, что наделяет нечто бытием. Поскольку же существовать и быть сотворенными подобает только субсистирующей вещи, как было сказано выше (а. 4), то формам свойственно не возникать и не быть сотворенными, а быть созданными вместе с субсистирующей вещью.
То же, что собственно происходит от природного деятеля, является составленным, возникающим из материи. Поэтому к действию природы творение не примешивается, но предпосылается ему.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что формы начинают существовать актуально тогда, когда создано составное, так что они существуют не сами по себе, а только акцидентальным образом.
2. Относительно второго следует сказать, что в природе активные качества действуют в силу субстанциальных форм. И поэтому естественное действующее производит подобное себе не только по качеству, но и по виду.
3. Относительно третьего следует сказать, что для порождения несовершенных животных достаточно универсального действующего, то есть небесной силы, которой они уподобляются не согласно виду, но согласно некоторой аналогии, и не следует говорить, что их формы творятся отделенным действующим. Для порождения же совершенных животных недостаточно универсального действующего, но требуется надлежащий частный деятель, который порождает унивокальным образом.
4. Относительно четвертого следует сказать, что действие природы существует только благодаря предсуществованию сотворенных начал, и в этом смысле то, что возникает посредством природы, называется творением.
Вопрос 47. О различии вещей в целом
После рассмотрения того, как сотворенные вещи получили бытие, следует рассмотреть их различие. И это рассмотрение будет в трех частях. Во-первых, мы рассмотрим различие вещей в целом (q. 47), во-вторых, различие блага и зла (qq. 48–49), в-третьих, различие духовных и телесных творений (q. 50).
Относительно первого имеются три вопроса:
(1) О самой множественности вещей или об их различии.
(2) Об их неравенстве.
(3) О единстве мира.
Глава 1. От Бога ли множественность и различие вещей?
1. Кажется, что множественность и различие вещей происходит не от Бога. Ведь единое всегда должно порождать единое. Но Бог един в наибольшей степени, как ясно из предшествующего (q. 11, a. 4). Следовательно, он производит только одно сотворенное.
2. Кроме того, то, что является произведенным по прообразу, уподобляется своему прообразу. Но Бог является причиной и прообразом произведенного им, как было сказано выше (q. 44, a. 3). Следовательно, поскольку Бог един, то и произведенное им только едино, а не различно.
3. Кроме того, то, что существует ради цели, сообразуется с целью. Но цель творения едина, то есть божественная благость, как выше было показано (q. 44, a. 4). Следовательно, Бог произвел только едино.
Но против то, что говорится в Книге Бытия (Быт. 1. 4, 7), – что Бог отделил свет от тьмы и отделил воды от вод. Следовательно, различие и множественность вещей существует от Бога.
Отвечаю: следует сказать, что причину множественности вещей определяли различными образами. Некоторые атрибутировали ее материи: или только материи, или вместе с действующим началом. Одной материи – такие как Демокрит и все древние натурфилософы, полагающие только материальную причину; согласно которым различие вещей происходит по случаю, соответственно движению материи. Материи же и действующему началу одновременно атрибутировал различие и множественность Анаксагор, который полагал, что ум привносит различие в вещи, выделяя то, что было перемешано в материи.
Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 до н. э.) – древнегреческий философ, математик и астроном, последователь ионийской и основатель афинской школы философии. Согласно Анаксагору, мир состоит из бесконечного числа подобочастных семян, смешанных в беспорядке, которые привел в движение, внезапно пробудившись, космический Ум, в результате чего образовался порядок и были сотворены вещи. Фома Аквинский знал о философии Анаксагора (как и других натурфилософов) из изложения, сделанного в «Метафизике» Аристотелем.
Но это мнение не может устоять по двум причинам. Во-первых, поскольку выше было показано (q. 44, a. 2), что сама материя также сотворена Богом. Поэтому надлежит, чтобы и различие, если оно происходит из-за материи, возводилось бы к более высокой причине. Во-вторых, поскольку материя существует благодаря форме, а не наоборот. Различие же вещей существует из-за их собственных форм. Следовательно, различие в вещах существует не из-за материи, а скорее наоборот, в сотворенной материи есть бесформенность, так, чтобы она была приспособлена для всех форм.
Некоторые же атрибутировали различие вещей вторичным деятелям. Как, например, Авиценна, который говорил, что Бог, познавая себя, производит первую интеллигенцию, в которой, поскольку она не есть свое бытие, с необходимостью происходит соединение потенции и акта, как будет ясно ниже (q. 50, a. 3). Следовательно, первая интеллигенция, коль скоро она познает первую причину, произвела вторую интеллигенцию, а та, коль скоро она познает себя согласно тому, что находится в потенции, произвела тело неба, которое движет, коль скоро же познает себя согласно тому, что имеет актуально, произвела душу неба.
Но это мнение не может устоять по двум причинам. Во-первых, выше было показано (q. 45, a. 5), что творить присуще только Богу. Поэтому то, что не может быть произведено причиной иначе как посредством творения, производится только от Бога, и таково все, что не подлежит порождению и разрушению. Во-вторых, поскольку согласно этому мнению общность вещей происходила бы не из намерения первого действующего, а из схождения многих действующих причин. Такое же происхождение мы называем случайным. Таким образом, следовало бы, что завершенность общего, которая состоит в различии вещей, была бы случайной, что невозможно.
Поэтому следует сказать, что различие и множественность вещей существуют согласно намерению первого действующего, то есть Бога. Он же произвел вещи в бытие из-за Своей благости, которая должна передаваться творениям и быть явленной в них. И поскольку Его благость не может быть достаточным образом представлена одним творением, Он произвел многие и различные творения, чтобы то, чего недостает одному для представления божественной благости, восполнялось другим, ведь благость, которая существует в Боге простым и единообразным способом, в творениях существует множественным и различным образом. Поэтому весь универсум причастен божественной благости и представляет ее более совершенно, чем какое-либо другое творение. И поскольку причина различия вещей происходит от божественной мудрости, то Моисей говорит, что вещи различны по слову божьему, которое есть восприемница мудрости. И это – то, что говорится в Книге Бытия (Быт.1, 3–4): «Сказал Бог: да будет свет. И отделил свет от тьмы».
1. Итак, относительно первого следует сказать: тот, кто действует посредством природы, действует посредством формы, благодаря которой он есть; у одного же действующего только одна форма, и потому он действует только единым образом. Действующий же свободно, каковым является Бог, как выше было показано (q. 19, a. 4), действует посредством мысленной формы. Следовательно, поскольку то, что Бог познает многое, не противоречит Его единству и простоте, как выше было показано (q. 15, a. 2), то остается заключить, что хотя Он един, Он может производить многое.
2. Относительно второго следует сказать, что это рассуждение имело бы силу относительно того, что произведено по прообразу и в совершенстве представляет прообраз, умножающийся только материально. Поэтому несотворенный образ, который является совершенным, есть только один. Но никакое творение не представляет первый прообраз, то есть божественную сущность, совершенно. И поэтому она должна быть представлена многими. И, однако, согласно тому, что идеи называются прообразами, то множественности вещей соответствует множественность идей в божественном уме.
3. Относительно третьего следует сказать, что в теоретических науках средняя посылка доказательства, которое совершенно доказывает заключение, есть только одна, но средних вероятностных существует много. И, схожим образом, в практических науках, коль скоро то, что есть, ради цели сообразуется, как мы сказали бы, с целью, требуется, чтобы оно было только одно. Но творение не так относится к своей цели, то есть Богу. Поэтому надлежит, чтобы творения умножались.
Глава 2. Происходит ли неравенство вещей от Бога?
1. Кажется, что неравенство вещей не происходит от Бога. Ведь наилучшему свойственно быть причиной наилучшего. Но среди наилучших одно не является лучшим, чем другое. Следовательно, Богу, который является наилучшим, свойственно создавать все равным.
2. Кроме того, равенство – действие единства, как говорится в пятой книге «Метафизики» (Аристотель, 1021а 12). Но Бог является единым. Следовательно, он создает все равным.
3. Кроме того, справедливости свойственно воздавать неравному неравное. Но Бог справедлив во всех Своих действиях. Следовательно, поскольку Его действию, которым Он сообщает бытие вещам, не предпосылается некоторое неравенство вещей, то кажется, что Он создает все равным.
Но против то, что говорится в книге Екклезиастика (Сир. 33, 7): «Почему день превосходит день, и также свет превосходит свет, и год – год, и солнце – солнце? Они разделены мудростью Божьей».
Отвечаю: следует сказать, что Ориген, желая исключить мнение тех, кто полагает различие в вещах происходящим из-за противоположности благого и злого начал, считал, что изначально все сотворенное Богом равно (О началах, 6). Так, он говорит, что Бог сначала сотворил только разумные творения, и все равными, в которых сперва возникло неравенство из-за свободного выбора, когда некоторые обратились к Богу в большей или меньшей степени, некоторые же в большей или меньшей степени от Бога отвратились. Следовательно, те разумные творения, которые вследствие свободного выбора были обращены к Богу, были возвышены в различных чинах ангелов, по различию заслуг. Те же, что отвратились от Бога, были заключены в различные тела, в соответствии с различием грехов, и Ориген называет это причиной сотворения и различия тел. Но согласно этому совокупность телесных творений существует не благодаря благости Бога, которая должна быть сообщена творениям, а для наказания греха. Это противоречит тому, что говорится в Книге Бытия (Быт. 1, 31.): «Увидел Бог все, что он сотворил, и было оно весьма хорошо». И когда Августин говорит в одиннадцатой книге «О граде Божием» (11, 23): «Что может быть сказано более глупого, чем то, что Бог Создатель сотворил это солнце, поскольку в одном мире оно одно, не из-за достоинства красоты или благости телесных вещей, а скорее это произошло из-за того, что одна душа так согрешила? А из-за того, что согрешили бы сто душ, то в этом мире было бы сто солнц?».
Ориген (185–254), христианский философ и богослов, испытавший большое влияние неоплатонизма. Многие его положения были признаны еретическими, и Фома Аквинский также подвергал их критике (учения о предсуществовании душ, об их акцидентальном соединении с телом, о том, что люди воскреснут в некотором духовном теле, которое будет существенно видоизменено и др.), но вместе с тем принимал другие положения (отвержение прямого воздействия дьявола на нашу волю). Но даже опровергая ту или иную позицию, Фома Аквинский старается объяснить, почему Ориген впал в то или иное, как ему представляется, заблуждение, как в данной главе: идея о том, что Бог сотворил все субстанции равными, возникла у Оригена потому, что он желал опровергнуть манихейское и гностическое утверждение, согласно которому различия субстанций являются причиной борьбы благого и злого начал.
И потому следует сказать, что Божья мудрость является причиной как различия вещей, так и их неравенства. Это делается ясным таким образом: ведь в вещах обнаруживается двойное различие, одно – формальное, в тех вещах, которые относятся к различным видам; другое же – материальное, в тех, которые различаются только нумерически. Но поскольку материя существует благодаря форме, то материальное различие существует благодаря формальному. Поэтому мы видим, что в неразрушимых вещах есть только один индивид одного вида, поскольку вид достаточным образом сохраняется в одном индивиде, в порождаемых же и разрушимых существуют многие индивиды одного вида для сохранения вида. Из этого ясно, что формальное различие является более изначальным, чем материальное. Формальное же различие всегда требует неравенства, поскольку, как говорится Аристотелем в восьмой книге «Метафизики» (1043b 34), формы вещей подобны числам, в которых вид изменяется из-за прибавления или отнятия единицы. Поэтому представляется, что в природных вещах виды упорядочены по степеням; так, смешанные из элементов тела более совершенны, чем элементы, растения – чем минеральные тела, животные – чем растения и люди – чем другие живые существа, а в отдельных из них один вид оказывается более совершенным, чем другой. Следовательно, божественная мудрость является причиной как различия вещей ради совершенства целого, так и их неравенства. Ведь не было бы совершенного целого, если бы в вещах обнаруживалась только одна степень совершенства.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что наилучшему действующему свойственно производить сотворенное им наилучшим, однако не так, чтобы он просто делал бы какую-либо часть целого наилучшей, но наилучшей согласно соразмерности с целым, ведь благость живого существа убавилась бы, если бы всякая его часть имела бы достоинство глаза. Таким образом, следовательно, Бог устанавливает весь универсум наилучшим образом, согласно модусу творения, не каждое единичное творение наилучшим образом, а одно лучше других. И потому в Книге Бытия говорится о единичных творениях (Быт. 1, 4): «Увидел Бог свет, что он хорош», и схожим образом о единичных творениях, но обо всех одновременно, говорится (Быт. 1, 31): «Увидел Бог то, что он сотворил, и что было оно весьма хорошо».
2. Относительно второго следует сказать, что первое, что происходит от единства, есть равенство, и затем происходит множественность. И потому от Отца, которому, согласно Августину (О христианском учении, 1, 5), аппроприируется единство, произошел Сын, которому аппроприируется равенство, и затем творение, которому подобает неравенство. Однако даже творения причастны некоторому равенству, а именно пропорции.
3. Относительно третьего следует сказать, что это тот довод, который убедил Оригена, однако он имеет силу только в отношении распределения наград, неравенство которых обусловлено неравными заслугами. Но в установлении вещей неравенство частей существует не из-за какого-либо предшествующего неравенства, или заслуг, или же расположенности материи, а ради совершенства целого. Что ясно также в случае творений искусства, ведь стена отличается от фундамента не из-за того, что они имеют различную материю, но ради того, чтобы дом был создан из различных частей, мастеру требуется разная материя, и он создавал бы ее, если бы мог.
Глава 3. Существует ли только один мир?
1. Кажется, что существует не один только мир, а многие. Ведь, как говорит Августин в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (46), «нелепо говорить, что Бог сотворил вещь без основания». Но на том же основании, посредством которого Он сотворил одно, Он смог сотворить многое, поскольку Его способность не имеет пределом сотворение одного мира, но является бесконечной, как выше было показано (q. 25, a. 2). Следовательно, Бог произвел многие миры.
2. Кроме того, даже природа производит то, что является наилучшим, а тем более – Бог. Но лучше быть многим мирам, чем одному, поскольку многие блага лучше менее численных. Следовательно, Богом произведены многие миры.
3. Кроме того, все, что имеет форму в материи, может численно умножаться, сохраняя тот же вид, поскольку численное умножение происходит от материи. Но мир имеет форму в материи, как, например, когда я говорю «человек», то обозначаю форму, когда же я говорю «этот человек», то обозначаю форму в материи; и таким же образом, когда говорят «мир», обозначают форму, когда же говорят «этот мир», то обозначают форму в материи. Следовательно, ничто не препятствует тому, чтобы существовали многие миры.
Но против то, что говорит Иоанн (Ин. 1, 10): «Им сотворен мир»; там он называет мир в единственном числе, как если бы существовал только один мир.
Отвечаю: следует сказать, что сам порядок, существующий в вещах, сотворенных так Богом, являет единственность мира. Ведь этот мир называется единым из-за единства порядка, согласно которому нечто упорядочивается по отношению ко другому. Ведь все, что существует от Бога, имеет некоторый порядок по отношению друг к другу и к самому Богу, как было показано выше (q. 11, a. 3; q. 21, a. 1). Поэтому необходимо, чтобы все вещи относились к одному миру. И поэтому полагать множество миров могли те, которые полагали в качестве причины мира не некоторую упорядочивающую мудрость, а случай, как Демокрит, который говорил, что этот мир и бесчисленные другие созданы столкновением атомов.
1. Итак, относительно первого надлежит сказать, что основанием единственности мира является то, что все вещи должны быть упорядочены посредством единого порядка и по отношению к единому. Поэтому Аристотель в двенадцатой книге «Метафизики» из единства порядка в вещах выводит единство управляющего Бога (1076a 4). И Платон из единства прообраза доказывал единство мира как произведенного по прообразу.
2. Относительно второго следует сказать, что никакое действующее не направлено на материальную множественность как на цель, поскольку материальная множественность не имеет точного предела, но распространяет себя в бесконечность; бесконечность же противоречит понятию цели. Ведь когда говорится, что многие миры «лучше», чем один, то это говорится согласно материальной множественности. Но такое «лучшее» не относится к намерению действующего Бога, поскольку на том же основании можно было бы сказать, что если он создал два, то было бы лучше, если бы было три, и так до бесконечности.
3. Относительно третьего следует сказать, что мир состоит из всей своей материи. Ведь невозможно, чтобы была иная Земля, чем эта, поскольку всякая Земля, где бы она ни была, естественным образом стремится к тому, чтобы располагаться посередине. И тот же довод относится к другим небесным телам, которые являются частями мира.
Человек
Человек, согласно Фоме, занимает уникальное положение во вселенной: между регионом чисто интеллектуальных существ, ангелов (о котором идет речь в вопросах 50–64 в первой части «Суммы теологии») и регионом земных творений, не наделенных интеллектом (которому посвящены 65–74-й вопросы), располагаются человеческие существа (вопросы 75–102), «пребывающие как бы в горизонте вечности и времени» («Сумма против язычников», II 81). Человек как бы смыкает собой величественное творение Бога – мироздание. Это срединное местоположение позволяет его душе быть одновременно в двух планах – как в сфере вечного и неизменного, так и в сфере становления. Однако, согласно Фоме, душа еще не весь человек и не является ипостасью или личностью. «Душа объединяется с телом как форма с материей, поэтому душа есть часть человеческой природы, а не некая природа сама по себе… душа, отделенная от тела, не может называться «личностью» (Комментарий на «Сентенции» Петра Ломбардского I d. 5, q. 3, a.). Так же решительно Фома возражает против учения о предсуществовании души телу или переходе ее из одного тела в другое после смерти.
Вопрос 75. О сущности души
Глава 6. Разрушима ли человеческая душа?
1. Кажется, что человеческая душа разрушима. Ведь то, что имеет подобное начало и течение жизни, по-видимому, имеет подобный конец. Но начало порождения людей подобно началу скотов, поскольку они сотворены из земли. И течение жизни подобно у тех и других, потому что одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, как сказано у Екклезиаста (Еккл. 3, 19). Поэтому, как заключается там же, гибель людей и скотов – одна. Но душа животных – разрушима. Следовательно, и человеческая душа – разрушима.
2. Кроме того, все, что сотворено из ничего, возвращается в ничто, поскольку конец должен соответствовать началу. Но, как сказано в Книге Премудрости (2, 2), мы рождены из ничего, что истинно не только относительно тела, но также относительно души. Следовательно, как заключается там же, после будем как небывшие, даже относительно души.
3. Кроме того, никакая вещь не существует без свойственного ей действия. Но действие, свойственное душе, которая должна мыслить посредством фантасмов, не может осуществляться без тела. Ведь душа не мыслит ничего без чувственных образов, а чувственных образов нет без тела, как говорится в первой книге «О душе» (Аристотель, 403а 9). Следовательно, душа не остается после разрушения тела.
Но против этого то, что говорит Дионисий в четвертой главе «О божественных именах» (4, 2), что человеческие души получили от божественной благости то, что они интеллектуальны, и то, что они имеют «неразрушимую субстанциальную жизнь».
Отвечаю: следует сказать, что интеллектуальное начало, которое называется человеческой душой, – неразрушимо.
Ведь нечто разрушается двумя способами – во-первых, сущностно и во-вторых, акцидентально. Но невозможно ни для чего субсистентного быть порожденным или разрушенным акцидентально, то есть из-за порождения или разрушения чего-то другого. Ведь порождение и разрушение подобает чему-то так, как ему подобает бытие, которое приобретается посредством порождения и утрачивается при разрушении. Поэтому все, что имеет существование сущностным образом, может быть порождено или разрушено только сущностным образом, в то время как о том, что не субсистирует (как то акциденции и материальные формы), говорится, что оно возникает или разрушается посредством порождения или разрушения составных вещей. Но выше сказано (q. 2, a. 3), что сущностным образом субсистентна не душа животного, но только человеческая душа; так что души животных разрушаются, когда разрушаются их тела, в то время как человеческая душа могла быть разрушена, только если она была бы разрушена сущностным образом. Разумеется, это невозможно не только относительно ее, но также относительно всего субсистентного, что есть только форма. Из этого ясно: то, что соответствует чему-то согласно ему самому, неотделимо от него, но существование принадлежит форме, которая есть акт, сущностным образом. Следовательно, материя приобретает актуальное существование, поскольку она получает форму; разрушение же в ней случается потому, что форма отделяется от нее. Но невозможно, чтобы форма отделилась от себя самой; и поэтому невозможно для субсистентной формы прекратить существовать.
Но даже допуская, что душа составлена из материи и формы (как утверждают некоторые), тем не менее должно полагать, что она неразрушима. Ведь разрушение находится только там, где есть противоположности, так как порождение и разрушение суть из противоположного и в противоположном. Поэтому небесные тела, так как они не имеют материю, подлежащую противоположностям, – неразрушимы. Но в интеллектуальной душе не может иметься никакой противоположности, поскольку она все воспринимает согласно способу своего бытия, все в ней воспринимается без противоположности, поскольку понятия противоположного в интеллекте не суть противоположности, ведь противоположности познаются одним и тем же знанием. Поэтому невозможно, чтобы интеллектуальная душа была разрушимой.
Можно также получить свидетельство этого из того, что все естественно стремится к бытию согласно собственному способу. Но в вещах, которые обладают знанием, желание следует знанию. Чувства не знают иного бытия, чем при условиях «здесь» и «теперь», но интеллект постигает бытие абсолютно, соответственно всему времени; поэтому все, что обладает интеллектом, естественно желает быть всегда. Но естественное желание не может быть тщетно. Поэтому всякая интеллектуальная субстанция неразрушима.
1. Относительно первого следует сказать, что Соломон приводит этот довод от персоны глупца, как видно из Книги Премудрости. Поэтому сказанное, что человек и другие животные имеют подобное начало в порождении, истинно относительно тела, поскольку все животные подобным образом сделаны из земли. Но это неистинно относительно души. Ведь души животных произведены силой некоторого тела, в то время как человеческая душа сотворена Богом. Чтобы показать это, в Книге Бытия (1, 24) говорится относительно других животных: «Да произведет земля душу живую», в то время как относительно человека говорится (2, 7): «И вдунул в лице его дыхание жизни». И так в последней главе Екклезиаста (12, 7) заключается: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его». И, сходным образом, течение жизни у людей и животных подобно в отношении тела, о котором говорится (Еккл.3, 19) «одно дыхание у всех» и (Прем. 2, 2) «дыхание в ноздрях наших – дым» и так далее. Но течение их жизни не подобно относительно души, поскольку человек – мыслит, а животные – нет. Следовательно, ложно говорится: «Человек не обладает чем-то большим, нежели животные». Следовательно, смерть их подобна относительно тела, но не относительно души.
2. Относительно второго следует сказать, что, подобно тому как говорится, что нечто не может быть создано пассивной способностью, но только активной способностью Творящего, Который может производить нечто из ничего, так и когда говорится, что нечто может быть обращено в ничто, то подразумевается не способность к небытию в сотворенном, но способность в Создателе к тому, чтобы не поддерживать бытие сотворенного. Но говорится, что нечто разрушимо, потому что ему присуща потенция к небытию.
3. Относительно третьего следует сказать, что мыслить посредством чувственных образов – действие, свойственное душе на основании того, что она объединена с телом. После отделения от тела она будет иметь другой способ мышления, подобно другим субстанциям, отделенным от тел, как будет показано позже (q. 89, a. 1).
Вопрос 76. О единении души с телом
Глава 1. Соединяется ли интеллектуальная душа с телом как форма?
1. Кажется, что интеллектуальные начала не объединяются с телом как форма. Ведь Философ говорит в третьей книге «О душе» (429b 5), что интеллект является отделенным и что он не является актом какого-либо тела. Следовательно, он не объединяется с телом как форма.
2. Кроме того, всякая форма определяется согласно природе материи, чьей формой она является, иначе не требовалась бы пропорция между материей и формой. Следовательно, если бы интеллект объединялся с телом как форма, а всякое тело имеет определенную природу, то следовало бы, что интеллект имеет определенную природу. И, таким образом, он не был бы познающим все (в соответствии со сказанным выше (q. 75, а. 2)), что противоречит понятию интеллекта. Следовательно, интеллект не объединяется с телом как форма.
3. Кроме того, всякая воспринимающая способность есть акт какого-либо тела и воспринимает форму материальным и индивидуальным образом, поскольку восприятие осуществляется в воспринимающем по способу воспринимающего. Но форма познаваемой вещи воспринимается интеллектом не материальным и индивидуальным образом, а скорее нематериальным и универсальным, в противном случае интеллект, подобно чувству, обладал бы способностью познавать не нематериальное и универсальное, но только единичное. Следовательно, интеллект не объединяется с телом как форма.
4. Кроме того, способность и действие относятся к одному и тому же, ведь то, что может действовать, и то, что действует, – одно и то же. Но интеллектуальное действие не относится к какому-либо телу, как явствует из сказанного выше (q. 75, a. 2). Следовательно, и интеллектуальная способность не является способностью какого-либо тела. Но сила или способность не может быть более отделенной или более простой, чем сущность, от которой производятся сила или способность. Следовательно, и субстанция интеллекта не является формой тела.
5. Кроме того, то, что имеет бытие само по себе, не объединяется с телом как форма, поскольку форма есть то, посредством чего нечто есть, и, таким образом, бытие формы не относится к форме самой по себе. Но интеллектуальное начало имеет бытие само по себе и является субсистирующим, как было сказано выше (q. 75, a. 2). Следовательно, оно не объединяется с телом как форма.
6. Кроме того, то, что присуще какой-либо вещи самой по себе, присуще ей всегда. Но форме самой по себе присуще быть объединенной с материей, ведь она является актом материи не акцидентальным образом, а по своей сущности, в противном случае из материи и формы возникало бы не субстанциально, а акцидентально единое. Следовательно, форма не может быть без собственной материи. Но интеллектуальное начало, поскольку оно неразрушимо, как было показано выше (q. 75, a. 6), остается не объединенным с телом, когда тело разрушено. Следовательно, интеллектуальное начало не объединяется с телом как форма.
Но против: согласно Философу, в восьмой книге «Метафизики» (1043a 19), отличительный признак берется от формы вещи. Но отличительный признак, устанавливающий вид человека, есть «разумное», что говорится о человеке на основании интеллектуального начала. Следовательно, интеллектуальное начало есть форма человека.
Отвечаю: следует сказать, что интеллект, который есть начало интеллектуального действия, является формой человеческого тела. Ведь то, посредством чего нечто действует первично, есть его форма, которой атрибутируется это действие, подобно тому как то, посредством чего тело первично делается здоровым, есть здоровье, и то, посредством чего душа первично познает, есть познание; поэтому здоровье есть форма тела, а познание – души. И это происходит на том основании, что ничто не действует иначе, чем согласно тому, что оно актуально, и то, благодаря чему оно действует, есть то, благодаря чему оно актуально. Но очевидно, что то первичное, благодаря чему тело живет, есть душа. И поскольку жизнь обнаруживается в различных степенях жизни согласно различным действиям, то начало, посредством которого мы первично совершаем какое-либо из этих действий жизни, есть душа, ведь душа есть первое, посредством чего мы питаемся, и чувствуем, и перемещаемся, а также то, посредством чего мы познаем. Следовательно, то начало, посредством которого мы первично познаем и которое называется интеллектом, или познающей душой, есть форма тела. И таково доказательство Аристотеля во второй книге «О душе» (414a 12).
Но если кто-либо хочет сказать, что познающая душа не есть форма тела, то надлежит, чтобы он изыскал способ, которым то действие, которое есть познание, было бы действием этого конкретного человека, ведь всякий знает из опыта, что он сам есть тот, кто познает. Но какое-либо действие атрибутируется чему-либо трояко, что проясняется Философом в пятой книге «Физики» (224a 31), ведь говорится, что нечто движется или действует или согласно себе целиком, как лечит врач, или согласно части, как человек видит посредством глаза, или акцидентально; так, говорится, что белый строит, поскольку строителю случилось быть белым. Следовательно, когда мы говорим, что Сократ или Платон познает, очевидно, что познание не атрибутируется им акцидентально, но атрибутируется им, коль скоро они – люди (что есть сущностная предицикация). Следовательно, надлежит говорить, или что Сократ познает целиком согласно себе, как полагал Платон, говоря, что человек есть разумная душа, или следует говорить, что интеллект есть некоторая часть Сократа. Первого же быть не может, как выше было показано (q. 75, a. 4) из-за того, что один и тот же человек есть тот, кто охватывает собой и познание, и чувство, чувства же нет без тела, поэтому надлежит, чтобы тело было некоторой частью человека. Следовательно, остается, что интеллект, посредством которого Сократ познает, есть некоторая часть Сократа, и, таким образом, интеллект как-либо объединяется с телом Сократа. И Комментатор говорит в комментарии на третью книгу «О душе», что это соединение происходит посредством умопостигаемых видов, которые имеют двойного носителя, то есть один – возможностный интеллект, и другой – фантасмы, которые есть в телесных органах. И, таким образом, посредством умопостигаемых видов возможностный интеллект соединяется с телом того или этого человека. Но это соединение или единство не является достаточным для того, чтобы действие интеллекта было бы действием Сократа. И это ясно благодаря сравнению с чувством, от которого Аристотель приходит к рассмотрению того, что суть интеллекты. Ведь фантасмы так относятся к интеллекту, как цвета к зрению, как говорится в третьей книге «О душе» (431a 14). Следовательно, как виды цвета есть в зрении, так виды фантасмов есть в возможностном интеллекте. Ясно же, что из-за того, что цвета, подобие которых есть в зрении, находятся в стене, действие зрения не атрибутируется стене, ведь мы не говорим, что стена видит, но скорее – что стена является видимой. Следовательно, из-за того, что виды фантасмов есть в возможностном интеллекте, следует не то, что Сократ, в котором находятся фантасмы, познает, а то, что те или эти фантасмы являются познаваемыми.
Некоторые же стремились утверждать, что интеллект соединяется с телом как двигатель, и это составленное из интеллекта и тела является единым, чтобы действие могло атрибутироваться целому. Но это бессмысленно по многим основаниям. Первое – поскольку интеллект не движет тело иначе, как посредством желания, движение которого предполагает действие интеллекта. Следовательно, не Сократ познает потому, что движим интеллектом, но скорее наоборот, Сократ движим интеллектом, поскольку он познает. Второе – поскольку Сократ есть некоторый индивид, в природе которого одна сущность, составленная из материи и формы; и если бы интеллект не был его формой, то следовало бы, чтобы он был вне его сущности, и тогда интеллект относился бы к целому Сократу как двигатель к движимому. Но познание есть действие, покоящееся в действующем, но не переходящее в другое, как нагревание. Следовательно, познание не может быть атрибутировано Сократу из-за того, что он движим интеллектом. Третье – поскольку действие движущего никогда не атрибутируется движимому иначе, как инструменту, подобно тому, как действие плотника – пиле. Следовательно, если познание атрибутируется Сократу, то, поскольку оно есть действие того, что его движет, следовало бы, чтобы оно атрибутировалось ему как инструменту. И это противоречит Философу, который утверждает, что познание не осуществляется посредством телесного инструмента. Четвертое – поскольку, хотя действие части атрибутируется целому, как действие глаза – человеку, однако оно никогда не атрибутируется другой части, кроме как, пожалуй, случайно, ведь мы не говорим, что рука видит из-за того, что видит глаз. Следовательно, если бы единое возникло бы из-за объединения интеллекта и Сократа указанным образом, то действие интеллекта не могло бы быть атрибутированным Сократу. Если же Сократ есть целое, которое слагается из объединения интеллекта с остальными частями, которые относятся к Сократу, и, однако, интеллект объединяется с остальными частями, которые относятся к Сократу только как двигатель, то следовало бы, чтобы Сократ не был единым просто, и, следовательно, не был сущим просто; ведь нечто есть сущее таким же образом, каким оно едино. Следовательно, остается один способ, который полагает Аристотель: этот человек познает, поскольку познающее начало есть его форма. Следовательно, из самого действия интеллекта явствует, что познающее начало соединяется с телом как форма. Это же может быть доказанным из понятия человеческого вида. Ведь природа какой-либо вещи указывается исходя из ее действия. Собственное же действие человека, коль скоро он есть человек, есть познание, ведь посредством него он превосходит всех животных. Поэтому Аристотель в книге «Этики» устанавливает предельное счастье в этом действии как наиболее собственном для человека (Никомахова этика, 1177а 11). Следовательно, надлежит, чтобы человек определялся как вид согласно тому, что есть начало его действия. Но нечто определяется как вид посредством собственной формы. Следовательно, остается заключить, что познающее начало есть собственная форма человека. Но надлежит принять во внимание, что, насколько форма более достойна, настолько больше она властвует над телесной материей, и меньше в нее погружена, и в большей степени превосходит ее своим действием или силой. Поэтому мы видим, что форма смешанного тела обладает некоторым действием, причиной которого не являются качества элементов. И чем больше достоинство формы, тем больше ее сила, которая превосходит элементарную материю; так растительная душа сильнее, чем форма металла, и чувственная душа сильнее, чем душа растительная. Человеческая же душа есть форма, предельная в достоинстве таких форм. Поэтому она настолько превосходит своей силой телесную материю, что имеет некоторое действие и способность, с которыми никоим образом не сообщается телесная материя. И эта способность называется интеллектом. Но следует обратить внимание на то, что если некто полагает, что душа составлена из материи и формы, то он никоим образом не может сказать, что душа есть форма тела. Ведь, поскольку форма есть акт, материя же является сущей только в возможности, то никоим образом то, что составлено из материи формы не может быть формой другого согласно себе целиком. Если же она является формой согласно чему-либо в себе, тогда мы называем душой то, что есть форма, и то, формой чего она является, мы называем первым одушевленным, как выше было сказано (q. 75, a. 5).
1. Итак, относительно первого следует сказать (как говорит Философ во второй книге «Физики» (194b 12)), что предельная из естественных форм, к которой определяется рассмотрение натурфилософа, то есть человеческая душа, хотя и отделена, но, тем не менее, существует в материи; это он доказывает из того, что человек и солнце порождают человека из материи. А отделенной она является согласно интеллектуальной способности, поскольку интеллектуальная способность не есть способность какого-либо телесного органа, наподобие того как зрительная способность есть акт глаза, познание же есть акт, который не может осуществляться посредством телесного органа, как осуществляется зрение. Но она существует в материи, поскольку сама душа, к которой относится эта способность, есть форма тела и предел человеческого порождения. И, таким образом, Философ говорит в третьей книге «О душе» (429b 5), что интеллект является отделенным, поскольку не является способностью какого-либо телесного органа.
2. И из этого явствует ответ на второй и третий аргументы. Ведь для того, чтобы человек мог познавать все посредством интеллекта, и для того, чтобы интеллект познавал нематериальное и универсальное, достаточно того, что интеллектуальная способность не есть акт тела.
4. Относительно четвертого следует сказать, что человеческая душа, благодаря своему совершенству, не есть форма, погруженная в телесную материю или полностью захваченная ей. И поэтому ничто не препятствует тому, чтобы какая-либо ее способность не была актом тела, хотя душа по своей сущности есть форма тела.
5. Относительно пятого следует сказать, что душа сообщает то бытие, в котором она сама субсистирует, телесной материи, из которой вместе с интеллектуальной душой получается единое; так что то бытие, которое относится ко всему составному, есть также бытие самой души. Этого не происходит в случае других форм, которые не являются субсистирующими. И из-за этого человеческая душа остается в своем бытии после разрушения тела, но не другие формы.
6. Относительно шестого следует сказать, что душе самой по себе подобает быть объединенной с телом, подобно тому как легкому телу самому по себе подобает быть наверху. И как легкое тело остается легким, когда становится отделенным от собственного места, так и человеческая душа остается в своем бытии, когда становится отделенной от тела, имея способность и естественную склонность к соединению с телом.
Глава 2. Умножается ли интеллектуальное начало согласно числу тел?
1. Кажется, что интеллектуальное начало не умножается согласно умножению тел, но что есть единый интеллект во всех людях. Ведь никакая нематериальная субстанция нумерически не умножается в одном виде. Человеческая же душа есть нематериальная субстанция, ведь она не составлена из материи и формы, как было показано выше (q. 75, a. 5). Следовательно, не существует много душ в одном виде, но все люди относятся к одному виду. Следовательно, у всех людей один интеллект.
2. Кроме того, когда причина устраняется, то устраняется и действие. Следовательно, если бы согласно умножению тел умножались бы человеческие души, то последовало бы, что после удаления тел множественность душ не сохранялось бы, но из всех душ сохранялось бы только нечто единое, что является еретическим, ведь исчезло бы различие между наградами и наказаниями.
3. Кроме того, если мой интеллект отличен от твоего, то мой интеллект есть некоторый индивид, и сходным образом твой; ведь частные вещи суть те, которые различаются нумерически и сходятся в одном виде. Но все, что воспринимается чем-либо, существует в нем по способу воспринимающего. Следовательно, виды вещей в моем и твоем интеллекте воспринимаются индивидуальным образом, что противоречит понятию интеллекта, который является познающим универсальное.
4. Кроме того, познанное существует в интеллекте познающего. Следовательно, если мой интеллект отличен от твоего интеллекта, то надлежит, чтобы одним было познанное мной, а иным познанное тобой. И таким образом оно рассматривалось бы индивидуальным образом и было бы познанным лишь потенциально, и надлежало бы абстрагировать от того и другого общую интенцию, поскольку от чего-либо различного приходится абстрагировать некоторое общее умопостигаемое, что противоречит понятию интеллекта, поскольку кажется, что тогда интеллект не отличался бы от способности воображения. Следовательно, кажется, что остается заключить, что у всех людей один интеллект.
5. Кроме того, когда ученик воспринимает знание от учителя, то нельзя сказать, что знание учителя порождает знание в ученике, поскольку тогда знание было бы активной формой, как тепло, что является ложным. Следовательно, кажется, что нумерически то же самое знание, которое есть в учителе, сообщается ученику. Но это может быть только в том случае, если у того и другого один интеллект. Следовательно, кажется, что у ученика и учителя один интеллект, и, следовательно, у всех людей.
6. Кроме того, Августин говорит в книге «О количестве души» (42): «Если бы я сказал, что существует так много душ, то сам бы посмеялся над собой». Но кажется, что скорее есть одна душа в отношении познанного. Следовательно, у всех людей есть один интеллект.
Но против: Философ говорит во второй книге «Физики» (195b 26), что как универсальные причины относятся к универсальному, так частные причины относятся к частному. Но невозможно, чтобы одна по виду душа была бы у живых существ, по виду различных. Следовательно, невозможно, чтобы у нумерически различных индивидов была нумерически одна интеллектуальная душа.
Отвечаю. Следует сказать: совершенно невозможно утверждать, что интеллект един у всех людей. И это ясно, если допустить, согласно утверждению Платона, что человек есть сам интеллект. Ведь тогда следовало бы, что если у Сократа и Платона есть только один интеллект, то Сократ и Платон один человек, и что они не отличаются друг от друга иначе, как посредством того, что вне сущности того и другого. И тогда отличие Сократа от Платона было бы не иным, чем человека, одетого в тунику, и человека, одетого в плащ, что совершенно нелепо.
И схожим образом ясно, что это невозможно, если, согласно утверждению Аристотеля, интеллект полагается в качестве части или способности души, которая есть форма человека. Ведь невозможно, чтобы одна форма относилась ко многим вещам, нумерически различным, как невозможно, чтобы к ним относилось одно бытие, ведь форма есть начало бытия.
Также ясно, что никоим образом невозможно полагать единый интеллект у того и этого человека. Ведь очевидно, что если был бы один первоначальный деятель и два инструмента, то можно было бы говорить об одном деятеле просто, но о многих действиях, как когда один человек прикасается к различным предметам двумя руками, то есть один дотрагивающийся, но два прикосновения. Если же, напротив, инструмент был бы одним, а первоначальные деятели различны, то говорилось бы, что деятелей много, но действие одно, например, как когда многие вместе за один канат тянут корабль, то много тянущих, но одна тяга. Если же первоначальный деятель один и инструмент один, то говорится, что один действующий и одно действие, как когда мастер ударяет одним молотом, то есть один ударяющий и одно нанесение ударов. Но ясно, что как бы ни объединялся или ни связывался с тем или этим человеком интеллект, он является изначальным среди прочих способностей, которые относятся к человеку, чувственные же способности служат интеллекту и предназначаются ему. Следовательно, если полагали бы, что у двух людей есть многие интеллекты и одно чувство, например если бы два человека имели один глаз, то были бы многие видящие, но одно зрение. Если же интеллект был бы единым, то, как бы ни различались другие способности, которыми пользуется интеллект как инструментами, все же Сократ и Платон не могли бы быть названы не иначе, как одним познающим. И если мы добавим, что само познание, которое есть действие интеллекта, не осуществляется посредством какого-либо иного органа, кроме самого интеллекта, то следовало бы, сверх того, чтобы был и один действующий и одно действие, то есть все люди были бы одним познающим и одним познанием (я имею в виду познание относительно одного и того же умопостигаемого).
Но мое и твое интеллектуальное действия могут различаться из-за различия фантасмов (то есть поскольку фантасм камня иной во мне и иной в тебе), если бы сам фантасм, согласно тому, что он иной во мне и иной в тебе, был формой возможностного интеллекта, поскольку один и тот же деятель производит различные действия согласно различным формам, так согласно различным формам вещей относительно одного и того же глаза существуют различные акты зрения. Но формой возможностного интеллекта являются не сами фантасмы, а умопостигаемые виды, которые абстрагируются от фантасмов. При этом в одном интеллекте от различных фантасмов одного и того же вида абстрагируется только один умопостигаемый вид. Так случается, что в одном человеке могут быть различные фантасмы камня, и, однако, от них всех абстрагируется один умопостигаемый вид камня, посредством которого интеллект одного человека познает одним действием природу камня, и различие фантасмов не препятствует этому. Следовательно, если бы у всех людей был один интеллект, то различие фантасмов, которые есть в том и в другом, не могло бы быть причиной различия интеллектуального действия того и другого человека, как измыслил Комментатор в комментарии на третью книгу «О душе». Следовательно, остается, что совершенно невозможно и нелепо полагать один интеллект у всех людей.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что хотя интеллектуальная душа, как и ангел, не имеет материи, из которой она происходила бы, однако она есть форма некоторой материи, что не подобает ангелу. И поэтому согласно разделению материи существуют многие души одного вида, многих же ангелов одного вида совершенно не может быть.
2. Относительно второго следует сказать, что нечто обладает единством таким образом, каким оно обладает бытием, и, следовательно, то же суждение относится ко множественности вещи и к ее бытию. Ясно же, что интеллектуальная душа, согласно своему бытию, объединяется с телом как форма, однако, когда тело разрушается, интеллектуальная душа остается в своем бытии. И на том же основании множественность душ существует согласно множественности тел, и тем не менее, когда тела разрушаются, то души остаются множественными в своем бытии.
3. Относительно третьего следует сказать, что индивидуация познающего начала или вида, посредством которого оно познает, не исключает познание универсального; в противном случае, поскольку отделенные интеллекты суть некоторые субсистирующие субстанции и, следовательно, частные, они не могли бы познавать универсальное. Но материальность познающего и вида, посредством которого нечто познается, препятствует познанию универсального. Ведь как всякое действие осуществляется по способу формы, посредством которой действующий действует (например, нагревание – по способу тепла), так и познание осуществляется по способу вида, посредством которого познающий познает.
Но ясно, что общая природа различается и умножается согласно индивидуирующим началам, которые берутся из части материи. Следовательно, если бы форма, посредством которой происходит познание, была бы материальной, не абстрагированной от условий материи, то она была бы подобием природы вида или рода, согласно тому, что она разделена и умножена посредством индивидуирующих начал, и, таким образом, природа вещи не могла бы быть познанной в своей общности. Если же виды абстрагированы от условий индивидуальной материи, то подобие природы было бы без тех условий, которые привносят в нее различие и умножают, и таким образом познается универсальное. И в этом отношении не имеет значения, существует ли один интеллект или многие, поскольку даже если он был бы только один, то надлежало бы, чтобы он был некоторым «этим» индивидуальным интеллектом, и вид, посредством которого он познает, был бы некоторым «этим» индивидуальным видом.
4. Относительно четвертого следует сказать: существует ли один интеллект или многие, то, что познается – одно. Ведь то, что познается, существует в интеллекте не само по себе, а согласно своему подобию, ибо в душе существует не камень, а вид камня, как говорится в третьей книге «О душе» (432a 2). Однако, то, что познается, есть камень, а не вид камня (познающийся только посредством рефлексии интеллекта над самим собой); в противном случае наука существовала бы не относительно вещей, а относительно умопостигаемых видов.
Но случается, что различные интеллекты уподобляются одной и той же вещи согласно различным формам. И поскольку познание осуществляется согласно уподоблению познающего познаваемой вещи, то следует, что одной и той же вещи случается быть познанной различными познающими, как это явствует в случае чувства, ведь многие видят один и тот же цвет согласно различным подобиям. И, сходным образом, многие интеллекты познают одну познанную вещь. Но, согласно положению Аристотеля, разница между чувством и интеллектом состоит только в том, что вещь чувственно познается согласно той расположенности, которую она имеет вне души, в своей частности, природа же вещи, которая познается, есть нечто вне души, но она не имеет того способа бытия вне души, согласно которому она познается. Ведь познается общая природа, при устранении индивидуирующих начал, но не такой способ бытия имеет она вне души. А согласно положению Платона, познанная вещь существует вне души тем способом, каким она познается, ведь он полагал, что природы вещей отделены от материи.
5. Относительно пятого следует сказать, что иное знание существует в ученике и иное – в учителе. Каким же образом это происходит, будет показано в дальнейшем (q. 117, a. 1).
6. Относительно шестого следует сказать: Августин имеет в виду, что не существует столь многих душ без того, чтобы они объединялись в одном понятии вида.
Вопрос 79. Об интеллектуальных способностях
Вопрос касается интеллектуальных способностей, и относительно этого имеется тринадцать вопросов:
1. Есть ли интеллект способность души или ее сущность?
2. Если он способность, то пассивная ли способность?
3. Если он пассивная способность, то следует ли полагать какой-либо активный интеллект?
4. Есть ли активный интеллект нечто, относящееся к душе?
5. Есть ли активный интеллект один во всех?
6. Есть ли в интеллекте память?
7. Отлична ли память от интеллекта?
8. Является ли разум способностью, отличной от интеллекта?
9. Являются ли высший и низший разумы различными способностями?
10. Является ли интеллигенция иной способностью, нежели интеллект?
11. Являются ли теоретический и практический интеллекты различными способностями?
12. Является ли синдересис некоторой способностью интеллектуальной части?
13. Является ли совесть некоторой способностью интеллектуальной части?
Глава 1. Есть ли интеллект способность души или ее сущность?
1. Кажется, что интеллект есть не некоторая способность души, но сама ее сущность. Ведь кажется, что интеллект – то же самое, что и ум. Но ум – не способность души, а ее сущность, ведь Августин говорит в девятой книге «О Троице» (9, 2), что ум и дух не сказываются относительно, но выказывают сущность. Следовательно, интеллект есть сама сущность души.
2. Кроме того, различные роды способностей души объединяются не в некоторой одной потенции, но только в сущности души. Желающая же и интеллектуальная суть различные роды способностей души, как говорится во второй книге «О душе» (414a 31); сходятся же они в уме, поскольку Августин в десятой книге «О Троице» (10, 11) полагает, что интеллигенция и воля существуют в уме. Следовательно, ум и интеллект есть сама сущность души, а не какая-либо ее способность.
3. Кроме того, согласно Григорию в «Гомилии на Вознесение Господа» (2, 29), человек познает вместе с ангелами. Но ангелы называются умами и интеллектами. Следовательно, ум и интеллект человека есть не какая-либо способность души, но сама душа.
4. Кроме того, какой-либо субстанции подобает быть интеллектуальной из-за того, что она нематериальна. Но душа по своей сущности нематериальна. Следовательно, кажется, что душа интеллектуальна по своей сущности.
Но против то, что Философ полагает у души интеллектуальную способность, как ясно из второй книги «О душе» (414а 31).
Отвечаю: следует сказать, что согласно сказанному выше (q. 54, a. 3; q. 77, a. 1), необходимо считать интеллект некоей способностью души, а не самой сущностью души. Только тогда непосредственное начало действия есть сама сущность действующей вещи, когда само действие есть ее бытие, ведь как способность относится к действию как к своему акту, так сущность относится к бытию. Но только в Боге познание есть то же самое, что Его бытие. Поэтому только у Бога интеллект есть Его сущность, в других же интеллектуальных творениях интеллект есть некая способность познающего.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что «чувство» понимается иногда как способность, иногда как сама чувственная душа, ведь чувственная душа называется именем более первичной своей способности, то есть чувства. И, схожим образом, интеллектуальная душа иногда называется именем «интеллект», как бы от более первичной своей способности; так говорится в первой книге «О душе» (408b 18), что интеллект есть некая субстанция. И в этом смысле Августин говорит, что ум есть дух или сущность.
2. Относительно второго следует сказать, что желающая и интеллектуальная способности суть различные роды способностей души на основании различных смыслов их объектов. Но желающая способность частично сходится с интеллектуальной и частично с чувственной относительно способа действия, происходящего посредством телесного органа или же без такого рода органа; ведь Августин полагает волю в уме, а Философ – в разуме (432b 5) согласно тому, что желание следует схватыванию объекта интеллектом.
Объектом интеллектуальной способности души является сущее как истинное, объектом желающей – сущее как благое, а следовательно, как желаемое.
3. Относительно третьего следует сказать, что в ангелах нет иных способностей, кроме интеллектуальной и волевой, которая следует интеллекту. И из-за этого ангел называется «умом» или «интеллектом», поскольку в этом состоит вся его способность. Душа же человеческая обладает многими способностями, такими как чувственная и питающая, и поэтому она не подобна ангельской.
4. Относительно четвертого следует сказать, что сама нематериальность субстанции сотворенной интеллигенции не есть ее интеллект; но благодаря нематериальности она имеет способность к познанию. Поэтому надлежит, чтобы интеллект был не субстанцией души, но ее способностью и потенцией.
Глава 2. Является ли интеллектпассивной способностью?
1. Кажется, что интеллект – не пассивная способность. Ведь всякая вещь претерпевает согласно материи, но действует согласно форме. Однако интеллектуальная способность следует из нематериальности познающей субстанции. Следовательно, кажется, что интеллект – не пассивная способность.
2. Кроме того, интеллектуальная способность неразрушима, как выше было сказано (q. 75, a. 6). Но интеллект, если он пассивен, – разрушим, как говорится в третьей книге «О душе» (430а 24). Следовательно, интеллектуальная способность не пассивна.
3. Кроме того, действующее достойнее претерпевающего, как говорит Августин в двенадцатой книге буквального комментария на Книгу Бытия (12, 16) и Аристотель в третьей книге «О душе» (430а 18). Однако растительные способности, которые суть самые низкие способности души, активны во всех частях. Следовательно, много более активны интеллектуальные способности, которые суть высшие.
Но против то, что Философ говорит в третьей книге «О душе» (429b 24), что познавать – значит нечто претерпевать.
Отвечаю: следует сказать, что «претерпевать» сказывается трояко. Одним способом, наиболее собственным, когда от некоторой вещи отнимается то, что подобает ей согласно природе или ее собственной склонности, – так происходит, когда вода теряет холод из-за нагревания или когда человек заболевает или печалится. Вторым способом, менее собственным, говорится, что некто претерпевает из-за того, что от него удаляется нечто или подобающее ему, или неподобающее. Согласно этому способу говорится, что претерпевает не только тот, кто заболевает, но также тот, кто исцеляется, не только тот, кто печалится, но также тот, кто радуется, или же когда некто изменяется или движется некоторым образом. Третьим способом говорится в общем смысле, что нечто претерпевает только из-за того, что оно находится в потенции к чему-либо и воспринимает то, по отношению к чему находится в потенции, без того, чтобы что-то от него отнималось. Согласно этому способу все, что переходит из потенции в акт, может называться претерпевающим, даже когда оно совершается. И наше познание есть претерпевание в последнем смысле. Это проясняется таким доводом: ведь интеллект, как выше было сказано (q. 78, a. 1), обладает действием, относящимся к универсальному сущему. Следовательно, интеллект может рассматриваться в акте или в потенции из-за того, что принимается во внимание, как интеллект относится к универсальному сущему. Существует некий интеллект, который относится к универсальному сущему как акт всего сущего, и таков божественный интеллект, который есть сущность Бога, в которой изначально и виртуально все сущее предсуществует как в первой причине. И потому божественный интеллект не находится в потенции, но является чистым актом. Но никакой сотворенный интеллект не может относиться актуально ко всему универсально сущему, поскольку тогда следовало бы, чтобы он был бесконечным сущим. Поэтому всякий сотворенный интеллект как таковой не есть акт всего умопостигаемого, но относится к этому умопостигаемому как потенция к акту. Потенция же относится к акту двояко. Ведь есть некоторая потенция, которая всегда совершается актуально – так мы говорили о материи небесных тел (q. 58, a. 1). Есть же некая потенция, которая не всегда в акте, но от потенции переходит к акту – такая потенция обнаруживается в возникающем и разрушающемся. Ангельский же интеллект всегда актуален относительно умопостигаемого им из-за близости к первому интеллекту, который есть чистый акт, как выше было сказано. Человеческий же интеллект, который является низшим в порядке интеллектов и наиболее удален от совершенства божественного интеллекта, находится в потенции по отношению к умопостигаемому, и изначально он есть чистая доска, на которой ничего не написано, как говорит Философ в третьей книге «О душе» (430а 1). Это очевидно явствует из того, что сначала мы являемся познающими только в потенции, потом же становимся познающими актуально. Итак, следовательно, ясно, что наше познание есть некое претерпевание, согласно третьему способу понимания претерпевания. И вследствие этого интеллект есть пассивная способность.
1. Относительно первого, следовательно, надлежит сказать, что это возражение имеет в виду первый и второй способы претерпевания, которые свойственны первой материи. Третий же способ претерпевания относится к чему-либо, существующему в потенции, которое приводится в акт.
2. Относительно второго следует сказать, что пассивным интеллектом, согласно некоторым, называется «чувственное желание», в котором существуют претерпевания души, которое также в первой книге «Этики» (1202b 25) называется относящимся к разуму по причастности, поскольку оно повинуется разуму. Согласно другим же, пассивным интеллектом называется познающая способность, которая называется «частным разумом». Взятый и тем и другим способом, «пассивный» может быть понят согласно первым двум способам понимания претерпевания, поскольку интеллект, называемый пассивным, есть акт какого-либо телесного органа. Но интеллект, который находится в возможности по отношению к умопостигаемому и который Аристотель из-за этого называет «возможностным интеллектом» (429а 22), является пассивным только согласно третьему способу, поскольку он не является актом телесного органа. И поэтому он неразрушим.
3. Относительно третьего следует сказать, что действующее всегда достойнее претерпевающего, если они относятся к одному и тому же действию, но не всегда, если они относятся к разным. Интеллект же есть пассивная способность в отношении всего универсального сущего. Растительная же способность активна относительно каких-либо частных сущих, а именно соединенных тел. Поэтому ничто не препятствует такого рода пассивному быть достойнее такого активного.
Глава 3. Следует ли полагатьдействующий интеллект?
1. Кажется, что не следует полагать существование действующего интеллекта. Ведь как чувство относится к чувственно постигаемому, так наш интеллект относится к умопостигаемому. Но поскольку чувство находится в потенции к чувственно постигаемому, не следует полагать действующее чувство, но только претерпевающее чувство. Следовательно, поскольку наш интеллект находится в потенции к умопостигаемому, кажется, что не должно полагать действующий интеллект, но только возможностный.
2. Кроме того, если говорится, что в чувстве есть нечто действующее, такое, как свет, то свет требуется зрению постольку, поскольку он творит актуально светящуюся среду, ведь сам по себе цвет есть движение светящейся среды. Но в действии интеллекта не предполагается что-либо опосредующее, чему необходимо было бы быть в акте. Следовательно, нет необходимости полагать действующий интеллект.
3. Кроме того, подобие действующего воспринимается в претерпевающем согласно способу претерпевающего. Но возможностный интеллект есть нематериальная способность. Следовательно, его нематериальность является достаточной для того, чтобы формы воспринимались в нем нематериально. Но именно благодаря тому некая форма является умопостигаемой актуально, что она нематериальна. Следовательно, нет никакой необходимости полагать действующий интеллект.
Но против то, что Философ говорит в третьей книге «О душе» (430а 14), что как во всей природе, так и в душе есть нечто, которое становится всем, и нечто, которое все творит. Следовательно, необходимо полагать действующий интеллект.
Отвечаю: следует сказать, что, согласно мнению Платона, необходимо полагать действующий интеллект не для совершения умопостигаемого в акте, но скорее для возбуждения в познающем умопостигаемого света, как сказано ниже (q. 79, a. 4). Ведь Платон полагал, что формы естественных вещей субсистируют без материи и, следовательно, что они умопостигаемы, ведь нечто умопостигаемо актуально из-за того, что оно нематериально. И он называл такого рода формы видами или идеями и говорил, что благодаря причастности им телесная материя оформляется для того, чтобы индивиды естественным образом конституировались в собственных родах и видах, и для того, чтобы наши интеллекты обладали познанием о родах и видах вещей. Но, поскольку Аристотель не считал, что формы естественных вещей субсистируют без материи (999в 18), то формы, существующие в материи, не суть актуально умопостигаемые, и следует, чтобы природы или формы чувственных вещей, которые мы познаем, не были бы актуально умопостигаемыми. Ведь ничто не восходит от потенции к акту иначе как посредством некоего актуально сущего, так чувство актуально благодаря актуальному чувственно постигаемому. Итак, следовало полагать некую способность со стороны интеллекта, которая делала бы умопостигаемое актуальным посредством абстрагирования видов от материальных условий. И это создает необходимость полагать действующий интеллект.
1. Относительно первого следует сказать, что чувственно постигаемое актуально обнаруживается вне души, и поэтому не следует полагать действующее чувство. Также ясно, что в питающей части души все способности активны. В части же чувственной все способности пассивны; в интеллектуальной же части есть нечто активное и нечто пассивное.
2. Относительно второго следует сказать, что относительно действия света есть два мнения. Некоторые говорят, что свет требуется зрению, поскольку делает цвета актуально видимыми. И согласно этому, схожим образом действующий интеллект требуется для познания из-за того же, из-за чего свет требуется для зрения. Согласно другим же, свет требуется зрению не из-за того, чтобы цвета были актуально видимы, но чтобы среда была актуально освещена, как говорит Комментатор во второй книге «О душе», и, согласно этому, сходство, посредством которого Аристотель уподоблял действующий интеллект свету, распространяется на то, что свет необходим для зрения настолько, насколько актуальный интеллект для познания, но не по той же причине.
3. Относительно третьего следует сказать: если предположить действующее, то вполне случается, что его подобие различным образом воспринимается в различных органах из-за их различной расположенности. Но если действующее не предполагается, то ничто не создает расположенность воспринимающего к нему. Актуально же умопостигаемое не есть нечто, существующее в природе вещей относительно природы чувственных вещей, которые не субсистируют без материи. И потому для познания недостаточно нематериальности возможностного интеллекта, если не наличествует действующий интеллект, который делает умопостигаемое актуальным посредством абстрагирования.
Глава 4. Есть ли действующий интеллект нечто, находящееся в душе?
1. Кажется, что действующий интеллект не является чем-то, находящимся в нашей душе. Ведь действие действующего интеллекта есть иллюминация, осуществляемая для познания. Но она произошла посредством чего-то, что есть прежде души, согласно следующему стиху Евангелия от Иоанна (1, 9): «Был истинный Свет, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Итак, кажется, что действующий интеллект не есть нечто, находящееся в нашей душе.
2. Кроме того, Философ в третьей книге «О душе» (430а 22) атрибутирует действующему интеллекту следующее: дело обстоит не так, что он иногда познает и иногда не познает. Но наша душа не всегда познает, а иногда познает и иногда не познает. Следовательно, действующий интеллект не есть нечто, находящееся в нашей душе.
3. Кроме того, действующее и претерпевающее достаточны для действия. Таким образом, если возможностный интеллект, который является пассивной способностью, есть нечто, находящееся в нашей душе, а также действующий интеллект, который является активной способностью, то последовало бы, что человек мог познавать всегда, когда он хочет, что очевидно является ложным. Следовательно, действующий интеллект не есть нечто, находящееся в нашей душе.
4. Кроме того, Философ говорит в третьей книге «О душе» (430а 18), что действующий интеллект есть актуально сущая субстанция. Но ничто не может быть в отношении одного и того же и актуальным, и потенциальным. Следовательно, если возможностный интеллект, который находится в потенции ко всему умопостигаемому, есть нечто, находящееся в нашей душе, то кажется невозможным, чтобы и действующий интеллект был чем-то, относящимся к нашей душе.
5. Кроме того, если действующий интеллект есть нечто, находящееся в нашей душе, надлежит, чтобы он был некой способностью. Ведь он не является ни претерпеванием, ни навыком души, ибо навыки и претерпевания не имеют смысла действующего относительно претерпеваний души, но в большей степени претерпевание есть само действие пассивной способности, навык же есть нечто, что следует из действий. Всякая же способность проистекает от сущности души. Таким образом, следовало бы, чтобы действующий интеллект происходил из сущности души. И, таким образом, не был бы присущ душе посредством причастности высшему интеллекту, что нелепо. Следовательно, действующий интеллект не является чем-то, находящимся в нашей душе.
Но против то, что Философ говорит в третьей книге «О душе» (430а 13): необходимо, чтобы в душе было это различие, то есть действующего и возможностного интеллекта.
Отвечаю: следует сказать, что действующий интеллект, о котором говорил Философ, есть нечто, находящееся в нашей душе. Для прояснения этого следует принять во внимание, что необходимо полагать некий высший интеллект свыше человеческой интеллектуальной души, от которого душа получает способность познавать. Ведь всегда то, что причастно чему-либо, и то, что подвижно, и то, что несовершенно, требуют, чтобы прежде них существовало нечто, что таково по свей сущности [т. е. обладает тем качеством, к которому причастно другое. – Прим. пер. ], нечто неподвижное и нечто совершенное. Человеческая же душа называется интеллектуальной благодаря причастности интеллектуальной способности, знаком чего является то, что она не вся интеллектуальна, но в некоторой своей части. И достигает она познания истины при рассуждении, посредством некого дискурса и движения. Ведь она имеет несовершенную интеллигенцию, поскольку познает не все, а в том, что познает, она переходит от потенции к акту. Следовательно, надлежит, чтобы был некий более первичный интеллект, который помогал бы душе в познании. Таким образом, некоторые полагали, что этот интеллект, соответствующий отделенной субстанции, и есть действующий интеллект, который, как бы освещая фантасмы, делает их актуально умопостигаемыми. Но принимая, что есть некий такого рода действующий отделенный интеллект, тем не менее надлежит полагать и в самой человеческой душе некую способность, причастную этому высшему интеллекту, посредством которой человеческая душа делает умопостигаемое актуальным. Ведь в других совершенных естественных вещах, помимо универсальных действующих причин, есть собственные способности, вложенные в совершенные единичные вещи, произведенные от универсальных действующих причин; так, не только Солнце порождает человека, но в человеке есть порождающая способность человека, и схожим образом дело обстоит в случае других совершенных животных. Но среди низших вещей нет ничего совершеннее человеческой души. Поэтому следует сказать, что в ней есть некая способность, произведенная от высшего интеллекта, посредством которой она может освещать фантасмы. И это мы узнаем посредством опыта, когда воспринимаем то, что мы абстрагируем универсальные формы от частных условий, то есть делаем их актуально умопостигаемыми. Ведь никакое действие не подобает какой-либо вещи иначе, нежели посредством некого начала, присущего ей формальным образом, как выше было сказано (q. 76, a. 1), когда говорилось о возможностном интеллекте. Следовательно, надлежит, чтобы способность, которая является началом нашего действия, была чем-то, находящимся в нашей душе. И потому Аристотель (в «О душе», 430а 15) сравнивал действующий интеллект со светом, который есть нечто, принимаемое воздухом; Платон же сравнивал отделенный интеллект, от которого наши души получают впечатления, с Солнцем, как говорит Фемистий в третьей книге комментариев на трактат «О душе» (ad 430a 25). Но отделенный интеллект, согласно учению нашей веры, есть сам Бог, Который есть Творец души и в Котором Одном она получает блаженство, как будет ясно ниже (q. 90, a. 3). Поэтому от Него человеческая душа получает интеллектуальный свет, согласно Псалму (4, 7): «Яви нам свет лица Твоего, Господи».
Фемистий (ок. 317–388), философ, получивший наибольшую известность как комментатор Аристотеля, ставивший перед собой задачу прежде всего понятного читателю изложения (парафразы), но при этом он иногда давал и оригинальные интерпретации, например в учении о трех умах, участвующих в нашем познании: сверхиндивидуальном актуальном, присутствующем в нас как луч света, собственно нашем потенциальном и пассивном, связанном с телом и телесными функциями (память, эмоции).
1. Итак, относительно первого следует сказать, что этот истинный свет иллюминирует как универсальная причина, посредством которой человеческая душа становится причастной неким частным способностям, как выше было сказано.
2. Относительно второго следует сказать, что Философ говорит эти слова не о действующем интеллекте, но о возможностном интеллекте в действии, поэтому выше предваряет рассуждения о нем, сказав, что он есть в действии то же, что и познание вещи. Или если же подразумевается действующий интеллект, то так говорится постольку, поскольку то, что мы иногда познаем и иногда не познаем, не относится к действующему интеллекту, но к интеллекту, который находится в потенции.
3. Относительно третьего следует сказать, что, если бы действующий интеллект относился к возможностному интеллекту как действующий объект к способности, как актуально видимое к видимому, то следовало бы, чтобы мы постоянно познавали все, поскольку действующий интеллект есть то, посредством чего производится все. Поэтому он относится к возможностному интеллекту не как объект, но как то, что делает объект актуальным, для чего требуется, помимо наличия действующего интеллекта, наличие фантасмов, и хорошее расположение чувствительных способностей, и практика в такого рода деле, поскольку через одно познанное возникает также другое познанное, как через термины – пропозиции и благодаря первым основаниям – заключения, и в этом отношении безразлично, является ли действующий интеллект чем-то, относящимся к душе, или отделенным.
4. Относительно четвертого следует сказать, что интеллектуальная душа, хотя она актуально нематериальна, все же находится в потенции к определенным видам вещей. Фантасмы же, напротив, хотя они суть подобия некоторых видов актуально, но также они нематериальны в потенции. Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы одна и та же душа, поскольку она актуально нематериальна, имела некую способность, посредством которой она делала бы нематериальное актуальным при помощи абстрагирования от условий индивидуальной материи, и эта способность называется действующим интеллектом, и другую способность, воспринимающую такие виды, которая называется возможностным интеллектом, поскольку душа находится в потенции к таким видам.
5. Относительно пятого следует сказать: поскольку сущность души нематериальна и сотворена высшим интеллектом, ничто не препятствует тому, чтобы способность, которая причастна высшему интеллекту и посредством которой душа абстрагирует от материи, происходила от ее сущности, как и другие ее способности.
Глава 5. Един ли активныйинтеллект во всех людях?
1. Кажется, что действующий интеллект един во всех. Ведь ничто отделенное от тела не умножается в соответствии с умножением тел. Но действующий интеллект является отделенным, как говорится в третьей книге «О душе» (430а 17). Следовательно, он не умножается во многих телах людей, но един во всех.
2. Кроме того, действующий интеллект производит универсальное, то есть единое во многом. Но то, что является причиной единства, само является единым в большей степени. Следовательно, действующий интеллект един во всех.
3. Кроме того, все люди согласуются относительно первых в понятиях интеллекта. Согласуются же они в них благодаря действующему интеллекту. Следовательно, все люди сходятся в одном действующем интеллекте.
Но против то, что Философ говорит в третьей книге «О душе» (430а 15): действующий интеллект подобен свету. Но свет не один и тот же в различном светящем. Следовательно, действующий интеллект не один и тот же в различных людях.
Отвечаю: следует сказать, что истинность этого вопроса зависит от предыдущего (q. 79, a. 4). Ведь если бы действующий интеллект не был чем-то, находящимся в душе, но был бы некой отделенной субстанцией, то он был бы един у всех людей. И так считают те, кто полагает единство действующего интеллекта. Но если действующий интеллект есть нечто, находящееся в душе как некоторая ее способность, то необходимо сказать, что существуют многие действующие интеллекты в соответствии со множественностью душ, которые умножаются в соответствии со множественностью людей, как выше было сказано (q. 76, a. 2). Ведь не может быть того, чтобы способность, численно одна и та же, принадлежала бы различным субстанциям.
1. Итак, относительно первого следует сказать: Философ полагал, что действующий интеллект является отделенным, из-за того что возможностный является отделенным; ведь, как он говорит (в «О душе», 430а 28), действующее достойнее претерпевающего. Возможностный же интеллект называется отделенным, поскольку он не является актом какого-либо телесного органа. И в соответствии с этим способом употребления слова «отделенный» действующий интеллект также называется отделенным, но не так, как если бы он был некой отделенной субстанцией.
2. Относительно второго следует сказать, что действующий интеллект является причиной универсального, абстрагируя его от материи. Для этого не требуется, чтобы он был единым во всех, обладающих интеллектом, но чтобы он был единым во всех согласно образу действия по отношению ко всему, от чего он абстрагирует универсальное; и по отношению к этому образу действия универсальное является единым. И оно соответствует действующему интеллекту, поскольку он нематериален.
3. Относительно третьего следует сказать, что все, относящееся к одному виду, имеет общность в действии, следующем из природы вида, и, следовательно, в способности, которая является началом действий, но не является нумерически одной и той же во всех людях. Познание же первого умопостигаемого есть действие, следующее из человеческого вида. Поэтому надлежит, чтобы все люди имели общность в способности, которая является началом их действия, и это – способность действующего интеллекта. Однако не следует, чтобы она была нумерически одной и той же во всех, но надлежит, чтобы она производилась во всех от одного начала. И, таким образом, эта общность людей относительно первого умопостигаемого показывает единство отделенного интеллекта, который Платон сравнивает с солнцем, но не единство действующего интеллекта, который Аристотель сравнивает со светом (430а 15).
Глава 6. Есть ли в интеллектуальной части души память?
1. Кажется, что память не относится к интеллектуальной душе. Ведь Августин говорит в двенадцатой книге «О Троице» (12, 2, 3, 8), что к высшей части человеческой души не относится то, что является общим для людей и животных. Но память является общей для людей и животных, ведь Августин там же говорит, что животные могут ощущать посредством телесных чувств телесное и вверять его памяти. Следовательно, память не относится к интеллектуальной душе.
2. Кроме того, память относится к прошедшему. Но «прошедшее» говорится согласно некоторому определенному времени. Следовательно, память является познающей что-либо в определенное время, то есть познает что-либо здесь и сейчас. Но это свойственно не интеллекту, а чувству. Следовательно, память относится не к области интеллектуального, но только к области чувственного.
3. Кроме того, в памяти сохраняются виды вещей, которые не мыслятся актуально. Но невозможно, чтобы это относилось к интеллекту, поскольку интеллект становится актуальным посредством того, что формируется умопостигаемыми видами, ведь для интеллекта быть актуальным означает само актуальное познание, и, таким образом, интеллект актуально познает все, виды чего имеет у себя. Следовательно, память не относится к области интеллектуального.
Но против то, что Августин говорит в десятой книге «О Троице» (10, 11), что память, интеллигенция и воля суть единый ум.
Отвечаю: следует сказать, что поскольку к понятию памяти относится сохранение видов вещей, которые актуально не схватываются, то прежде всего надлежит рассмотреть, могут ли умопостигаемые виды сохраняться в интеллекте. Так, Авиценна полагал, что это невозможно. Он говорил, что это относится к области чувств – к неким потенциям, которые суть акты телесных органов, в которых некие виды могут сохраняться без актуального схватывания. В интеллекте же, который лишен телесного органа, ничто не существует иначе, как умопостигаемым образом. Поэтому надлежит, чтобы то, чье подобие существует в интеллекте, познавалось актуально. Итак, следовательно, согласно Авиценне, как только некто перестает актуально познавать некую вещь, вид этой вещи перестает быть в интеллекте, но, если он хочет вновь познать эту вещь, надлежит, чтобы он обратился к действующему интеллекту, который Авиценна полагает отделенной субстанцией, чтобы от него в возможностный интеллект изошли умопостигаемые виды. И, согласно Авиценне, для того, чтобы было возможно осуществлять и использовать обращение к интеллекту, в возможностном интеллекте требуется некая способность обращаться к действующему интеллекту, которую он называл навыком познания. Следовательно, согласно этому утверждению, в интеллектуальной области не сохраняется ничего, что не познается актуально. Поэтому соответственно этому память не сможет полагаться в интеллектуальной области. Но это мнение очевидно противоречит сказанному Аристотелем. Ведь он говорит в третьей книге «О душе» (429b 5): то, что возможностный интеллект становится единичными вещами, когда познает, говорится согласно акту, и, когда это происходит, он может действовать сам по себе. Следовательно, и тогда он есть некоторым образом в потенции, но не таким же образом, как до обучения и нахождения. Говорится же, что возможностный интеллект становится единичными вещами согласно тому, что он воспринимает виды единичных вещей. Следовательно, из того, что он воспринимает умопостигаемые виды, он получает возможность действовать когда захочет, но не возможность действовать всегда, поскольку и тогда он находится некоторым образом в потенции, хотя и иначе, чем до познания; а именно таким образом, каким знающий хабитуально находится в потенции к актуальному рассмотрению. Вышеприведенное же положение Авиценны противоречит разуму. Ведь то, что воспринимается кем-либо, воспринимается им согласно способу воспринимающего. Интеллект же – более устойчивая и неизменная природа, чем телесная материя. Следовательно, если телесная материя удерживает формы, которые она воспринимает, не только пока она актуально действует посредством них, но также после того, как она прекращает действовать посредством них, то много вернее, что интеллект неизменным и неустранимым образом воспринимает умопостигаемые виды, или воспринятые от чувственных способностей, или истекшие от какого-либо высшего интеллекта. Так, следовательно, если память берется только как способность, сохраняющая виды, то надлежит сказать, что память находится в познающей части. Если же к понятию памяти относится то, что ее объект есть прошедшее как прошедшее, то память не находится в познающей части, но только в чувственной. Ведь прошедшее как прошедшее, поскольку обозначает бытие в определенное время, относится к частным условиям.
Хабитуальное знание – помимо аристотелевского деления на активный и возможностный интеллект, в XIII в. было распространено четырехчастное деление Авиценны: (1) hyleaiis – интеллект потенциальный ко всякому познанию, подобно тому как первоматерия потенциальна ко всяким формам, (2) in habitu – «хабитуальный» интеллект, уже владеющий началами познания (habitus principiorum), (3) интеллект, владеющий познаниями и способный произвольно обращаться к ним in effectu и (4) accomodatus – интеллект, коммуницирующий с отделенными интеллигенциями. Нередко возникала путаница между этими типами деления, многие пытались установить соответствие между ними. Однако эти классификации осуществляются по различным основаниям: Аристотель выделяет способности интеллекта, а Авиценна описывает степени познания.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что память, согласно тому, что она есть способность, сохраняющая виды, не является общей для нас и животных. Ведь виды сохраняются не в чувственной части души, но скорее в соединении души и тела; поэтому запоминающая способность есть акт некоторого органа. Но интеллект сам по себе является сохраняющим виды, без содействия телесного органа. Поэтому Философ говорит в третьей книге «О душе» (429а 27), что не вся душа есть место видов, но интеллект.
2. Относительно второго следует сказать, что прошедшее может относиться к двум, а именно к объекту, который познается, и к акту познания. Эта двоица одновременно соединяется в чувственной части, которая схватывает что-либо посредством того, что получает изменение от чувственно воспринимаемого в настоящем, поэтому животное одновременно помнит, что оно ранее чувствовало в прошлом, и то, что оно чувствовало некоторое прошедшее чувственное. Но к интеллектуальной части относится то, что прошедшее привходит в нее акцидентальным образом, а не подобает сущностным образом, из части объекта интеллекта. Ведь интеллект познает человека постольку, поскольку он есть человек, человеку же, поскольку он есть человек, акцидентально привходит бытие или в настоящем, или в прошедшем, или в будущем. Из части же акта прошедшее сущностным образом может быть понимаемо в интеллекте так же, как в чувствах. Ведь познание нашей души есть некоторый частный акт, существующий в то или другое время, согласно чему говорится, что человек познает сейчас, или вчера, или завтра. И это не противоречит интеллектуальности, поскольку хотя такого рода познание и является чем-то частным, однако оно является нематериальным актом, как выше было сказано об интеллекте (q. 76, a. 1), и потому, как интеллект познает сам себя, хотя сам является некоторым частным интеллектом, так он познает свое познание, которое является единичным актом, существующим или в прошедшем, или в настоящем, или в будущем. Следовательно, понятие «памяти» сохраняется в том смысле, что она имеет отношение к прошедшему в интеллекте, согласно тому, что он познает то, что познавал раньше, но не согласно тому, что он познает прошедшее в зависимости от здесь и сейчас.
3. Относительно третьего следует сказать, что умопостигаемые виды иногда есть в интеллекте только в потенции, и тогда говорится, что интеллект находится в потенции, иногда же согласно предельной совершенности акта, и тогда он познает актуально. Иногда же он находится средним образом, между потенцией и актом, и тогда называется хабитуальным интеллектом. И, согласно этому среднему образу, интеллект сохраняет виды, даже когда не познает актуально.
Глава 7. Является лиинтеллектуальная памятьспособностью, отличнойот интеллектуальной способности?
1. Кажется, что интеллектуальная память и интеллект суть разные способности. Ведь Августин в десятой книге «О Троице» (10, 11) полагает в уме память, интеллигенцию и волю. Но очевидно, что память есть иная способность по отношению к воле. Следовательно, схожим образом она – иная способность по отношению к интеллекту.
2. Кроме того, тот же довод действенен в отношении различия способностей чувственной области и интеллектуальной. Но память в чувственной области есть иная способность, нежели чувство, как выше было сказано (q. 78, a. 4). Следовательно, память в интеллектуальной области есть иная способность, нежели интеллект.
3. Кроме того, согласно Августину (О Троице, 10, 11), память, интеллигенция и воля взаимно соразмерны и об одной из них говорится сообразно другой. Этого же не могло бы быть, если бы память и интеллект были одной и той же способностью. Следовательно, они – не одна и та же способность.
Но против: к понятию «памяти» относится то, что она – вместилище или место хранения видов. А Философ в третьей книге «О душе» (429а 27) атрибутирует это интеллекту, как было сказано (q. 79, a. 6, ad 1). Следовательно, в интеллектуальной области память не есть иная способность, нежели интеллект.
Отвечаю: следует сказать, как было сказано выше (q. 77, a. 3), что способности души разделяются согласно различным понятиям объекта, поскольку понятие какой-либо способности состоит в расположенности к тому, что именуется ее объектом. Выше же было сказано (q. 59, a. 4), что если некая способность, согласно собственному понятию, расположена к некоторому объекту согласно общему понятию объекта, то эта способность не будет разделяться согласно различию частных отличий; так зрительная способность, которая воспринимает свои объекты согласно понятию окрашенного, не разделяется посредством различия черного и белого. Интеллект же воспринимает свой объект согласно общему понятию сущего, поскольку возможностный интеллект есть то, что становится всем. Поэтому возможностный интеллект не принимает видового различия от какого-либо различия сущих. Однако способности действующего интеллекта и возможностного интеллекта разделяются, поскольку надлежит, чтобы относительно одного и того же объекта иным началом была активная способность, которая делает объект существующим актуально, и иным – пассивная способность, которая приводится в движение объектом, существующим актуально. И, таким образом, активная способность относится к своему объекту так, как актуально сущее к потенциально сущему, пассивная же способность относится к своему объекту, наоборот, как потенциально сущее к актуально сущему. Таким образом, следовательно, не может быть никакого иного различия способностей в интеллекте, кроме различия возможностной и действующей. Поэтому ясно, что память не иная способность, нежели интеллект; к понятию же пассивной способности относится сохранение, как и восприятие.
1. Итак, относительно первого надлежит сказать: хотя в третьей книге говорится, что память, интеллигенция и воля суть три способности, однако это не соответствует намерению Августина, который ясно говорит в четырнадцатой книге «О Троице»: «Если память, интеллигенция и воля рассматриваются согласно тому, что они всегда в распоряжении души (мыслятся они или не мыслятся), то, по-видимому, они относятся к одной памяти. Интеллигенцией же я называю то, посредством чего мы, мыслящие, познаем, а волей, или страстью, или любовью – то, что связывает потомков и родителей». Из чего явствует, что эти три понятия Августин не понимает как три способности, но понимает память как сохранение пережитого душой, интеллигенцию же как акт интеллекта, волю же как акт воления.
2. Относительно второго следует сказать, что прошедшее и настоящее могут быть собственными разделяющими отличиями чувственных, но не интеллектуальных способностей, на основании сказанного выше.
3. Относительно третьего следует сказать, что об интеллигенции говорится в отношении к памяти как об акте в отношении к свойству. И интеллигенция уподобляется памяти таким образом, но не как способность способности.
Глава 8. Является ли рассудокспособностью, отличнойот интеллекта?
1. Кажется, что рассудок есть иная способность, чем интеллект. Ведь в книге «О духе и душе» (Псевдо-Августина, 11) говорится, что когда мы хотим подняться от низшего к высшему, сперва привходит в нас чувство, затем воображение, затем рассудок, затем интеллект. Следовательно, рассудок есть способность, отличная от интеллекта, как воображение – от рассудка.
2. Кроме того, Боэций говорит в книге «Об утешении философией» (4, 6), что интеллект относится к рассудку как вечность ко времени. Но одной и той же способности не присуще быть в вечности и быть во времени. Следовательно, рассудок и интеллект – не одна и та же способность.
3. Кроме того, человек объединяется в интеллекте с ангелами, в чувстве же – с животными. Но рассудок, который есть собственное свойство человека, из-за чего он называется «животным, обладающим рассудком», есть иная способность, чем чувство. Следовательно, на том же основании, рассудок отличен от интеллекта, который в собственном смысле подобает ангелам, почему они и называются «интеллектуальными».
Но против то, что говорит Августин в третьей книге «Комментария на Книгу Бытия» (3, 20): «То, что отличает человека от неразумных животных, есть рассудок, или ум, или интеллигенция, или называется каким-либо другим словом, более подходящим». Следовательно, рассудок, и интеллект, и ум суть одна способность.
Отвечаю: следует сказать, что рассудок и интеллект в человеке не могут быть различными способностями. Это становится ясным, если рассмотреть оба акта. Ведь «познавать интеллектуально» значит просто схватывать умопостигаемую истину. «Рассуждать» же значит переходить от одного познаваемого к другому ради познания умопостигаемой истины. И поэтому ангелы, которые в совершенстве обладают познанием умопостигаемой истины по своей природе, не имеют необходимости переходить от одного к другому, но просто и без перехода схватывают истину вещей, как говорит Дионисий в седьмой главе «О божественных именах». Люди же достигают познания умопостигаемой истины, переходя от одного к другому, как говорится там же, и потому называются обладающими рассудком. Следовательно, ясно, что рассуждение относится к интеллектуальному познанию так, как движение к нахождению в покое, или приобретение к обладанию, из которых одно совершенно, другое же несовершенно. И поскольку движимое всегда происходит от неподвижного и предопределяется к некоторому покою, то путем разыскания или нахождения человеческое рассуждение исходит от некоторых оснований, познаваемых просто, которые суть первые начала; и вновь, путем суждения, разъясняя, возвращается к первым началам, с которыми соотносит найденное. Но ясно, что покой и движение не сводятся к разным потенциям, а к одной и той же, даже в природных вещах, поскольку посредством одной и той же природы нечто движется к месту и покоится на месте. Следовательно, во много большей степени мы интеллектуально познаем и рассуждаем посредством одной и той же способности. И, таким образом, ясно, что рассудок и интеллект есть одна и та же способность в человеке.
1. Относительно первого, следовательно, надлежит сказать, что это перечисление согласно порядку действий, но не согласно различию способностей. Хотя эта книга и не обладает большим авторитетом.
Фома имеет в виду, что упомянутая в первом доводе книга «О духе и душе», приписываемая Августину и потому получившая широкое хождение, на самом деле ему не принадлежит.
2. Относительно второго ответ явствует из сказанного. Ведь вечность относится ко времени как неподвижное к движущемуся. И поэтому Боэций сравнивает интеллект с вечностью, рассудок же со временем.
3. Относительно третьего следует сказать, что другие животные настолько ниже человека, что не могут достичь познания истины, которую ищет рассудок. Человек же достигает познания умопостигаемой истины, которую познают ангелы, но несовершенно. И поэтому познающая способность ангелов не есть другого рода, чем познающая способность рассудка, но относится к ней как совершенное к несовершенному.
Глава 9. Являются ли высший и низший разумы различными способностями?
1. Кажется, что высший и низший разум суть различные способности. Ведь Августин говорит в двенадцатой книге «О Троице» (12, 4, 7), что образ Троицы обнаруживается в части высшего разума, но не низшего. Но части души есть сами ее способности. Следовательно, есть две способности, высший и низший разум.
2. Кроме того, ничто не является началом себя самого. Но низший разум имеет началом высший и от него упорядочивается и направляется. Следовательно, высший разум есть способность, отличная от низшего.
3. Кроме того, Философ говорит в шестой книге «Этики» (1139а 6), что познающее начало души, посредством которого душа познает необходимое, есть иное начало и иная часть души, нежели предполагающее и рассуждающее начало, посредством которого душа познает случайное. И это доказывается посредством того, что к тому, что относится к различным родам, относятся различные рода души; случайное же и необходимое суть различные рода, как разрушимое и неразрушимое. Поскольку же необходимое есть то же, что и вечное, и временное то же, что и случайное, кажется, что именуемое у Философа «познающим» есть то же, что и высшая часть разума, которая, согласно Августину (О Троице, 12, 7), направлена на созерцание и обдумывание вечного; и то, что Философ называет «предполагающим» и «рассуждающим», есть то же, что и низший разум, который, согласно Августину, направлен на расположенное во времени. Следовательно, высший разум и низший разум суть разные способности души.
4. Кроме того, Дамаскин говорит (Точное изложение православной веры, 12), что мнение возникает от воображения, поэтому ум, различающий мнение истинное или ложное, различает истину, и поэтому «ум» (mens) именуется от «оценивать» (metiendo). То же, что должно судить и истинно определять, называется «интеллект». Следовательно, производящее мнение, то есть низший разум, есть иное, чем ум и интеллект, посредством которых может познавать высший разум.
Но против то, что Августин говорит в двенадцатой книге «О Троице» (12, 4), что высший и низший разум разделяются только по порядку их действия. Следовательно, они – не разные способности.
Отвечаю: следует сказать, что высший и низший разум, согласно тому, как они понимаются Августином, никоим образом не могут быть двумя потенциями души. Ведь Августин говорит, что высший разум есть то, что направлено на созерцание или обдумывание вечного: согласно созерцанию вечное созерцается в нем самом, согласно обдумыванию он воспринимает правила действия от вечного. Низший же разум называется от того, что направлен на временные вещи. Эти же два, то есть временное и вечное, относятся к нашему познанию таким образом, что одно из них есть посредник для познания другого. Ведь, согласно пути изыскания, посредством временных вещей мы приходим к познанию вечных согласно следующему высказыванию апостола в Послании к Римлянам (1, 20): «Невидимое Бога чрез рассматривание творений видимо», путем суждения же мы судим о временном посредством познанного вечного и располагаем временное согласно понятиям вечного. Но может случиться, что среднее и то, к чему мы приходим через среднее, относятся к различным навыкам, так первые недоказуемые начала относятся к навыку интеллекта, выведенные же из них заключения – к навыку науки. И потому из начал геометрии случается выводить что-либо в других науках, например в оптике. Но то, к чему относится и среднее, и крайнее, есть одна и та же способность разума. Ведь акт познания есть как бы движение, переходящее от одного к другому, то же есть движущееся, что достигает предела через среднее. Поэтому высший и низший разум суть одна и та же способность. Но они различаются, согласно Августину, согласно порядку действия и согласно различным областям действия, ведь высшему разуму атрибутируется мудрость, низшему же – наука.
1. Относительно первого следует сказать, что часть может быть названа согласно тому или иному основанию разделения. Следовательно, высший и низший разум называются раздельно в той мере, в какой разум разделяется согласно различным обязанностям, но не потому, что они суть разные способности.
2. Относительно второго следует сказать: говорится, что низший разум выводится из высшего или управляется им постольку, поскольку начала, которыми пользуется низший разум, выводятся и направляются началами высшего разума.
3. Относительно третьего следует сказать: познающее, о котором говорит Философ, не есть то же, что высший разум, ведь необходимое познаваемое обнаруживается также во временных вещах, о которых существуют естественная наука и математика. Способности – производящая мнение и рассуждающая – менее, чем низший разум, поскольку они в большей степени случайны, чем он. Однако не следует просто говорить, что есть иная способность, посредством которой интеллект познает необходимое, и другая, посредством которой он познает случайное, поскольку и то и другое познают согласно одному и тому же понятию объекта, то есть согласно понятию сущего и истинного. Поэтому и необходимое, которое имеет совершенное бытие в истине, интеллект познает совершенно; ведь он достигает чтойности необходимого, посредством которой выявляет собственные акциденции в нем. Случайное же он познает несовершенно, так как оно имеет несовершенное бытие и истину. Совершенное же и несовершенное актуально не создают различие способности, но создают различие актов в отношении способа действия и, следовательно, в отношении начал этих актов и их навыков. И поэтому Философ полагал две различные души, познающую и рассуждающую, но не потому, что они суть две способности, а потому, что они разделяются согласно различной приспособленности к восприятию посредством различных навыков, различие которых он намеревается там исследовать. Случайное же и необходимое, хотя и различаются согласно собственным родам, сходятся, однако, в общем понятии сущего, посредством которого воспринимает интеллект и к которому они различным образом относятся как совершенное и несовершенное.
4. Относительно четвертого следует сказать, что это различение Дамаскина есть различение согласно различию актов, но не согласно различию способностей. Ведь мнение обозначает акт интеллекта, который склоняется к одной части противоположности из-за колебания относительно другой. Рассуждение же или оценивание суть акты интеллекта, применяющего точные принципы к проверке утверждений. И из-за этого принимается имя «ум». Познавать же интеллектуально значит связывать результаты суждения с некоторым доказательством.
Глава 10. Отлична ли интеллигенция от интеллекта?
1. Кажется, что интеллигенция есть иная способность, чем интеллект. Ведь в книге «О духе и душе» (Псевдо-Августина, 11) говорится, что когда мы хотим подняться от низшего к высшему, сперва нам является чувство, затем воображение, затем разум, после этого интеллект и после него – интеллигенция. Но воображение и чувство суть разные способности. Следовательно, также интеллигенция и разум.
2. Кроме того, Боэций говорит в пятой книге «Об утешении философией», что в самом человеке иначе усматривает воображение, и иначе разум, иначе интеллигенцию. Но интеллект и разум суть одна и та же способность. Следовательно, кажется, что интеллигенция – иная способность, чем интеллект, как разум есть иная способность, чем воображение и чувство.
3. Кроме того, акты предшествуют потенции, как говорится во второй книге «О душе» (Аристотеля, 415а 18). Но интеллигенция есть некий акт, отдельный от других актов, которые атрибутируются интеллекту. Ведь Дамаскин говорит (Точное изложение православной веры, 2), что первое движимое называется интеллигенцией; то же, по отношению к чему она является интеллигенцией, называется интенцией; то, что сохраняется и формирует душу к тому, что познается, называется размышление (excogitatio), размышление же, содержащееся в одном и том же и проверяющее и судящее само себя, называется фронесис (то есть мудрость); фронесис же распространяет познание, то есть существующую внутри речь, из чего утверждают, что речь становится высказанной посредством языка. Следовательно, кажется, что интеллигенция есть некоторая особенная способность.
Но против то, что Философ говорит в третьей книге «О душе» (430а 26), что интеллигенция относится к неделимому, в котором нет ложного. Но познание такого рода относится к интеллекту. Следовательно, интеллигенция не есть иная способность, чем интеллект.
Отвечаю: следует сказать, что имя «интеллигенция» в собственном смысле обозначает сам акт интеллекта, который есть познание. Однако в некоторых книгах, переведенных с арабского, отделенные субстанции, которые мы называем ангелами, называются «интеллигенциями», скорее всего, потому, что такого рода субстанции всегда познают актуально. Однако в книгах, переведенных с греческого, они называются интеллектами или умами. Таким образом, интеллигенция отличается от интеллекта не так, как способность от способности, но так, как акт от потенции. И такое разделение исходит от философов. Ведь некоторые полагают четыре интеллекта, то есть действующий интеллект, возможностный, хабитуальный (in habitu) и приобретенный (adeptus). Из коих четырех действующий и возможностный интеллекты суть различные потенции, как и во всем есть иная потенция активная и иная – пассивная. Иначе три из них различаются согласно трем состояниям возможностного интеллекта, который иногда только в потенции – и тогда называется возможностным, иногда же в первом акте, который есть наука, – и тогда он называется хабитуальным интеллектом, иногда же во втором акте, который есть созерцание, – и тогда он называется интеллектом актуальным или приобретенным.
1. Итак, относительно первого следует сказать: если должно принимать авторитет этой книги, интеллигенция полагается в качестве акта интеллекта. И, таким образом, она отделяется от интеллекта, как акт от потенции.
2. Относительно второго следует сказать, что Боэций понимает интеллигенцию как акт интеллекта, который превосходит акт разума. Поэтому там же он говорит, что разум в той же степени относится к человеческому роду, в какой только интеллигенция к божественному, ведь собственное свойство Бога в том, что он познает все без какого-либо исследования.
3. Относительно третьего следует сказать, что все те акты, которые перечисляет Дамаскин, относятся к одной потенции, а именно к познающей. Она же, во-первых, что-либо схватывает просто, и этот акт называется интеллигенцией. Во-вторых, направляет то, что схватывает, к какому-либо другому познанию или действию, и этот акт называется интенцией. Когда же она долго останавливается на исследовании того, на что направлена, то этот акт называется размышлением. Когда результат размышления она тщательно проверяет, пока он не станет точным, то этот акт называется мудрым познанием или мышлением, то есть фронесисом или мудростью, ведь мудрость есть суждение, как говорится в первой книге «Метафизики» (Аристотель, 982а 18). От того, что она познала нечто как точное, тщательно проверив его, она познает, что может некоторым образом объявить другим, и это есть расположение внутренней речи, из которой происходит внешняя речь. Но не всякое различие актов создает различие способностей, но только то, которое не может быть возведено к одному и тому же началу, как выше было сказано (78, a. 4).
Глава 11. Являются ли теоретический и практический интеллекты различными способностями?
1. Кажется, что теоретический и практический интеллекты суть различные способности. Ведь схватывающая и движущая суть различные роды способностей, как явствует из второй книги «О душе» (Аристотель, 414а 31), но теоретический интеллект есть только схватывающий, практический же интеллект есть движущий. Следовательно, они суть разные потенции.
2. Кроме того, различное понятие объекта создает различие способностей. Но объектом теоретического интеллекта является истинное, объектом же практического – благое, которые различаются по смыслу. Следовательно, теоретический и практический интеллекты суть разные потенции.
3. Кроме того, в интеллектуальной области практический интеллект относится к теоретическому так, как оценивающее к воображающему в чувственной области. Но оценивающее отличается от воображающего как способность от способности, как выше было сказано (78, a. 4). Следовательно, и практический интеллект отличается от теоретического.
Но против то, что говорится в третьей книге «О душе» (Аристотель, 433а 14), что теоретический интеллект становится практическим посредством распространения. Но одна способность не превращается в другую. Следовательно, теоретический и практический интеллект не являются разными способностями.
Отвечаю: следует сказать, что практический и теоретический интеллекты не являются различными способностями. Доказательство этого: то, что относится акцидентально к понятию объекта, которое воспринимает какая-либо способность, не создает различие способностей, как выше было сказано (q. 77, a. 3), ведь обладающему цветом, каков человек, случается быть или большим, или меньшим, поэтому все свойства такого рода схватываются одной и той же зрительной способностью. Случается же, что что-либо, схваченное интеллектом, направляется к действию или не направляется. И согласно этому различаются теоретический и практический интеллекты. Ведь теоретический интеллект направляет то, что схватывает, не к действию, но только к созерцанию истины, практическим же интеллектом называется тот, что направляет к действию то, что он схватывает. И это Философ говорит в третьей книге «О душе» (433а 14), что теоретический интеллект отличается от практического в отношении цели. Поэтому и тот и другой именуются от их целей: один теоретическим, другой же практическим, то есть деятельным.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что практический интеллект является движущим не как осуществляющий движение, но как направляющий к движению, что подобает ему согласно его способу схватывания.
2. Относительно второго следует сказать, что истинное и благое включают друг друга, ведь истинное есть некоторое благое, иначе оно не было бы желаемым, и благое есть некоторое истинное, иначе оно не было бы умопостигаемым. Итак, следовательно, объект желания может быть истинным постольку, постольку имеет смысл благого, как, например, когда кто-нибудь желает познать истину; и таким образом объектом практического интеллекта является благое, направленное к действию, под понятием истинного. Практический же интеллект познает истину, как и теоретический, но направляет познанную истину к действию.
3. Относительно третьего следует сказать, что многие различия разделяют чувственные потенции, но не создают различия познающих способностей, как выше было сказано (a. 7, ad 2).
Глава 12. Является ли синдересис способностью, отличной от других?
1. Кажется, что синдересис есть некая особая способность, отличная от других. Ведь то, что подпадает под одно деление, по-видимому, относится к одному роду. Но в глоссе Иеронима на Иезекииля (1, 6) синдересис перечисляется вместе с гневной, вожделеющей и разумной частями души, которые суть некоторые способности. Следовательно, синдересис есть некоторая способность.
Синдересис – некоторый навык, хранящий аксиоматическое, очевидное начало практического разума, из которого выводятся основы этической, правовой и политической жизни. Это начало формулируется так: «Необходимо стремиться ко благу, а зла избегать». Такая формулировка кажется тавтологией, но Фома Аквинский показывает, как из нее можно, во-первых, вывести последующие положения, исходя из естественных склонностей человека (прежде всего каждая субстанция желает сохранять себя сообразно своей природе, из чего следуют предписания оберегать жизнь; другая склонность – поддерживать свой род и размножаться, из чего следуют предписания относительно брака и воспитания детей; третья склонность связана с тем, что человек является разумным существом и разум предписывает ему поддерживать социальную жизнь и стремиться к истине, особенно относительно Бога, и избегать невежества), а во-вторых, давать оценку более сложным представлениям о том, что мы считаем благом или злом. Также при помощи этого принципа мы можем оценивать нашу совесть: она может часто заблуждаться и создавать иллюзию того, что мы всегда совершаем правильные поступки. В настоящее время в этической философии возрождается интерес к этой концепции Фомы Аквинского.
2. Кроме того, противоположное относится к одному роду. Но кажется, что синдересис и чувственность противополагаются, поскольку синдересис всегда склоняется к благому, чувственность же – всегда ко злому, поэтому обозначается «змеей», что ясно из Августина, в двенадцатой книге «О Троице» (12, 12). Следовательно, кажется, что синдересис, как и чувственность, есть способность.
3. Кроме того, Августин говорит в книге «О свободном произволении» (2, 10), что естественной судящей способности присущи некоторые правила и семена, духовные, истинные и неизменные, и это мы называем «синдересис». Следовательно, поскольку неизменные правила, посредством которых мы судим, относятся к разуму согласно его высшей части, как говорит Августин в двенадцатой книге «О Троице» (12, 2), то кажется, что синдересис есть то же, что и разум. И, таким образом, он есть некоторая способность.
Но против: рациональная способность, согласно Философу (в Метафизике, 1046b 5), имеет отношение к противоположному. Синдересис же не имеет отношения к противоположному, но склоняется только к благому. Следовательно, синдересис не есть способность. Ведь если бы он был способностью, надлежало бы, чтобы он был рациональной способностью, поскольку не обнаруживается у животных.
Отвечаю: следует сказать, что синдересис есть не способность, а навык, хотя некоторые полагали, что синдересис есть некоторая способность, более первичная, чем разум, другие же говорили, что он есть сам разум, но не как разум, а как природа. Для очевидности этого надлежит рассмотреть, что, как выше было сказано (a. 8), человеческое рассуждение, поскольку оно есть некоторое движение, исходит из знания чего-либо, а именно естественно известного без исследования разума, как от некоторого неподвижного начала, и завершается в интеллекте, ведь о том, что мы находим, рассуждая, мы судим посредством начал, по природе известных самих по себе. Установлено же, что как теоретический разум рассуждает о теоретическом, так и практический разум рассуждает об исполнимом. Итак, надлежит, чтобы в нас были естественно вложены как начала теоретические, так и начала исполнимого. И первые теоретические начала, по природе вложенные в нас, не относятся к некоторой особой потенции, но к некоторому специальному навыку, который называется «интеллектом начал», что явствует из шестой книги «Этики» (1141а 7). Поэтому и начала исполнимого, естественно вложенные в нас, относятся не к особой потенции, но к особому естественному навыку, который мы называем синдересисом. Поэтому и говорится, что синдересис побуждает к благому и ропщет на злое, поскольку мы достигаем обнаружения посредством первых начал и судим обнаруженное. Следовательно, ясно, что синдересис не есть способность, но естественный навык.
1. Итак, относительно первого следует сказать, что это разделение Иеронима относится к различию актов, но не к различию способностей. Различные же акты могут относиться к одной способности.
2. Относительно второго следует сказать, что, схожим образом, противоположность чувственности и синдересиса относится к противоположности актов, но не различных видов одного рода.
3. Относительно третьего следует сказать, что такого рода неизменные понятия суть первые начала исполнимого, относительно которых не случается ошибаться, и они атрибутируются разуму как способности и синдересису как навыку. Поэтому мы естественно судим посредством того и другого, то есть и разума, и синдересиса.
Глава 13. Является ли совестьспособностью?
1. Кажется, что совесть есть некоторая способность. Ведь Ориген говорит (в Комментарии на Послание к Римлянам, 2, 15), что совесть есть совершенствующий дух и общий педагог души, посредством которого она отделяется от злого и прилепляется к благому. Но духом в душе называют какую-либо способность или сам ум, согласно следующему из Ефес. (4, 23): «Вы обновляетесь духом ума вашего», или само воображение, поэтому и воображающее зрение называется духовным, что ясно из Августина (двенадцатая книга «Комментария на Книгу Бытия», 12, 7). Следовательно, совесть есть некоторая способность.
2. Кроме того, ничто не является носителем греха, кроме способности души. Но совесть есть носитель греха, ведь говорится в послании к Титу (1, 15) о неких, что осквернены их ум и совесть. Следовательно, кажется, что совесть является способностью.
3. Кроме того, необходимо, чтобы совесть была или актом, или навыком, или способностью. Но она не акт, поскольку не всегда остается в человеке. И не навык, ведь тогда бы совесть была не одна, но множественная, ведь мы направляемся к тому, что должно быть сделано посредством многих познавательных навыков. Следовательно, совесть является способностью.
Но против: совесть может быть отвергнута, но способность – нет. Следовательно, совесть не является способностью.
Отвечаю: следует сказать, что совесть, собственно говоря, является не способностью, но актом. И это явствует как из смысла имени, так и из того, что атрибутируется совести согласно общему употреблению речи. Ведь совесть, согласно собственному значению слова, привносит подчинение познания чему-либо, ибо «совестью» называется «ве́дение вместе с другим». Приложение же познания к чему-либо происходит посредством некоторого акта. Поэтому из этого смысла имени явствует, что совесть есть акт. То же самое очевидно из того, что атрибутируется совести. Говорится же, что совесть свидетельствует, связывает или побуждает и даже обвиняет, или терзает, или удерживает. И все это влечет за собой приложение какого-либо нашего познания или науки к тому, что мы делаем. Приложение же это бывает тройственным. Одним образом, согласно которому мы пересматриваем то, что мы сделали или не сделали, согласно следующему (Еккл. 7, 22): «Знает совесть твоя, что ты часто хулил других», и согласно этому говорится, что совесть свидетельствует. Другим способом прилагается согласно тому, что мы судим посредством нашей совести, надлежит ли что-то делать или нет, и согласно этому говорится, что совесть побуждает или связывает. Третьим способом прилагается согласно тому, что посредством совести мы судим о том, что нечто совершенное совершено хорошо или нехорошо, и согласно этому говорится, что совесть извиняет, или обвиняет, или терзает. Итак, ясно, что все это влечет за собой актуальное приложение познания к тому, что мы делаем. Поэтому, собственно говоря, совесть называют актом. Поскольку, однако, навык есть начало акта, то иногда имя совести атрибутируется первому природному навыку, то есть синдересису: так, Иероним в глоссе на Иезекииля (1, 6) называет совесть синдересисом, и Василий (Гомилии на начало Притч, 31) – природным судящим, и Дамаскин (Точное изложение православной веры, 4, 22) говорит, что она есть закон нашего интеллекта. Ведь по обыкновению причина и действие именуются друг от друга.
Василий Великий (ок. 330–379), церковный деятель и богослов, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Принимал активное участие в антиарианской полемике, большую популярность получили его «Беседы на Шестоднев», обращенные к простой аудитории.
1. Относительно первого, следовательно, надлежит сказать, что совесть называется духом, согласно тому что слово «дух» используется вместо «ум», поскольку он есть некоторый синоним ума.
2. Относительно второго следует сказать: говорится, что в совести есть осквернение не как в субъекте, но как познанное в познании, то есть поскольку некто знает, что он осквернен.
3. Относительно третьего следует сказать, что акт, даже если он не всегда остается в себе, однако всегда остается в своей причине, которая есть способность и навык. Навыки же, из которых формируется совесть, даже если их много, все же имеют причиной одно первое, а именно навык первых начал, который называется синдересис. Поэтому этот навык иногда особо называется совестью, как выше было сказано.
Вопрос 82. О воле
Вопрос о воле состоит из пяти тем: (1) Желает ли воля чего-либо по необходимости? (2) Все ли она желает по необходимости? (3) Более ли она значительная способность, чем интеллект? (4) Приводит ли воля в движение интеллект? (5). Отлична ли воля в отношении вожделеющей и гневной частей? Мы приводим первые две главы, где рассматривается одна из самых сложных проблем томистской философии – проблема свободы воли (обсуждение этой проблемы началось еще в вопросах 19 (а. 8) и 22 (а. 4) и продолжается в следующем вопросе 83, о свободном произволении). По Писанию, человек создан по образу и подобию Бога, а это, согласно Фоме Аквинскому, означает, что он наделен разумом и свободой воли. Однако утвердить такую позицию непросто, ведь этой свободе противоречит как то жалкое состояние, в котором находится человек, подчиненный множеству материальных обстоятельств, так и божественное предвидение, благодать и непреложное стремление человека к Богу. В то время как многие мыслители, жившие и до Фомы Аквинского, и после него (наиболее яркие примеры – Лютер и Гоббс), отвергали свободу воли вообще, или существенно ограничивали ее, или признавали неразрешимую парадоксальность соотношения свободы воли и благодати, Фома Аквинский последовательно утверждает эту свободу как необходимую основу человеческой личности, совершающей этические действия.
Глава 1. Желает ли воля чего-либопо необходимости?
1. Кажется, что воля ничего не желает по необходимости. Ведь говорит Августин в пятой книге «О граде Божием», что если нечто необходимо, то оно не добровольно. Но все то, что воля желает, она желает добровольно. Следовательно, ничто из того, что желает воля, не есть желаемое по необходимости.
2. Кроме того, согласно Философу, силы, относящиеся к разуму, направлены на противоположности (Аристотель. Метафизика. 1046b 5). Но воля есть сила, относящаяся к разуму, поскольку, как говорится в третьей книге «О душе» (Аристотель, 432b 5), «воля находится в разуме». Следовательно, воля относится к противоположностям и ни к чему не определена по необходимости.
3. Кроме того, благодаря воле мы – хозяева наших действий. Но мы не хозяева того, что происходит по необходимости. Следовательно, действие воли не может происходить по необходимости.
Но этому противоречит то, что говорит Августин в тринадцатой книге «О Троице» (XIII, 4), – что все желают блаженства единой волей. Но если это было бы не необходимо, но случайно, то этого не происходило бы по крайней мере в немногих случаях. Следовательно, воля желает нечто по необходимости.
Отвечаю: следует сказать, что о необходимости говорится во многих смыслах. Ведь необходимо то, чего не может не быть. Но нечто происходит по необходимости, во-первых, согласно внутреннему основанию: либо материально, например, когда мы говорим, что все, составленное из противоположного, должно по необходимости разрушиться, либо формально, например, когда мы говорим, что необходимо, чтобы треугольник имел три угла, равные двум прямым углам. И это природная и абсолютная необходимость. Во-вторых, нечто, не могущее не быть, происходит из-за чего-либо внешнего, или из-за цели, или из-за деятеля. Из-за цели – когда некто не может без чего-то преследовать некую цель (или успешно преследовать): так, например, говорят, что продовольствие необходимо для жизни, и лошадь необходима для путешествия. Это называется необходимостью ради цели, которую называют также полезностью. Из-за деятеля нечто происходит по необходимости, когда кто-то принужден некоторым деятелем к невозможности делать противоположное. И это называется необходимостью по принуждению. Эта необходимость по принуждению всецело противоречит воле. Ведь мы называем насильственным то, что против склонности вещи. Но само движение воли есть некая склонность к чему-то. Следовательно, подобно тому как нечто называется природным, поскольку оно согласуется со склонностью природы, так и нечто называется добровольным, потому что оно согласуется со склонностью воли. Следовательно, как невозможно, чтобы нечто в то же самое время было и насильственным, и природным, так невозможно и чтобы нечто было просто вынужденным, или насильственным и вместе с тем добровольным. Но «необходимость ради цели» не противоречит воле, если цели можно достичь только одним способом; так, например, из-за желания пересечь море в воле возникает необходимость желать судно. В этом смысле никакая природная необходимость не противоречит воле. Более того, как необходимо, чтобы интеллект по необходимости твердо придерживался первых оснований, так и воля по необходимости твердо придерживается предельной цели, которая есть блаженство, ведь цель в отношении практического – то же, что основания в отношении теоретического, как говорится во второй книге «Физики» (Аристотель, 200a 21). Ведь надлежит, чтобы то, что по природе и неизменно подобало чему-то, было бы фундаментом и основанием всего остального, поскольку природа вещи есть первое в каждой вещи, а каждое движение происходит от чего-то неподвижного.
1. Относительно первого следует сказать, что слово Августина о необходимости надлежит понимать в отношении «необходимости по принуждению». Но природная необходимость не устраняет свободу воли, как говорит он же в той же книге.
2. Относительно второго следует сказать, что воля, согласно которой некто желает согласно природе, соответствует скорее интеллекту, который постигает природные основания, чем разуму, который направлен на противоположное. Следовательно, согласно этому, она скорее интеллектуальная, чем рациональная сила.
3. Относительно третьего следует сказать, что мы – хозяева наших действий согласно тому, что мы можем выбрать то или это. Но выбор относится не к цели, но к тому, что для цели, как говорится в третьей книге «Этики» (Аристотеля, 1111b 27). Следовательно, желание предельной цели не относится к тому, хозяевами чего мы являемся.
Глава 2. Желает ли воляпо необходимости все то, что она желает?
1. Кажется, что воля желает по необходимости все, что она желает. Ведь говорит Дионисий в четвертой главе трактата «О божественных именах» (IV. 32), что злое вне воли. Следовательно, воля по необходимости склоняется к благому, которое ей представлено интеллектом.
2. Кроме того, объект воли относится к ней, как движущее к движимому. Но движение движимого следует из движущего необходимым образом. Следовательно, кажется, что объект воли приводит ее в движение по необходимости.
3. Кроме того, как схваченное чувством есть объект чувственного желания, так и схваченное интеллектом есть объект интеллектуального желания, которое называется волей. Но схваченное чувством приводит в движение чувственное желание по необходимости; ведь говорит Августин в девятой книге буквального комментария на Книгу Бытия (IX, 14), что животные приводятся в движение увиденным ими. Следовательно, кажется, что все, схваченное интеллектом, приводит в движение волю по необходимости.
Но этому противоречит то, что говорит Августин (Пересмотры, I, 9): «Именно благодаря воле грешат или живут праведно»; следовательно, воля относится к противоположному. Следовательно, она не желает по необходимости все, что она желает.
Отвечаю: следует сказать, что воля не желает по необходимости все, что она желает. Чтобы сделать это очевидным, следует принять во внимание, что, подобно тому как интеллект по природе и с необходимостью твердо придерживается первых оснований, так и воля твердо придерживается предельной цели, как уже сказано (q. 82, a. 1). Но есть нечто умопостигаемое, не имеющее необходимой связи с первыми основаниями: таковы вероятностные суждения, опровержение которых не влечет опровержения первых оснований, и с ними интеллект соглашается не по необходимости. Но другие суждения – необходимы, это те, которые имеют необходимую связь с первыми основаниями: таковы доказуемые заключения, опровержение которых влечет опровержение первых оснований, и с ними интеллект соглашается по необходимости, как только он познает необходимую связь этих выводов с основаниями при проведении доказательства, но он не согласится по необходимости прежде, чем посредством доказательства не познает необходимость такого рода связи. То же самое верно и по отношению к воле. Ведь существуют некоторые частные блага, которые не имеют необходимой связи с блаженством, потому что и без них человек может быть блаженным, и воля не придерживается такого рода благ по необходимости. Но есть и другие блага, имеющие необходимую связь с блаженством, а именно те, посредством которых человек твердо придерживается Бога, Того, в Ком единственно состоит истинное блаженство. Однако, прежде чем благодаря божественному видению с достоверностью не покажется необходимость такого рода связи, воля не придерживается по необходимости ни Бога, ни того, что относится к Богу. Но воля того, кто узрел Бога в Его сущности, по необходимости твердо придерживается Бога, поскольку все мы желаем быть блаженными по необходимости. Следовательно, ясно, что воля не желает по необходимости все, что она желает.
1. Относительно первого следует сказать, что воля может иметь склонность к чему-то, только если оно определено как благо. Но поскольку благо имеет множество видов, то воля не определена, по необходимости, к одному.
2. Относительно второго следует сказать, что движущее тогда причиняет движение в движимом по необходимости, когда сила движущего превышает силу движимого, так, что ее возможность всецело подчинена движущему. Но поскольку возможность воли относится к универсальному и совершенному благу, то она не подчинена каждому частному благу. И, следовательно, она не приводится в движение им по необходимости.
3. Относительно третьего следует сказать, что чувственная способность не есть способность, сравнивающая различное (подобно тому как это делает разум), она просто схватывает нечто одно. Поэтому это одно приводит в движение чувственное желание определенным образом. Но разум сравнивает многое; следовательно, интеллектуальное желание, то есть воля, может приводиться в движение многим, но не одним по необходимости.
Вопрос 83. О свободном произволении
Далее ставятся вопросы о свободном произволении. И относительно этого ставятся четыре вопроса:
1. Обладает ли человек свободным произволением?
2. Что есть свободное произволение – способность, действие или навык?
3. Если оно есть способность, то желательная или познавательная?
4. Если желательная, то та же самая это способность, что и воля (voluntas), или другая?
Глава 1. Обладает ли человексвободным произволением?
1. Кажется, что человек не обладает свободным произволением. Ведь всякий, кто обладает свободным произволением, делает то, что он желает. Но человек не делает то, что он желает, ведь говорится в Послании к Римлянам (7, 19): «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Следовательно, человек не обладает свободным произволением.
2. Кроме того, всякий, кто обладает свободным произволением, имеет в своей власти желать или не желать, действовать или не действовать. Но это не во власти человека: поскольку говорится в Послании к Римлянам (9, 16): «И так зависит не от желающего (то есть желать) и не от подвизающегося (то есть совершать), но от Бога милующего». Следовательно, человек не обладает свободным произволением.
3. Кроме того свободно то, что есть причина самого себя, как говорится в первой книге «Метафизики» (Аристотель, 982b 26). Следовательно, то, что приводится в движение другим, несвободно. Но волю приводит в движение Бог, как говорится в Притчах (21, 1): «Сердце царя – в руке Господа: куда захочет Он, направляет его» и в Послании к Филистимлянам (2, 13): «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Следовательно, человек не обладает свободным произволением.
4. Кроме того, тот, кто обладает свободным произволением, есть господин своих действий. Но человек не господин своих действий: ведь говорится у Иеремии (10, 23): «Не в воле человека путь его, не во власти идущего давать направление стопам своим». Следовательно, человек не обладает свободным произволением.
5. Кроме того, в третьей книге «Этики» у Философа говорится (Никомахова этика, 1114а 32): «Каков каждый человек сам по себе, такова и его цель». Но не в нашей власти обладать неким качеством, поскольку оно пребывает в нас от природы. Следовательно, то, что мы преследуем некоторую цель, присуще нам от природы и, следовательно, мы не свободны в произволении.
Но этому противоречит то, что говорится в Екклизиастике (Сир. 15, 14): «Бог сотворил человека в начале, и отдал его в руки его собственного решения»; и глосса добавляет: «то есть в его свободное произволение».
Глосса – имеется в виду т. н. «Глосса между строк», анонимное толкование, написанное между строк Библии.
Отвечаю: следует сказать, что человек обладает свободным произволением, иначе советы, увещевания, приказы, запрещения, награды и наказания были бы тщетны. Чтобы сделать это очевидным, мы должны рассмотреть то, что некоторые вещи действуют без суждения; так, камень движется вниз и подобным образом движется все, лишенное познания. А другие действуют, исходя из суждения, но не из свободного – таковы животные. Ведь овца, видя волка, судит, что его нужно избежать, посредством природного, а не свободного суждения, потому что она судит не при помощи сопоставления, но от природного побуждения (instinctus). И то же самое верно относительно любого суждения животных. Но человек действует, руководствуясь суждением, потому что благодаря познавательной способности он судит, что чего-либо нужно избежать или что-либо преследовать. Но поскольку это суждение, в случае частного объекта действия, происходит не от природного побуждения, но из некоторого сравнения в разуме, то он действует посредством свободного суждения, имея возможность склоняться к различному. Ведь разум, в отношении случайного, имеет путь к противоположному, как ясно из силлогизмов Диалектики и из убеждающих приемов Риторики. Но частные объекты действия суть нечто контингентное, и поэтому суждение разума в отношении них может относиться к противоположному, а не определено к одному. И поскольку человек разумен, то необходимо, чтобы он обладал свободным произволением.
1. Относительно первого следует сказать, что, как сказано выше (q. 81, a. 3, ad 2), чувственное желание, хотя и повинуется разуму, все же иногда может сопротивляться, желая вопреки тому, что предписывает разум. Следовательно, благом может быть и то, когда человек не делает того, что он желает, – то есть когда желает не вожделеть того, что противно разуму, как там же говорит Августин.
Фома Аквинский имеет в виду, что Августин пишет об этом в глоссе к Посланию к Римлянам.
2. Относительно второго следует сказать, что эти слова Апостола не следует понимать так, что человек по свободному произволению не желает чего-либо или не заботится о чем-либо, но так, что свободного произволения недостаточно для этого, если оно не движимо Богом и не получает от Него помощи.
3. Относительно третьего следует сказать, что свободное произволение – причина собственного движения, потому что посредством свободного произволения человек движется к тому, чтобы действовать. Но не всегда необходимым образом к свободе относится то, что нечто свободное есть первая причина себя, подобно тому как причине другого не требуется быть его первой причиной. Ведь Бог есть первая причина, движущая и природные, и волевые причины. И подобно тому как, придавая движение природным причинам, Он не лишает их того, чтобы их действия были природными, так, придавая движение волевым причинам, Он не лишает их того, чтобы их действия были волевыми; но скорее Он действует в них, поскольку Он действует в них согласно их собственной природе.
4. Относительно четвертого следует сказать: говорится, что «не в воле человека путь его» в отношении к осуществлению его выбора, в котором можно препятствовать человеку – желает он или не желает. Однако сам выбор в нашей власти, но предполагая помощь Бога.
5. Относительно пятого следует сказать, что человек обладает двоякими свойствами: одно – природное, а другое – добавочное. Но природное свойство может рассматриваться либо относительно интеллектуальной части, либо относительно тела и к нему относящихся достоинств. Таким образом, из того, что человек такой-то по природному свойству, которое находится в интеллектуальной части, он по природе желает предельную цель, то есть блаженства. Таковое желание природно и не подлежит свободному произволению, как ясно из того, что сказано выше (q. 82, a. 1). Но со стороны тела и относящихся к нему достоинств человек может быть таким-то на основании природного свойства, согласно тому что он имеет такой-то склад или расположение из-за какого-либо влияния, произведенного телесными причинами, которые не могут запечатлеваться в интеллектуальной части, так как она не есть некое действие тела. И, таким образом, каков тот или иной человек по телесному качеству, таковой и его цель кажется ему, потому что из-за такого рода расположения он склонен что-либо выбирать или отклонять. Но эти склонности подчинены суждению разума, которому повинуется более низкое желание, как сказано (q. 81, a. 3). Поэтому свободному произволению никоим образом не наносится ущерб.
Дополнительные свойства, навыки и страсти суть те, согласно которым некто склонен к одному более, чем к другому. И все же даже эти склонности подчинены суждению разума. И поскольку такого рода свойства также подчинены ему, то в нашей власти, приобретать ли такого рода качества посредством причинения их или расположения себя к ним или же отклонять их от себя. И, таким образом, в этом нет ничего, что бы противоречило свободному произволению.
Глава 2. Является ли свободноепроизволение способностью?
1. Кажется, что свободное произволение – не способность. Ведь свободное произволение есть не что иное, как свободное суждение. Но «суждением» именуется не способность, а действие. Следовательно, свободное произволение – не способность.
2. Кроме того, свободное произволение называют «возможностью воли и разума». Но возможность именует расположенность силы, которая существует благодаря навыку. Следовательно, свободное произволение есть навык. Ведь Бернард (Бернард Клервоский. О благодати и свободе воли. 1, 2) говорит, что свободное произволение есть «навык души распоряжаться собой». Следовательно, оно – не способность.
Бернард Клервоский (1091–1153) – богослов и церковный деятель, автор трактата «О благодати и свободе воли», в котором он выделяет три типа свободы: свобода от необходимости, или по природе, свобода от греха, или по благодати, и свобода от страданий, или свобода славы. Это деление имеет в виду Фома Аквинский в ответе на третий аргумент данной главы.
3. Кроме того, никакая природная способность не утрачивается через грех. Но свободное произволение утрачивается через грех, ведь говорит Августин в тридцатой главе «Энхиридиона», что, пользуясь свободным произволением ко злу, человек погубил и себя, и его. Следовательно, свободное произволение – не способность.
Но этому противоречит то, что субъект навыка, по-видимому, есть не что иное, как способность. Но свободное произволение – субъект благодати, с помощью которой оно избирает то, что благо. Следовательно, свободное произволение – способность.
Отвечаю: следует сказать, что хотя свободное произволение, согласно собственному значению этого слова, именует некое действие, но в обычном словоупотреблении мы называем свободным произволением то, что есть основание действия, а именно то, посредством чего человек судит свободно. Но основанием действия в нас бывает и способность, и навык, ведь мы говорим, что мы знаем нечто и посредством знания, и посредством интеллектуальной способности. Следовательно, свободное произволение должно быть или способностью, или навыком, или способностью вместе с навыком. То, что оно не есть ни навык, ни способность вместе с навыком, проясняется из двух оснований. Во-первых: если оно – навык, то оно должно быть природным навыком, поскольку человек от природы обладает свободным произволением. Но в нас нет природного навыка относительно тех вещей, которые подлежат свободному произволению: ведь мы по природе склоняемся к тем вещам, относительно которых мы имеем природный навык, например навык соглашаться с первыми основаниями, в то время как те вещи, к которым мы склонны по природе, не подлежат свободному произволению, как сказано относительно желания блаженства (q. 82, a. 1). Поэтому то, что свободное произволение есть природный навык, противоречит его собственному понятию. Так же противоречит его природе то, что оно неприродный навык. И, следовательно, остается последняя возможность, что оно никоим образом не навык.
Во-вторых, это ясно потому, что о навыках говорится как о том, в силу чего мы расположены благим или злым образом по отношению к своим страстям и действиям, ведь в отношении вожделения мы расположены благим образом посредством сдержанности, а злым образом из-за несдержанности, и в отношении знания мы расположены благим образом к действию интеллекта, когда мы познаем истинное, а противоположным навыком расположены злым образом. Но свободное произволение равным образом относится к избранию благого и злого; следовательно, невозможно свободному произволению быть навыком. Следовательно, остается только одно, что оно – способность.
1. Относительно первого следует сказать, что обычно способность обозначается по имени действия. И, таким образом, от того действия, которое есть свободное суждение, называется та способность, которая есть основание этого действия. Иначе если бы «свободным произволением» именовалось действие, то оно не всегда имелось бы в человеке.
2. Относительно второго следует сказать, что возможность иногда называют силой, готовой к действию, и в этом смысле «возможность» полагается в определение свободного произволения. Но Бернард использует слово «навык», не отличая его от способности, но обозначая некоторую способность, посредством которой некто относится, некоторым образом к действию. И это может быть и посредством способности, и посредством навыка, коль скоро посредством способности человек может совершать действие, а посредством навыка он склонен действовать во благо или зло.
3. Относительно третьего следует сказать, что о человеке говорится, что он утрачивает свободное произволение, впадая в грех, не относительно природной свободы, которая есть свобода от принуждения, но относительно свободы от греха и от страданий. К этому мы обратимся ниже в трактате об этике во второй части этой работы (I–II, q. 85 и далее; q. 109).
Глава 3. Является ли свободноепроизволение желающейспособностью?
1. Кажется, что свободное произволение – не желающая, но познавательная способность. Ведь Дамаскин (О православной вере, II, 27) говорит, что свободное произволение непременно сопровождается действием разума. Но разум – познавательная способность. Следовательно, и свободное произволение – познавательная способность.
2. Кроме того, свободное произволение называется как бы свободным суждением. Но судить – действие познавательного достоинства. Следовательно, свободное произволение – познавательная способность.
3. Кроме того, выбор преимущественно принадлежит свободному произволению. Но выбор, как кажется, принадлежит познанию, потому что он подразумевает некоторое сравнение чего-то одного с чем-то другим, что принадлежит познавательному свойству. Следовательно, свободное произволение – познавательная способность.
Но этому противоречит то, что говорит Философ в третьей книге «Этики» (Никомахова этика, 1113а 11), что выбор есть стремление к тем вещам, которые в нашей власти. Но стремление – действие желающей способности, следовательно, таков и выбор. Но свободное произволение – то, согласно чему мы выбираем. Следовательно, свободное произволение – свойство желающей способности.
Отвечаю: следует сказать, что собственное действие свободного произволения – выбор. Ведь мы говорим, что есть свободное произволение, когда мы можем принимать нечто одно, отказываясь от другого, это и значит «выбирать». Поэтому надлежит рассмотреть природу свободного произволения, исходя из выбора. Но в выборе сходятся две части: одна со стороны познающей способности и другая – со стороны желающей. Со стороны познающей требуется размышление, посредством которого мы выносим суждение, что нечто следует предпочитать другому, и со стороны желающей требуется, чтобы желанием принималось то, о чем вынесено суждение посредством совещания. Поэтому Аристотель в шестой книге «Этики» (Никомахова этика, 1139b 4) оставил в сомнении, принадлежит ли выбор первично к желающей или к познающей силе, ведь он говорит, что выбор есть или желающий интеллект, или интеллектуальное желание. Но в третьей книге «Этики» (1111b 27) он более склонен к тому, что выбор – интеллектуальное желание, именуя выбор стремлением, способным к размышлению. И причина этого в том, что собственный объект выбора есть то, что для цели, и оно как таковое, имеет смысл благого, которое называется полезным; и поскольку благое как таковое есть объект желания, то следует, что выбор – первичное действие желающего свойства. И, таким образом, свободное произволение – желающая способность.
«То, что для цели, – то есть средство», – Фома Аквинский часто использует такой оборот, следуя Аристотелю.
1. Относительно первого следует сказать, что желающая способность сопровождается познающей, и поэтому Дамаскин говорит, что свободное произволение непременно сопровождается действием разума.
2. Относительно второго следует сказать, что суждение есть как бы заключение и завершение совещания. Но совещание завершается прежде всего мнением, к которому пришел разум, а затем принятием со стороны желания; поэтому в третьей книге «Этики» (1111b 27) Философ говорит, что, вынося суждение при совещании, мы получаем устремление в соответствии с совещанием. И, таким образом, сам выбор называется неким суждением, от которого именуется и свободное произволение.
3. Относительно третьего следует сказать, что сравнение, которое подразумевается в слове «выбор», принадлежит предшествующему совещанию, которое есть действие разума. Ведь хотя желание и не осуществляет сравнение, все же оно имеет некоторое сходство со сравнением, предпочитая одно другому, поскольку оно приводится в движение постигающим свойством, которое сравнивает.
Глава 4. Является ли свободноепроизволение способностью, отличной от воли?
1. Кажется, что свободное произволение есть способность, отличная от воли. Ведь говорит Дамаскин во второй книге (О православной вере, II, 22), что thelesis есть одно, а boulesis – иное. Но thelesis – воля, в то время как boulesis, как кажется, свободное произволение, потому что boulesis, согласно ему, есть воля, которая происходит относительно чего-то, как бы посредством сравнения одного с другим. Следовательно, кажется, что свободное произволение – способность, отличная от воли.
Согласно Дамаскину, «Должно же знать, что иное есть thelesis, а иное – boulesis… Ибо thelesis есть самая простая способность желания. Boulesis же – желание по отношению к чему-либо».
2. Кроме того, способности познаются по их действию. Но выбор, который есть действие свободного произволения, отличен от действия воли, потому что, как говорится в третьей книге «Этики», воля направлена на цель, выбор же – на то, что для цели. Следовательно, свободное произволение – способность, отличная от воли.
3. Кроме того, воля есть интеллектуальное желание. Но со стороны интеллекта существуют две способности – активная и возможностная. Следовательно, и со стороны интеллектуального желания должна быть помимо воли другая способность. И ею, по-видимому, может только быть свободное произволение. Следовательно, свободное произволение – способность, отличная от воли.
Но этому противоречит то, что говорит Дамаскин в третьей книге (О православной вере, III, 14): свободное произволение есть не что иное, как воля.
Отвечаю: следует сказать, что желающая способность должна быть пропорциональна познающей способности, как сказано выше (I q. 64, a. 2; q. 80, a. 2). Но как со стороны интеллектуального познания имеются интеллект и разум, так со стороны интеллектуального желания имеются воля и свободное произволение, которое есть не что иное, как избирающая сила. И это ясно из их отношения к их объектам и действиям. Ведь действие «понимания» подразумевает простое приятие некоторой вещи, поэтому мы говорим, что нами понимаются собственно основания, которые познаются сами по себе, без какого-либо сравнения. Но «рассуждение», в собственном смысле, есть переход от познания одного к познанию другого, поэтому, в собственном смысле, мы рассуждаем относительно выводов, которые становятся известны благодаря основаниям. Сходным образом со стороны желания «воление» подразумевает простое желание некоторой вещи, поэтому о воле говорится, что она направлена к цели, которая желательна ради самой себя. Но «выбор» есть желание чего-либо ради преследования чего-либо другого, следовательно, в собственном смысле он относится к тому, что для цели. Но как в познавательной сфере основания относятся к выводу, с которым мы соглашаемся из-за оснований, так в желательной сфере цель относится к тому, что для цели, которое желается из-за цели. Поэтому очевидно, что, подобно тому как интеллект относится к рассуждению, так и воля к избирающей силе, которая есть свободное произволение. Ведь, как указано выше (q. 79, a. 8), к тому же самому свойству относится и понимание и рассуждение, так же как к той же самой способности относится пребывание в покое и нахождение в движении. Следовательно, к той же самой способности относится желание и выбор; и на этом основании воля и свободное произволение – не две способности, но одна.
1. Относительно первого следует сказать, что boulesis отличается от thelesis на основании различия не способностей, но действий.
2. Относительно второго следует сказать, что выбор и воля, то есть действие воления, – суть различные действия; и все же они относятся к той же самой способности, так же как «понимание» и «рассуждение», как уже сказано (в этой главе).
3. Относительно третьего следует сказать, что интеллект относится к воле, как нечто движущее ее. И, следовательно, нет необходимости различать в воле активную и возможностную части.
Вопрос 84. Посредством чего душа познает?
Глава 1. Познает ли душа телапосредством интеллекта?
1. Кажется, что душа не познает тела посредством интеллекта. Ведь говорит Августин, в книге второй «Монологов», что тела не могут быть охвачены интеллектом и нечто телесное нельзя узреть иначе, чем чувствами. Говорит также, в двенадцатой книге буквального комментария к Книге Бытия (12, 24), что интеллектуальное видение относится к тому, что находится в душе согласно ее сущности. Но таковое не является телом. Следовательно, душа не может познавать тела посредством интеллекта.
2. Кроме того, как чувство относится к интеллигибельному, так и интеллект к чувственно постижимому. Но душа никоим образом не может посредством чувства познать духовное, которое относится к интеллигибельному. Следовательно, никоим образом не могут познаваться посредством интеллекта тела, которые относятся к чувственно постижимому.
3. Кроме того, интеллект относится к необходимому и всегда обстоящему тем же самым образом. Но все тела подвижны, и с ними дело обстоит не тем же самым образом. Следовательно, душа не может познавать тела посредством интеллекта.
Но против то, что наука – в интеллекте. Следовательно, если бы интеллект не познавал тела, то не было бы никакой науки о телах. И, таким образом, исчезла бы наука о природе, которая касается подвижных тел.
Отвечаю: для того чтобы прояснить этот вопрос, следует сказать, что первые философы, которые исследовали природу вещей, полагали, что в мире нет ничего, помимо тел. И поскольку они видели, что все тела подвижны, и полагали, что они в постоянном течении, то они сочли, что мы не можем обладать никакой достоверной истиной о вещах. Ведь то, что находится в постоянном течении, не может быть схвачено с достоверностью, поскольку оно исчезает прежде, чем ум о нем составляет суждение, поэтому Гераклит сказал, что невозможно дважды коснуться воды текущего потока, как свидетельствует Философ в четвертой книге «Метафизики» (1010а 14).
Гераклит Эфесский (544–483 до н. э.) – древнегреческий философ, его сочинения сохранились только во фрагментах. Согласно Гераклиту, весь космос является порождением изначального огня, периодически возгорающего и гаснущего, и находится в состоянии постоянного изменения, о чем говорит и образ реки, в которую невозможно войти дважды.
Платон, пришедший после них, ради сохранения достоверного познания нами истины посредством интеллекта положил, что, помимо этого телесного, имеется некий род сущего, отделенного от материи и движения, который он назвал видами или идеями, посредством причастности к которым каждое из этих единичных или чувственно постижимых вещей называется человеком, лошадью или чем-либо иным такого рода. Следовательно, согласно Платону, науки, определения и все, касающееся действия интеллекта, относится не к этим чувственно постижимым телам, но к нематериальному и отделенному, и, таким образом, душа не познает это телесное, но отделенные виды этого телесного.
Но это оказывается ложным по двум причинам. Во-первых, раз эти виды нематериальные и неподвижные, то движение и материя (которые являются надлежащими объектами для науки о природе) и доказательство через движущие и материальные причины исключаются из научного познания. Во-вторых, поскольку кажется смешным, стремясь к знаниям о вещах, которые нам известны, брать в качестве посредника другое сущее, которое не может быть их субстанцией, поскольку отлично от них по бытию, и, таким образом, познав эти отделенные субстанции, мы не можем судить посредством этого об этих чувственно постижимых вещах.
По-видимому, в этом Платон отклонился от истины, поскольку считая, что все познание происходит посредством некоторых подобий, он уверовал, что форма познанного находится по необходимости таким же образом в познающем, как и в познаваемом. Он усмотрел, что форма познанной вещи существует в интеллекте универсальным, нематериальным и неподвижным образом, что видно из самой деятельности интеллекта, который познает некоторым универсальным и необходимым образом. Способ же действий следует способу существования формы деятеля. И поэтому он счел, что познанной вещи надлежит субсистировать таким же образом самой по себе, то есть нематериально и неподвижно.
Но для этого нет никакой необходимости. Ведь мы видим, что даже в самом чувственно постижимом форма существует в одном иначе, чем в другом, например в одном белизна более интенсивна, в другом – ослаблена, в одном белизна соединена со сладостью, в другом – без сладости. И, таким образом, форма чувственно постижимого одним образом существует в вещи вне души и другим – в чувстве, которое воспринимает форму чувственно постижимого без материи, как, например, цвет золота без золота. И сходным образом интеллект воспринимает нематериально и неподвижно, согласно своему способу, виды материальных и подвижных тел, ведь воспринятое существует в воспринимающем по способу существования воспринимающего. Следовательно, необходимо сказать, что душа познает тела посредством интеллекта познанием нематериальным, универсальным и необходимым.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что слово Августина нужно понимать как относящееся к тому, чем познает интеллект, а не к тому, что он познает. Познает же он тела познанием, но не посредством тел и не посредством материальных и телесных подобий, а посредством нематериальных и интеллигибельных видов, которые могут существовать в душе по их сущности.
2. Относительно второго следует сказать: как говорит Августин в двадцать второй книге (О граде Божием, 22, 29), не следует считать, что как чувство познает только телесное, так и интеллект познает только духовное, поскольку следовало бы, что Бог и ангелы не познают телесное. Причина их различия в том, что нижняя способность не распространяется на то, что относится к высшей способности, но высшая способность имеет дело с тем, что относится к низшей способности, причем более совершенным образом.
3. Относительно третьего следует сказать, что всякое движение предполагает нечто неподвижное, поскольку, если изменение происходит согласно качеству, остается неподвижная субстанция, и когда изменяется субстанциальная форма, остается неподвижная материя. У вещей же изменяемых существуют неподвижные состояния – так, хотя Сократ не всегда сидит, однако неизменна истина, что когда он сидит, то остается в одном месте. И поэтому ничто не мешает иметь неизменную науку о подвижных вещах.
Глава 2. Воспринимает ли душа тела посредством своей сущности?
1. Кажется, что душа познает телесное посредством своей сущности. Ведь говорит Августин в десятой книге «О Троице» (10, 5), что душа собирает образы тел и присваивает собранное в самой себе и относительно самой себя, ведь она, формируя образы, дает им некую свою субстанцию. Но она познает тела посредством подобий тел, а следовательно, посредством своей сущности, которую она дает для формирования таких подобий. И она познает телесное в той мере, в какой формирует подобия.
2. Кроме того, Философ говорит, в третьей книге «О душе» (431b 21), что душа некоторым образом есть все. Следовательно, если подобное познается подобным, то кажется, что душа познает телесное посредством себя самой.
3. Кроме того, душа выше телесных творений. Низшее же существует в высшем более совершенным способом, чем в себе самом, как говорит Дионисий (О небесной иерархии, 12, 2). Следовательно, все телесные творения более благородным образом существуют в самой субстанции души, чем в себе самих. Следовательно, она может познавать телесные творения посредством своей субстанции.
Но против то, что говорит Августин в девятой книге «О Троице» (9, 3), что ум собирает знания о телесных вещах посредством телесных чувств. Следовательно, он не познает телесное посредством своей субстанции.
Отвечаю. Следует сказать: древние философы полагали, что душа познает тела посредством своей сущности. Ведь всем душам общим образом вложен принцип, что сходное познается сходным. Они же считали, что форма познанного существует в познающем таким образом, каким она существует в познанной вещи. Однако платоники полагали обратное. Ведь Платон, поскольку он усмотрел, что интеллектуальная душа нематериальна и познает нематериальным образом, полагал, что формы познанных вещей субсистируют нематериальным образом. Ранние же натурфилософы, рассматривающие познанные вещи как телесные и материальные, полагали, что необходимо, чтобы познанные вещи даже в познающей душе существовали материальным образом. И поэтому, чтобы приписать душе познание всего, полагали, что она имеет природу, общую со всем. И поскольку природа происходящего из начал состоит из этих начал, они приписывали душе природу начал: так, те, которые говорили, что начало всего – огонь, полагали, что душа обладает природой огня, или, сходным образом, воздуха, или воды. Эмпедокл же, который полагал четыре материальных элемента и два движущих, говорил, что душа составлена из них. И, таким образом, поскольку они полагали, что вещи в душе находятся материальным образом, они считали, что всякое познание души – материально, не различая между интеллектом и чувством.
Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 до н. э.) – древнегреческий философ, автор поэмы «О природе», согласно которой весь мир состоит из четырех элементов, «корней» (земля, вода, огонь и воздух), приводимых в движение силами липкой любви и губительной ненависти, чьи царства поочередно сменяют друг друга (учение об элементах было воспринято Аристотелем и затем Фомой Аквинским). Отдельные вещи состоят из элементов в определенной пропорции, что и определяет их специфику (например, формула костей – две части воды, две земли и четыре огня). Согласно Эмпедоклу, восприятие основано на принципе «подобное воспринимается подобным», например огонь – огнем, любовь – любовью: мы воспринимаем вещи, поскольку органы чувств также состоят из четырех элементов и содержат силы любви и ненависти.
Но это мнение опровержимо. Во-первых, поскольку в материальном начале, о котором они говорили, составленное из него существует только потенциально. Но нечто познается только согласно тому, что оно актуально, а не согласно тому, что оно потенциально, как ясно из девятой книги «Метафизики» (Аристотель, 1051а 29). Поэтому и сама потенция познается посредством акта. Таким образом, для познания всего недостаточно приписывать душе природу начал, разве что ей были бы присущи природы и формы единичных вещей – костей, плоти и такого рода, как оспаривает Эмпедокла Аристотель в первой книге «О душе» (409b 23). Во-вторых, если бы надлежало познанной вещи существовать в познающем материально, то не было бы причины, чтобы вещи, субсистирующие материально вне души, были лишены познания, например, если душа познает огонь огнем, то и огонь, существующий вне души, познавал бы огонь. Следовательно, остается, что познанное материальное должно существовать в познающем не материально, но, скорее, нематериально. И основание этого в том, что действие познания распространяется на то, что вне познающего, ведь мы познаем и то, что вне нас. Посредством же материи форма вещи определяется к чему-то одному. Поэтому ясно, что смысл познания относится к смыслу материальности как противоположное. И поэтому то, что воспринимает формы только материально, никоим образом не может познавать, как, например, растения, как говорится во второй книге «О душе» (Аристотель, 423а 32). Коль скоро же нечто обладает формой познанной вещи нематериально, то оно познает более совершенным образом. Поэтому и интеллект, который абстрагирует виды не только от материи, но и от материальных индивидуирующих условий, познает более совершенно, чем чувства, которые воспринимают форму познанной вещи без материи, но вместе с материальными условиями. И среди самих чувств зрение является наиболее познающим, поскольку оно менее материально, как сказано выше (q. 78, a. 3). И среди самих интеллектов – насколько некий совершеннее, настолько нематериальнее. Следовательно, из этого ясно, что если есть некий интеллект, который познает все посредством своей сущности, то надлежит, чтобы его сущность имела в себе все нематериальным образом (подобно тому как древние полагали, что сущность души для познания всего актуально составлена из начал всего материального). Это же свойственно Богу – чтобы Его сущность нематериальным образом охватывала все, подобно тому как следствие виртуально предсуществует в причине. Итак, только Бог познает все посредством своей сущности, но не человеческая душа и даже не ангел.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что Августин в этом месте говорит о видении воображения, которое происходит посредством образов тел, формируя каковые душа дает нечто от своей субстанции, как дается субъект, чтобы оформиться посредством некоторой формы. И, таким образом, она из себя самой делает такого рода образы, но не так, что душа или нечто от души превращается, становясь тем или иным образом, но как говорится о теле, что оно становится чем-то цветным, когда оформляется цветом. И смысл этого проясняется из того, что следует далее. Ведь он говорит, что воображение служит чему-то, а именно не оформленному такими образами, которое судит свободно от видов таких образов, и это, как он говорит, есть ум, или интеллект. Та же часть, которая оформляется такого рода образами, а именно воображение, обще, как он говорит, и нам, и животным.
2. Относительно второго следует сказать, что Аристотель не полагал, как древние натурфилософы, что душа актуально составлена из всего, но он говорил, что душа есть все некоторым образом, коль скоро она в потенции ко всему, посредством чувства – к чувственно постижимому, посредством интеллекта же – к интеллигибельному.
3. Относительно третьего следует сказать, что любое творение обладает конечным и определенным бытием. Поэтому если сущность высших творений обладает неким подобием низших творений, сходясь в некоторый род, однако не совершенным образом, поскольку определяется к некоторому виду, иному, нежели виды низших творений. Но сущность Бога – совершенное подобие всего, относительно того всего, что находится в вещах, как универсальное начало всего.
Глава 3. Познает ли душа все посредством видов, вложенных в нее естественным образом?
1. Кажется, что душа познает все посредством видов, вложенных в нее естественным образом. Ведь говорит Григорий, в Гомилии на Вознесение Господа (II. 29), что человек обладает познанием совместно с ангелами. Но ангелы познают все посредством форм, вложенных от природы, поэтому в «Книге о причинах» (IX) говорится, что всякая интеллигенция полна форм. Следовательно, и душа обладает видами вещей, вложенными от природы, посредством которых она познает телесное.
2. Кроме того, познающая душа благороднее, чем первая телесная материя. Но первая материя сотворена Богом под формами, по отношению к которым она в потенции. Следовательно, в гораздо большей степени познающая душа сотворена Богом, оформленная интеллигибельными видами. И, таким образом, душа познает телесное посредством видов, вложенных в нее от природы.
3. Кроме того, некто может отвечать истинно только о том, что он знает. Но некий простак, не обладающий приобретенным знанием, отвечает истину об отдельных предметах, если упорядоченно его вопрошать, как рассказывает о некотором человеке Платон в «Меноне». Следовательно, он имеет знание о вещах прежде научения. Этого не было бы, если бы душа не обладала видами, вложенными в нее от природы. Итак, душа познает телесные вещи посредством видов, вложенных от природы.
Но против то, что говорит Философ в третьей книге «О душе» (429b 30), рассуждая об интеллекте, что он подобен дощечке, на которой ничего не написано.
Отвечаю: следует сказать, что поскольку форма – начало действий, то надлежит, чтобы нечто относилось к форме как к началу действий таким же образом, каким оно относится к ее действию. Так, если движение вверх – от легкости, то надлежит, чтобы то, что устремляется вверх только потенциально, было легким только потенциально, а то, что устремляется вверх актуально, было легким актуально. Но мы видим, что человек иногда познает только в потенции, как в отношении чувств, так и в отношении интеллекта. И переходят от такой потенции к актуальности чувствования посредством действия в чувстве чувственно воспринимаемого, а к актуальности понимания посредством обучения или изыскания. Поэтому надлежит сказать, что познающая душа находится в потенции как относительно тех подобий, которые суть начала чувствования, так относительно тех подобий, которые суть начала понимания. И потому Аристотель полагал, что интеллект, которым душа понимает, не обладает некими вложенными от природы видами и находится изначально в потенции ко всем видам такого рода.
Но то, что имеет форму актуально, порой не может действовать согласно этой форме из-за некоторого препятствия, например легкое, если ему препятствуют устремляться вверх. Потому-то Платон и считал, что человеческий интеллект по природе наполнен всеми интеллигибельными видами, но единение с телом препятствует возможности их актуализации. Но это не кажется сообразно сказанным. Во-первых, если душа обладает естественным познанием обо всем, то не представляется возможным, чтобы она позабыла это естественное познание так, что не знала, что она обладает такого рода знанием; ведь никакой человек не забывает то, что он естественным образом познает (как то, что целое больше своей части и другое такого рода). Прежде всего это представляется несообразным, если полагать, что душе по природе присуще быть единой с телом, как сказано выше, ведь несообразно, чтобы естественное действие некоторой вещи получало препятствие от того, что присуще ему естественным образом. Во-вторых, ложность этого положения явно видна из того, что недостаток в чувствах имеет следствием недостаток в знании о том, что схватывается благодаря этому чувству; так слепой от рождения не может обладать знанием о цветах. Этого бы не случилось, если в душу естественным образом были вложены все интеллигибельные виды. И поэтому следует сказать, что душа не познает телесное посредством вложенных по природе видов.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что хотя человек сходится в познании с ангелами, но ему недостает совершенства их познания, подобно тому как низшие тела, которые хотя и существуют, согласно Григорию, однако испытывают недостаток по отношению к существованию, которым обладают высшие тела. Ведь материя низших тел не доведена до совершенства посредством формы, но находится в потенции к формам, которые она не имеет; материя же небесных тел доведена до совершенства посредством формы и не находится в потенции к каким-либо формам, как сказано выше (q. 66, a. 2). И, сходным образом, интеллект ангела совершенен по своей природе благодаря интеллигибельным видам, человеческий же интеллект – в потенции к такого рода видам.
2. Относительно второго следует сказать, что первая материя имеет субстанциальное бытие благодаря форме, и поэтому надлежит, чтобы она сотворялась под некоторой формой, иначе она не существовала бы актуально. Однако, существуя под одной формой, она находится в потенции к другим. Интеллект же не обладает субстанциальным бытием благодаря интеллигибельным видам, и поэтому эти два случая не подобны.
3. Относительно третьего следует сказать, что упорядоченное вопрошание движется от общих начал, которые известны сами по себе, к частному. Таков ход, порождающий знание в душе новичка. Поэтому, когда он отвечает истинное о том, о чем он последовательно вопрошается, это происходит не потому, что он знал это прежде, но потому, что он узнал это сызнова. Ведь не имеет никакого значения, излагая или вопрошая обучающий переходит от общих начал к заключениям, ведь и то и другое убеждает душу слушающих в последующем на основании предыдущего.
Глава 4. Изливаются лиинтеллигибельные виды в душуот некоторых отделенных форм?
1. Кажется, что интеллигибельные виды изливаются в душу от неких отделенных форм. Ведь все, что обладает некоторым качеством по причастности, имеет причиной то, что обладает этим качеством по сущности, как, например, пламенное восходит к пламени как к причине. Но интеллектуальная душа, как актуально познающая, причастна самому интеллигибельному, ведь интеллект в акте некоторым образом является тем, что актуально познано. Следовательно, то что само по себе и по своей сущности актуально познано, есть причина того, что интеллектуальная душа актуально познает. Актуально познанное же по своей сущности есть форма, существующая без материи. Таким образом, интеллигибельные виды, посредством которых познает душа, причиняются от некоторых отделенных форм.
2. Кроме того, интеллигибельное относится к интеллекту как чувственное к чувству. Но актуально чувственное, сущее вне души, есть причина чувственных видов, существующих в чувстве, посредством которых мы чувствуем. Следовательно, интеллигибельные виды, посредством которых наш интеллект познает, причиняются от некоторого актуально интеллигибельного, существующего вне души. Но таковые суть не что иное, как отделенные от материи формы. Интеллигибельные же формы изливаются в наш интеллект от некоторых отделенных субстанций.
3. Кроме того, все то, что потенциально, приводится в акт благодаря тому, что актуально. Следовательно, если наш интеллект, первоначально существующий в потенции, затем познает актуально, то надлежит, чтобы это имело причиной некий интеллект, который всегда актуален. Но таков отделенный интеллект. Следовательно, интеллигибельные виды, посредством которых мы познаем, имеют причиной некие отделенные субстанции.
Но против: согласно этим аргументам мы не нуждались бы для познания в чувствах. Но это явно ложно, и прежде всего потому, что тот, кто лишен одного чувства, никоим образом не может обладать знанием о том, что постижимо этим чувством.
Отвечаю. Следует сказать: некоторые полагали, что интеллигибельные виды нашего интеллекта происходят от некоторых отделенных форм или субстанций. Платон же, как уже сказано, полагал, что формы чувственно воспринимаемых вещей субсистируют сами по себе, без материи, как, например, форма человека, которую он именовал «человек сам по себе», и форма или идея лошади, которую он именовал «лошадь сама по себе», и так далее. Этим отделенным формам, как он полагал, причастны и наша душа, и телесная материя; наша душа – чтобы познавать, а телесная материя – чтобы существовать. И как телесная материя, причащаясь идее камня, становится «этим камнем», так и наш интеллект, причащаясь идее камня, становится «познающим камень». Причастность же идее происходит посредством некоторого уподобления самой идее в причастном ей, таким же образом, как копия подобна прообразу. Итак, он полагал, что интеллигибельные виды нашего интеллекта есть подобия, проистекающие от некоторых идей. И из-за этого, как сказано выше, науки и определения он относил к идеям.
Но поскольку смыслу чувственно познаваемых вещей противоречит субсистирование их форм без материи, как доказывает неоднократно Аристотель (Метафизика, 1039 а 24 – 1040 b 4), то Авиценна (О душе, V), отвергнув эту позицию, полагал, что все интеллигибельные виды чувственно постижимых вещей не субсистируют сами по себе, без материи, но нематериально предсуществуют в отделенных интеллектах, от первого из которых такого рода виды исходят в следующий, и так о других, вплоть до отделенного интеллекта, который он называет «действующим интеллектом», из которого, как он говорит, интеллигибельные виды изливаются в нашу душу, а чувственно воспринимаемые формы – в телесную материю. И, таким образом, Авиценна соглашается с Платоном в том, что интеллигибельные виды нашего интеллекта проистекают от некоторых отделенных форм, которые, однако, Платон полагал субсистирующими самостоятельно, Авиценна же полагал существующими в действующем интеллекте. Расходятся же они в том, что Авиценна полагал, что формы не остаются в нашем интеллекте после того, как он прекращает актуально познавать, но необходимо, чтобы он вновь и вновь обращался к принятию их. Поэтому Авиценна не считал, что знание от природы вложено в душу, как Платон, который полагал, что причастность идеям остается неизменной в душе, ведь исходя из этой позиции невозможно дать достаточное основание тому, что наша душа объединяется с телом. Ведь нельзя сказать, что интеллектуальная душа объединяется с телом ради тела, поскольку форма не существует ради материи и движитель ради движимого, но наоборот. В большей степени, как кажется, тело необходимо интеллектуальной душе ради ее собственной деятельности – познания, поскольку она не зависит от тела в своем бытии. Если же душа согласно своей природе способна воспринимать интеллигибельные виды только от влияния некоторых отделенных начал и не принимает их от чувств, не нуждается для познания в теле, то ее единение с телом – тщетно. Когда же говорится, что душа нуждается для познания в чувствах, которые некоторым образом побуждают душу к рассмотрению интеллигибельных видов, воспринятых от отделенных начал, это не кажется сообразным, поскольку такое побуждение не оказывается необходимым, разве что если бы она, согласно платоникам, впала в сон и забвение из-за единения с телом и, таким образом, чувства не способствовали бы интеллектуальной душе иначе как для преодоления препятствия, которое привходит в душу из-за единения с телом. Таким образом, остается выяснить, какова же причина единения души с телом.
Если же говорится, согласно Авиценне, что чувства необходимы душе, поскольку ими она побуждается обратиться к действующей интеллигенции, от которой она принимает виды, то и это несообразно. Ведь если в природе души познавать посредством видов, изливающихся из действующей интеллигенции, то последовало бы, что иногда душа могла бы обращаться к действующей интеллигенции из склонности своей природы (или же побуждаемая другим чувством обратиться к действующей интеллигенции) для восприятия чувственно постижимых видов, относящихся к чувству, отсутствующему у некоторого человека. Таким образом слепой от рождения мог бы иметь знание о цветах, что очевидно ложно. Поэтому следует сказать, что интеллигибельные виды, посредством которых наша душа познает, не изливаются от отделенных форм.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что интеллигибельные виды, которым причастен наш интеллект, возводятся как к первой причине к некоторому началу, интеллигибельному по своей сущности, а именно к Богу. Но от этого начала происходят опосредующие формы вещей чувственных и материальных, от которых мы собираем знание, как говорит Дионисий (О Божественных именах, 7, 2).
2. Относительно второго следует сказать, что материальные вещи согласно бытию, которое они имеют вне души, могут быть актуально воспринимаемы чувствами, но не актуально интеллигибельными. Поэтому относительно чувств и интеллекта аргументация не происходит сходным образом.
3. Относительно третьего следует сказать, что наш возможностный интеллект переходит от потенции к акту посредством некоторого актуально сущего, то есть посредством действующего интеллекта, который является некоторой способностью нашей души, как сказано (q. 79, a. 4); некоторый же отделенный интеллект выступает не как ближайшая причина, но скорее как отдаленная.
Глава 5. Познает ли интеллектуальная душа материальные вещи в вечных понятиях?
1. Кажется, что интеллектуальная душа не познает материальные вещи в вечных понятиях. Ведь то, в чем познается нечто, само познается более и первично. Но интеллектуальная душа человека в состоянии настоящей жизни не познает вечные понятия, поскольку не познает самого Бога, в котором существуют вечные понятия, но прикасается к Нему как к неизвестному, как говорит Дионисий в первой главе «Мистического богословия» (Мистическое богословие. 1, 3). Следовательно, душа не познает все в вечных понятиях.
2. Кроме того, в Послании к Римлянам (1, 20) говорится, что невидимое Бога видимо через рассматривание творений. Но вечные понятия причисляются к тому, что есть «невидимое Бога». Следовательно, вечные понятия познаются посредством материальных творений, но не наоборот.
3. Кроме того, вечные понятия суть не что иное, как идеи; ведь говорит Августин в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (46), что идеи суть неизменные понятия вещей, существующие в божественном уме. Следовательно, если говорится, что интеллектуальная душа познает все в вечных понятиях, то будет возвращено мнение Платона, который полагал, что всякое знание происходит от идей.
Но против то, что говорит Августин в двенадцатой книге «Исповеди»: «Если мы видим оба, что истинно то, что ты говоришь, и мы оба видим, что истинно то, что я говорю, то где, я спрашиваю, мы это видим? И не я в тебе, и не ты во мне, но оба – в том, что превыше нашего ума – в неизменной истине». Неизменная же истина содержится в вечных понятиях. Следовательно, интеллектуальная душа все истинное познает в вечных понятиях.
Отвечаю: следует сказать, что, как говорит Августин во второй книге «Об учении христианском» (11), если те, кто зовутся философами, говорили истинное и приемлемое для нашей веры, то следует притязать на передачу этого от незаконных владельцев в наше употребление. Но в учениях язычников имеются некие лживые и неверные вымыслы, которых всякому из нас, отвергая общество язычников, надлежит избегать. И поэтому Августин, который проник в учения платоников, то, что находил приемлемое для веры в сказанном ими, принимал, то, что находил противным нашей вере, изменял на лучшее. Платон же полагал, как сказано выше, что сами по себе субсистируют отделенные от материи формы вещей, которые он называл идеями, посредством причастности к которым, как он говорил, наш интеллект познает все. И подобно тому как телесная материя из-за причастности идее камня становится камнем, так и наш интеллект из-за причастности этой идее познает камень. Но поскольку кажется противным вере, что формы вещей субсистируют вне вещей сами по себе без материи, как полагали платоники, говоря, что «жизнь сама по себе» или «мудрость сама по себе» есть некие созидающие субстанции, как Дионисий говорит в одиннадцатой главе «О божественных именах» (1, 6), то Августин в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (46) поставил на место этих идей, которые полагал Платон, понятия всех творений, существующие в божественном уме, согласно которым все получает форму и согласно которым человеческая душа все познает.
Следовательно, когда спрашивается, познает ли человеческая душа все в вечных понятиях, необходимо сказать, что говорится двояко, что нечто познается в чем-то. Во-первых, как в познанном объекте, как некто видит в зеркале то, образы чего отражаются в зеркале. И этим образом душа, в состоянии настоящей жизни, не может видеть все в вечных понятиях, но так в вечных понятиях познают все блаженные, которые видят Бога и все в Нем. Во-вторых, говорится, что нечто познается в чем-то, как в начале познания, как если мы говорим, что в Солнце видится то, что видится благодаря Солнцу. И, таким образом, необходимо сказать, что человеческая душа все познает в вечных понятиях, посредством причастности к которым мы познаем все. Сам же интеллектуальный свет, который в нас, есть не что иное, как некое причастное подобие несотворенного света, в котором содержатся вечные понятия. Поэтому в Псалмах (Пс. 4, 7) говорится: «Многие говорят, “кто покажет нам благо?”». Псалмопевец отвечает на этот вопрос, говоря: «Яви нам свет Твоего лица, Господи». Он как бы говорит, что посредством самого отпечатка божественного света в нас все нам показывается.
Однако поскольку для обладания знанием о материальных вещах, кроме интеллектуального света в нас, необходимы интеллигибельные виды, воспринятые от вещей, то не только благодаря причастности вечным понятиям мы имеем знание о материальных вещах, как полагали платоники, считая, что одной причастности идеям достаточно для обладания знанием. Поэтому Августин говорит в книге четвертой «О Троице» (4, 16): хотя философы убеждают достовернейшими аргументами, что все временное возникает согласно вечным понятиям, где они могли видеть в самих понятиях или определить исходя из них, как много имеется видов животных и каковы начала индивидов? Не разыскивали ли они все это, исследуя через места и времена?
Но то, что Августин понимал не так, что все познается в вечных понятиях или в неизменной истине, как если бы были видимы сами вечные понятия, ясно из того, что он сам говорит в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (9), что разумна душа не всякая и каждая, но которая стала бы святой и чистой, каковы души блаженных, достойна присвоить это видение, а именно вечных понятий.
И из этого ясен ответ на возражения.
Глава 6. Происходит ли интеллектуальное познание от чувственно постижимых вещей?
1. Кажется, что интеллектуальное познание не происходит от чувственно воспринимаемых вещей. Ведь говорит Августин в «Книге о восьмидесяти трех вопросах» (9), что не следует ожидать чистоты истины от телесных чувств. И это он доказывает двояко. Во-первых, посредством того, что все, постигаемое телесным чувством, непрерывно меняется, а то, что не сохраняется, не может быть воспринято интеллектом. Во-вторых, посредством следующего: образы всего ощущаемого посредством тела претерпеваются нами, даже когда оно не представлено чувствам, как, например, во сне или в экстазе, и мы не можем различить посредством чувств, чувствуем ли мы само ощущаемое или его ложный образ. Ведь ничто из того, что может быть воспринято, не отличается от ложного образа, и, таким образом, он делает вывод, что не следует ожидать истины от чувств. Но интеллектуальное познание схватывает истину. Значит, интеллектуального познания не следует ожидать от чувств.
2. Кроме того, Августин говорит в двенадцатой книге буквального комментария на Книгу Бытия (12, 16): не следует думать, что тело сотворяет нечто в духе, как если бы дух подлежал действующему телу как материя; ведь тот, кто действует, во всех отношениях совершеннее той вещи, относительно которой он совершает нечто. Поэтому он заключает, что не тело сотворяет образы тел в духе, но сам дух в себе. Следовательно, интеллектуальное познание не происходит от чувств.
3. Кроме того, действие не выходит за пределы способности своей причины. Но интеллектуальное познание выходит за пределы чувственно постижимого, ведь мы познаем нечто не могущее быть воспринятым чувством. Следовательно, интеллектуальное познание не происходит от чувств.
Но против то, что доказывает Философ в первой книге «Метафизики» и в конце «Второй Аналитики» (100а 3), что начало наших познаний в чувствах.
Отвечаю: следует сказать, что относительно этого вопроса было три мнения философов. Демокрит полагал, что нет иной причины наших познаний, кроме той, что от тел, которые мы познаем, исходят образы и входят в нашу душу, как сообщает Августин в своем письме к Диоскуру (118), и Аристотель говорит в книге «О сне и бодрствовании» (464а 5), что Демокрит полагал, что познание происходит посредством идолов (idola) и истечений. И основание этой позиции заключалось в том, что сам Демокрит, как и другие древние натурфилософы, полагали, что интеллект не отличается от чувства, как говорит Аристотель в третьей книге «О душе» (427а 17). А из того, что чувства изменяются от чувственно постижимого, они выносили суждение, что все наше познание происходит посредством такого изменения от чувственно постижимого. Изменение же это, как полагал Демокрит, происходит из-за истечения образов.
Платон же, напротив, полагал, что интеллект отличается от чувства и является некоторой нематериальной способностью, не использующей в своем действии телесные органы. И поскольку нетелесное не может изменяться от телесного, он полагал, что интеллектуальное познание происходит не благодаря изменению интеллекта от чувств, но благодаря причастности интеллекта интеллигибельным отделенным формам, как сказано (q. 84, аа. 4 et 5). Чувство же он считал некоторой способностью, действующей самостоятельно. Поэтому и само чувство, коль скоро оно есть некая духовная сила, не изменяется от чувственно постижимого, но органы чувств изменяются от чувственно постижимого, из-за какового изменения душа некоторым образом побуждается к тому, чтобы формировать в себе чувственные виды. И, по-видимому, этого мнения касается Августин, в буквальном комментарии на Книгу Бытия (12, 24), когда говорит, что не тело чувствует, но душа посредством тела, которое она использует как вестника для формирования в себе того, о чем возвещается извне. Таким образом, согласно мнению Платона, ни интеллектуальное познание не происходит от чувственно постижимого, ни чувственное познание от чувственно постижимых вещей, но чувственно постижимое побуждает чувственную душу к чувствованию и, сходным образом, чувство побуждает интеллектуальную душу к познанию.
Аристотель же движется средним путем. Ведь он полагал, в согласии с Платоном, что интеллект отличается от чувства, но он считал, что чувство не производит собственную деятельность без сообщения с телом, таким образом, чувствование – действие не просто души, но соединения души с телом. И то же он полагал обо всех действиях чувственной части. Поскольку же не является несообразным, что чувственно постижимое вне души причиняет нечто в таком соединении, то Аристотель согласился с Демокритом в том, что действия чувственной части души причиняются впечатлениями, оказываемыми чувственно постижимым на чувство, однако не посредством истечений, как полагал Демокрит, но посредством некоторого действия. Ведь и Демокрит полагал, что всякие действия происходят из-за истечения атомов, как ясно из первой книги «О возникновении» (Аристотель, 324b 25). Но Аристотель также полагал, что интеллект действует без сообщения с телом (429а 24). Ведь ничто телесное не может оказывать впечатление на нетелесную вещь. И поэтому для причинения интеллектуального действия, согласно Аристотелю, недостаточно только впечатления от чувственных тел, но требуется нечто более благородное, поскольку действующее почетнее претерпевающего, как он говорит (430а 18). Однако не так, что интеллектуальное действие причинялось бы в нас только от впечатлений, полученных от неких высших вещей, как полагал Платон, но то высшее и благородное действующее, которое Аристотель называет действующим интеллектом и о котором мы сказали выше (q. 79, aa. 3 et 4), делает актуально интеллигибельными фантасмы, воспринятые от чувств, посредством абстрагирования.
Следовательно, согласно этому мнению, действие интеллекта причиняется чувствами со стороны фантасмов. Но поскольку фантасмов недостаточно для того, чтобы изменить возможностный интеллект, и надлежит, чтобы они стали актуально интеллигибельными благодаря действующему интеллекту, то нельзя сказать, что чувственное познание есть полная и совершенная причина интеллектуального познания, но скорее оно есть некоторым образом материальная причина.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что слова Августина означают, что истину не следует ожидать всецело от чувств. Ведь требуется свет действующего интеллекта, посредством которого мы познаем неизменную истину в изменяемых вещах и отличаем сами вещи от их подобий.
2. Относительно второго следует сказать, что в этом месте Августин говорит не об интеллектуальном познании, но о фантазии. И поскольку, согласно Платону, фантазия обладает действием, которое принадлежит только душе, то Августин использует то же основание, чтобы показать, что тела не отпечатывают своих подобий на способность фантазии, но это делает сама душа, что использует и Аристотель (О душе, 403а 5) для доказательства, что действующий интеллект есть нечто отделенное, а именно, поскольку действующее почетнее претерпевающего. И без сомнения надлежит, согласно этой позиции, полагать в фантазии не только пассивную потенцию, но и активную. Но если мы полагаем, согласно мнению Аристотеля (О душе, 429а), что действие фантазии принадлежит соединенному из тела и души, то не следует никаких затруднений, поскольку чувственно воспринимаемое тело благороднее органа живого существа, согласно тому, что относится к нему как актуально сущее к сущему в потенции, подобно тому как актуально цветное относится к зрачку, цветному потенциально. Однако можно сказать, что хотя первое изменение фантазии происходит из-за движения чувственно воспринимаемого, поскольку фантазия есть движение, совершенное согласно чувству, как говорится в книге «О душе» (429а 1), однако есть некое действие души в человеке, которое формирует, разделяя и составляя, различные образы вещей, которые даже не восприняты от чувств. И относительно этого следует понимать слова Августина.
3. Относительно третьего следует сказать, что чувственное познание не есть полная причина интеллектуального познания. И поэтому неудивительно, что интеллектуальное познание превосходит чувственное.
Глава 7. Может ли интеллект актуально познавать посредством интеллигибельных видов, которые есть в нем, не обращаясь к фантасмам?
1. Кажется, что интеллект может актуально познавать посредством интеллигибельных видов, которыми он обладает, не обращаясь к фантасмам. Ведь интеллект становится актуальным благодаря интеллигибельному виду, которым он формируется. Но для интеллекта быть актуальным – значит познавать. Следовательно, интеллигибельных видов достаточно для того, чтобы интеллект актуально познавал без обращения к фантасмам.
2. Кроме того, фантазия зависит от чувства более, чем интеллект от фантазии. Но фантазия может воображать актуально и при отсутствии чувственно постижимого. Следовательно, интеллект может в гораздо большей степени актуально познавать, не обращаясь к фантасмам.
3. Кроме того, никакие фантасмы не являются нетелесными, поскольку фантазия не выходит за время и пространство. Следовательно, если наш интеллект не может актуально познавать нечто, не обращаясь к фантасмам, то получилось бы, что он не может познавать нечто нетелесное, что, очевидно, ложно. Ведь мы познаем саму истину, и Бога, и ангелов.
Но против то, что говорит Философ в третьей книге «О душе» (431а 15), что душа ничего не познает без фантасмов.
Отвечаю: следует сказать, что для нашего интеллекта в состоянии нынешней жизни (при соединении с претерпевающим телом) невозможно актуально познавать что-либо без обращения к фантасмам. И на это указывают два знака. Во-первых, поскольку если интеллект был бы некоторой способностью, не использующей телесный орган, то ничто бы не препятствовало ему действовать при повреждении некоторого телесного органа, раз для его действия не требуется действие некоторой способности, использующей телесный орган. Но чувство, воображение и другие способности, относящиеся к чувственной части, используют телесный орган. Поэтому ясно: для того чтобы интеллект актуально познавал, не только воспринимая знание сызнова, но и используя уже полученное знание, требуется действие фантазии и других способностей. Ведь мы видим, что повреждение органа препятствует действию фантазии, как у безумцев, или, подобным образом, препятствует действию способности памяти, как у летаргиков; человеку в актуальном познании повреждение органа препятствует даже относительно того, знание о чем он имел ранее. Во-вторых, поскольку каждый может испытать относительно себя, что если он стремился нечто познать, он формирует для себя некие фантасмы вроде примеров, в которых он созерцает то, что он стремился познать. И поэтому, когда мы желаем кому-либо помочь познать нечто, мы предлагаем ему примеры, из которых он может для себя сформировать фантасмы для познания.
Основание этого в том, что познавательная способность пропорциональна познаваемому. Поэтому интеллект ангелов, который всецело отделен от тела, имеет надлежащим объектом интеллигибельную субстанцию, отделенную от тела, и посредством такого рода интеллигибельного он познает материальное. Человеческий же интеллект, который соединен с телом, имеет надлежащим объектом чтойность или природу, существующую в телесной материи, и посредством такого рода природы, посредством видимых вещей восходит даже к некоторому познанию невидимых вещей. Такая природа, существующая в некотором индивиде, по своему смыслу не может быть без телесной материи, как и природа камня по своему смыслу существует в этом камне, и природа коня по своему смыслу существует в этом коне, и так о других. Поэтому природа камня или любой материальной вещи может быть познана совершенно и истинно, только будучи познанной как существующая в единичном. Единичное же мы схватываем посредством чувства и воображения, поэтому необходимо, для того чтобы интеллект актуально познавал надлежащие ему объекты, чтобы он обращался к фантасмам, чтобы созерцать универсальную природу, существующую в единичном. Если же надлежащим объектом нашего интеллекта была бы отделенная форма или если бы природы чувственно постижимых вещей субсистировали не в единичном, согласно платоникам, то не надлежало бы, чтобы наш интеллект всегда познавал, обращаясь к фантасмам.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что виды, сохраненные в возможностном интеллекте, когда он актуально не познает, существуют в нем хабитуально, как сказано выше (q. 79, a. 6). Следовательно, для того чтобы мы актуально познавали, недостаточно самого сохранения видов, но надлежит их использовать в соответствии с вещами, видами которых они являются и которые суть природы, существующие в единичном.
2. Относительно второго следует сказать, что уже сами фантасмы суть подобие единичной вещи, поэтому не требуется фантазии некое другое подобие единичного, как то требуется интеллекту.
3. Относительно третьего следует сказать, что нетелесное, которое не имеет фантасмов, познается нами по сравнению с чувственно постижимыми телами, которые имеют фантасмы. Так истину мы познаем из рассмотрения вещи, относительно которой мы созерцаем истину, Бога же, как говорит Дионисий (О Божественных именах, 1, 5), мы познаем как причину, как превышающее все сущего, и посредством отрицания всех свойств сотворенного. Другие же нетелесные субстанции, в состоянии нынешней жизни, мы не можем познать иначе как посредством отстранения или некоторого сравнения с телесным. И поэтому когда мы нечто познаем о такого рода вещах, нам необходимо обращаться к телесным фантасмам, хотя сами они не имеют фантасмов.
Глава 8. Препятствует ли суждению, осуществляемому интеллектом, временная приостановка чувства?
1. Кажется, что суждению, осуществляемому интеллектом, не препятствует временная приостановка чувства. Ведь высшее не зависит от низшего. Но суждение интеллекта выше чувства. Следовательно, суждению интеллекта не препятствует временная приостановка чувства.
2. Кроме того, составление силлогизма – деятельность интеллекта. В течение сна же деятельность чувства нарушается, как сказано в книге «О сне и бодрствовании» (456b 16), но порой случается, что некто во сне составляет силлогизм. Следовательно, суждению интеллекта не препятствует приостановка чувства.
Но против: противоречащее предписанию морали, случившееся во сне, не приводит ко греху, как говорит Августин в 12 книге буквального комментария на Книгу Бытия (12, 15). Этого бы не было, если бы человек во сне свободно пользовался разумом и интеллектом. Следовательно, использованию разума препятствует приостановка деятельности чувства.
Отвечаю. Следует сказать: надлежащий объект нашего интеллекта пропорционален по природе чувственно постижимой вещи, как уже сказано (q. 84, а. 7). Совершенное же суждение о некоторой вещи может быть дано, если только познается все, что относится к этой вещи, и прежде всего если не пренебрегают тем, что составляет предельную цель суждения. Ведь говорит Философ в третьей книге «О небе» (306а 16): подобно тому как целью практической науки является дело, так и целью естественной науки является то, что первоначально усматривается чувственным образом, ведь мастер стремится к познанию ножа ради дела, чтобы сотворить этот единичный нож, и сходным образом натурфилософ стремится познать природу камня или лошади, чтобы знать смысл того, что усматривается чувством. Но ясно, что не может быть совершенным суждение мастера о ноже, если он пренебрегает делом, и, сходным образом, не может быть совершенного суждения натурфилософа о естественных вещах, если он пренебрегает чувственно познаваемым. Ведь все, что мы познаем в этом состоянии (т. е. в земной жизни. – Прим. пер.), познается нами при сопоставлении с естественными, чувственно постижимыми вещами. Поэтому невозможно, чтобы в нас было совершенное суждение интеллекта, когда приостанавливается чувство, посредством которого мы познаем чувственные вещи.
1. Таким образом, относительно первого следует сказать, что хотя интеллект выше чувства, однако он претерпевает некоторым образом от чувства и его объекты первично и изначально основываются на чувственно постижимом. И, таким образом, необходимо, чтобы суждению интеллекта препятствовала приостановка деятельности чувства.
2. Относительно второго следует сказать: чувство приостанавливается во сне из-за некоторого рассеянного испарения и выпаривания, как говорится в книге «О сне и бодрствовании» (456b 17). И, таким образом, в соответствии с расположенностью такого рода испарения случается, что чувство приостанавливается в большей или меньшей степени. Коль скоро движение пара будет сильным, приостанавливается не только чувство, но и воображение, так, что не возникает никаких фантасмов, что прежде всего происходит, когда некто приступает ко сну после изобильной еды и питья. Если же движение пара несколько уменьшится, появляются фантасмы, но искаженные и неупорядоченные, подобно тому как это происходит у больных лихорадкой. Если же движение ослабится еще больше, появляются упорядоченные фантасмы, как это чаще всего может происходить в конце сна и у людей трезвых и обладающих сильным воображением. Если же движение пара будет умеренным, то не только воображение останется свободным, но отчасти освободится и само общее чувство, так что человек порой судит во сне о том, что видимое им – сновидения, как бы различая между вещами и подобиями вещей. Однако отчасти общее чувство остается приостановленным, и поэтому, хотя он отличает некоторые подобия от вещей, относительно других он часто заблуждается. Если же во сне и воображение высвобождается таким же образом, как и чувство, то становится свободным и суждение интеллекта, но не полностью. Поэтому те, кто во сне составляет силлогизм, когда пробуждаются, всегда осознают, что они в чем-то заблуждались.
Вопрос 98. О сохранении вида
Глава 2. Могло ли быть в состоянии невинности порождение посредством соития?
1. Кажется, что в состоянии невинности не было порождения посредством соития. Ведь, как говорит Дамаскин (О православной вере II, 11; IV, 25), что первый человек был в земном раю как некий ангел. Но в будущем состоянии воскресения, когда люди будут подобны ангелам, они ни женятся, ни выходят замуж, как говорится у Матфея (22, 30). Следовательно, в раю не будет и порождения посредством соития.
2. Кроме того, первые люди были сотворены в совершенном возрасте. Следовательно, если бы порождение посредством соития было в них до греха, то они бы плотски соединялись также в раю, что, согласно Писанию (Быт. 4, 1), является ложным.
3. Кроме того, при плотском соединении человек в наибольшей степени уподобляется животным из-за страстного наслаждения, и поэтому восхваляется воздержание, благодаря которому люди удерживаются от такого рода наслаждений. Но человек сравнивается с животными из-за греха, согласно следующему стиху Псалма (Пс. 48, 13): «Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают». Следовательно, до греха не было плотского соединения мужчины и женщины.
Фома Аквинский рассматривает человека как психофизиологическую целостность, которая должна сохраняться даже после его воскрешения. Но прежде всего Фому интересует именно душевная составляющая, во-первых, поскольку душа является главной частью человека, а во-вторых, именно она по большей части связана с теологическими вопросами, рассматриваемыми в «Сумме теологии». Однако Фома не игнорирует и телесный аспект человека. Мы приводим лишь один вопрос, касающийся тела, который показывает позицию Фомы Аквинского, ее можно назвать «телесным поворотом» или «реабилитацией телесности»: с его точки зрения, даже в состоянии невинности (то есть в изначальном состоянии в раю до грехопадения), людям следовало бы предаваться любовному соитию, причем они бы получали удовольствие не меньшее, а большее, чем в состоянии грехопадения. Вместе с тем Фома осуждал промискуитет, прежде всего на том основании, что в результате этого рождаются незаконнорожденные дети, не получающие должной заботы.
4. Кроме того, в состоянии невинности не было никакого разрушения. Но посредством соития разрушается девственная непорочность. Следовательно, в состоянии невинности не было соития.
Но против этого:
1. Бог сотворил мужчину и женщину до греха, как говорится в Книге Бытия (Быт. 1, 2). Но в делах Бога нет ничего напрасного. Следовательно, если бы человек и не согрешил, то существовало бы соитие, для которого предназначено разделение полов.
2. Кроме того, в Книге Бытия (Быт. 2, 18, 20) говорится, что жена была сотворена в помощники мужу; но это не для чего иного, как для порождения, которое происходит посредством соития, поскольку для какого-либо другого дела мужчина более подходящим образом мог бы помочь мужчине, чем женщина. Следовательно, в состоянии невинности также было бы порождение посредством соития.
Отвечаю: следует сказать, что некоторые из древних учителей, рассматривая омерзительность похоти, которая обнаруживается при соитии в состоянии этой жизни, полагали, что в состоянии невинности не было порождения посредством соития. Поэтому Григорий Нисский говорит в книге, которую он написал о человеке (Об устроении человека, XVII), что в раю род человеческий умножался иным образом, так, как умножаются ангелы, без совокупления, посредством действия божественной силы. И он говорит, что Бог до греха сотворил мужчину и женщину, имея в виду способ порождения, который будет после грехопадения, о котором Бог знал заранее.
Но говорить так неразумно. Ведь то, что естественно для человека, не отнимается и не дается человеку из-за греха. Ведь ясно, что для человека, в согласии с жизнью живого существа, которую он имел и до греха, как было сказано выше (q. 97, a. 3), естественно порождаться посредством соития, как и для других совершенных животных. И об этом свидетельствуют естественные члены тела, предназначенные для такого использования. Поэтому не следует говорить, что до греха не было использования этих естественных членов, как и прочих членов. И, таким образом, в соитии согласно настоящему положению должны быть рассмотрены два аспекта.
Один – относящийся к природе, то есть соединение мужчины и женщины для порождения. Ведь для всякого порождения требуется активная и пассивная сила. Поэтому, коль скоро во всем, в чем есть разделение полов, активная сила есть в мужчине, пассивная же сила – в женщине, то порядок природы требует, чтобы мужчина и женщина соединялись для порождения посредством соития. Другой же аспект, который может быть рассмотрен, – некоторая отвратительность неумеренной похоти, которой не было в состоянии невинности, когда низшие способности всецело подчинялись разуму. Поэтому Августин говорит в четырнадцатой книге «О граде Божием» (XIV, 26): «Мы далеки от того, чтобы предполагать, что потомки не могли бы порождаться без влечения похоти. Но эти члены, влекомые тем движением воли, что и прочие, приводились бы в движение без страсти и обольщающего побуждения, в спокойствии души и тела».
1. Итак, относительно первого следует сказать, что человек в раю был как ангел из-за духовного ума, притом что имел, однако, жизнь живого существа в отношении тела. Но после воскрешения человек будет подобен ангелу, сделавшись духовным и согласно душе, и согласно телу. Поэтому здесь нельзя использовать одинаковый довод.
2. Относительно второго следует сказать, что, как говорит Августин в девятой книге буквального комментария на Книгу Бытия (IX, 4), «прародители не совокуплялись в раю потому, что спустя недолгое время после того, как женщина была создана, они были изгнаны из рая из-за греха. Или же потому, что, получив божественное повеление, они ожидали распоряжения относительно определенного времени».
3. Относительно третьего следует сказать, что животные лишены разума. Поэтому человек при соитии становится подобным животному из-за того, что не может посредством разума сдержать наслаждение от соития и волнение вожделения. Но в состоянии невинности не происходило ничего такого, что не сдерживалось бы разумом, – не потому, что это было меньшим наслаждением согласно чувству, как говорят некоторые (ведь чувственное наслаждение было бы тем большим, чем чище была природа и чем более чувствительным тело), а потому, что вожделеющая способность не так неумеренно растрачивалась бы на такого рода наслаждение, управляемая разумом, который заботится не о том, чтобы в чувстве было меньшее наслаждение, а о том, чтобы вожделеющая способность не предавлалась бы наслаждению неумеренно (я называю неумеренным то, что превышает меру разума). Так, воздержанный, когда он принимает пищу умеренно, получает не меньшее наслаждение, чем прожорливый, но желаемое им не ограничивается такого рода наслаждением. И об этом говорят слова Августина, которые исключают в состоянии невинности не величину наслаждения, а страстность похоти и неспокойствие души. И поэтому в состоянии невинности не было бы похвальным воздержание, которое в настоящее время восхваляется не из-за отсутствия оплодотворения, а из-за избегания неумеренной похоти. Но тогда бы (в состоянии невинности. – Прим. пер.) оплодотворение происходило бы без похоти.
4. Относительно четвертого следует сказать, как говорит Августин в четырнадцатой книге «О граде Божием» (XIV, 26), «…в этом состоянии муж проникал бы в лоно жены без всякого нарушения целостности. Ведь таким образом он мог бы испускать мужское семя в лоно супруги при сохранении целостности женских детородных органов, точно так же как теперь месячное истечение крови может исходить из лона девушки при сохранении целостности. Ведь как для рождения материнское чрево расслаблял бы не стон страдания, а побуждение зрелости, так и для зачатия ту и другю природу соединяло бы не стремление похоти, а добровольное использование».
«Божественная комедия» Данте Алигьери Ад
Песня первая
Поэт рассказывает, что, заблудившись в темном, дремучем лесу и встречая разные препятствия для достижения вершины горы, он настигнут был Вергилием. Последний обещался показать ему муки грешников в Аду и Чистилище и сказал, что потом Беатриче покажет поэту Райскую обитель. Поэт последовал за Вергилием.
1Когда-то я в годину зрелых лет В дремучий лес зашел и заблудился. Потерян был прямой и верный след… 4Нет слов таких, чтоб ими я решился Лес мрачный и угрюмый описать, Где стыл мой мозг и ужас тайный длился: 7Так даже смерть не может устрашать… Но в том лесу, зловещей тьмой одетом, Средь ужасов обрел я благодать. 10Попал я в чащу дикую; нигде там Я не нашел, объят каким-то сном, Знакомого пути по всем приметам. 13Пустыня предо мной была кругом, Где ужасом невольным сердце сжалось. Я увидал перед собой потом 16Подножие горы. Она являлась В лучах светила радостного дня И светом солнца сверху позлащалась, 19Прогнавшим страх невольный от меня. В душе моей изгладилось смущенье, Как гибнет тьма от яркого огня. 22Как выброшенный на берег в крушенье В борьбе с волной измученный пловец Глядит назад, где море в исступленье 25Ему сулит мучительный конец; Так точно озирался я пугливо, Как робкий, утомившийся беглец, 28Чтоб еще раз на страшный путь тоскливо, Переводя дыхание, взглянуть: Доныне умирало все, что живо, 31Свершая тот непроходимый путь. Лишившись сил, как труп, в изнеможенье Я опустился тихо отдохнуть, 34Но снова, пересилив утомленье, Направил шаг вперед по крутизне, Все выше, выше каждое мгновенье. 37Я шел вперед, и вдруг навстречу мне Явился барс, покрытый пестрой кожей И с пятнами на выгнутой спине. 40Я, как врасплох застигнутый прохожий, Смотрю: с меня он не спускает глаз С решимостью, на вызов мне похожей, 43И заграждает путь, на нем ложась, Так что я думать стал об отступленье. На небе утро было в этот час. 46Земля очнулась после пробужденья, И плыло солнце в небе голубом, То солнце, что во дни мира творенья 49Зажглось впервые, встречено кругом Сияньем звезд, с их ясным, кротким светом… Ободренный веселым, светлым днем, 52Румяным и торжественным рассветом, Я выносил без страха барса гнев, Но новый ужас ждал меня при этом: 55Передо мной вдруг очутился лев. Назад закинув голову, он гордо Шел на меня: стоял я, присмирев. 58Смотрел в глаза так алчно он и твердо, Что я, как лист, затрепетал тогда; Гляжу: за ним видна волчицы морда. 61Она была до ужаса худа: Ненасытимой жадностью, казалось, Волчица подавляема всегда. 64Уже не раз перед людьми являлась Она, как гибель их… В меня она Чудовищными взглядами впивалась, 67И стала вновь отчаянья полна Моя душа. Исчезла та отвага, Которая вести была должна 70Меня на верх горы. Как жадный скряга Рыдает, потерявши капитал, В котором видел счастье, жизни благо, 73Так перед диким зверем я рыдал, Путь пройденный теряя шаг за шагом, И снова вниз по крутизне сбегал 76К тем безднам и зияющим оврагам, Где блеска солнца видеть уж нельзя И ночь темна под вечным, черным флагом. 79С стремнины на стремнину вниз скользя, Я человека встретил той порою. Безмолвие собой изобразя, 82Он словно так был приучен судьбою К молчанию, что голос потерял. Увидя незнакомца пред собою 85В пустыне мертвой, громко я воззвал: «Кто б ни был ты – живой иль привиденье, Спаси меня!» И призрак отвечал: 88«Когда-то был живое я творенье; Теперь перед тобой стоит мертвец. Я в Мантуе рожден в одном селенье; 91В Ломбардии жил прежде мой отец. Жизнь начал я при Юлии и в Риме В век Августа жил долго, наконец, 94Когда богами ложными своими Считали люди идолов. Тогда Я был поэт, писал стихи, и ими 97Энея воспевал и те года, Когда распались стены Илиона… А ты зачем стремишься вниз сюда, 100В обитель скорби, скрежета и стона? Зачем с пути к жилищу вечных благ Под благодатным блеском небосклона 103Стремишься к тьме неудержимо так? Иди вперед и не щади усилий!» И, покраснев, ему я сделал знак 106И вопросил: «Ужели ты Вергилий, Поэтов всех величие и свет? Пусть о моем восторге и о силе 109Моей любви к тебе, святой поэт, Расскажет слабый труд мой и творенья И то, что изучал я много лет 112Великие твои произведенья[4]. Смотри: я перед зверем трепещу, Все жилы напряглись. Ищу спасенья, 115Певец, твоей я помощи ищу». «Ты должен поискать пути иного, И этот путь я указать хочу». 118Услышал я из уст поэта слово: «Знай, страшный зверь-чудовище давно Путь этот заграждает всем сурово 121И губит и терзает всех равно. Чудовище так жадно и жестоко, Что вечно не насытится оно 124И жертвы рвет в одно мгновенье ока. К нему на смерть несчетное число Творений жалких сходит издалёка, — 127И долго будет жить такое зло, Пока Пес Ловчий[5] с зверем не сразится, Чтобы вредить уж больше не могло 130Чудовище. Пес Ловчий возгордится Не жалким властолюбием, но в нем И мудрость и величье отразится, 133И родиной его мы назовем Страну от Фельтро и до Фельтро[6]. Силы Италии он посвятит; мы ждем, 136Что с ним опять воспрянет из могилы Италия, где прежде кровь лилась, Кровь девственной, воинственной Камиллы, 139Где Турн и Низ нашли свой смертный час[7]. Преследовать от града и до града Волчицу эту будет он не раз, 142Пока ее не свергнет в кратер Ада, Была откуда изгнана она Лишь завистью… Спасти тебя мне надо 145От этих мест, где гибель так верна; Иди за мной, – тебе не будет худо, Я выведу – на то мне власть дана — 148Тебя чрез область вечности отсюда, Чрез область, где услышишь ты во мгле Стенания и вопли, где, как чуда, 151Видения умерших на земле Вторичной смерти ждут и не дождутся[8] И от мольбы бросаются к хуле. 154Потом перед тобою пронесутся Ликующие призраки в огне, В надежде, что пред ними распахнутся, 157Быть может, двери в райской стороне И их грехи искупятся страданьем. Но если обратишься ты ко мне 160С желанием в Раю быть – тем желаньем Давно уже полна душа моя — То есть душа другая: по деяньям 163Она меня достойнее, и я Ей передам тебя у райской двери И удалюсь, печаль свою тая. 166Я был рожден в иной и темной вере, К прозрению не приведен никем, И места нет теперь мне в райской сфере, 169И я пути не укажу в Эдем. Кому подвластны солнце, звезды эти, Кто царствует в веках над миром всем, 172Того обитель – Рай… На этом свете Блаженны все, им взысканные!» Стал Тогда искать опоры я в поэте: 175«Спаси меня, поэт! – я умолял. — Спаси меня от бедствий ты ужасных И в область смерти выведи, чтоб знал 178Я скорбь теней томящихся, несчастных, И приведи к священным тем вратам, Где Петр Святой обитель душ прекрасных 181Век стережет. Я быть желаю там». Мой проводник вперед шаги направил, И следовал я по его пятам.Песня вторая
Во второй песне поэт, после обычного вступления, начинает сомневаться в своих силах для предстоящего пути и думает, что не в состоянии будет сойти в Ад вместе с Вергилием. Ободренный Вергилием, он решается наконец следовать за ним, как за своим наставником и путеводителем.
1День потухал. На землю сумрак лег, Людей труда к покою призывая. Лишь я один покойным быть не мог, 4Путь трудный, утомительный свершая. Все то, что предстояло мне вперед — Страдания и обаянье Рая, — 7То в памяти навеки не умрет… О, музы, о святое вдохновенье! Теперь вы мой единственный оплот! 10Запомни, память, каждое явленье, Которое заметил только взгляд! «Скажи, поэт! – воскликнул я в волненье. — 13Мой путь тяжел, в пути препятствий ряд… По силам ли мне подвиг предстоящий? Ты описал, как раз спускался в Ад 16Герой Эней[9], тогда еще носящий Людскую плоть, и вышел невредим: Сам вечный Бог, на свете зло разящий, 19Всегда стоял защитником над ним И чтил родоначальника в нем Рима; И знаем мы – на этот славный Рим 22Сошло благословение незримо… Святынею, источником добра Да будет град, где власть неутомима 25Наместников святителя Петра!.. Спустился в Ад Эней, тобой воспетый, В нем не нашедший смертного одра, 28Но знаньем и прозрением согретый, Величье пап из Ада вынес он. Позднее же с земли печальной этой 31Сам Павел был на Небо вознесен, Где стал опорой нашего спасенья. Но я – тяжелым подвигом смущен, 34Я трепещу за дерзкие стремленья. Я не апостол Павел, не Эней, — Избрать их путь кто дал мне позволенье? 37Вот почему являться в мир теней Боюсь с тобой. Уж не безумен я ли? Но ты меня мудрее и сильней: 40Покорствую тебе в моей печали». Как человек, лишенный воли вдруг, В котором мысли новые сменяли 43Ряд прошлых дум и помыслов и мук, Так точно я в пути стал колебаться И озирался с трепетом вокруг, 46И быстро стала робостью сменяться Моя решимость. Призрак мне сказал: «Ты начал низкой трусостью смущаться. 49Подобный страх нередко отвращал От славных дел. Так тени зверь боится. Но я рассею страх твой. Я блуждал 52Средь призраков и ждал, когда решится Над участью моею приговор, Вдруг слышу, – я не мог не удивиться, — 55Святая Дева в тихий разговор Со мной вступила. Счастья не скрывая, Я Деве покорился с этих пор. 58Как звезды неба нежили, сверкая, Ее глаза и голос так звучал, Как пенье херувимов в царстве Рая: 61«О, ты поэт, чей гений засиял И будет жить до разрушенья света, Иди! На крутизне пустынных скал 64Мой друг ждет и опоры и совета, Препятствиями страшными смущен. Иль для него погибло все? Ответа 67Я буду ждать: он будет ли спасен? Иди к нему и силой строгой речи Да будет от беды избавлен он. 70Мне имя – Беатриче; издалече Явилась я. Меня любовь вела, Моя любовь с тобой искала встречи: 73Я помощи твоей с мольбой ждала. В обитель Бога скоро я предстану И там, где гибнет всякая хула, 76Тебя я славословить громко стану…» И Беатриче смолкла. Я сказал: «Клянусь, тебе служить я не устану! 79Ты святости высокой идеал, Ты образ добродетели чудесной! Все радости земли, что Бог нам дал, 82Доводишь ты до радости Небесной! Тебе легко повиноваться мне… И если бы, о призрак бестелесный, 85Твою я волю выполнил вполне, То все бы постоянно мне казалось, Что действовал я вяло, как во сне, 88Что дело слишком медленно свершалось. Твои желанья мог я оценить, Но отвечай: как ты не побоялась 91В жилище преисподнее сходить Из той святой обители надзвездной, Которую не можешь ты забыть?..» 94«Без страха я скольжу над этой бездной, — Сказала Беатриче, – и, поэт, Могу тебе совет я дать полезный: 97Поверь – когда злых помыслов в нас нет, Нам ничего не следует бояться. Зло ближнему – вот где источник бед, 100И только зла нам нужно всем пугаться. Благое Небо крепость мне дает, Чтоб не могла страданьем я терзаться, 103И даже пламя ног моих не жжет. Там в Небесах есть Дева Всеблагая[10], И ей-то, Всеблагой, стал жалок тот, 106Кого спасти ты должен, сберегая. И к Лючии[11] пришла с мольбой она: «Спеши помочь тому ты, дорогая, 109Которому рука твоя нужна». И Лючия то место посетила, Любви и сострадания полна, 112Где я с Рахилью старой говорила, И молвила: «Настал ужасный миг! Что, Беатриче, ты не поспешила, 115Спасти того, кто в мире стал велик, Любив тебя? Иль ты не слышишь, что ли, Знакомый вопль и о спасенье крик? 118Не видишь, как жилец земной юдоли В борьбе со смертью грозной изнемог, Которая страшна в безумной воле, 121Как океана бешеный поток…» Никто быстрей не мчался для добычи, Никто от бед бежать скорей не мог, 124Как бросилась сюда я, Беатриче, Покинувши приют святых теней, И одного тебя на помощь клича. 127Ты даром слова в мире всех сильней, И я в твоих словах ищу опоры…» Тогда на мне безмолвно, без речей, 130Она в слезах остановила взоры, И я к тебе на помощь поспешил Не медля, – мне страшны ее укоры; 133Волчицу я к тебе не допустил И на гору открыл тебе дорогу… Что ж медлишь ты? Иль в сердце не смирил 136Ты робости напрасную тревогу? Когда три девы в вечных Небесах За жизнь твою мольбы возносят к Богу, 139Когда во мне, во всех моих словах Находишь ты привет и поощренье, Ужель в тебе не утихает страх?» 142Как от холодных ветров дуновенья, От стужи наклоняются цветы И утром вновь встают в одно мгновенье 145Под блеском солнца, полны красоты, Так точно я от страха вдруг очнулся, Воскликнув: «Будь благословенна ты, 148В чьем состраданье я не обманулся, Ты, бодрость заронившая мне в грудь, Когда мой стан от ужаса согнулся… 151И ты, поэт, благословенным будь, Исполнив повеленье Девы Рая. С тобой готов начать я смело путь, 154Желаньем трудных подвигов сгорая. С тобой мне не страшна пучина зол… Веди ж женя, путей не разбирая…» 157Так я сказал и за певцом пошел.Песня третья
Данте, следуя за Вергилием, достигает дверей Ада, куда оба входят, прочитавши у входа страшные слова. Вергилий, указывая поэту на мучения, которые заслужили трусы, ведет его далее. Они приходят к реке, называемой Ахерон, у которой находят Харона, перевозящего души на другой берег. Когда Данте переехал чрез Ахерон, то он заснул на берегу этой реки.
1«За мной – мир слез, страданий и мучений, За мною – скорбь без грани, без конца, За мной – мир падших душ и привидений. 4Я – правосудье высшего Творца, Могущества и мудрости созданье, Творение Небесного Отца, 7Воздвигнутое раньше мирозданья. Передо мной – прошел столетий след, Удел мой – вечность, вечность наказанья, 10За мной ни для кого надежды нет!» Над входом в Тартар надпись та чернела. Я страшные слова прочел. «Поэт, 13Смысл этих слов, – воскликнул я несмело, — Наводит страх!» Вергилий угадал, Что сердце у меня оледенело. 16«Здесь места страху нет, – он отвечал. — Мы подошли к обители печали Тех падших душ, – Вергилий продолжал, — 19Что на земле безумцами блуждали»[12]. И мне с улыбкой руку сжал певец; Я стал бодрей, и вот мы увидали 22Обитель вечной тайны, наконец, Где в безрассветном мраке раздавались Вопль и стенанья из конца в конец; 25Повсюду стоны, где мы ни являлись, И я заплакал, выдержать не мог… Мы ближе, – вопли грешников сливались 28В смесь разных языков, в один поток. Хулы, проклятья, бешенства визжанье, Ужасные движенья рук и ног, — 31Все в гул сливалось в общем завыванье. Так ураган крутит степей пески. Ревет и губит все, без состраданья. 34 В неведенье, исполненный тоски, Воскликнул я невольно: «О, учитель! Уже ль грехи теней так велики, 37Теней, попавших в страшную обитель? И кто они?» «Ничтожество – они В толпе людей, – сказал путеводитель. — 40При жизни на земле в иные дни Жалчайшими их тварями считали. Им на земле, – кругом себя взгляни, — 43Хулы иль похвалы не воздавали; Теперь – они вступили в сонм духов, Которые Творцу не изменяли, 46Но грех давил их тяжестью оков И не было в них веры в Провиденье. Великий Бог их свергнул с облаков, 49Чтоб Небеса не знали оскверненья, И даже Ад впустить их не хотел: В Аду гнушалось даже преступленье 52Ничтожеством и мерзостью их дел». «Какие же назначены им муки? Какой у них, наставник мой, удел? 55Пронзительны их страшных воплей звуки…» И отвечал Вергилий: «Лишены Они надежды; скованы их руки. 58В их настоящем скорби так сильны, Что худшей доле, бо́льшему мученью Они всегда завидовать должны. 61Мир их забыл – и нет конца забвенью: Их не щадят, но также не казнят, Приговоривши к вечному презренью. 64Но прочь от них и брось вперед свой взгляд, Иди теперь за мной неутомимо». Я сделал шаг, но отступил назад: 67Передо мной промчалось знамя мимо, Так быстро, словно вихорь уносил Его вперед, вперед неудержимо. 70За ним летели призраки могил Несчетной вереницей: страшно было, Что столько жизней в мире, столько сил 73Смерть в призраки немые обратила. Один из них мне словно был знаком: Известный образ память сохранила. 76Смотрю: да, это точно он, о ком Народ с презреньем часто отзывался, Кто, покривя душой и языком, 79Высоким отреченьем запятнался[13]. Тут понял я, что этот сонм теней Собраньем душ отверженных являлся, 82Презренных для врагов и для друзей. Их жизнь была не жизнь, а прозябанье, И здесь теперь, при наготе своей, 85Достались эти жалкие созданья На жертву насекомых – мух и ос — И терпят беспрерывные терзанья. 88По лицам их, мешаясь с током слез, Струилась кровь и к их ногам стекала, Где множество червей в крови вилось, 91И эту кровь мгновенно пожирало. От них я отвернулся. Вдалеке Немало новых призраков стояло 94На голом берегу, столпясь к реке. «Учитель, – я спросил, – чьи тени эти, Что переправы словно ждут в тоске? 97Их вижу я едва при тусклом свете». «Об этом ты узнаешь, – молвил он, — Когда, – я побледнел при том ответе, — 100Откроется пред нами Ахерон». Мы дальше шли, и я хранил молчанье, Пока не увидал со всех сторон 103Большой реки, бежавшей без журчанья. Вот подплыл к нам седой старик в челне. «О, горе вам, преступные созданья! — 106Он закричал Вергилию и мне. — Надежды все вам нужно здесь оставить, Вам Неба не увидеть в вышине. 109Я здесь, чтобы туда вас переправить, Где холод вечный царствует и ночь, Где пламя в состоянье все расплавить. 112А ты, – он мне сказал, – отсюда прочь! Среди умерших места нет живому». Не в силах любопытства превозмочь, 115Не двигался я с места. «По иному Пути ты поплывешь, – прибавил он, — И переправит к берегу другому 118Тебя челн легкий…» «Знай же ты, Харон, — Ему сказал мой спутник хладнокровный, — Что ты напрасным гневом возмущен: 121Тот, воля чья закон есть безусловный, Так повелел, и должен ты молчать». И смолкнул разом лодочник огромный, 124И перестали бешенством сверкать Его глаза в их огненных орбитах, Но призраки, успев слова поймать, 127Проклятьем разразились; в ртах открытых Их зубы стали громко скрежетать; В их мертвых лицах, язвами изрытых, 130Явилась бледность. Нагло изрыгать Они хулы на целый мир пустились, Творца и предков стали проклинать 133И самый час, когда они родились. Потом, с рыданьем к берегу скользя, К ужасной переправе устремились: 136Избегнуть общей кары им нельзя. Их гнал Харон, глазами вкруг сверкая, Веслом отставших призраков разя. 139Как в осень листья падают, мелькая, Пока ветвей совсем не обнажат, В наряд поблекший землю облекая, 142Так тени на пути в глубокий Ад На зов гребца в ладью его бросались, Теснилися и помещались в ряд. 145Едва они через поток помчались, Как к перевозу страшному опять Уже другие призраки сбегались. 148«Мой сын, – сказал поэт, – ты должен знать, Что души осужденных прилетают Отвсюду к Ахерону. Разгадать 151Они свое грядущее желают, Спеша переплывать через поток, И вечно их желанья пожирают 154Узнать ту казнь, что ждет их за порок. Еще никто с душой неразвращенной Здесь чрез реку переплывать не мог; 157Вот почему отверг Харон бессонный Тебя, мой сын, и гневом запылал, Твоим явленьем сильно раздраженный». 160Поэт умолк, и вдруг я услыхал Ужасный грохот, – почва задрожала… Холодный пот на теле выступал. 163Над головою буря застонала, И полосой кровавой в Небесах Извилистая молния сверкала… 166Меня сковал какой-то новый страх, И я в одну минуту чувств лишился, Не в силах удержаться на ногах, 169И, как во сне, на землю опустился.Песня четвертая
Поэт вслед за Вергилием спускается в первый круг Ада, где в особой светлой обители находит призраки знаменитых людей древности, которые приветствуют их и продолжают с ними путь. Ряд других знаменитых мужей. Вергилий ведет поэта дальше, в Царство мрака.
1Раскатом грома был я пробужден И от его ударов содрогнулся. Развеялся тяжелый, смутный сон; 4Раскрыв глаза, кругом я оглянулся, Желая знать, где я, куда попал, И над зиявшей бездною нагнулся: 7Из бездны гул стенаний долетал До нашего внимательного слуха, — Внизу под нами вечный стон стоял, 10То грозен был, то замирал он глухо, Была темна той бездны глубина, И если вопль мог долетать до уха, 13То глаз не мог увидеть бездны дна, Хоть напрягал усиленно я зренье. «Пусть эта пропасть вечная мрачна, — 16Сказал поэт и побледнел в мгновенье, — Мы в этот мрачный мир теперь сойдем; За мною смело следуй без смущенья». 19В лице переменился он. О том Заметил я: «Уж если ты бледнеешь, В моих сомненьях ставши мне щитом, 22Могу ль быть смел, когда ты сам робеешь?» Он отвечал: «В лице, в моих глазах Всех чувств моих читать ты не умеешь. 25Я чувствую теперь не жалкий страх, Но ощущаю только состраданье К судьбе теней, томящихся впотьмах, 28Под безысходной карой наказанья. Иди за мной. Наш путь еще далек, Нам медленность не принесет познанья…» 31И за собой поэт меня увлек К ограде первой бездны непроглядной. Хоть вопль теней к нам долетать не мог, 34Но самый воздух пропасти той смрадной, Казалось, словно вздохами стонал: То было Царство скорби безотрадной, 37Отчаянья без боли, где блуждал Сонм призраков – мужчины, жены, дети. Тогда путеводитель мне сказал: 40«Что же меня не спросишь ты, кто эти Несчастные? Ты должен все узнать, Чем были эти призраки на свете, 43Пока вперед мы не пошли опять. Так знай: им неизвестно преступленье, Но недоступна Неба благодать, 46Лишь потому, что таинством крещенья Своих грехов омыть им не пришлось, — Они бродили в вечном заблужденье 49В те дни, когда в мир не сходил Христос. Их вера до Небес не воспарила. Я сам в незнанье их когда-то рос: 52Неведенье одно нас погубило, И за него мы все осуждены На вечное желанье за могилой, 55Надежды, милый сын мой, лишены…» От этих слов тоска мне сердце сжала: Страдать все эти призраки должны, 58Хоть их чело величием блистало. Кто скажет им, что в будущем их ждет? И я хотел, во что бы то ни стало, 61Проникнуть тайну Неба и вперед Узнать предел их горького страданья; И так сказал: «Меня желанье жжет, 64Поэт. Скажи мне: в Царстве наказанья Ужель никто доныне не умел Спасенье заслужить и оправданье 67За подвиги и славу прежних дел? Ужель никто спасти их не решался?» И отвечал учитель: «Мой удел 70Еще мне нов был здесь, когда спускался Сюда во мрак Спаситель мира сам И лаврами победы увенчался. 73Спасен был им наш праотец Адам, И Ной, и Моисей – законодатель, И царь Давид, и старый Авраам, 76Рахиль, – и многих спас тогда Создатель, И в горние селенья перенес, Прощая их, Божественный Каратель. 79До той поры до мира вечных слез Ни разу не коснулось искупленье…» Мы дальше шли. И скоро нам пришлось 82Переходить пространство. Привиденья, Как лес густой, являлись впереди, Неуловимы, точно сновиденья. 85Оставивши вход в бездну назади, Мерцавший свет во тьме я вдруг заметил, И сердце шевельнулося в груди. 88Я угадал, что в сумраке был светел Душ избранных особый уголок. «Учитель мой! Я жду, чтоб ты ответил 91И назвал тех, кому всесильный рок Дал светлую, особую обитель И в бездну тьмы с другими не увлек!» 94«Их слава, – отвечал путеводитель, — Их пережив, живет до поздних дней, И им за то Небесный Вседержитель 97Отличье дал в обители теней». И в тот же миг услышали мы слово: «Привет певцу! Привет его друзей! 100В мир призраков он возвратился снова…» Тут голос стих. Четыре тени шли Навстречу к нам. Страдания немого, 103Иль светлой, чистой радости земли, Иль затаенной на́ сердце печали — В их лицах прочитать мы не могли. 106Тогда слова поэта прозвучали: «Смотри, с мечом[14] вот выступил вперед Певец Омир: царем его считали 109Поэзии. Гораций с ним идет, А вот Лукан с Овидием. Привета, Такого же привета, как и тот, 112Что я сейчас услышал от поэта, Они достойны все…» И я вошел В собрание певцов великих света, 115В ту школу, где над всеми, как орел, Вознесся царь высоких песнопений… Кружок теней со мною речь завел, 118Приветствуя мой восходящий гений; Вергилий тут не мог улыбки скрыть. Затем, вслед за приветствием видений, 121Певцами был я приглашен вступить В их тесный круг, и был шестым меж ими. Мы стали меж собою говорить 124В согласии, как братья. Вместе с ними Я шел туда, где бледный свет мерцал; И с спутниками, сердцу дорогими, 127Величественный замок увидал, Кругом семью стенами обнесенный; Поток реки тот замок обвивал. 130И чрез поток, певцами окруженный, Я перешел, как через сушу, вдруг; Чрез семь ворот вступил я, пораженный, 133На длинный двор, где цвел зеленый луг. На том лугу иные тени были: На лицах их – спокойствие без мук 136И словно думы строгие застыли. Величием запечатлен их вид; Они почти совсем не говорили, 139Но мне казалось – голос их звучит, Как музыка. С холма смотреть мы стали Кругом себя, – с холма был нам открыт 142Весь светлый луг, где призраки блуждали. На множество прославленных теней Мне спутники в то время указали 145Среди поляны. Видел я на ней Электру[15] вместе с многими тенями: Вот Гектор, всем известный, вот Эней, 148Вот Цезарь с ястребиными очами, С Камиллою[16] Пентесилея[17] вот, Вот царь Латин[18] с Лавинией пред нами; 151Вот Брут, а вот Лукреция идет, Вот призрак одинокий Саладина[19], Тень Марции[20] и Юлии[21] встает 154С Корнелией[22]; вот новая картина: Вкруг мудреца[23] философы сидят, Ему дивясь и славя воедино; 157Сидел Платон, с ним рядом и Сократ. Вот тени Диогена, Демокрита[24]; Вот призраки знакомые стоят 160Фалеса, Эмпедокла, Гераклита. Вот и Зенон, и он, Диоскорид[25], В котором знанья много было скрыто; 163Анаксагор и геометр Евклид, Вот призрак Цицерона и Орфея, Тит-Ливия, Сенеки; вот скользит 166Тень Иппократа с тенью Птолемея; Вот Галиен, мудрец Аверроэс[26]… Не в силах передать теперь вполне я 169Всех предо мной являвшихся чудес И слов не нахожу для выраженья. Перед мной круг спутников исчез. 172Из светлого приюта в то мгновенье Мой проводник со мной спускаться стал В зловещий, мрачный мир грехопаденья, 175Где даже воздух самый трепетал, Куда сквозь мрак, который там гнездился, Луч света никогда не западал. 178И в этот мир с поэтом я спустился.Песня пятая
Вергилий вводит Данте во второй, меньший круг Ада. Они видят свирепого Миноса, творящего суд и расправу с кающимися душами грешников и распределяющего их по разным отделам Ада. Казнь за преступную любовь. Франческа де Полента. Ее рассказ. Поэт лишается чувств и падает.
1Круг первый Ада нами был пройдён, И во второй – в круг меньший – мы спускались, Где жалобней звучали плач и стон 4И муки бесконечнее казались. Там злобный Минос с скрежетом зубов Внимал, как тени, плача, признавались 7В своих грехах, и, их казнить готов, Произносил свой суд неотразимый. Признания их слушая, без слов, 10Своим хвостом, судья неумолимый, Всегда спешил обвиться столько крат Вокруг себя, лишь бешенством томимый, 13На сколько ступеней пониже в Ад Им осужденный призрак повергался, И тем хвостом, свернувшимся в обхват, 16Род казни их всегда определялся. Пред Миносом, покаявшись в грехах, Ряд призраков один другим сменялся 19И падал в бездну с воплем и в слезах. Меня увидя, Минос суд ужасный Остановил с проклятьем на губах: 22«Зачем ты здесь, скажи, пришлец несчастный? Здесь мир скорбей и ужаса приют. Сюда тебе ворота отопрут, 25Но выйти вон отсюда очень трудно». «К чему грозишь? – сказал мой проводник. — Мы не поймем друг друга обоюдно: 28Тот, кто своим могуществом велик, Сойти сюда ему дал позволенье. Впусти ж его и удержи язык». 31И вопли я услышал в отдаленье, Когда вступил в тот мрачный, адский круг, Где раздавались стоны исступленья, 34Где омертвел, казалось, свет вокруг, Где, словно вечный ропот океана, Носился гул неутихавших мук; 37Где адские порывы урагана, Бичуя, и терзая, и кружа, За тенью тень несли среди тумана, 40И души падших грешников, дрожа, Стеня, хулы на Бога изрыгали. За чувственность казнь эту заслужа, 43Как я узнал, те души в Ад попали… Как стаи птиц в холодный день зимы В бессилии мятутся, так летали, 46Вперед и взад метались в Царстве тьмы Страдальческие тени. В их страданье Надежды нет; должны смутиться мы — 49Лишенные в грядущем упованья, Им отдыха в мучениях не знать. Как в небе журавли в ночном молчанье 52Начнут, порою, жалобно кричать, Так тени, в общем плаче надрываясь, Неслись в Аду, не в силах устоять 55В круженье вихря знойного. Теряясь, Про сонм тех душ поэта я спросил, Их адскому круженью ужасаясь. 58«Вот первая, – Вергилий говорил, — Народов многих гордая царица. Пороком лишь – он ей законом был — 61Жила сластолюбивая блудница, Открыто поощрявшая разврат. Звалась Семирамидой та срамница. 64Она была, как хроники гласят, Женою и преемницею Нина, Владея краем, – край тот был богат, 67Где властвует Судан теперь. Кручина Другую тень смущает: то жена — Самоубийца[27]. Горькая судьбина 70Ее любви печальна и страшна. Вот призрак Клеопатры сладострастной…» Затем Елену видел я: она 73Являлась на земле звездой несчастной; За нею шли – великий муж Ахилл, Погибший от любви своей напрасной, 76Парис, Тристан[28]… Вергилий повторил Имен людей прославленных немало, Которых пыл их страсти погубил. 79От состраданья к ним изнемогала Моя душа, и был я поражен, Когда близ нас собрание предстало 82Известнейших мужей и славных жен. И я сказал: «Мне хочется, Вергилий, Речь повести с четой теней, как сон, 85Скользящей и несущейся без крылий». «Пусть ближе налетят они, тогда, — Сказал поэт, – мы можем без усилий 88Для той беседы вызвать их сюда, Любовью, их связавшей, заклиная». Вот дунул ветр. Как облаков гряда 91Несется, воли собственной не зная, Приблизились к нам тени. Оживясь, Воскликнул я, к себе их призывая: 94«О, страждущие тени! Если нас Беседой подарить вы в состоянье, Поговорите с нами!» Как подчас, 97При радостном, веселом воркованье К родимым гнездам голуби летят, Так при моем невольном восклицанье 100Чета теней, сквозь общий вихрь и смрад, Толпу тех душ покинув, где стояла Несчастная Дидона, – тихо, в ряд, 103Порхнула к нам. Одна из них сказала: «Ты, ради нас сошедший в эту тьму, Ты, чья душа к нам жалость испытала, 106Хотя преступны все мы, – твоему Величию не можем не дивиться, И если бы, в грехах своих, Ему, 109Творцу миров, мы смели помолиться, Просили б мы, чтоб мир и благодать На голову твою могли спуститься 112За то, что нам ты можешь сострадать. О, говори – тебя мы слушать станем, Расспрашивай – мы станем отвечать, 115Пока в пучину бездны вновь не канем… Мой край родной – на берегу морском, Где волны По бегут, подобно ланям, 118Теряясь в океане голубом. Любовь, души прекрасная подруга, В груди Паоло вспыхнула огнем. 121Он был пленен той красотою юга, Которая была во мне и вдруг Исчезла от жестокости супруга. 124Любовь – призыв души, как сладкий звук, Откликнулась в душе моей любовью, Которая не убоялась мук, 127Не умерла, хоть истекала кровью. Любовь нас к ранней смерти привела, — Но казнь – братоубийце! К изголовью 130Его, так много сделавшего зла, Должны спуститься адские страданья…»[29] Умолкла тень. Не поднимал чела 133Я, слушая ее повествованье, И долго пересилить не умел Невольного, глубокого молчанья. 136«Куда с своей ты думой залетел?» — Спросил поэт. «О, сколько наслаждений И чудных грез им посулил удел, 139Но вместо них дал вечный гнет мучений!» — Воскликнул я и тени молвил вновь: «Франческа, ты несчастней всех видений! 142Волнует сострадание мне кровь… Поведай же: когда ты угадала В себе свою неясную любовь 145И чувство непонятное узнала?» Франческа мне дала такой ответ: «Воспоминания язвят меня, как жало!.. 148Ужасней и сильнее скорби нет — О днях блаженства вспомнить в дни печали; О том тебе расскажет твой поэт, 151С тобой идущий. Если о начале Моей любви ты хочешь правду знать, Так слушай же, как мы любовь узнали: 154Рассказ мой слезы будут дополнять… Однажды Ланчелота[30] приключенья Мы с любопытством начали читать, 157Где он любви испытывал волненья. Чувств собственных не ведая тогда, Одни мы оставались в те мгновенья. 160От книги отрываясь иногда, Бледнели мы, и чтенье забывалось; Мы трепетали вместе, но когда 163Одна страница в книге нам попалась, Решилась вдруг судьба обоих нас: Читали мы, как сладко улыбалась 166Влюбленная красавица в тот час, Когда любовник пламенный и страстный Поцеловал в уста ее. Зардясь, 169Тогда и он, Паоло мой прекрасный, Трепещущий, прильнул к моим устам. И книга та, как Галеот[31] опасный, 172Служила искушеньем сладким нам. В тот день мы уже больше не читали». Умолкла тень. Внимая тем словам, 175Другая тень, не в силах скрыть печали, Заплакала так горько, что терял Сознанье я… мне силы изменяли, 178И я, как труп безжизненный, упал.Песня шестая
Поэт вслед за своим путеводителем спускается в третий круг Ада, где Вергилий усмиряет адского Цербера. Сластолюбцы и обжоры. Признание призрака Чиакко и его речь о будущей судьбе Флоренции. Грешники, ожидающие дня Страшного суда, и их слабая и смутная надежда на прощение.
1Когда опять от тяжкого забвенья Очнулся я, о муках душ скорбя, Лишившись чувств своих из сожаленья, 4Я снова увидал вокруг себя Ряд призраков и новых мук картины. То был круг третий Ада, где, губя 7Все встречное, струился дождь на льдины; Проклятый, страшный дождь, и крупный град, И грязный снег слетали на вершины 10Угрюмых скал. Зловоние и смрад… Там Цербер отвратительно ужасный, С тройною пастью, лаял, дикий взгляд 13Бросая вкруг, и с жалобой напрасной Тонули тени, вспугнутые им. Цвет грозных глаз его – кроваво-красный. 16Он отличался бешенством своим, Когтями лап и безобразным чревом. Неутомимой злобой одержим, 19Он грешников царапал с адским гневом И на клочки их кожу разрывал… О, грешники! Достались муки все вам! 22Пронзительный их дождик бичевал; Они, как псы, уныло завывали… То грудь, то спину призрак укрывал, 25Где гнойных язв следы не заживали, То беспрерывно двигался, кружась, Чтоб хоть движенья муку облегчали. 28Едва заметил только Цербер нас, Как у него раскрылась пасть тройная, Сверкнул огонь его кровавых глаз 31И задрожал от злобы он, не зная Кто нас привел, как мы сюда зашли. Тогда рукой горсть праха поднимая, 34В пасть гадины мой спутник ком земли Швырнул без слов. Как по добыче вывший Смолкает жадный пес, когда в пыли 37Теребит тихо жертву, так открывший Тройную пасть умолкнул Цербер вдруг, Чудовищные челюсти смеживший. 40Рев, в трепет повергавший все вокруг, В минуту стих. Мы дальше подвигались, Стонали всюду призраки от мук 43И нашими ногами попирались, Склонясь к земле от адского дождя. Все тени распростертыми казались, 46Когда я шел близ мудрого вождя; Лишь только тень одна с земли привстала, За нами очень пристально следя. 49«О, ты, сошедший в Ад, – она сказала, — Узнай меня, коль это можешь ты. Ты был рожден, когда еще не знала 52Я этих адских мук». «Твои черты, — Я отвечал, – быть может, изменились Среди страданий вечной темноты 55И так под адским ливнем исказились, Что мне тебя припомнить средства нет. Кто ты? Иль Небеса так возмутились 58Твоим грехом, что ты покинул свет Для этих отвратительных страданий?» «В том городе, – мне тень дала ответ, — 61Где много так завистливых созданий, Я был, как ты, на этот свет рожден, И жил, не зная тяжких испытаний, 64Мой грязный грех – обжорство, бог мамон. Известен я под именем Чиакко[32] И за порок обжорства осужден 67Томиться под дождем в жилище мрака. На эту казнь, за тот же самый грех Не я один здесь осужден, однако: 70Приговорили к казни этой всех Отверженных, что вкруг меня теснятся». И после слов и после жалоб тех 73Умолкла тень. «Чиакко, удержаться Нельзя от слез, – я вновь проговорил, — Твои страданья видя… Может статься, 76Ты будущность Флоренции открыл: Скажи, что с этим городом случится? Иль нет людей там праведных? Иль пыл, 79Пыл мятежей в нем ввек не прекратится?» И призрак отвечал мне: «Вновь и вновь Мятеж за мятежом там разразится, 82И долго будет литься граждан кровь. Сперва Лесные[33] сделают восстанье, С насилием изгнав своих врагов; 85Продолжится три года ликованье, — Потом падут Лесные, наконец, И гордость Черных, после испытанья, 88Поднимет, ими вызванный, пришлец[34]. И долго над врагом своим кичиться Там станет победитель, как боец, 91Который угнетенья не стыдится. Два праведника только там живут[35], Но их народ не знает, не боится. 94Три страшных искры сердце граждан жгут: Гордыня, зависть и любостяжанье». Он замолчал, но я заметил тут: 97«Тень бедная, прерви свое молчанье И отвечай, хоть речь тебе тяжка: Где Фарината? Местопребыванье 100Где Рустикуччи, Арриго, Моска, Тегьяйо[36]? В мире добрыми делами Они известны были. Иль горька 103В Аду их участь, или Небесами Дарована теперь им благодать И мир овладевает их сердцами? 106Так где ж они? И как мне их узнать?» Чиакко мне сказал: «Искать их надо Не в Небесах, – там их не отыскать, — 109Но ниже, в глубине подземной Ада, — Ты встретишь их, когда сойдешь туда, В числе теней: прощенье и пощада 112Им неизвестны будут никогда. Прошу тебя: из этих мест унылых Когда вернешься к людям ты, тогда 115Им обо мне напомни… Я не в силах Вновь говорить. Дождь жжет сильней огня…» Его глаза, – темно в них, как в могилах, — 118Перекосились вдруг; он на меня Взглянул и снова низко опустился В среду слепцов[37], чело свое склоня. 121«Пока, трубя, архангел не явился, Пока Судья Небесный не сойдет, — Сказал поэт, – и сильно я смутился. — 124Казня теней, дождь адский не пройдет. А в Судный день все тени возвратятся В свои могилы; быстро в свой черед 127В свой прежний образ, в плоть преобразятся И будут ждать последнего Суда». Вперед мы стали тихо подвигаться 130По мрачному пространству, и тогда Смесь грязи и Теней мы увидали; Про Страшный суд в грядущие года 133Мы по дороге тихо толковали. «Учитель! – между прочим я спросил, — Усилятся ль их муки и печали, 136Иль ослабеют кары адских сил, Когда суда последний день настанет?» «Знай, смертный, – спутник мой проговорил, — 139Чем ближе к совершенству каждый станет, Тем ближе для него добро и зло. Хоть эту сволочь адскую не тянет 142Достичь до совершенства, – не могло Родиться в них подобное стремленье, — Но осеняет грешников чело 145Надежда, и пощады и прощенья Все ждут они в день Страшного суда». Мы шли. Не передам я в песнопенье 148Всего, что говорили мы тогда. Но вот у спуска Плутуса[38] нашли мы, Который был врагом людей всегда: 151Для Плутуса все люди нестерпимы.Песня седьмая
Путники спускаются в четвертый круг Ада, где у входа встречают Плутуса. Вергилий его усмиряет, и он падает ниц. Круг, где страдают скупцы и расточители, раскрывается перед путниками. Рассуждение Вергилия о фортуне. Он ведет Данте в другой круг Ада, где тени караются за зверство.
1«Papé Satа́n, papé Satа́n, aleppe!»[39] — Так грозно адский Плутус зарычал, Встречая криком нас в своем вертепе. 4Но мне певец всеведущий сказал: «Не бойся неожиданной преграды… Вредить он нам не может… Прочь, шакал! — 7Он говорил, остановивши взгляды На демоне: – Молчи и пожирай Ты сам себя от бешеной досады: 10Спуститься должен смертный в адский край, Куда идет по воле Провиденья… Молчи и злобой внутренней сгорай…» 13Как мачта корабельная в крушенье В морскую бездну с парусом летит, Повергнута, изломана в мгновенье, 16Пал Плутус ниц, приняв покорный вид, А мы все глубже в тартар углублялись, В вертеп, который грешникам открыт, 19Которым все пороки поглощались. О, Боже мой! Могу ль я передать Ряд новых мук, что предо мной являлись? 22Ужель за грех так можно пострадать? Как меж собой сшибаются в смятенье Харибды волны с ревом, чтоб опять 25Бежать назад, так в вечном исступленье Должны сшибаться тени меж собой. Их много здесь, кричащих в озлобленье. 28Двойной толпой они вступают в бой И, тяжести огромные бросая Друг в друга, поднимают дикий вой, 31С упреками такими отступая: «Что бросил ты?» «А ты что не бросал?» И, двигаясь и вновь в борьбу вступая, 34Ревут, бегут, как моря грозный шквал, И снова отступают и мятутся, И снова бой… Скорбеть о них я стал, 37Успела жалость в сердце шевельнуться. «О, кто они? Поведай мне, поэт! Вон там, левей, – иль мог я обмануться?.. 40 Толпа духовных лиц… Сомненья нет: На них я вижу знаки постриженья». «Знай, все они, – мудрец мне дал ответ, — 43Свой разум довели до ослепленья, И грех их – расточительность. Взгляни На их толпу, на шумное движенье: 46Здесь гранью полукруга все они Отделены от области другого Греха. Ты угадал – в иные дни 49Тех призраков, чьи головы сурово Обнажены, – монахами мир звал. Здесь можешь встретить папу ты иного, 52Здесь не один погибший кардинал». «Но как же между ними, мой учитель, Знакомых лиц пока я не узнал, 55Которых грех смутил, как искуситель?» «Напрасно разглядеть их хочешь ты, — Мне отвечал тогда путеводитель, — 58Грехи так исказили их черты, Что лиц их распознать нам невозможно; И вечно в этом Царстве темноты 61Сшибаться будут призраки тревожно, Пока день воскресенья не придет. Тогда они восстанут осторожно 64Из тьмы могил, иные сжавши рот И с сжатою рукою, а другие Лишенные волос своих. Как мот, 67Так и скупец, все блага дорогие, Все радости земного существа Теряют навсегда. Грехи такие, 70Как скупость и безумье мотовства, Приводят к мукам вечного боренья Без отдыха, без криков торжества. 73Так гибельны фортуны искушенья, Хотя за них людской безумный род, Не ведая в раздорах пресыщенья, 76Терзается и много крови льет. Все золото и все богатство света Людей не избавляют от забот 79И не внесут покой в жилище это, Где мук неотразим жестокий гнет». «Но объясни, – я спрашивал поэта, — 82О, кто она, смущавшая народ, Богиня, что Фортуною зовется? Всех благ земных и всех земных щедрот 85Из рук ее источник вечный льется». «Безумцы! Ваш рассудок омрачен, Вам в заблужденье правда не дается», — 88Сказал мудрец и продолжал так он: «Так слушай же ты истинное слово: Мир видимый едва был сотворен, 91Как власть уж для него была готова, Чтоб в мире свет равно распределять, И эта власть, как сам закон, сурова. 94Над благами земными наблюдать Другая власть поставлена; власть эту Фортуною привыкли люди звать; 97Богатства и сокровища по свету Дарит и отнимает вкруг она, Переходя от холода к привету, 100Любя то те, то эти племена, Иль возвышать, иль в грязь топтать бесстрастно. Фортуны той над миром власть сильна, 103Сопротивляться стали б ей напрасно. Вот почему, порой, иной народ В падении страдает ежечасно, 106Другой же процветает и живет В довольстве, не смущаемый беда́ми: Фортуна всех незримо стережет, 109Как лютый змей, сокрытый под цветами. Ей ум людской – пути не преградит, И, властвуя над нашими умами, 112Она провидит все, она царит В пределах власти, данной ей. Преграды Ни в чем ей нет. Вперед она спешит, 115Как будто ждет там, впереди – награды. Вот вечная фортуна какова. Ее хулить нередко люди рады, 118Ей вслед бросая гневные слова, Хоть к ней питать должны благоговенье. Она же под лучами Божества, 121Не замечая общего хуленья, Живет среди созданий неземных, Рожденных в первый день миротворенья, 124Блаженствует средь радостей иных И катит шар свой… Далее иди же К другим теням, чтоб видеть муки их, 127Которые ужаснее, чем ближе. Все звезды, освещавшие восток, Склоняются на западе все ниже. 130Иди скорей! Нам дан недолгий срок». И мы границу круга миновали; Пред нами встал кипящийся поток. 133Бесцветные и мутные бежали Потока волны; далее ручьем Они в болоте гнусном пропадали; 136Болото это Стиксом мы зовем. И по пути неровному к нему-то Мы подошли. Бросая взгляд кругом, 139Увидел я, – ужасная минута! — Толпы нагих и бешеных теней, В зловонии болота вывших люто. 142Они кусались с яростью зверей, В клочки одна другую разрывали Зубами и при помощи когтей. 145«Они за зверский нрав свой пострадали, — Сказал певец. – В воде и над водой, Куда бы взгляды мы ни обращали, 148Они томятся вечною чредой». И в тине голоса их раздавались: «На свете, в блеске жизни молодой, 151Мы преступленьем только упивались; От копоти душа у нас черна, И за порок в болота мы попались». 154Их жалоба была едва слышна, Немел язык в их огненной гортани… Дорогой, что была едва видна, 157По берегу скользили мы в тумане, Большую часть болота обошли И, наконец, в виду зловещей грани, 160К подножью страшной башни подошли…Песня восьмая
Пятый круг Ада. Флегиас перевозит чрез болото Стикса Вергилия и Данте. Отвратительные мучения Филиппа Ардженти. Путники приближаются к адскому укреплению Дитэ́, где адская стража демонов преграждает им вход в проклятый город.
1Когда к стенам мы башни приближались, То видели еще издалека, Что на ее вершине загорались, 4Как звездочки средь тьмы, два огонька, И, по условью точно, засверкали Такие же два яркие значка 7На дальней башне. Путь мы продолжали. И я сказал: «В всеведенье глубок, Как море, ты. Зачем же запылали 10Те огоньки? Скажи, кто их зажег? Что означают огненные знаки?» Поэт ответил: «Если бы ты мог 13Поверхность вод распознавать во мраке, То знал бы сам, что впереди нас ждет…» Неуловимы молнии зигзаги, 16Неуловим и быстр стрелы полет, Но тот челнок, что нам навстречу мчался, Скользя под испареньями болот, 19Быстрей стрелы и молнии казался. Один гребец сидел в нем и кричал: «Преступный дух! Ты наконец попался! 22Ты уже здесь!» Мой спутник отвечал: «О, Флегиас[40]! Ты сердишься напрасно! Язык твоих угроз бессилен стал: 25Пока ты можешь только безопасно Перевезти через болото нас». Как человек, которому ужасно 28Скрывать бессильный гнев, так Флегиас Умолкнул вдруг. Учитель в челн спустился, Я вслед за ним, и челн на этот раз 31Гораздо глубже в волны погрузился. Когда по темной, мертвой глубине Летели мы, вдруг грешник появился, 34Весь тиною покрыт, и молвил мне: «Скажи, кто ты? Зачем ты раньше срока Блуждаешь в этой адской тишине?» 37Я отвечал: «То время недалёко, Когда могу отсюда я уйти. Но кто ты сам, скажи мне, так жестоко 40Истерзанный? Кто ты?» «В своем пути На вечный, вечный плач осуждена я», — Сказала тень. «Лети же ты, лети, 43Проклятый дух, спокойствия не зная! Рыдания и скорби – твой удел. Твое лицо в грязи распознавая, 46Тебя теперь припомнить я успел», — Ответил я… Тут грешник обе руки Простер к челну, как будто бы хотел 49В нем отдохнуть от нестерпимой муки, Но спутник мой столкнул его назад: «Иди ты прочь, туда, где слышны звуки 52Проклятий псов, как ты, попавших в Ад». Затем поэт, меня обняв, как брата, Поцеловал и молвил: «О, стократ 55Блаженна мать, носившая когда-то Тебя во чреве! Чистая душа, Себя ты уберег среди разврата. 58Знай: эта тень[41], всю жизнь свою греша, Всех презирала в собственной гордыне, Лишь злобой постоянною дыша. 61Беснуется и здесь она доныне. И много гордых некогда владык В зловонье этой мерзостной пустыни 64Здесь пресмыкаться будут каждый миг, Как свиньи, в мире общее презренье Оставив за собою. Их постиг 67Стыд и позор». «Могу ль без затрудненья, Учитель, – я сказал, – теперь взглянуть, Как будет это жалкое творенье 70В грязи и тине медленно тонуть?..» И мне ответил мудрый мой учитель: «Еще в ладье мы не окончим путь, 73Увидишь ты, как флорентинский житель Казним в Аду…» И видел я вблизи, Как грешника карает Вечный Мститель. 76Его давили призраки в грязи; «Филипп Ардженти! – все они кричали. — Вот он! Сюда! Дави его, рази!» 79И призрак флорентинца окружали, А он с себя зубами тело рвал… За эту казнь, не чувствуя печали, 82Я Небеса тогда благословлял. Тут мы его оставили… Стенанья Вдруг поразили слух мой, и сказал 85Вергилий мне: «Ты обрати вниманье На этот город: Дис[42] его зовут. Преступники в нем терпят наказанья, 88В Аду их духи мрака стерегут». «Учитель, – я воскликнул, – на поляне, Мне кажется, я вижу, как встают 91В багровом, в ярко-огненном тумане Вершины башен». «Да, – сказал поэт, — Горит огонь в них вечный, – знай заране, 94Что он стенам дает багровый цвет». Печальный град был рвами опоясан, Где челн наш оставлял чуть видный след; 97Ряд стен был из железа, и для нас он Казался неприступным. Наконец Мы к берегу пристали. В этот час он 100Пустыней был. Тут закричал гребец: «Здесь вход. Идите!» И над ворота́ми Увидел я, бледнея, как мертвец, 103Сонм демонов в тьму бездны Небесами Низвергнутый. Их крик достиг до нас: «Кто в Царстве мертвых бродит между нами? 106Для вас еще не про́бил смертный час!..» Мой спутник подал знак им, что желает Им молвить слово втайне, и, смутясь, 109Они смирили гнев свой. Восклицает Один из них: «Лишь ты к нам подойди, А смертный, что с тобой в наш Ад вступает, 112Пускай уйдет и путь свой назади Переследит без страха, если может, Тебя оставив здесь!..» В моей груди 115Проснулся ужас: кто теперь поможет Мне выбраться когда-нибудь назад? Кто мне в пути преграды уничтожит? 118«Наставник мой! Семь раз, спускаясь в Ад, Избавил от опасности меня ты И бодро вел сквозь этот адский смрад. 121Не оставляй меня ты в тьме проклятой! — В отчаянии так я восклицал. — И если впереди нас ждут утраты 124И путь в Аду нам недоступным стал, То поскорей вернемся мы обратно». Но мой путеводитель отвечал: 127«Не бойся, говорю неоднократно, Никто дороги нам не заградит: Над нами Тот, чья сила необъятна. 130Здесь жди меня; пусть страх не шевелит Твоей души; тебя я не покину В кромешной тьме. Прими спокойный вид». 133Так нежно говорил он, словно сыну, И удалился. В страхе и смущен Остался я и ужаса причину 136Напрасно позабыть хотел. Но он, Учитель мой, недолго был с бесми. Что говорил он с ними – посвящен 139Я в это не был, только перед нами Метаться стали демоны, закрыв Ворота башни. Тихими шагами 142Поэт вернулся, голову склонив. В его лице заметил я смущенье; Вздохнул он, тихо слово проронив: 145«Кто вход мне преграждает?» В заключенье Он мне сказал одно: «Да не смутит Тебя мое невольное волненье. 148Пусть нам сонм этих демонов грозит, Но все ж они должны мне покориться. Высокомерье их – не ново. Стыд 151Их пораженья должен совершиться, Как некогда, у первых адских врат, Где думали преградою явиться 154Те демоны; но вход в подземный Ад Остался без затворов[43]. Там, у входа, Заметил надпись страшную твой взгляд. 157Но знай, мой сын: в глубь этого прохода Спускается один сюда с высот Защитник человеческого рода, 160Сюда грядет могучий ангел, тот, Перед которым бесы содрогнутся, И двери недоступных нам ворот 163Покорно перед нами распахнутся».Песня девятая
Три адские фурии грозят, что они обратят в камни обоих странников. Сошествие ангела, который прикосновением своего жезла отворяет врата неприступного города. Демоны разбегаются. Шестой круг Ада, где находятся язычники.
1Мое лицо в минуту бледно стало, Когда певец приблизился ко мне, Но вдруг его смущение пропало, — 4Он скрыл его в сердечной глубине; Прислушиваясь, он остановился: Мрак был так густ в той адской стороне, 7Что зоркий взгляд, куда б ни обратился, Не мог проникнуть тьмы. «Мы победим! Мы победим, лишь он бы к нам явился. — 10Сказал мудрец. – Приди же, херувим!» Я понимал, что странными словами Меня он успокаивал; томим, 13Однако, страхом, этими речами От робости я не избавлен был И вопросил, чуть шевеля губами: 16«В глубь этой бездны кто-нибудь сходил От самой первой той ограды Ада, Где нет надежды?» Так я говорил, 19И отвечал учитель: «Правду надо Тебе сказать: еще никто почти Не достигал до пламенного града, 22Не шел сюда по нашему пути. Но некогда в ту бездну я спускался, Куда меня заставила сойти 25Жестокая Эрикта[44]. Покорялся Ей дух людей умерших и порой В земное тело снова облекался. 28Лежал недолго сам я под землей, Лишась души, когда мне повелела Сама Эрикта, жезл поднявши свой, 31Спуститься в адский круг той бездны смело, Чтобы одну из падших душ спасти. Круг этот глубже всех; отяготела 34Ночь вечная над ним, но ты идти Со мной без страха должен. Вот болото Зловонное пред нами на пути, 37Весь город охватившее: в него-то Без боя невозможно нам шагнуть». Еще он говорить мне начал что-то, 40Но головы не мог я отвернуть От башни, мрачным светом озаренной. Трех фурий я увидел: фурий грудь 43Сочилась кровью; стан их обнаженный Был гидрами зелеными обвит; До плеч с их головы окровавленной 46Спадали змеи. Фурий этих вид Напоминал вид женщин. Были это «Царицы плача»[45] спутницы. «Горит 49Их взгляд огнем (так слушал мудреца я); Эриннами их гнусными зовут. Вон та, что среди их стоит, рыдая, — 52Алекто; с ней Мегера рядом тут, А третья по прозванью Тизифона…» Поэт умолк. Ужасных тех минут 55Мне не забыть. Они слились в три стона И грудь свою ногтями стали рвать. Я трепетал. «Сюда, сюда, Горгона[46]! — 58Так начали те Фурии кричать. — Мы в камень превратим его! Не мы ли, Когда Тезей нас вздумал испугать, 61Ему за нападенье отомстили[47]?» «Закрой лицо свое и отвернись, Иначе здесь погиб ты, как в могиле; 64Лицо Горгоны видеть берегись, Когда из Ада хочешь возвратиться…» Так, голову мне наклонивши вниз, 67Сказал поэт. Боялся положиться Он на меня, и собственной рукой Закрыл мои глаза… Кто умудрится 70Постичь умом – ужасный смысл какой Таится в этих строчках?.. Гул жестокий Стоял над мутной, мертвою рекой 73И повергал невольно в страх глубокий. Два берега дрожать он заставлял. Так ураган среди пустынь Востока 76Под знойным небом часто налетал На темный лес, все на пути ломая, И мял цветы и с корнем вырывал 79Могучий дуб, столб пыли поднимая, И гнал зверей и мирных пастухов… Затем поэт, глядеть мне разрешая, 82Сказал: «Смотри на пену тех валов, Где гуще водяные испаренья, Принявшие вид мутных облаков». 85Как бегают у берега в смятенье Лягушки, увидавшие ужа, И, роясь в тине, ищут в ней спасенья, 88Так легионы призраков, дрожа От ужаса, вдруг бросились толпами Бежать, худые члены обнажа, 91От призрака. Он тихими стопами Чрез Стикс, как через сушу, проходил; Он воздух отвевал перед глазами 94Своей рукой: так зноен воздух был, И тем движеньем словно утомлялся. Когда на нем я взгляд остановил, 97Не знаю почему, я догадался, Что это ангел Божий шел вперед. Учителя я тотчас попытался 100О том спросить таинственно, но тот Мне подал знак, чтоб молча я склонился… И ангел шел чрез пену мутных вод; 103Чело его сияло; он стремился Ко входу в град. Коснулся он ворот Своим жезлом, и тихо отворился 106Пред нами недоступный прежде вход; И на пороге ставши в это время, Воскликнул он: «Погибший, жалкий род! 109Проклятое, низвергнутое племя! Вы Небесам противитесь опять! Иль высшей власти тягостное бремя 112Крамолами вы думаете смять? К чему вели все ваши возмущенья? Они могли лишь только умножать, 115Усиливать в Аду для вас мученья. Припомните: ваш Цербер – адский зверь След роковой неравного боренья 118На шее носит даже и теперь!..» И, не сказавши более ни слова, Покинул он открытую им дверь 121И по волнам назад пустился снова. Казалось, озабочен сильно был Он думами значения иного 124И о судьбе двух странников забыл. А мы, им успокоены, вступили В обитель ту, куда он путь открыл, 127Где духи тьмы уже нам не грозили. Желая знать про участь тех теней, Которых в эту крепость заключили, 130Окрестность осмотрел я, и на ней Печальные поля глазам открылись, Поля жестокой муки и скорбей. 133Как ряд холмов близ Арля[48], где катились Спокойней волны Роны, или в том Местечке возле Полы[49], где явились 136Струи Кварнаро резким рубежом Италии, так точно здесь холмами Могилы поднимаются кругом; 139Но вид их был ужаснее. Пред нами Между гробниц везде огонь пылал, И каждый гроб, охваченный огнями, 142С приподнятою крышкою стоял, Откуда вылетали вопли муки, И голос осужденных вылетал. 145Тех голосов мучительные звуки Я слушал и учителя спросил: «Чьи тени, поднимающие руки, 148Томятся здесь средь огненных могил?» «Еретики оттенков всевозможных, Отступники, – мой спутник говорил, — 151Лежат в гробницах этих придорожных, Где пламя беспрестанно может жечь Безумцев, лжеучителей безбожных. 154Всем им пришлось под эти склепы лечь, Где вечно хлещет огненная лава». Путеводитель мой окончил речь 157И меж могил повел меня направо.Песня десятая
Перед Данте и Вергилием встает ряд могил, в которых находятся последователи Эпикура. Путники говорят с призраками Фаринаты дельи Уберти и Кавальканте де Кавальканти. Первый предсказывает Данте изгнание из Флоренции.
1Мы шли тропой, которая вилась Среди могил близ каменной ограды, И спутника спросил я в этот час: 4«О, ты, мудрец, ведущий сквозь преграды Меня из круга в круг, дай мне ответ: Могу ли я, учитель, бросить взгляды 7Внутрь тех гробниц, где крышек вовсе нет? Могу ль узнать, что в них теперь таится?» «Гробницы те, – ответствовал поэт, — 10Должны своими крышками закрыться, Когда сюда их души прилетят, Чтоб в образе земном опять явиться: 13Тела погибших душ теперь лежат В Иосафатовой долине… Вправо — Эпикурейцев кладбище. Их взгляд 16На жизнь тебе известен. Величаво Ученье их провозглашалось вслух, Что для людей бессмертие – забава, 19Что с телом умирает вместе дух. Здесь все твои вопросы разрешатся И даже те, мой благородный друг, 22Которые невольно, может статься, Ты высказать мне прямо не желал». «Наставник мой, – ответил я, – скрываться 25Я потому порой предпочитал, Что сам меня учил ты воздержанью». «Тосканский гражданин! Ты в град попал, 28Где пламя предается пожиранью, Остановись! Я по твоим речам Признал, их подчиняясь обаянью, 31Что ты вполне принадлежишь к сынам Отчизны благородной и прекрасной, Но для которой вреден был я сам!.. 34Для родины я был звездой несчастной!» Тот голос из гробницы раздался Внезапно вдруг. Страх чувствуя ужасный, 37К учителю назад я подался. «Не бойся, что с тобою? – начал речь он. — Из гроба Фарината[50] поднялся, 40И виден нам от пояса до плеч он». И повстречал я Фаринаты взгляд. Хоть жар огня в гробу был бесконечен, 43Но, словно презирая целый Ад, Он гордо из гробницы поднимался. Других гробов минуя целый ряд, 46С Вергилием к нему я приближался: «В речах будь краток», – спутник мне шепнул. Когда я с Фаринатом поравнялся, 49С надменностью он на меня взглянул И, помолчав, спросил меня: «Кто были Твои отцы?» И я не обманул 52И ничего не скрыл, как предки жили. Тогда, подняв глаза, он молвил мне: «Они меня и род мой не любили 55И враждовали с нами на войне, За что ссылал их дважды я в изгнанье». «Да, дважды по чужой они стране 58Скитались, – отвечал на эту брань я, — Но дважды возвращались и назад На родину, чего при всем желанье 61Не мог исполнить род твой, говорят, И не сумел на родину вернуться». В лицо мое пахнул вдруг новый смрад; 64Другая тень, – не мог не содрогнуться При этом я, – подняв свое чело, Явилась сзади гроба, разогнуться 67Не в состоянье; видным быть могло Одно лицо той новой, бледной тени: Казалось мне, что муками свело 70Поверженного призрака колени. Глазами вкруг себя он поводил, И я услышал жалобное пенье. 73С рыданием тот грешник возопил: «О, если в Ад путь длинный и ужасный Тебе твой гений светлый озарил, 76Зачем же не с тобой мой сын прекрасный?» «Я собственною властию не мог Проникнуть в Ад, но этот путь опасный 79Указывал мне тот, к кому был строг Твой Гвидо[51], так его ценивший мало…» Так я сказал: в короткий этот срок 82Я уже знал, чья это тень стонала, И имя несчастливца угадал[52]. Вдруг тень передо мною быстро встала: 85«Ценивший мало? – с воплем он сказал. — Ответь скорее: разве он скончался? И светлый день из глаз его пропал?» 88Он ждал, когда ж ответа не дождался, То в гроб свой опрокинулся назад И больше из него не поднимался. 91Меж тем другой безумец, падший в Ад, Перед которым я остановился, Стоял все так же смело; даже взгляд 94Такою же надменностью светился. Он прерванную речь возобновил: «На родину мой род не возвратился, 97И мысль о том страшней всех адских сил Меня казнит, и мучает доныне… Но знаешь ли, что рок тебе сулил 100На родине?.. Лик царственной богини, Богини Ада[53] здесь не заблестит Полсотни раз, как снова на чужбине 103Изгнания ты испытаешь стыд… Но прежде чем в мир светлый возвратиться, Скажи, за что толпа мой род хулит, 106Унизить, оскорбить его стремится?» «С тех самых пор, как Арбии струи Могли ужасной кровью обагриться, 109С тех пор во храме подвиги твои Лишь возбуждают общие проклятья[54]. «Не я один повинен в той крови, — 112Он отвечал, – одно могу сказать я, Я действовал с другими заодно И виноват, как все мои собратья. 115Но там, где было всеми решено Флоренции прекрасной разрушенье, Я был один: мной было спасено 118Величие Флоренции». В смущенье Я произнес: «Да обретет покой Твое потомство! Но сомненье 121Одно ты разреши мне: род людской Не ведает грядущего прозренье, Для вас же в нем нет тайны никакой, 124Хоть в настоящем многие явленья, Нам ясные, невидимы для вас». И высказала тень такое мненье: 127«Лишь видимы для наших слабых глаз Предметы отдаленные. Так было Угодно Небесам. Но всякий раз, 130Когда уже событье наступило, Прозрение не в силах нам помочь; Теперь – земная жизнь для нас могила, 133Где царствует одна глухая ночь. Мы в настоящем мире постоянно Неведенья не можем превозмочь. 136И если перед нами вдруг нежданно Грядущего запрутся ворота, Предвиденье умрет в нас… Беспрестанно 139Мы ждем того». И тень, закрыв уста, Умолкла вдруг, и я сказал в волненье: «Пусть истину теперь узнает та 142Душа, что рядом стонет в исступленье; Поведай же ты грешнику скорей, Что сын его не умер. Лишь в сомненье 145Не кончил прежде речи я своей, Когда меня он спрашивал…» Тогда-то Позвал меня учитель от теней, 147Но, торопясь, спросил я Фарината, Кто с ним еще в гробницу заключен? «О, многих здесь постигла та ж утрата, — 150Не двигаясь в гробнице, молвил он. — Здесь Фредерик Второй[55] лежит со мною, И кардинал[56] вкушает тот же сон. 153Еще лежат… но имена их скрою…» И он исчез. Пошел к поэту я, Невольно размышляя той порою 156О предсказанье тени и тая Смущение… «Скажи, чем ты смутился?» — Путеводитель спрашивал меня. 159Я правду рассказать ему решился. «Запомни все, чем был ты так смущен, Что выслушать от призрака решился, — 162Сказал поэт и руку поднял он. — Когда пред лучезарной[57] ты предстанешь, Чье око видит все со всех сторон, 166Ты от нее о будущем узнаешь. Узнаешь все, что ждет тебя вперед. Теперь же продолжать ты станешь 169Со мною путь». И влево он идет. В глубь города мы стали удаляться От мрачных стен и городских ворот 172И начали к долине подвигаться, Где стали перед нами в этот час Густые испаренья подниматься. 175В долину ту тропинка шла, крутясь.Песня одиннадцатая
Путники вступают в отвратительное место, где носятся зловонные испарения. Они желают скрыться от них за каменной гробницей папы Анаста́сия, совращенного еретиком Фотином. Вергилий объясняет Данте степени наказаний в разных кругах и праведное распределение грешников.
1Мы шли вдоль по обрыву мимо скал, Поверженных, как каменные трупы, И подошли к вертепу: изрыгал 4Он из себя зловония, – и группы Проклятых душ стонали в нем. Мы шли, Хватаясь за гранитные уступы, 7И так как выносить мы не могли Зловонных испарений, то спасенье За каменной гробницею нашли. 10Где надпись увидали в то мгновенье: «Здесь папа Анастасий заключен, Что был введен Фотином в искушенье»[58]. 13«Кругом весь воздух смрадом заражен, И медленней мы будем подвигаться, Чтоб к смраду понемногу приучен 16Был ты и я: не станет он казаться Нам столько отвратительным потом», — Так молвил мне учитель. «Может статься, — 19Я возразил, – пока вперед идем, Ты что-нибудь расскажешь мне дорогой?» «Да, и теперь я думаю о том», — 22Я услыхал поэта голос строгий. Он продолжал: «Смотри, мой сын, вокруг (И слушал я его с большой тревогой): 25В три яруса идет за кругом круг Средь этих скал, один другого шире. И каждый круг – обитель вечных мук 28Для падших душ в подземном этом мире, Но чтоб тебе, взглянув на них, понять, Что в Небе, в голубом его эфире 31Пощады им вовек не прочитать, — Я расскажу, за что их заключили: Ужасней зла не можем мы назвать, 34Как ближнего обида. Доходили До этой цели ложью иногда. Иль вред через насилье наносили 37И ближних обирали без стыда. За этот грех нет в Небесах прощенья. Обман – порок людей, и был всегда 40Караем Богом он без сожаленья, И каждый злой обманщик, каждый тать Повержен в самый страшный Ад мученья, 43Куда не сходит Божья благодать. Знай: в первый круг попали души мрака, Виновные в насилье, но опять, 46Так как насилье может быть трояко, То на три части делится тот круг, С тройным различьем в грешниках, однако. 49Насилие людских сердец и рук Бывает против ближних, против Бога И против жизни собственной. Вокруг 52Увидишь ты таких пороков много: Убийство, грабежей ночных позор. Вот первый круг, где наказуют строго 55Насилье против ближних: гнусный вор, Убийца злой, не пощадивший друга, В вертепе том томятся с давних пор. 58А во втором подразделенье круга Самоубийц и мотов скорбный ряд, Всех посягнувших смело, без испуга, 61На жизнь свою, – их поглощает Ад — Иль на свое богатство, достоянье, И проливавших слез кровавых яд 64В те дни, когда любовь и ликованье Должны бы были в сердце обитать… А те преступно жалкие созданья, 67Что стали имя Бога отвергать, Богохуля, природу оскорбляют, Те в меньшем круге стали обитать. 70На проклятом челе их замечают Клеймо неизгладимое почти Содома и Кагора[59]. Но бывают 73Грехи другого рода, и найти Их можем мы в другом подземном круге. Запомни те грехи и перечти: 76Грех сводничества, льстивости услуги, Татьба, и святотатство, и подлог, Ложь всякая, когда уж друг о друге 79Забыли люди думать, и порок Для них стал всякой доблести заменой. Есть грех еще – он страшен и жесток — 82Он – смерть любви: зовут его изменой. В одной из самых низших адских сфер, Где стало средоточие Вселенной, 85Где восседает грозный Люцифер, Обречена измена вечной казни, Чтоб казни той был памятен пример». 88«Учитель, – я сказал не без боязни, — Ты верное понятие мне дал О пропасти греха и неприязни, 91Но ты еще не все мне рассказал. Я видел много грешников сраженных, Которых страшный дождик бичевал, 94Толпу теней, в болото погруженных, Гонимых ветром, с скрежетом зубов, Хулящих Небо, мрачных, исступленных, 97И я о них спросить тебя готов: Когда над ними кара тяготеет, То почему ж за мерзость их грехов 100В тот град, что постоянно пламенеет — Не заключили их?» Он отвечал: «Ужель твой ум в безумии темнеет? 103Иль рассуждать ты здраво перестал? Философа забыл ты наставленье[60], Который так грехи подразделял: 106Невоздержанье, злобы прегрешенье И скотобесье. Первый самый грех Не столько оскорбляет Провиденье 109И потому слабей казнится всех Других грехов. Когда поймешь ты это, То ясно разгадаешь участь тех 112Погибших душ, отторженных от света, Которых Бог карающий щадил В сиянье бесконечного привета 115И в высшие круги их поместил, Где легче казнь и где сносней мученья». Невольного восторга я не скрыл: 118«Ты – солнце, возвращающее зренье! Ответ твой каждый счастье мне несет, И мне полезно самое сомненье, 121Как знание: я вижу в нем оплот… Еще один вопрос мне разреши ты, Который мне покоя не дает: 124За что пути к спасению закрыты Мздоимцам? Вот что хочется мне знать…» «Нас учит философия – пойми ты, — 127Что мы должны в природе уважать Божественного разума начало С его искусством; можно доказать 130По книгам, что искусство подражало Природе всей: так робкий ученик, Изведавший науку слишком мало, 133Копировать учителя привык. Искусство от Небес родится тоже, Как внук от деда. Двойственный родник — 136Искусства и природы – нам дороже Всех родников, и в нем лишь почерпать, В своей душе сомненья уничтожа, 139Мы можем жизнь и жизни благодать. Мздоимец же идет другой дорогой. Природу он лишь может презирать, 142В искусстве не находит школы строгой, Нуждается в опоре он иной, И грудь его полна другой тревогой. 145Однако, в путь; иди теперь за мной. На горизонте, вижу я, явилось Сиянье знака Рыб, а в тьме ночной 148На западе почти уже скатилось Созвездье Колесницы… Мрак глубок… Вот яркая звезда на небе скрылась. 151А нам до спуска путь еще далек».Песня двенадцатая
Данте и Вергилий спускаются в седьмой круг подземного Ада по отвесному обрыву, где на полуразрушенной скале находят чудовище – Минотавра. Вергилий смиряет его бешенство. Встреча с центаврами, из которых один – Несс делается проводником двух путников и указывает на кровавый поток, где грешники по степеням терпят кару за насилие.
1Дорога, по которой в этот час Нам приходилось далее спускаться, Была почти отвесна, и не раз, 4Взглянувши вниз, мог всякий содрогаться. Гора, с которой сброшен был обвал, Непроходимой стала мне казаться 7С вершины до подножья: груды скал Низринуты лежали перед нами. Таков был спуск, и бездны мрак зиял 10Над ним кругом, а близко, под ногами, Чудовище лежало на скале[61], Чудовище, которое сосцами 13Не матери питалось на земле, Но деревянной телки… Ужас Крита, Чудовище, заметя нас во мгле, 16Себя кусало, пеною покрыто, Не в состоянье бешенства смирить. И закричал мой проводник сердито: 19«Тварь гнусная! Ты мыслишь, может быть, Что царь Афин к тебе явился снова, Чтоб вновь тебя, чудовище, убить? 22Прочь, гадина! Для подвига иного Спустился этот смертный в Ад сюда; И у него желанья нет другого, 25Как только посмотреть на Царство мук…» Как ярый бык в минуту пораженья Срывает узы тягостные вдруг 28И, силы потерявший, в исступленье, Бросается то прямо, то назад, Так Минотавр метался в то мгновенье. 31Поэт сказал с любовью мне, как брат: «Скорее вниз, пока он бесноваться Не перестал…» И, не боясь преград, 34Чрез груды скал мы начали спускаться, А из-под ног срываясь, камней ряд Летел и падал в бездну. Подвигаться 37Я стал вперед, кругом бросая взгляд, И размышлял, поэта слыша голос: «Ты думаешь, быть может, мой собрат, 40О той скале, что сверху раскололась И где теперь чудовище лежит, В котором злость с бессилием боролась? 43Мной усмирен, ужасный зверь молчит. Так знай же, что когда еще впервые Сходил я в Ад, вон той скалы гранит 46Еще был цел, и камни вековые Не треснули. Случилось то поздней В другие дни и времена иные, 49Пред тем, как Тот спустился в мир теней, Который многим в Ад принес спасенье… Тогда-то, с страшным грохотом камней, 52Скалу поколебало сотрясенье И рухнул сокрушительный обвал. Подумал я в то самое мгновенье, 55Что от любви весь мир затрепетал, От той любви, которою держалась Вселенная. Любовью – я слыхал — 58Не раз уже мир обращался в хаос[62]. Тогда-то раскололась вдруг скала И грудою каменьев разметалась. 61Но вниз взглянуть тебе пора пришла: Мы около кровавого потока, Где в кипяток за грязные дела 64Насилия – повержены глубоко Преступники. О ты, развратный род, Жизнь тративший на подвиги порока, 67Вот как тяжел последний твой расчет!» И вкруг равнины ров дугообразный Увидел я с кровавой пеной вод, 70А от скалы до рва с пучиной грязной Центавры появлялись здесь и там Со стрелами, как на потехе праздной. 73Когда они домчались ближе к нам И нас на спуске взоры их открыли, Они остановились. К тетивам 76Центавры разом стрелы наложили, И трое, отделившись от других, К той крутизне, где шли мы, подскочили. 79И крикнул нам тогда один из них: «Откуда вы? Какой вы казни ждете, Спускаясь в мир созданий неживых? 82Когда вы мне ответа не даете, Я с тетивы стрелу спущу тогда, Которая верна в своем полете». 85«Зачем вдвоем нисходим мы сюда, Хирону[63] мы поведаем при встрече. Ты опрометчив ныне, как всегда, 88В заносчивых желаниях и речи». Так отвечал Вергилий наотрез И, положивши руку мне на плечи, 91Заметил мне тихонько: «Это – Несс[64]; Плененный Деянирою прекрасной, Он умер за нее, но Геркулес 94 И сам погиб, надевши плащ ужасный Покойника. Второй из них – Хирон, Ахилла пестун; третий Фол[65], известный 97По бешенству. Сюда со всех сторон Свирепые центавры наезжают, — Неисчислим их грозный легион, — 100И в кипятке потока поражают Преступных жертв, когда из пены вод Они чело высоко поднимают, 103Чтоб легче были муки их…» И вот Мы подошли к центаврам. Под скалою Хирон раскрыл чудовищный свой рот 106И, бороду раздвинувши стрелою, Товарищам сказал он наконец — С улыбкой отвратительной и злою: 109«Вы видели, как шел второй пришлец? Он шел – и часто камни рассыпались Из-под него: не ходит так мертвец. 112Усопшие сюда так не являлись». Мой проводник к центавру подошел, В котором две природы совмещались, 115И возразил: «Да, в это море зол Действительно сошла душа живая: И человека этого я вел 118Через долину тьмы, не уставая. Не любопытство странника вело В подземный Ад, но цель вполне благая. 121В Эдеме Дева есть – ее чело Сияньем Рая блещет постоянно. Покинув Рай, где счастье так светло, 124Она ко мне явилася нежданно, Меня на подвиг новый обрекла… Я чист душой, и лгать мне было б странно, 127А этот смертный всякого чужд зла… Во имя добродетели, ведущей По Аду нас, где всюду смрад и мгла, 130Чтоб впереди не знать напасти пущей, Прошу тебя, пускай один из вас Проводит нас тропою, в Ад идущей, 133И человека этого сейчас Пусть на себе перенесет чрез реку. Не призрак он; и смерти не страшась, 136Нельзя пройти пучину человеку: Лишь только тень по воздуху скользит». Таких речей не ведая от века, 139Хирон центавру Нессу говорит: «Ступай, их проводи и охрани ты, Когда толпа другая их смутит». 142При появленье новой той защиты По берегу мы шли. Кипел поток, Где выли тени злы, полуубиты, 145Повержены в кровавый кипяток. Вплоть до бровей я видел погруженных, Измученных от головы до ног, — 148И, показав рукой на осужденных, Центавр сказал: «То казнь земных владык, Невинной кровью ближних обагренных. 151Их легион обширен и велик: Здесь Александр, с ним Дионисий вместе, Что столько лет давить народ привык 154В Сицилии во имя хладной мести, Здесь Аццолино[66] грозный заключен; Казнится здесь и он, Обидзо Эсти, 157Что пасынком своим был умерщвлен». Хотел к певцу я с словом обратиться, Но, указав на Несса, молвил он: 160«Теперь тебе он больше пригодится, Чем я, мой сын». И в этот самый срок, Когда певцу спешил я покориться, 163Центавр опять взглянул на кипяток: «Иные души страждут здесь жестоко, До шеи погруженные в поток. 166Вот там теперь стоящий одиноко Ужасный грешник, – знаешь ли, кто он? Господний храм он оскорбил глубоко 169И поразил вблизи его колонн Того, чье сердце люди сохранили На Темзе вплоть до нынешних времен 172И в дорогом ковчеге схоронили[67]». Других теней потом я увидал, — Их головы и груди видны были, — 175И я иных невольно узнавал… Поток все мельче, мельче становился, Так что в конце лишь ноги покрывал. 178Ров этот скоро сзади очутился, Когда центавр перескочил поток И мне сказал: «Сейчас ты убедился, 181Как ров мелел; но страшно он глубок В другом конце, и в глубине той вечной Властители страдают за порок 184Насилия и власти бессердечной. Там в пламени несет свой тяжкий крест — Бич Божий, сам Аттил бесчеловечный; 187Там властолюбец Пирр[68], разбойник Секст[69], Там очи у Реньеро да Корнета, Реньеро Падзо пламень адский ест. 190Они народ терзали, и за это Кровавый кипяток их вечно жжет, И впереди нельзя им ждать рассвета». 193И Несс назад отправился чрез брод.Песня тринадцатая
Путники вступают во второй отдел седьмого круга. Перед ними самоубийцы, превращенные в деревья, и расточители, терзаемые гарпиями. Пьер делле Винье, секретарь Фредерика II.
1Едва от нас сокрылся мрачный Несс И чрез поток еще не перебрался, Как мы вдвоем вступили в темный лес, 4И лес непроходимым мне казался. В нем не было тропинки ни одной. Он зеленью лесов не распускался: 7На нем являлись листья предо мной Все черные; все ветви кривы были, И не плоды в трущобе той лесной 10Росли кругом, но всюду только гнили Растенья ядовитые везде. Мы хуже места верно б не открыли 13В лесах Корнето[70] и Чечины[71], где Лишь дикий зверь в густой листве скрывался И птицы робко прятались в гнезде. 16Но страшный лес, где путь наш потерялся, Наполнен только гарпиями[72] был (С Строфадских островов от них спасался 19Когда-то род Троян): меж черных крыл Они людские головы имели, — Большой живот, две лапы… Я следил, 22Как гарпии на деревах сидели И по лесу их раздавался вой… Я чувствовал, что ноги онемели… 25Тогда сказал учитель добрый мой: «О, прежде чем вперед ты устремишься, Узнай, что перешел ты во второй 28Круг Ада[73], и пока нам не открылся Пустыни вид ужасный, до тех пор Отсюда ты не выйдешь». Я смутился… 31«Кругом смотри ты зорко, и твой взор Понять скорей всю истину сумеет: Тогда с тобой вступлю я в разговор». 34Смотрю я вкруг, лицо мое бледнеет: То здесь, то там я слышу тяжкий стон, Но чьи они? Мой разум цепенеет… 37Не видя никого со всех сторон, Прислушиваясь, я остановился Стенаньями страдальцев изумлен. 40Поэт разубедить меня решился, Чтоб думать я не мог, что стон теней Из-за лесной трущобы доносился, 43И мне сказал: «Чтоб в голове твоей Мысль приняла другое направленье, Сломи в лесу любую из ветвей». 46Я увидал колючее растенье, Растущее на деревянном пне. С него сорвал я ветвь, и в то мгновенье 49Древесный пень со стоном крикнул мне: «За что меня так больно ты терзаешь? Или в твоей сердечной глубине 52Нет жалости? Зачем меня ломаешь?» Облившись черной кровью, он вопил: «Теперь ты за деревья нас считаешь, 55Но прежде я, как и другие, был Таким же человеком, как вы оба… За что ж меня, как враг, ты оскорбил? 58Когда б в тебе не шевелилась злоба, Ко мне бы прикоснуться ты не мог, Хотя бы гадом был я…» Вся трущоба 61Завыла вдруг. Как из березы сок, Под топором, ручьем порою льется, Так кровь лилась из пня, как бы поток… 64Я чувствовал, как сильно сердце бьется, И наземь ветвь невольно уронил, Не в состоянье с жалостью бороться. 67Тогда учитель мой проговорил: «О, оскорбленный дух! Неосторожно Он на тебя руки б не наложил, 70Когда б не растолковывал он ложно Моих стихов. Желанье убедить В том, что по виду вовсе невозможно, 73Заставило меня ему внушить Совет, мне самому невыносимый. Кто ты – ему ты должен объяснить, 76Чтоб на земле, раскаяньем томимый, Он о тебе не в силах был забыть… И в памяти сберег неутомимой…» 79И дерево ответило: «Хранить Не буду я упорного молчанья. Речь добрая твоя не может возбудить 82Сомнения. Прошу у вас вниманья. Я тот, кому был дорог Фредерик[74]: Его души все тайны, все желанья, 85Как книгу, я читать всегда привык. Монарха сердце было мне открыто, Мне одному, и в мире каждый миг 88Я охранял то сердце, так что свита Его рабов в глубь царственной души Проникнуть не могла, была забыта 91И заговор затеяла в тиши. А между тем все силы, все здоровье Я потерял, не зная сна в ночи: 94Готов отдать был Фредерику кровь я, Но был силен наложницы разврат. Она, змея порока и злословья, 97Она, зараза цесарских палат, Она, монархов язва моровая, На мне остановила злобный взгляд 100И, завистью и бешенством пылая, Умела страсти многих возбудить Против меня, и Август сам, сгорая 103Досадою, свой лик отворотить От верного товарища решился, Успел в печальный траур обратить 106Все почести, которыми гордился Я некогда… В душе моей тогда Проснулся гнев и умысел родился — 109Искать забвенья в смерти от стыда. И – праведник неправедное дело Я выполнить решился в те года. 112Но, слушайте, клянусь теперь я смело, Что я царю ни в чем не изменял И верность сохранил к нему всецело, 115Я кесаря до смерти обожал: Он стоит и любви, и уваженья… Пусть тот из вас, кому я жалок стал, 118Пусть тот из вас, кого ждет возвращенье В живущий мир, там честь мою спасет И восстановит истинное мненье 121О грешнике, которого гнетет И клевета и ненависть людская». Затем сказал Вергилий в свой черед, 124Речь мудрую ко мне лишь обращая: «Знай – времени не должен ты терять: Ему свои вопросы поверяя, 127Расспрашивай – он станет отвечать». И молвил я: «Прошу тебя – спроси ты Его о том, что было бы узнать 130Полезно мне – ведь от тебя не скрыты Все помыслы мои – во мне самом Теперь все чувства горестью убиты, 133Лишь состраданье в сердце есть моем». Тогда сказал поэт: «Твое желанье Исполнит он. Мы просим лишь о том, 136Чтоб ты сказал, как высшее созданье, Как человек мог обратиться вдруг В ствол дерева? Ужель для наказанья 139Такого нет конца?» Вздохнув от тяжких мук, Мне, словно вздохом, дерево сказало, В стенанья обращая каждый звук: 142«В той повести ужасного немало: Знай – всякий раз, когда, покинув грудь, Душа самоубийцы вылетала, 145Тогда в седьмой круг Ада страшный путь Указывает Минос ей. Тогда-то, Нигде в пути не смея отдохнуть, 148В лес этот попадает без возврата Дух грешника; кругом в лесу – темно. Рок, не щадящий злобы и разврата, 151Несет его, бросает, как зерно, И он росток пускает, как растенье; Растенье это вырасти должно 154И, наконец, не ведая гниенья, Преобразится в дерево. Потом На нем все листья в диком исступленье 157Жрут гарпии и язвами кругом Все дерево до корня покрывают. И никогда, пока мы здесь растем, 160Нас муки ни на миг не оставляют. Мы носимся, чтоб плоть свою найти, Но в тело нас опять не облекают: 163Что раз не сберегли мы на пути, Того не получить нам в настоящем. Плоть потеряв, не жить нам во плоти. 166Мы наши трупы в этот лес притащим, И каждый труп повесим мы тогда На дереве, где с ужасом палящим 169Томится дух наш: худшего стыда Не знаем мы…» Стояли, ожидая Дальнейшей речи мы; вдруг – новая беда: 172Шум страшный услыхал в лесу тогда я. Как дикий вепрь, спасаясь от собак, Бежит порой, деревья вкруг ломая, 175С ужасным, хриплым воем, точно так Две тени впереди нас быстро мчались. Истерзан каждый призрак был и наг, 178Пред ними ветви хрупкие ломались. Та тень, что быстро мчалась впереди: «Эй, смерть, сюда!» – вопила, и старалась 181Другая тень, что мчалась назади, Не отставать и громко восклицала На всем бегу: «О, Лано[75], погоди! 184Я за тобой той быстроты не знала В сражении при Топпо». И потом Как бы в изнеможении упала 187Она, бежать не в силах, под кустом. А по лесу за этими тенями, Раскрывши пасти с черным языком, 190Псы жадные неслись меж деревами. В несчастного, что под кустом упал, Они впились с неистовством зубами, 193И страшную он участь испытал: Разорван был собаками он в клочья. И за руку меня мой спутник взял 196(Едва мог тайный трепет превозмочь я) И подошел к тому кусту со мной. И куст заговорил: «О, чем помочь я 199Тебе мог, Сант-Андреа[76]? И зачем За мною ты решился укрываться? Я ль виноват, что пренебрег ты всем, 202Чтоб жизнию преступной наслаждаться?» Учитель мой сказал ему затем: «Кто ты, уставший кровью обливаться 205Из вечных ран? О чем страдаешь ты?» Он отвечал: «О, души! Посмотрите: Ужасным истязаньем все листы 208Оборваны на мне. Их соберите Вокруг меня. Я в городе рожден, — Не скрою я, когда вы знать хотите, — 211Известном вам; переродился он, Им позабыт был гордый покровитель[77]. За что навек, изменой возмущен, 214Для города неутомимый мститель Останется опасным, и давно Его руки боится каждый житель. 217О, если б на мосту через Арно Не видели его изображенья, То все для граждан было б решено. 220И, созидая град свой, разрушенье Пришлось бы им увидеть в страшный час На пепелище, полном запустенья, 223Оставленном Аттилою для нас. Тогда бы целый город развалился, Когда бы Марс мечом своим потряс… 226Я в собственном приюте удавился!»Песня четырнадцатая
Данте и Вергилий вступают на грань второго отдела седьмого круга Ада. Степь и огненный дождь. Преступники против Бога, природы и искусства. Бешенство Капанея и его наказание. Таинственный исток трех адских рек.
1Любовь к отчизне вспыхнула во мне. Разбросанные листья собирая, Их отдал я, растроганный вполне, 4Тому, который, скорбь свою скрывая, Уже замолк. Мы стали на предел Второго круга с третьим, и тогда я 7Еще полнее вдруг уразумел Всю силу правосудия. Я буду Рассказывать: куда я ни глядел, 10Степь голая вставала отовсюду: Ни травки, ни былинки нет кругом, Лишь страшный лес – доныне не забуду — 13Лес скорби, опоясан темным рвом, Степь окружал. Мы тут остановились. С горячим и безжизненным песком 16Равнины мертвой степи нам открылись: Такую степь переходил Катон, Когда Помпея полчища разбились[78]. 19И вот увидел я со всех сторон Толпы теней нагих и истомленных, Сливавшихся в один унылый стон. 22На разные мученья осужденных. Одни из них лежали на земле, Другие сидя, членов утомленных 25Поднять не в силах, с мукой на челе, Не двигались; иные же бродили Без устали, без отдыха во мгле. 28Их много было там, а тех, что ныли, Во прахе лежа, меньше было, но Они зато охотней говорили. 31Дождь огненный спадал на всех равно, Как в Альпах снег в безветренную пору, Как пламенный тот ливень, что давно 34Случилось в знойной Индии, герою Путь с войском преградивший. Смелый вождь Тогда велел смутившемуся строю 37Топтать ногами землю, чтобы дождь Не мог вредить, вкруг войска зажигая Поля, траву и зелень темных рощ, — 40И, волю Александра исполняя, Тушило войско землю под собой[79]. И точно так слетал, не уставая, 43Дождь пламенный, ниспосланный судьбой, На адскую пустыню, и пылала Она, как трут, и раздавался вой 46Несчастных жертв: их пламя пожирало. Метались тени грешников в огне, Но кара их повсюду ожидала, 49И не могли нигде спастись они От огненного жупела… «Учитель, Ты должен на вопрос ответить мне, — 52Я говорил, – в Аду ты мой спаситель, В Аду ты все преграды победил И только, мудрый мой путеводитель, 55Двух демонов одних не усмирил У огненного города. Поведай — Кто этот великан? С сознаньем сил 58Надменно он глядит вокруг с победой, Лежит, как бы не чувствуя огня… О, просвети меня своей беседой». 61А грешник, посмотревши на меня, Вдруг понял, что о нем держу я слово, И произнес: «Мученья все кляня, 64Живой и мертвый тот же я, и снова Силен теперь. И если бы опять Юпитер ковачей своих сурово 67Заставил громы новые ковать, Чтоб поразить меня в одно мгновенье, Когда б он стал Вулканов всех сзывать, 70Измучил бы их всех до отупленья И восклицал: ко мне, Вулкан, скорей! Как в страшный день Флегрийского[80] сраженья 73Он говорил; когда б рукой своей Все молнии на грудь мою направил, То и тогда б погибели моей 76Он не достиг!» Тут грешника заставил Умолкнуть мой суровый проводник Громовой речью; ужас весь представил 79Его греха: мне нов был тот язык Наставника. Заговорил он гневно: «О, Капаней! По-прежнему ты дик, 82Твоя гордыня также неизменна, За то и казнь преступника страшна: Лишь бешенство дала тебе геенна 85За прежнее безумство, и должна Та кара быть возмездием достойным В Аду, где заседает сатана!» 88И с словом, уже более спокойным. Ко мне тут обратился мой мудрец: «Перед тобой в вертепе этом знойном — 91Великий грешник. Царственный венец На нем блистал, и, Фивы осаждая, В числе семи царей был он. Гордец, 94Он, как и прежде, Бога отвергая, Доныне покориться не хотел И, постепенно в Тартаре сгорая, 97За гордость в нем находит свой удел… Иди ж за мной, но бойся погружаться Ногой в песок: он раскален и бел. 100Лесной опушки нужно нам держаться». В молчанье мы к источнику пришли; К нему приблизясь, стал я содрогаться: 103Кровавым выбегал он из земли. Его струи тогда напоминали Буликаме[81] кипучие струи, 106Где грешницы по берегу блуждали… Бежал в степи кровавый тот поток, А берега и ложе состояли 109Лишь из каменьев; берег был отлог… Я угадал, что наша шла дорога Вдоль берега, что путь тот был далек. 112«В своем пути ты видел уже много Предметов очень странных с той поры, Когда вошли мы в Ад по воле Бога, 115В врата едва достигнутой горы; Но этого источника печали, Где носятся кровавые пары, 118Где все огни мгновенно потухали, Ты ничего ужасней не встречал», — Так предо мною тихо прозвучали 121Учителя слова. Его просить я стал Со мною вещим знаньем поделиться, Которым мой наставник обладал. 124И начал он: «Есть в море остров. Длится За веком век, но все он там стоит, И жизни шум в то место не домчится. 127На острове – его названье Крит — В уединении жил древний царь когда-то[82]. И в дни его – предание гласит — 130Не ведал мир пороков и разврата. На острове была тогда гора, Ей имя – Ида; царственно богата 133Была ее природа. Та пора Уже прошла: исчезли водометы, Цветов, растений пестрая игра… 136Теперь в забвенье Ида. Нет охоты Ни у кого об Иде вспоминать. Но эту гору, полная заботы, 139Когда-то Реа вздумала избрать Для сына неприступной колыбелью. Чтоб лучше там ребенка укрывать, 142Малютки плач веселых песен трелью Она всегда старалась заглушать, Кричать других просила с этой целью. 145А в сердце Иды старец древний скрыт, Спиною к Дамиетте обращенный, Очами – к Риму. Золотом блестит 148Его чело; стан, гордо обнаженный, Из серебра; от пояса до ног — Со сталью медь. Из глины обожженной 151Одна нога, но на нее он мог Наклонно, с большой силой опираться. Из старца льются слезы, как поток, 154И как поток могучий, пробиваться Сквозь гору смело могут и спешат Вот в эту бездну с шумом изливаться, 157Где их тройной ужасный водопад Является рекою Ахероном, Потоком Стикса – он-то вводит в Ад — 160И грозным, вечно темным Флегетоном; Затем последний суженный проток В мрак черной бездны падает со стоном, 163Откуда уж паденья нет[83]». Он смолк. Но я спросил: «Когда источник Ада Идет с земли, где начал свой исток, 166То почему для нашего он взгляда Заметен только в этой глубине, Среди зловоний мерзостных и смрада?» 169И отвечал путеводитель мне: «Мы в Ад с тобой идем кругообразно. И хоть мы шли по левой стороне, 172Но многого, что так разнообразно, Еще не усмотрели; потому Иди вперед, не рассуждая праздно: 175Здесь впереди есть многое, чему Ты можешь на досуге подивиться». Но я опять проговорил ему: 178«Еще хочу в одном я убедиться: Скажи, учитель, где же Флегетон? И где источник Леты здесь таится? 181О нем ты умолчал. Так где же он? Ты передал о первом мне сказанье, Что он несет с собой со всех сторон 184Людские стоны, вздохи и рыданья». «Охотно отвечать тебе я рад, — Он молвил мне, – но это клокотанье 187Кровавых вод, бегущих через Ад, Не лучше ль будет всякого ответа: Лишь брось вперед свой изумленный взгляд. 190А Лету ты увидишь, – только Лета Еще не здесь, где грех нашел приют, Но там, где души чистые живут, 193Познавшие за грех свой отпущенье И ждущие прощения Небес…» Затем поэт прибавил в заключенье: 196«Теперь покинем мы ужасный лес. Не отставать за мною ты старайся Вдоль берега… огонь его исчез. 199Ты ног своих обжечь не опасайся».Песня пятнадцатая
Поэты проходят по каменным переходам Флегетона. Навстречу им попадается Брунетто Латини, бывший учитель Данте, которому он предсказывает славу и несчастья.
1По каменному берегу мы шли. Над пропастью, как облака, вставали Густые испарения вдали 4И пламя то мгновенно поглощали, Которое дождем лилось в поток. Как против волн плотины воздвигали 7Во Фландрии, – напор их был жесток — Меж Бригге и Кадзантом[84], или точно На Бренте[85], часто, полные тревог, 10Падуи обитатели нарочно Окопами спасали города И замки все, построенные прочно, 13Так зодчий Ада создал навсегда Плотину вдоль печального потока, Хотя не так обширна и горда 16Она на вид… Оставили далеко Мы за собой зловещий, темный бор: Когда б назад мы устремили око, 19То леса не заметил бы наш взор. Толпа теней навстречу нам попалась. Как в поздний час, когда ночной дозор 22Начнет луна, прохожему случалось Внимательно смотреть на нас сквозь мглу, Что над землей туманом расстилалась, 25Иль как портной, вдевающий в иглу Нить тонкую, прищуря глаз единый, Когда сидит с работой он в углу, — 28Так точно, тихо шествуя долиной, Смотрели зорко призраки на нас. Вдруг тень одна с какой-то странной миной 31Воскликнула, невольно ухватясь Своей рукой за плащ мой: «Что за чудо!» И от меня не отводила глаз. 34Обожжено, измучено и худо Лицо той тени было, но узнать Успел знакомый образ я, покуда 37Тень продолжала за полу хватать Меня рукой. «Брунетто[86], вы ли это?» — Тень грешника я начал вопрошать. 40И отвечал с мольбою мне Брунетто: «Мой милый сын! Прошу я об одном, Коль стою я участья и привета: 43Умерим шаг и дальше отойдем От призраков». И отвечал я тени: «Отказывать вам не могу я в том 46И, если вы хотите, на мгновенье Могу теперь присесть я подле вас, Когда на это даст мне позволенье 49Мой спутник, помогавший мне не раз». «О, сын мой, – он ответил, – ожидает Столетняя беда того из нас, 52Кто на пути ужасном отдыхает, И пролежит за это он сто лет Под тем дождем, который сожигает; 55За медленность для нас спасенья нет. Иди же ты вперед своей дорогой, И за тобой отправлюсь я вослед, 58Чтоб вновь потом с уныньем и тревогой Пристать к толпе измученных теней, Не ведавших конца их кары строгой». 61Я не посмел сойти с тропы моей, Чтобы идти с несчастной тенью рядом, И шел вперед дорогою своей. 64С опущенным в задумчивости взглядом Спросила тень: «Как ты сюда попал, Когда еще не поглощен ты Адом? 67И кто тебе путь в Тартар указал?» «Там, на земле, где блещет свет доныне, Я заплутался, – так я отвечал, — 70В одной глухой, таинственной долине, Хотя еще пути земного срок Не перешел. Уже хотел в кручине 73Вчера поутру я идти назад, Как пред собой увидел мудреца я, И с ним тогда, не побоясь преград, 76Ужасные картины созерцая, Я двинулся по этому пути». И грешник отвечал: «Не уставая, 79Ты должен за звездой своей идти, И если я угадывать умею, То на земле успеешь ты найти 82Удел великий. Участью твоею Я занялся с успехом, может быть, Когда бы мог, – о чем я сожалею, — 85В могилу слишком рано не сходить. И, видя милость Бога над тобою, Я мог бы каждый труд твой поощрить… 88Поставлен выше многих ты судьбою, — Но знай, неблагодарный тот народ За все добро отмстит тебе враждою. 91Народ, сошедший некогда с высот Старинной Фиезолы[87], беспрестанно Тебя везде преследовать начнет. 94Но это, сын мой, вовсе мне не странно: С рябиной горькой рядом не растет Развившийся в саду благоуханно 97Румяный, наливной и сладкий плод. О, жалкое, безнравственное племя! Недаром про него молва идет, 100Что тяготит на нем пороков бремя… Грехами их себя не оскверни. О, от тебя недалеко то время, 103Когда слепцы очнутся, и они Начнут тебя молить о возвращенье, Поклонятся тебе в иные дни, 106Но уж бесплодны будут их моленья. Пусть, как скоты, толпа фиезолан На месте мрет, не видя сожаленья, 109Но пусть нога бессмысленных граждан До почвы той случайно не коснется, Где семя благородное римлян, 112Быть может, неожиданно пробьется. Я отвечал: «Доныне, может быть, Вам не пришлось бы с смертию бороться. 115Доныне бы могли вы в мире жить, Когда б моим молениям внимали… Но в памяти я бережно хранить 118Ваш образ буду, с трепетом печали Припоминая прошлые года, Когда еще вы в мире обитали 121И были в нем отцом моим, когда К бессмертию мне путь прямой открыли, Путь славы и упорного труда, 124И я – клянусь – с собой в одной могиле О вас воспоминанье схороню… А все, что мне вы в будущем открыли, 127Я запишу и вместе сохраню С другими предсказаньями до слова: Их тайный смысл тогда я оценю, 130Когда его мне разъяснить готова Святая дева[88] будет, если я Когда-нибудь с ней повстречаюсь снова. 133Но знайте вы, – скажу я, не тая: Готов на все я в жизни испытанья, Была бы лишь чиста душа моя. 136Не страшны для меня все предсказанья… Так пусть, не подчиняясь никому, Фортуна награждает, и старанье 139Приложит каждый к делу своему». Тогда учитель тихо мне заметил: «Не изменяет память лишь тому, 142Кто слушал чутко всех, кого он встретил». И подвигался дальше я вперед И ждал, чтобы Брунетто мне ответил. 145Кто жалкий жребий вместе делит с ним И кто его товарищи в несчастье. Он отвечал: «Их много здесь. К иным 148Питаю я невольное участье, О многих же не стоит говорить, А время мчится быстро. Вне пристрастья, 151Однако, их умею я ценить: Из звания духовного на свете Поистине могли те люди слыть 154Учеными, и все попали в сети Единого греха… Вот Присциан[89] Идет в толпе, где плачут тени эти, 157И слезы их текут по язвам ран. А вот Франциск д’Аккорсо[90]. Если б даже Ты захотел увидеть сквозь туман 160То зрелище, которого нет гаже, То я б тебе на призрак указал Развратника[91]. Он под охраной стражи, — 163Как Господа служитель приказал[92], Был сослан к берегам Бакилионе, Где смерть от истощения узнал. 166О множестве ужасных беззаконий Тебе, мой сын, я мог бы рассказать, Но впереди я вижу чад зловоний: 169Оттуда к нам идет другая рать Несчастных душ, но с ними здесь встречаться Не должен я…» И побежал он вспять. 172Так на бегу Веронском люди мчатся За призом из зеленого сукна[93], И каждому могло бы показаться, 175Что впереди несчастного должна Приветствовать победа и награда В том месте, где угрюмый сатана 178Терзает лишь всех поселенцев Ада.Песня шестнадцатая
Продолжение третьего подразделения седьмого круга. Путникам попадаются навстречу три призрака. Их жалобы и признания, которые глубоко трогают поэта. Новое виденье.
1Когда к тому мы месту подошли, Где водопада гул стал раздаваться, Подобный пчел жужжанью, вдруг вдали 4Из той толпы, что стала появляться, Три тени отделились и бегом, Завидя нас, к нам стали приближаться, 7Бичуемы пылающим дождем. «Остановись, пришлец землерожденный! — Кричали эти призраки втроем. — 10Ты сын отчизны нашей развращенной, Что можно по одежде угадать!» Ужасен был их образ истомленный; 13Не уставал их язвы разжигать Дождь огненный… О вечном их страданье Я не могу доныне вспоминать: 16О нем ужасно и воспоминанье. Услыша зов, заметил мне поэт: «Остановись! Почтенья и вниманья 19Они достойны. Если бы их след Дождь пламенный не покрывал огнями, То я тебе преподал бы совет 22Приблизиться к ним быстрыми шагами». Окликнули три тени нас опять И, наконец, лишь поравнялись с нами, 25Составив круг, с стенаньями скакать, Как дикие полунагие стали, Которые пред тем, как бой начать, 28Противников глазами измеряли. Так, перед нами прыгая в огне, Три тени постоянно обращали 31Свое лицо усталое ко мне, И тень одна воскликнула уныло: «О, если в этой мрачной стороне 34Лишь омерзенье только возбудило Страданье изъязвленных наших тел, То хоть за то, что в прошлом нашем было, 37Хоть ради многих славных наших дел, Скажи, кто ты, идущий чрез ограды, Где человек живой ходить не смел? 40Смотри: вот внук прекрасной Гуальдрады. Иду я по его теперь следам. Он в язвах весь, его обвили гады, 43Но некогда он знатен был, поверь. Узнай: его зовут: Гвидо Гьерра[94]. Трудился он, не побоясь потерь, 46Мечом и головою; был примером Для нации. Идущий вслед за мной: Теггьяйо Альдобранди[95]; Люцифером 49Теперь он взят, но на земле у вас О нем не позабудут, вероятно, И вспомнят с благодарностью не раз. 52А я, погибший с ними невозвратно, Джакопо Рустикуччи[96]. Скорбь в Аду Мне не была бы, может быть, понятна, 55Когда бы злой жены, как на беду, Я не имел: жена меня сгубила. Когда б я мог укрыться на ходу 58От пламени, что вниз дождем сходило, То броситься решился бы к теням, И думаю, на то дано б мне было 61Согласие учителя, но сам Я мог сгореть и в прах испепелиться, И я не мог навстречу, как к друзьям, 64К ним броситься и их обнять решиться…» И я сказал: «Картина ваших мук Ужасна так, что плачем разразиться 67От жалости я в состоянье вдруг. И эта жалость так неизгладима, Что долго не забыть мне адский круг, 70Где жжет вас дождь! Душа моя томима Невольным состраданием с тех пор, Как встретил вас, пройти желавших мимо. 73Да, родина одна у нас. Мой взор С сочувствием на вас я обращаю. О всех деяньях ваших в разговор 76С особою охотой я вступаю… Наставником своим руководим, Увидеть лучший мир я ожидаю, 79Но прежде с добрым спутником моим Я должен в Ад глубокий опуститься…» «О, будь же Небесами ты храним 82И долго пусть твой дух не отрешится От плоти, – так мне призрак отвечал. — И пусть ничем надолго не затмится 85Величья блеск, которым ты сиял. Но расскажи теперь мне об отчизне: Ужели дух сограждан в ней упал? 88Иль доблестей нет более в их жизни? Деянья их в иные времена Не подвергались обшей укоризне… 91О, родина!.. Ужели так она Испортилась в зловонной атмосфере, Ужель отчизна так теперь скудна, 94Как здесь передавал наш Борсиере[97], Который очутился среди нас… О, не скрывай, скажи по крайней мере: 97Ужели справедлив его рассказ?» «Флоренция несчастная! Ты пала Так низко, обесславившись не раз, 100Что даже наконец сама ты стала Оплакивать позорный свой удел!..» Так я воскликнул с горечью немалой: 103Я скрыть от них всей правды не хотел. Переглянулись тени меж собою И поняли, что лгать я не умел. 106«Гордимся мы беседою с тобою, — Три призрака сказали разом мне, — Свободою ты награжден судьбою — 109Всем истину высказывать вполне… Когда на землю вновь ты возвратишься, Где ярко блещут звезды в вышине, 112И говорить о виденном решишься, Поведай людям повесть наших мук И все, чему ты в тартаре дивишься…» 115Тут призраки расторгли общий круг И разбежались, молнии быстрее, И назади исчезли где-то вдруг… 118«Аминь» проговорить нельзя скорее Мгновенного их бегства, – и опять Я следовал за спутником бодрее. 121Но только начал путь свой продолжать, Как всплеск воды вблизи меня раздался[98], И сильно так, что мог бы заглушать 124Слова людей… Идти я колебался… Как тот поток, что, падая с высот Монвизо, Аквакетой назывался, 127Ее поток в верховьях и падет Ревущим водопадом близ аббатства Святого Бенедикта[99], где народ 130В монастыре встречал одно богатство И где могли найти себе приют До тысячи монашеского братства, — 133Так со скалы, как зверь голодный лют, Поток пред нами с ревом низвергался, И оглушить, казалось, в пять минут 136Мог всякого, кто к бездне приближался… Веревкою я опоясан был, Которой барса некогда старался 139Я изловить, когда я в Ад вступил. Веревку развязал я по желанью Учителя, в клубок руками свил 142И отдал, столь привыкший к послушанью, Наставнику. К той бездне, где поток Переходил от гула к рокотанью, 145Он подошел и бросил мой клубок В глубь пропасти, и размышлял я тайно: «Недаром взор учителя так строг 148И что-нибудь, что ново чрезвычайно, Я, вероятно, должен увидать…» О, люди! Если встретите случайно 151Того, кто ваши помыслы читать Привык из глаз, то будьте осторожны!.. Меня учитель понял и сказать 154Мне поспешил (что слушал я тревожно): «Я жду того, кто явится сейчас; Сейчас тебе увидеть будет можно 157Неясный призрак дум твоих…» Не раз Мы истину в обличье лжи встречали; Подобного коварства устыдясь, 160Сомкнем уста свои, чтоб не слетали Слова неправды, но – клянусь молчать Теперь я в состоянии едва ли. 163В своих стихах я должен рассказать, Как предо мной из тьмы густой явился Ужасный образ. Стал я трепетать, 166Когда мой взор на нем остановился. Так иногда всплывает вверх моряк, Который в омут моря опустился, 169Где царствует холодный, вечный мрак.Песня семнадцатая
1«Вот, вот оно, чудовище с хвостом, Как пика, заостренным! Через горы Оно летит и рушит все кругом: 4Оружие, и стены, и затворы, И целый мир умеет заражать Зловонием». Так вверх, поднявши взоры, 7Сказал певец, и стал к себе он звать Чудовище, маня его рукою. И тот, в ком приходилось нам узнать 10Коварства образ, начал головою И туловищем на́ берег ползти, Но страшный хвост свой прятал под водою. 13В его лице могли бы мы найти Души прекрасной, чистой выраженье: То дух добра, казалось, во плоти, — 16А хвост его, родивший омерзенье, Змеиный был. Две лапы и спина Покрыты шерстью; адского творенья 19Крутая грудь была испещрена Узорами и пестрыми цветами: По яркости им уступить должна 22Ткань Азии с турецкими коврами; Арахны ткань поспорить не могла С их пестротой узорными каймами. 25Как бы ладья, которая всплыла Вдруг на берег одною стороною, Другою же погружена была 28Еще в воде, иль, как бобры весною, В стране Тедесков ждут на берегу Недвижные, с согнутою спиною, 31Чтоб броситься к беспечному врагу, Так мерзкое чудовище таилось У берега, – забыть я не могу, — 34Поднявши хвост, над бездною крутилось И, жало ядовитое раскрыв, Как жало скорпиона, наклонилось 37У пропасти. «Мы обойдем обрыв, Чтоб подойти, – мне молвил мой вожатый, — К чудовищу. Иди, не будь ленив, 40Туда, где отдыхает зверь мохнатый». Спустились мы по правой стороне И тихо шли, боясь, чтоб дождь проклятый 43Нечаянно не повредил бы мне. К чудовищу уж близко подошли мы, Как на отвесном склоне, в стороне 46Теней мы увидали. Недвижимы, Они сидели молча на песке, Мучительными думами томимы. 49Их лиц не видно было вдалеке. «Чтобы узнать всю горечь их страданий, Иди, приблизься к ним: по их тоске 52Ты разгадаешь участь тех созданий, Но краток будь в речах своих, смотри, А я меж тем, предвидя все заране, 55Чудовищу промолвлю слова три: Пусть он своими мощными плечами Поможет нам. Иди ж, поговори 58С несчастными». Учителя речами Я успокоен был и шел туда, Где бледные, с потухшими очами, 61Сидели тени. Слезы никогда На лицах их в Аду не высыхали. Чтоб жгучий дождь не сделал им вреда, 64Они руками тощими махали, Отбрасывая пламенный песок: Так иногда, язвимый комарами 67И осами, усталых псов кружок То мечется, то лапами сгоняет Несносных мух… Я оторвать не мог 70Своих очей от призраков: смущает Меня их скорбь под огненным дождем, Который, как и прежде, не смолкает. 73Но кто они? Их образ незнаком Был для меня: ни разу я не встретил Их на земле в дни прежние. Потом 76На каждой шее призрака заметил Я сумки разных красок. Украшал Те сумки знак особенный[100]. И светел 79Дух каждый становился и дрожал От радости, когда с особым знаком Свою суму глазами пожирал. 82Я подошел поближе, чтоб под мраком Их рассмотреть, и на одной суме, Которая желта была, под лаком 85Льва синего я разглядел во тьме. Затем я не оставил обозренья: На красной сумке видно стало мне 88Гусыни небольшой изображенье, Которая, как снег, была бела. Вот далее явилось привиденье, 91И белая сума его была Украшена свиньею голубою, И эта тень тогда произнесла: 94«Скажи, зачем ты занесен судьбою Сюда и в эту яму погружен? И знаешь ли, кто рядом здесь с тобою 97Появится? Я вижу, смертный сон На голову твою не опустился, Так знай, что Витальяно[101] осужден, 100И хоть в Аду пока он не явился, Но вечно здесь он осужден страдать. Так уходи ж отсюда!.. Поселился 103Как Падуанец, здесь я, чтоб внимать Такие флорентинцев восклицанья: «О, рыцарь полновластный! Будем ждать, 106Что он сойдет в мир вечного страданья С той сумкой, где три клева он носил…» И призрак, кончив горькое сказанье, 109В одну минуту рот свой искривил И высунул язык свой он; так точно Облизываться бык иной любил. 112Меж тем, боясь, чтобы меня заочно За медленность учитель не корил, Я поспешил назад к нему нарочно 115И за тенями больше не следил. Учитель мой уже сидел в то время На раменах чудовища и был 118Готов лететь. «Садись, двойное бремя Ему легко; будь тверд теперь и смел. Отсюда спуск, – скалы отлого темя, — 121Опасен нам, и ты бы оробел Без помощи чудовища спускаться. Хочу, чтоб в середине ты сидел, 124Иначе хвост, что очень может статься, Тебе дорогой может повредить». Как человек, успевший растеряться, 127Когда его в ознобе станет бить Лихая лихорадка и, синея, Захолодеет тело, – может быть, 130Таков был я. От ужаса бледнея, Учителя слова я услыхал, Но, увещанья слыша, стал бодрее, 133Как раб, который возле увидал Бесстрашного владыку. Поместился Я на плечах чудовища, желал 136Просить певца, но только не решился Ему сказать: «Ах, обними меня!» Но мысль мою он понял, наклонился, 139Привлек к себе, руками охраня, И крикнул так: «Ну, Герион, в дорогу! Ты, ношу непривычную ценя, 142Спускайся вниз кругами понемногу: Пусть будет тих могучий твой полет». Я затаил в себе души тревогу, 145Прильнув к путеводителю, – и вот, Как челн, с песчаной отмели сходящий И тихо выплывающий вперед, 148Так двигался наш кормчий настоящий; Махая грозно лапами во тьме, И с нами быстро в воздухе летящий… 151Боюсь сказать, как страшно стало мне: Не так смутилось сердце Фаэтона, Когда, поводья бросив в вышине, 154Зажег он небеса во время оно, — Не так Икар несчастный был смущен, Когда под жарким солнцем небосклона 157Воск на крылах его был растоплен И услыхал отца он восклицанье: «Избрал ты путь несчастный, и вот он 160Тебя сгубил!» Мой страх, мое страданье Ужасней были в миг, когда из глаз Исчезло все, когда лишь колебанье 163Чудовища я видел в страшный час И воздух под собой и над собою. Мы плыли тихо, медленно кружась, 166Но я не мог, кругом охвачен мглою, Воздушного полета замечать, Лишь услыхал, что вправо подо мною 169Ад темной бездны начал грохотать. Чтоб вниз взглянуть, я круто вдруг нагнулся И в тот же миг стал сильно трепетать 172И в ужасе невольном содрогнулся: Из темной бездны стоны к нам неслись И огоньки сверкали там… Свернулся 175Почти в клубок я, заглянувши вниз, И зрелище мучительных страданий Стал постигать… Все жилы напряглись… 178Как сокол после долгого летанья, Не видя птиц, спускается назад, Кончая бесполезное порханье, 181Так Герион спустил нас в темный Ад, Стал на одно мгновенье под скалою И, бросивши на нас последний взгляд, 184Помчался и из глаз исчез стрелою.Песня восемнадцатая
Путники очутились в восьмом круге Ада, называемом Малебольдже (Злые Рвы). Сластолюбцы и обольстители. Явление льстецов.
1Особый есть вертеп в Аду, и он Зовется Малебольдже[102], окруженный Гранитною стеной со всех сторон. 4Среди того вертепа есть бездонный, Громаднейший колодезь. Между ним И темною стеной, там водруженной, 7Пространство круговидно и своим Пугает видом: скалами и рвами, Подобно всем защитам крепостным, 10Разделены, в вертепе перед нами Открылись десять пропастей… Смущен, Я вкруг смотрел, когда, сверкнув глазами, 13Нас сбросил в это место Герион. Поэт со мной направил путь левее, И на пути я слышал тяжкий стон 16Других теней, и различал во мгле я Их палачей жестоких. В два ряда, С стенаньями над темной бездной рея, 19Неслись толпы теней. Одни туда, Откуда шли мы в мраке, а другие Навстречу к нам. Так иногда 22Без слов, как эти призраки нагие, В дни торжества идут толпой двойной Молельщики по Риму… И шаги я 25Замедлил: здесь и там передо мной, То прячась, то являясь над стенами И не смущаясь грозной крутизной, 28Мелькали бесы адские с рогами И, грешников преследуя меж скал, Их поражали длинными бичами. 31И каждый грешник прыгал и стонал, От нового удара укрываясь. Не торопясь я путь свой продолжал, 34Когда ж, вперед во мраке подвигаясь, Я встретился с одною из теней, То, смутному желанью покоряясь, 37Воскликнул: «Я уже встречался с ней». И в ту ж минуту вдруг остановился, Чтоб рассмотреть знакомца прежних дней. 40Мой спутник шаг умерил и решился Не торопить меня. Склонив чело, Несчастный грешник словно устыдился, 43Увидя нас, как будто бы вело К чему-нибудь то позднее смущенье. И я сказал: «Хоть муками свело 46Твои черты, несчастное виденье, Но, кажется, тебя я узнаю: Каччьянимико[103] ты. В вертеп мученья 49Как ты попал?» «Не утаю, — Он молвил мне, – ты мне напоминаешь Приятной речью родину мою, 52И от меня всю правду ты узнаешь… В падении сестры я виноват: Ты здесь меня за этот грех встречаешь. 55Да, за сестру я был повержен в Ад. Но из болонских граждан в этом пекле Не я один: они в Аду кишат 58По всем углам, где бесы их иссекли За их корысть. Ты знаешь сам о том Пороке их: они не целый век ли 61Любостяжаньем славились?» Потом, Едва он смолк, как демон появился И, грешника ударивши бичом, 64Проклятьем над несчастным разразился: «Вперед, каналья! Здесь не отыскать Тебе продажных женщин!..» Я пустился 67Учителя скорее догонять И продолжал с ним путь, не отставая. Сквозь мрак густой я начал различать 70Скалу, что поднималась, выступая Из-за стены. Не встретивши преград И пропасть эту вечную бросая, 73Мы на скалу взошли. Я бросил взгляд Туда, где на две части распадалась Скала: тут вечно проходили в ряд 76Бичуемые грешники; казалось, Что был для них устроен тот проход. И в этот миг речь спутника разда́лась: 79«Остановись и не спеши вперед! Тебе взглянуть на тех необходимо, Которые шли сзади нас…» И вот 82Я увидал, как проходила мимо Толпа других теней, и так же их Бичами погонял неутомимо 85Ряд демонов. Тогда, речей моих Не дожидаясь, молвил мне Вергилий: «Смотри сюда! Как величаво-тих 88Идет вон этот грешник. Не смутили Его мученья адские, и он Не знает слез; доныне сохранили 91Величие черты его. Ясон[104] — Перед тобой. Он смелый похититель Руна в Колхиде. Славой ослеплен, 94Он посетил, – так продолжал учитель, — И остров Лемнос: женщинами там Мужчины все убиты были; мститель 97За них явился скоро. По следам Убийц прошел Ясон; его пленила Одна – отроковица по летам — 100Красавица, ей имя Изифила[105], Которая, всех обманув подруг, Спасла отца. С Язоном в связь вступила 103Та девушка, но брошена им, вдруг На острове осталась одинокой. И казнь невыносимых, тяжких мук 106За то постигла в пропасти глубокой Коварного Язона; тот же Ад Его карает казнию жестокой 109И за Медею также… В круг спешат Преступники, подобные Язону… Но с ними ознакомился твой взгляд; 112Мы далее отправимся по склону Скалы». И по тропинке мы пришли В другой вертеп, и гул, подобный стону, 115Оттуда несся. Призраки вдали Себя руками бешено терзали И сдерживать проклятий не могли, 118А из вертепа облаком вставали Густые испаренья и кругом Недвижно-мертвый воздух отравляли. 121Вертеп тот был с таким глубоким дном, Что со скалы лишь только было можно Увидеть все, что делается в нем. 124Мы подошли к обрыву осторожно, Чтоб посмотреть на грешников вблизи, И я внизу разглядывал тревожно 127Несчастных, утопающих в грязи Зловонной, отвратительной и смрадной, С какой-то гнусной жидкостью в связи. 130Вертеп обозревая безотрадный, Я грешника заметил одного, Мелькавшего в той бездне непроглядной. 133И видел я, что голова его Людским пометом вся была покрыта, И пол и сан несчастного того 136От глаз был скрыт. Воскликнул он сердито: «Зачем на мне ты взор остановил, Когда твоим глазам вполне открыто 139Позорище других теней?» Спешил Я отвечать: «О, кажется, в тебе я Узнал того, кем некогда ты был. 142Не ты ль, Алессио Интерминеи Из Лукки? Да, ты волоса носил Сухие прежде, вид иной имея. 145Вот потому-то вдруг и обратил Ты на себя теперь мое вниманье…» Тогда со стоном он проговорил, 148За голову схватившись: «Истязанья Я здесь терплю за льстивый свой язык: Я в лести находил свое призванье…» …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Пресыщены довольно наши взоры.Песня девятнадцатая
Поэты подходят к вертепу, где находятся святотатцы. Они встречают папу Николая III, ожидающего Бонифация VIII и Климента V.
1«О, Симон-волхв[106], и вы, ученики Его презренно-гнусного раскола, Умевшие до гробовой доски 4Обманывать во имя произвола. Готовые за деньги торговать Религией и Божьей благодатью! 7Теперь для вас готова прозвучать, Подобная ужасному проклятью, Труба негодованья моего… 10Всех вас, живущих в адском третьем круге, Щадить я не желаю никого». Мы поднялись в волненье и испуге 13Над новою могилой и пришли К скале одной, которая склонилась Над пропастью, откуда кверху шли 16Миазмы… Правосудье! Совершилась Казнь лютая над этим морем зла, Так что земля и небо удивились. 19Я в ров взглянул: над ним висела мгла, Внизу же ямы темные зияли, В них каменные плиты и зола. 22Купели ямы те напоминали, Купели, что у алтаря стоят, Где дети христианство обретали. 25Одну купель немного лет назад Разбил я сам невольно для спасенья Тонувшего ребенка… Но хотят 28Иначе объяснять мое движенье[107]; Пускай, – меня не тронет клевета И лживых толкователей сужденье. 31Осматривал я страшные места: Из каждой ямы ноги вверх торчали, До икр их не скрывалась нагота, 34Тела ж теней в тех ямах исчезали. Пылали – видел я – подошвы ног, И грешники от боли трепетали, 37И содрогались сильно так, что мог Порваться ряд веревок, если б ими Связали тело вдоль и поперек. 40Под язвами страдая огневыми, Как залитые маслом на огне, Пылали тени… С ужасом пред ними 43Я стал тогда, застыла кровь во мне. «Учитель мой! – я наконец заметил. — Кто этот грешник, бешеный вполне, 46Которого я в пламени приметил? Он, кажется, страдает больше всех. Его мой взгляд с особой болью встретил. 49О, за какой карается он грех?» И отвечал учитель мой: «Желаешь Когда ты знать причину казней тех, 52То, вниз спустившись, истину узнаешь — Кто он такой и как его зовут». А я ему: «Поэт, ты понимаешь, 55Что за тобою вслед и здесь и тут Я следовать готов беспрекословно… Твои труды – есть также и мой труд, 58Тебе я покоряюся любовно. Я твой слуга, а ты мой властелин, В которого я верю безусловно, 61Который даже может в миг один Угадывать мои все помышленья. Противиться тебе – мне нет причин». 64Чрез новую ограду в то мгновенье Спустились мы в жилище новых мук, Где раздавались стоны и хрипенье. 67Поэт не выпускал меня из рук, Пока мы шли до ямы той ужасной, Где грешник, испуская вопля звук, 70Метался телом всем. «О, ты, несчастный! Кто б ни был ты, попавший в бездну зол Вниз головой, истерзанный, безгласный, 73Поверженный, как в стену вбитый кол, Скажи, кто ты, когда сказать возможно?» И, как монах, который вдруг пришел 76На исповедь убийцы, что тревожно Ждал смерти под засыпанной землей, Так точно я склонился осторожно 79Над грешником с поникшей головой[108]. И грешника услышал я стенанье: «Ты ль, Бонифаций[109], здесь передо мной? 82Так обмануло, значит, предсказанье Меня на много лет? Иль пресыщён Так скоро златом ты, и поруганье 85Твое сошло на вечную жену[110]?» Я слушал, ничего не понимая, И словно сознавал свою вину, 88Его речам, неясным мне, внимая. Тогда Вергилий молвил в свой черед, Всегда во мне участье принимая: 91«Скажи ему скорее: я не тот, Кого во мне ты видишь почему-то…» И я раскрыл немедленно свой рот: 94«Нет, я не тот!» И, потрясая люто Ногами, грешник выслушал ответ И отвечал, – была одна минута, 97Что в голосе его был слышен след Печальных слез: «Чего же надо Тебе? Когда в подземный этот свет 100Проклятого, карающего Ада Спустился ты, чтоб от меня узнать, Кто я такой и как в обитель смрада 103Попал, то я могу тебе сказать. Мне ничего утаивать не надо И не хочу перед тобой скрывать, 106Что я ходил под мантией великой; Медведицы я сын[111]; для медвежат Сбирал я деньги с жадностию дикой, 109И сам за то попал в ужасный Ад, Которого все грешники боятся. Сюда, испив мучений вечный яд, 112Повержены со мной все святотатцы… Чу! Слышишь, над моею головой Они в своих конвульсиях кружатся 115И поднимают дикий, страшный вой. Я сам к ним должен скоро провалиться. Когда ко мне в вертеп ужасный мой 118Тот должен неожиданно явиться, Кого в тебе сегодня я признал… Пока из пяток кровь моя струится 121И головою в грязь я брошен стал, Поверженный с горящими ногами, Он испытает все, что испытал 124Я в Тартаре. Потом, его следами Сойдет жестокий грешник к нам сюда, Задавленный тяжелыми грехами, 127И здесь он нас прикроет навсегда, Ясоном новым[112] ставши в бездне этой: Ясону царь мирволил без стыда, 130А этот грешник гнусный и отпетый Найдет опору в гальском короле». Какой-то странной храбростью согретый, 133Воскликнул я, и речь была бодра: «Когда Господь вручал ключи от Рая, Не думал от апостола Петра 136Он требовать награды, повторяя Одни слова: «Гряди, гряди за Мной». И даже Петр, корыстью не сгорая, 139Не требовал, чтобы Матвей святой Ему дал денег вместо благодати. Сиди же здесь с казною золотой, 142Которую награбил ты, как тати, Прохожих обиравшие в пути!.. Сиди в Аду, косней в своем разврате, 145И если бы я мог в себе найти Еще грубей, еще сильней проклятье, Его бы на тебя я мог свести, 148Без сожаленья стал бы проклинать я… О, ваша алчность землю всю крушит. Всех ближних обирая без изъятья, 151Вы потеряли совесть, честь и стыд: Из золота вы сотворили бога. Себе язычник идол сотворит 154И молится ему лишь только строго, А вы – у вас сто идолов всегда, У вас богов на этом свете много, 157Которых вы меняли без стыда, И за такое в мире преступленье Не снимут с вас проклятья никогда. 160О, Константин! Нет, не твое крещенье Зло сделало в прошедшие года, Но то, что власть и власти нарушенье 163Ты смело папе первому вручил И тем посеял в мире преступленье». Пока я так над ямой говорил, 166В раскаянье иль в гневном исступленье Ногами грешник молча потрясал… Но, кажется, мое с ним рассужденье 169Учителю понравилось, и он Внимал словам с улыбкой одобренья, Их безыскусной правдой восхищен. 172Потом схватил меня он в умиленье, Прижал к своей взволнованной груди И вновь пошел со мной без затрудненья 175По прежнему скалистому пути И вынес на руках к другой ограде, Где темный мост пришлося нам найти 178В подземном, наводящем ужас граде. Здесь ношу опустил он на скале Обрывистой и спереди и сзади 181И столь крутой, что в безрассветной мгле И дикая коза не в состоянье Была ходить по страшной крутизне. 184Тогда не в очень дальнем расстоянье Долину пред собой я увидал, И вновь во мне удвоилось вниманье 187Среди других не виданных мной скал.Песня двадцатая
На дне четвертого рва Данте нашел кудесников и лжепророков. Повесть об основании Мантуи – родины Вергилия.
1Иные скорби, горе и мученья Должны во мне стих новый возродить; В двадцатой песне этой в сокрушенье 4Я должен муки новые излить. Я был уж приготовлен к наблюденью Других причин и мог свой взор вперить 7В обитель плача, предан сожаленью. В долине круглой множество теней Я увидал; подобно погребенью 10Там, на земле скончавшихся людей, Их шествие печальное тянулось; У всех струились слезы из очей… 13Я наклонился ниже – содрогнулась Тогда моя усталая душа И сердце с жгучей болью встрепенулось… 16Заметил я невольно, чуть дыша, Что у теней всех свернутые шеи, Что задом шли они, вперед спеша, 19Идти, как все мы, больше не умея. Так изувечить может паралич, Суставы человека не жалея. 22Ужасней казнь уму нельзя постичь, И худшего уродства на земле я Еще не знал. «Читатель! Кликну клич 25Тебе! Как мог я, не бледнея, Переносить подобной казни род, Как мог я в этот миг, не костенея, 28Смотреть на изувеченный народ: Из глаз толпы – нет в мире казни злее — Лилися слезы на спину… Урод 31Не мог иначе плакать… Плакал тоже И я, склонясь над бездной у скалы, Рыдал – и пробегала дрожь по коже. — 34Тогда поэт не скрыл своей хулы! «Как, на других глупцов и ты походишь… Они преступны, бешены и злы, 37А ты к ним сострадание находишь! Здесь состраданью места вовсе нет, Ты их по преступленью превосходишь, 40Когда, спустясь в подземный этот свет, Жалеешь о Небесном приговоре. Так посмотри сюда ты, мой совет, — 43Взгляни в лицо того, кто в лютом горе В глазах Фивян был поглощен землей, При общих криках о его позоре: 46Амфиарай[113], зачем, покинув бой, Сквозь землю провалился ты?» Оттуда Не мог уж снова выползти герой: 49Его тотчас земли покрыла груда, И Минос под землей его схватил… Взгляни теперь; над ним свершилось чудо. 52Где прежде грудь свою он находил Под бородой, теперь спина явилась: Он, двигаясь назад, запас истратил сил. 55Взгляни – Тирезий[114] вот. Преобразилась Его фигура. Некогда был он Мужчиною, но из него явилась 58Вдруг женщина: он стал перерожден, Потом опять он вдруг переменился, Когда им змей двойной был умерщвлен, 61И в образе мужском он вновь явился. А вот, взгляни, Аронт[115] за ним идет; Средь Лунских гор он прежде поселился, 64Из мраморной пещеры небосвод Мог наблюдать и вечные светила Следить любил на небе ночи… Вот 67И женщина: всю грудь ее закрыла Теперь коса, а весь спинной хребет Открыт для глаз. Ей имя Манто[116] было. 70Немало стран та жрица исходила, Пока остановилась в той стране, Где суждено родиться было мне. 73Когда отец волшебницы скончался И посвященный Вакху город пал, Той девственницы снова путь начался. 76В Италии прекрасной между скал Есть озеро Бенако[117] близ Тироля. В то озеро со всех сторон впадал 79Источник за источником в приволье Меж Гардой и Валь-Камонико; Кругом тучнеют пастбища, раздолье 82Потоков освежает их легко. Там на пути лежит одно болото, К которому не подходил никто. 85Явившись там, той путнице охота Пришла остановиться на пути, Вдали людей с рабынями без счета 88Она приют умела там найти, И волшебством свободно занималась, Стараясь от людской толпы уйти. 91Когда же смерть нежданная подкралась И девственница тихо умерла, То в те места, где схимница скончалась, 94Где меж болот былинка не росла, Отвсюду люди начали сходиться, И там, где чародейка та жила, 97Стал постепенно город возноситься И в честь Манто – Мантуей назван был, Чтоб не могло той имя позабыться, 100Которую мантуец каждый чтил. В дни прежние в местах тех было людно, Пока там Казалоди[118] не сгубил 103По воле Пинамонте безрассудно Весь город. Я об этом рассказал, За тем, чтоб после было всем не трудно 106Мантуи знать начало; я слыхал Неверные одни предположенья О том, как город этот возникал, 109Но древнее его происхожденье Точнее всех я объяснил теперь, Так что не может быть опроверженья». 112Я отвечал: «Учитель мой, поверь, В твоих речах все ясно и понятно, И никого не стал бы я теперь 115Иного слушать… Сильно мне приятно Доверие твое: скажи мне об одном: Среди теней ведь есть же, вероятно, 118Единый дух, в котором мы найдем Хоть что-нибудь достойное вниманья? Вот, спутник мой, я думаю о чем». 121Ответствовал учитель в то ж мгновенье: «Смотри: вот этот с длинной бородой — В те дни, когда вся Греция в смятенье[119] 124Была перед грядущею бедой И многих славных воинов в сраженье Лишилась вдруг, вот этот муж седой 127Авгуром был с Калхасом прозорливым. В Авлиде первый он лишь подал знак Рубить канат. Он звался Еврипилом 130И мной воспет в трагедии был так, Как, вероятно, помнишь ты прекрасно. А вот другой – он был великий маг — 133Вот он, с щеками впалыми ужасно, Микеле Ското[120], вещий астролог; А вот, провозглашавшие бесстрастно 136Судьбу людей – Бонатти[121], а другой Асдент[122], который рад бы, может статься, Свой промысел припомнив дорогой, 139За шило и за дратву снова взяться, Но слишком поздно каяться он стал И уж ему из Ада не урваться. 142Ты далее несчастных увидал: Веретено с иглою побросали Они за тем, чтоб мир в них почитал 145Волшебниц злых. Людей они смущали Посредством разных зелий. Но пойдем Туда, где нас с тобой не ожидали. 148Уж месяц с роковым своим пятном — С изображеньем Каина[123] поднялся. В ту ночь луна – припомни ты о том — 151Была полна и темный лес казался При лунном блеске ночи прошлой нам Не столько страшным: путь наш освещался 154Вплоть до зари… Так по моим следам Иди теперь…» – проговорил Вергилий, И следовал я по его стопам 157И не щадил в пути своих усилий.Песня двадцать первая
Пятый вертеп, где сидят лихоимцы и общественные обманщики. Явление дьяволов и ужас Данте.
1Как с моста на мост шествовали мы, О многом по дороге рассуждая, Но речи те среди глубокой тьмы 4Оставлю в стороне, передавая События другие. Мы пришли К вершине свода, путь свой замедляя, 7И в новой бездне Ада мы нашли Другой вертеп, где стоны раздавались И слезы новых грешников текли. 10Вертепа своды мрачные казались Еще темнее прежних. Как зимой В Венеции, где корабли сбирались 13В огромном арсенале, где порой Кипит смола, которой покрывают Бока судов, где целый день-деньской 16Удары молотков не умолкают: Те вьют канат иль чинят паруса, Другие мачты к судну укрепляют, 19И раздается стук и голоса, — Так точно в этой пропасти кипела Смола густая, пар кругом вился 22И пена на поверхности белела, Которая то опускалась вниз, То кверху поднималась и шипела. 25Смотрел я за обрыв, как за карниз, Картиною ужасной увлекаясь, Но мой учитель крикнул: «Берегись!» — 28От пропасти увлечь меня стараясь; Тогда я обернулся быстро вспять, Как человек, который, увлекаясь, 31Желает поскорее угадать Беду, что в тайном страхе заставляет Его назад немедленно бежать 34И страх невольный в сердце поселяет. И в тот же миг вдали я увидал, Что черный демон быстро убегает 37Чрез темный мост… О, как был страшен он! Дрожали крылья за его плечами, И, воздух рассекая с двух сторон, 40Он мчался, чуть касаяся ногами Земли, и на плече своем держал Труп грешника костлявыми руками 43И из него когтей не выпускал. Взбежав на мост, бес вдруг остановился И, грешника поднявши, закричал: 46«О, Малебранке! Вот еще явился Священной Дзиты новый старшина[124]. Брось так его, чтоб ниже провалился 49Он в эту грязь. Я за другим бегу В тот город, где ему подобных много. В том городе, одно сказать могу, 52Продажны все, давно забыли Бога, — Один Бонтуро только честен там, — За деньги каждый честь продаст… Дорога 55Им всем – в смолу!..» И тут же бросил он Несчастного в немую бездну мрака И, ненасытной злобой опьянен, 58Назад умчался. Точно так собака, Сорвавшись с цепи, бешено летит, И от нее прохожий-забияка 61На улице едва ли убежит… А грешник всплыл, смолою весь залитый И липкой грязью омута покрыт. 64Но хор бесов, под страшным мостом скрытый, Раздался вдруг: «Святого Лика нет У нас в Аду! В смоле, в смоле сиди ты, 67Не плавая, чтоб в бездне новых бед Не испытать. В ладу жить хочешь с нами, Так двигаться не смей ты, как скелет, 70В земле забытый с старыми гробами». Крюки бесов в несчастного впились Со всех сторон. «Пляши теперь с чертями, — 73Кричали эти бесы, – веселись И надувай других здесь под смолою…» И черти той забавой занялись, 76Подобно поварам, когда порою Они на вилках жарят на огне Дичь или мясо. Адскою игрою 79Я был убит. Сказал учитель мне: «Чтобы никем ты не был здесь замечен, То спрячься за скалу и в стороне 82Следи за всем». Потом окончил речь он: «Когда ж меня там будут оскорблять, Не бойся ты; не раз один был встречен 85Я оскорбленным; снова испытать Злость демонов я буду в состоянье…» И он ушел; я с трепетом стал ждать, 88Чем кончится такое испытанье. Учитель стал чрез мост переходить; Когда ж шестой окраины в молчанье 91Достигнул он, то далее скрывать Себя не стал… Подобно псам в ограде, Которые бегут, чтоб разорвать 94Прохожего, который «Христа ради!» Идет просить, помчался сонм чертей На смелого учителя, чтоб сзади 97Его поймать на крюк рукой своей. Но он сказал: «Ни с места! Здесь могуч я, Не побоюсь в Аду я ста смертей, 100И мне не страшны демонские крючья. Ко мне не прикасайтесь, но сперва Пусть выслушать придет мои слова 103Один из вас, а после, если смеет, Пусть и моей душою завладеет…» Речь эта для бесов была нова, 106И кто-то вдруг средь дьявольского сброда Сказал: «Ступай к нему ты, Малакода!» И бес один из круга вышел вон 109И стал к нему по камням пробираться; Другие же, собравшись в легион, Беседы стали молча дожидаться. 112И бес спросил учителя, кто он И что ему в вертепе адском надо? И дьявол был ответом поражен 115Учителя. «Ужели в омут Ада Проник бы я и здрав и невредим, — Сказал певец, не опуская взгляда, — 118Когда бы не был я руководим Перстом Того, кто был Творцом Вселенной! Так мне ль дрожать перед лицом твоим?.. 121С дороги прочь, бес жалкий и презренный! По воле Неба, смертного ввести Я должен в Ад, и путь мой неизменный 124Не заградить бесам всем. Прочь с пути!..» Услыша речь, смирился демон скоро, Сказав другим: «Он может в Ад идти, 127Не вызывая смерти приговора…» И опустив свой длинный адский крюк, В толпе чертей он затерялся вдруг. 130Тогда сказал учитель громогласно: «О, ты, который скрылся за утес. Иди ко мне: дорога безопасна». 133На зов певца мне выбежать пришлось. Когда ж чертей увидел пред собою, Невольно я к земле тогда прирос, 136Не веря им и не готовый к бою… Капрона[125] мне припомнился тогда, Где с робостью такой же пред борьбою 139Перед врагом в минувшие года Испуганные воины дрожали… К учителю прижался я (всегда 142Меня его услуги охраняли) И глаз не отводил от бесенят, В которых только злобу прочитали 145Мои глаза; они же, ставши в ряд, Склонив крюки, мне громко так грозили: «На крюк его я посадить бы рад… 148Что тут смотреть! В смоле бы утопили…» Но демон тот, что первый говорил С учителем, воскликнул: «Вы забыли, 151Что сказано? Я в Ад их пропустил. Не двигайся ты с места, Скармильоне…» И демонов он тотчас усмирил, 154А нам заметил в очень мирном тоне: «Ступайте дальше, только не найти За этою скалою вам пути: 157Здесь свод шестой в обломках провалился; В развалины одни он обратился Уж более лет тысячи назад… 160Но, впрочем, есть проход особый в Ад, И если путь вы продолжать хотите, То чрез обвалы далее идите. 163Туда пошлю своих я чертенят, Взглянуть, чтоб кто-нибудь не появился Поверх смолы… Идите с ними в ряд… 166Из них никто вреда бы не решился Вам сделать». Так сказал нам старший бес; И к дьявольской дружине обратился: 169«Идите вы чрез скалы вперерез, Каньяццо, Барбаричьо, Аликино И ты, Чирьятто, чудо из чудес, 172Ты, Либикокко, также Калькабрино, И Рубиканте бешеный, и вы, Графиаканте с черным Фарфарелло, 175Обход должны теперь вы сделать смело Вокруг кипящей в пропасти смолы И доведите путников всецело 178Туда, где крепкий мост есть у скалы, Который еще в бездну не свалился». «Учитель мой! Как эти бесы злы!.. 181Пойдем без них!.. – так молвить я решился. — Нам стража для охраны не нужна: Ведь ты не в первый раз сюда спустился… 184В проводники годится ль сатана? Прислушайся, как зубы их скрежещут, Как хищно гнется гибкая спина, 187Каким огнем зловещим взгляды блещут!..» И мне Вергилий дал такой ответ: «Не бойся! Эти демоны трепещут 190От бешенства, но в бешенстве их нет Для нас беды: в их взглядах злость таится Лишь против тех, кому уж много лет 193Здесь суждено за прошлое томиться…» Тут бесы закусили свой язык И, прежде чем в обходный путь пуститься, 196Приказа ожидали. В этот миг Владыка их, как бы сзывая к бою, Ответил им военною трубою, 199Которой смысл Ад понижать привык.Песня двадцать вторая
Рассказ грешника и злоба демонов, его терзающих. Хитрость призрака, обманывающего адских мучителей.
1Я видел, как из лагеря идут Войска на смотр или на приступ мчатся, Иль сзади победителей бегут, 4Не в состоянье более сражаться… О, жители Ареццо! Я видал, Как вы, не в силах больше защищаться, 7Врагов на городской впустили вал; Я видел, как турниры совершались Под музыку, где барабан трещал 10И звуки колокольные сливались С сигналами военных крепостей, — Но никогда еще не раздавались 13Передо мною в воинстве чертей Трубы сигналы. Нас сопровождала Рать дьяволов… Едва ль таких друзей 16Сообщество спокойствие внушало… Но в храме можем встретить мы святых, В таверне же беспутного нахала. 19А между тем, в виду друзей таких, Я не сводил испуганного взгляда От бездны, от страдальцев проклятых, 22Посаженных в смолу в вертепе Ада. Как иногда согнувшийся дельфин Знак подает пловцам, что скоро надо 25Спасать корабль, так грешник не один, Который от страданий изнывает Порою, на поверхность выплывает 28Смолистого потока и тогда, Как молния, в пучине исчезает. Как из болот лягушки иногда 31Высовывают голову из тины, Так грешники смотрели из смолы И вновь бросались, – нет страшней картины! — 34В свой кипяток, когда из-за скалы Пред ними Барбаричьо показался, Скрывая стоны, слезы и хулы. 37Я видел все и молча содрогался И содрогаюсь даже в этот час, Хотя давно с тем местом распрощался. 40Один из осужденных, торопясь Нырнуть в смолу при нашем приближенье, Замешкал, на поверхности крутясь, 43Тогда Графиаканте с озлобленьем Его крючком за волоса схватил И вытащил из грязи с восхищеньем, 46Как будто бы он выдру изловил. Запомнил я всех демонов названья Еще тогда, когда Сатанаил 49Перекликал их. Разом завыванье Вкруг раздалось: «Всади в него свой крюк, Эй, Рубиканте!.. Ты без содроганья 52Сдери с него всю кожу… Наших рук Не миновать ему!..» Спросил тогда я: «Певец, скажи, кто он, попавший вдруг 55Во власть чертей, мук новых ожидая?» Тогда его учитель вопросил: «Ответь, кто ты и почему, страдая, 58Попал ты в Ад?» И он заговорил: «В Наваррском королевстве я родился; Отец мой негодяем страшным был 61И от беспутства скоро разорился. Потом я в услуженье поступил И был рабом; потом преобразился 64В любимца королевского. Любил Меня король Тебольдо; безвозвратно В его глазах себя я погубил, 67Своим влияньем пользуясь. Тогда-то Я был посажен в этот кипяток И не скрываю прошлого разврата…» 70Но в этот миг пырнул страдальца в бок Огромными клыками Чириатто, И из груди невольный крик извлек. 73Он в лапы словно мышь котам попался: Бес Барбаричьо грешника сдавил И на крючок поддеть его старался, 76Но перед тем учителя спросил: «Ты хочешь говорить с ним? Говори же, Пока он цел и память сохранил. 79К нему час смерти ближе все и ближе». Тогда поэт молчание прервал: «Кто из латинцев есть здесь? Мне скажи же, 82С тобою, вероятно, в тьму попал Один из них, на муки осужденный?» И призрак, не скрывая, отвечал: 85«Еще сейчас в пучине разъяренной Я видел одного из них, что жил С Италией в соседстве… Озлобленный 88Вот этот бес меня бы не схватил, Когда бы мог, как он, в поток укрыться, И не терпел бы этих адских вил». 91Тут Лабикокко крикнул: «Слишком длится Речь грешника! Прошел условный срок…» За жертву в ту ж минуту ухватиться 94Успел он сильной лапой и кусок Живого мяса вырвал… Оборона Была бессильна… В тот же самый срок 97Погиб бы он, не проронивши стона, От рук другого беса, но на них Отановился взгляд Декуриона, 100Свирепый взгляд – и гнев бесовский стих. Когда зловещих демонов волненье Прошло, тогда, взглянув на них, 103Учитель снова начал объясненье: «Кого же ты покинул, из смолы Нырнув на это страшное мученье, 106На новые удары и хулы?» Он отвечал: «Скажу: то был Гомита[126]. Галлуры он правитель, и убита 109Давно в нем честь; изменник и хитрец, Он с царскими врагами вечно знался И продал сам себя им, наконец. 112К тому ж он лихоимством занимался И был царем меж лихоимцев всех… Здесь с ним сидит за тот же самый грех 115И дон Микеле Цанке Логодоро[127]. У них иного нет и разговора, Как только о Сардинии… Потом… 118Но посмотри, как этот дьявол рвется, Чтоб зацепить меня своим крючком… Боюсь – в меня зубами он вопьется…» 121Но предводитель дьяволов, как гром, Над Фарфарелло бранью разразился, Который нанести удар решился 124Несчастному. «Прочь, злая птица, прочь!» «Когда у вас есть тайное желанье, — Тень молвила, желая превозмочь 127Свой страх, – здесь выслушать сказанье Ломбардцев иль тосканцев, то помочь Я вам могу и приложу старанье 130Сюда их вызвать, если только нас Не тронут эти демоны когтями; Я мог бы даже в этот самый час, 133Не разлучаясь с злобными бесами, Сюда призвать их счетом до семи. Я только свистну громко, и пред нами 136Они всплывут…» «Ах, Ад тебя возьми! — Сказал Каньяццо, морду поднимая. — Хитрить ты вздумал, бестия, желая 139Опять от нас в глубь пропасти нырнуть!..» А грешник пред бесами стал лукавить: «Нет, я не зол! Я не могу заставить 142Товарищей погибнуть; ведь пырнуть Вы их своими можете крючками». Тут Алекино вздумалось ввернуть 145Словцо такое: «Если перед нами Ты вздумаешь укрыться в глубине, То за тобой в смолу бросаться мне 148Охоты нет!.. Я буду бить крылами Лишь по смоле… Пойдем мы за утес, Посмотрим, как схитришь ты пред бесами!» 151И демоны без брани, без угроз Лицо свое от бездны отвернули, И даже тот, которого пришлось 154Бояться больше прочих. Обману ли Тебя, читатель? Можно угадать, Что дьявол также может оплошать: 157Наваррец, улучив одно мгновенье, Ногами быстро в землю оперся. Прыгнул и скрылся в бездне, заключенья 160Избегнув: ловкий подвиг удался. Но демонов взбесил обман подобный; Особенно взбесился демон злобный, 163Который сам к обману повод дал, С неистовой он злобой зарычал: «Ты будешь мой!» Но было уже поздно… 166Напрасно в пропасть ринулся он грозно, Подобно с лука спущенной стреле. Но грешник уж исчез давно в смоле 169И выглянуть оттуда не решался, А черный бес отпрянул и опять, Взмахнув крылами, на́ берег поднялся. 172Так под водой приходится нырять Несчастной утке, если над водою Она увидит сокола порою. 175Ему же вновь приходится взлетать Под облака и промаха стыдиться. Взбешенный Калькабрина рад сорвать 178Был гнев на ком-нибудь, был рад сразиться И демона над пропастью схватил, Откуда тот удумал возвратиться, 181Но бес, как ястреб, тоже ловок был… Над бездною они крутиться стали, Царапались и не жалели сил 184И в глубь смолистой пропасти упали. Однако скоро жар их помирил, Но как подняться вверх – они не знали 187И не могли в смоле расправить крыл, Которые, слипаясь, увязали. Тут Барбаричьо с бешенством вскочил, 191И по его приказу побежали Четыре беса дьяволов спасать, Которые едва уже дышали… 194Крюками принялись их вынимать Из той смолы, которая клубилась, Не уставая тело их сжигать… 197Но мы ушли. Что далее свершилось, Попали ль бесы на берег опять И чем в смоле борьба их заключилась — 199Не ведал я и не желал узнать.Песня двадцать третья
Новый ужас Данте, преследуемого бесами. Лицемеры в свинцовых рясах. Вергилий узнает обман демонов и с гневом уходит.
1В безмолвии и стражей не прикрыты, Мы шли одни: учитель впереди, Я сзади шел. Так братья минориты 4Свершают путь. В моей груди Еще был страх: чертей двух столкновенье, Оставшихся за нами назади, 7Напомнило мне басню о сраженье Лягушки с крысой[128]. Истинно я мог Меж ними провести свое сравненье. 10Две ссоры те, их даже эпилог Между собой похожи чрезвычайно. Чем больше я их сравнивал в тот срок, 13Тем более пугался не случайно, И наконец удвоился мой страх, И про себя тогда я думал тайно: 16«Лишь из-за нас сейчас поверглись в прах Два демона, – они должны взбеситься, И демонское бешенство в чертях 19На нас одних должно теперь излиться. Что, если эта шайка бесенят За нами с диким воплем устремится? 22Как зайцев псы голодные травят, Они нас разорвут теперь на части». И, трепетный кругом бросая взгляд, 25Я сознавал весь ужас той напасти, И дыбом встали волосы мои. Таить ту мысль во мне не стало власти. 28Я прошептал: «Учитель, помяни Мои слова: нам следует укрыться От демонской погони, иль они 31Догонят нас… Нам медлить не годится… Мне чудится уже их адский рев, И голова моя при том вскружится…» 34Учителя ответ мне был готов: «Как зеркало в себе все отражает, Так точно отражается без слов 37Во мне твой дух, и ум мой постигает Все то, о чем ты думаешь, мой сын. Поверь, меня в час этот занимает 40Мысль точно та же; вывод лишь один Я сделаю без опасенья Из наших дум. Когда мы со стремнин 43Вон той скалы сойдем без затрудненья В другой вертеп, то ты и я спасен, И бесов нам не страшно исступленье». 46Едва о том сказать успел мне он, Как я увидел демонов; летели Они на нас, и только горный склон 49Нас разделял, и в воздухе шумели Их крылья черные. В тот самый миг, Как ночью мать, вскочившая с постели 52И слыша вкруг тревоги общий крик, Из колыбели сына вырывает И с быстротой – страх матери велик, — 55Боясь пожара, с сыном убегает, Едва прикрывши тела наготу, И лишь к груди ребенка прижимает, 58Так и меня схватил в минуту ту Наставник мой, и на спине скатился Он со скалы, прижавши на лету 61Меня к себе. Под мельницей крутился Едва ль поток когда-нибудь быстрей Того прыжка, с которым вниз стремился 64Вергилий с тяжкой ношею своей, Меня, как сына, к сердцу прижимая, Меня, как сына милого, спасая 67От дьявольских ударов и когтей. На дно вертепа только мы спустились, Как на скале над головой моей 70Крылатые гонители явились… Но уже во мне боязнь тогда прошла… Из пятого вертепа не решились 73Они за нами гнаться: та скала Дальнейший путь вперед им преграждала: Им власть Небес того не позволяла. 76Затем толпу раскрашенных теней Мы пред собою скоро увидали. Роняя молча слезы из очей, 79Они в изнеможении блуждали. На рясы их опущен капюшон, И рясы тех теней напоминали 82Наряд монахов кельнских, ослепляли Своею пестротой со всех сторон, А под собой свинец они скрывали 85И в сущности так были тяжелы, Что перед ними рясы Фредерика[129] Соломы были легче. Адской мглы 88Тяжелый плащ!.. Стонали тени дико, И, слушая рыдания теней, За ними шли мы тихо без речей, 91Но тяжесть ноши так их всех давила, Что лишь едва идти им можно было. Толпу их привелось нам обогнать 94И с каждым шагом спутников менять. К наставнику тогда я обратился: «Не можешь ли меж ними указать 97Кого-нибудь, кто в мире отличился Деяньями своими от других. Взгляни кругом – вот новый ряд явился 100Других теней, и, может быть, иных Узнаешь ты!..» Едва окончил речь я Среди толпы тех грешников худых, 103Как дух один, тосканское наречье Услышавши, проговорил нам вслед: «Умерьте шаг, вы, в омуте увечья 106Идущие! В нас сил догнать вас нет!.. Быть может, то, что вы узнать хотите, Я разрешу и дам прямой ответ… 109Я об одном прошу вас: не бегите…» Поэт сказал: «Умерь теперь свой шаг И рядом с ним идти старайся так, 112Чтоб он от напряженья не томился». И я в минуту ту остановился И двух несчастных начал поджидать, 115Которые старались нас догнать, Но тяжесть рясы их не позволяла Движений в утомленье ускорять. 118И узкая тропинка замедляла К тому же их тяжелый, трудный путь… К нам подойдя, они на нас сначала 121Решились только искоса взглянуть. Потом между собой заговорили: «По голосу – живой он, в том ничуть 124Я не солгал, – когда бы разрешили, Когда они мертвы, впустить сюда Их без одежд свинцовых? Разве были 127Подобные примеры? Никогда!» Затем ко мне вопрос их обратился: «Тосканец! Ты проникнул без труда 130В подземный этот Ад и очутился В жилище лицемеров, так ответь, Кто ты такой, когда и где родился?» 133Я отвечал, стараясь рассмотреть, С кем говорю: «На берегу Арно я Увидел свет и общество иное 136В великом нашем городе[130] встречал. Еще доселе я не умирал И мне еще не чуждо все земное. 139Но кто же вы? Из ваших тусклых глаз Струятся слезы пламенные вечно… Ужель страданье ваше бесконечно 142Под этим блеском тяжких ваших ряс?» И отвечал мне призрак истомленный: «Казнь лютая придумана для нас!.. 145Вот здесь, под этой рясой золоченой, Сокрыт свинец и давит нашу грудь И день и ночь… невыносим наш путь… 148Мы терпим казнь за наше святотатство… Болонцы мы и были члены «братства Веселого»[131], а наши имена — 151Я – Каталано, он же Лодеринго[132]… Нас знаешь по пожару ты в Гардинго… Подестами в былые времена 154В твоем любимом городе мы были, И мы его прекрасно охранили, О чем, наверно, помнит вся страна…» 157«Так это вы, несчастные, сгубили…» — Воскликнул я и тут же замолчал. Слова мои как будто бы застыли, 160Когда вблизи себя я увидал Тень грешника. Три раза в грудь пронзенный Насквозь тремя колами, он лежал 163И, увидав меня, как разъяренный, В конвульсиях метаться быстро стал. Брат Каталано взгляд мой изумленный 166Тогда постиг и тихо мне сказал: «Вот этот грешник, кольями проткнутый, Совет дал фарисеям, предлагал 169Гонимого подвергнуть пытке лютой, Как будто бы для пользы дорогой Своей отчизны. Видишь – он нагой 172Лежит всегда здесь поперек дороги Затем, чтобы его в Аду могли Топтать в песок всех проходящих ноги, 175И приподняться более с земли Не может он… Казнь та же тяготеет На всех жидах, которые пришли 178С советом тем же… Горько сожалеет Еще доныне весь еврейский род, Что он принес такой печальный плод…» 181И над преступной тенью в то мгновенье Мой спутник наклонился в удивленье И созерцал мучительный позор 184Презренного советчика, и взор Наставника лишь выражал презренье. Затем с одним из братьев в разговор 187Вступил он вновь: «Когда дано вам право На наш вопрос правдиво отвечать, Скажите мне, возможно ли там, вправо, 190Нам безопасный выход отыскать Из этой бездны, чтоб не опасаться, И помощи бесовской не искать?» 193И был ответ: «Могу я в том ручаться, Что вы избегнуть можете всех бед, Когда обвалом станете спускаться, 196Где горный прерывается хребет, Идущий через мрачные пустыни. Идите! Там опасности вам нет…» 199И голову склонил певец в кручине: «Нас обманул презренный дьявол тот, Что грешников крючками ловит в тине…» 202Один из «братьев» молвил в свой черед: «Я о пороках дьявола когда-то В Болонье слышал толки: он народ 205Обманывать привык; все бесенята — Исчадье лжи и хитрости, не раз Губивших мир…» Дальнейшей речи брата 208Мы не слыхали. Тяжесть страшных ряс Давила их, а спутник мой шел дале… И, на него взглянувши в этот час, 211В его лице увидел тень печали.Песня двадцать четвертая
Данте смущается волнением Вергилия. Оба вступают на мост, перекинутый через новый вертеп. Святотатцы, терзаемые змеями. Предсказание о будущей судьбе Белых и Черных.
1В те дни, когда с задумчивых небес Не часто смотрит вечное светило, Мелькнет и быстро скроется за лес, 4И ночь глухая, смотришь, наступила; Когда в снегах лежат еще поля, И ярко-белым саваном уныло 7Покрыта охладевшая земля, Крестьянин в поле скудное выходит, О солнце и тепле Творца моля, 10И только нивы снежные находит; В отчаянье тогда махнув рукой, Глазами даль печальную обводит 13И в дом свой возвращается с тоской, Где холодно, где хлеба часто нету, Где для него давно пропал покой, 16Когда ж опять, в надежду веря эту, Которая так часто нас живит, Заметит он, что время ближе к лету, 19Он стадо гнать на пастбище спешит И забывает горе и ворчанье. Так точно и поэта скорбный вид 22Сперва во мне лишь возбудил страданье, Когда ж его высокое чело Яснее стало, полно обладанья, 25С моей души как будто отлегло Большое горе. Только мы вступили На мост, давно разрушенный, тепло 28Учитель на меня взглянул, и были Те взгляды нежны снова, как тогда, Когда впервые мы заговорили. 31Вкруг нас развалин высилась гряда, И, пред собою видя разрушенье, Певец мой, рассудительный всегда, 34Сообразил свой путь в одно мгновенье, Потом меня в объятия схватил И быстро, погруженный в размышленье, 37Которому и здесь не изменил, Принес меня, как ношу дорогую, На верх скалы и там проговорил, 40Рукою указав скалу другую: «На этот дикий камень ты всползи, Но прежде осмотри его вблизи, 43Чтоб под тобою он не подломился». Для грешников, прошедших мимо нас Под тяжестью свинцовых ряс, 46Тот переход едва ли бы годился. Вперед я подвигался, еле жив, И только лишь при помощи решился 49Переползти с обрыва на обрыв. Когда бы страшный путь тот продолжался, То, верно бы, учителя обвив 52Своей рукой, я с духом не собрался Ползти вперед в изнеможенье сил; Но, к счастью, путь дальнейший улучшался 55И на верху скалы окончен был. Она была последней. Я дыханье В усталости едва переводил 58И сел недвижный, словно изваянье, Так как идти я далее не мог И двигаться уж был не в состоянье. 61Но тут меня поэт предостерег: «Ты лености не должен предаваться: Для нашей славы легких нет дорог. 64Известности не может тот дождаться, Кто нежиться привык в пуховиках И на постели шелком прикрываться. 67Без трудностей нет славы и в веках; Без подвигов исчезнешь ты бесследно, Как пена волн, как ветер в небесах. 70Бездействие для человека вредно. Так встань же и усталость победи И с мужеством, которое победно 73Ведет в борьбе, иди за мной, иди, Когда еще осталась сила в теле: Награда ожидает впереди. 76С тобой еще мы не достигли цели. По лестнице идти нам предстоит Еще длиннейшей. В нашем трудном деле 79Конец для нас не близок. Путь лежит Печальный, многотрудный и опасный, Но пусть тебя теперь он не страшит. 82Иди и верь в совет мой беспристрастный». Тогда я встал и словно новых сил В себе нашел родник. С улыбкой ясной 85Наставнику тогда я говорил: «Иди, я бодр! С тобой пойду я всюду…» И мы пошли чрез каменную груду 88Скалы, изрытой ямами, крутой, Где ноги истомленные скользили, А по бокам скалы ужасной той 91Зияли бездны… Выше мы всходили, И чтоб свою усталость только скрыть, Пока мне силы вновь не изменили, 94С учителем я начал говорить. Вдруг там, где часть утеса раскололась, Из бездны раздался неясный голос, 97Но слов его не мог я различить. Напрасно их я разгадать старался И думал смысл речей тех уловить. 100Но от усилий тщетных отказался. Я только лишь одно тогда постиг, Когда к тому вертепу приближался, 103Что гневен был и бешен чей-то крик. Над бездной я склонился осторожно, Но мрак ее был непроглядно дик. 106И рассмотреть мне было невозможно Тех, кто кричал на темном адском дне. И я сказал учителю тревожно: 109«О, помоги в вертеп спуститься мне: Я слышу крик, но слов не понимаю; Кого-то вижу в темной глубине, 112Но образа его не различаю. Прошу тебя – сведи меня с стены, Близ пропасти я правду всю узнаю». 115«Мы действовать, а не болтать должны, — Сказал поэт, – и действовать в молчанье В обители ужасной сатаны…» 118И, исполняя спутника желанье, К вертепу он тогда меня привел, И в яме гнусной той сверх ожиданья 121Таких презренных гадов я нашел, Что в жилах кровь моя оледенела: Невольно я глаза от них отвел. 124Пусть Ливия не славится так смело Пустынными песками, где живут И жалами убийственными жгут 127Хелидры, амфисбены и якули[133]; Нет, даже там не знаю я, найду ли, Как и среди египетских степей, 130Таких же ядовитых, страшных змей, Которые в той пропасти крутились. И среди них несчастный сонм теней 133Я увидал. Давно они лишились Спокойствия, земной покинув гроб. Напрасно эти грешники стремились 136Избегнуть гадов, и гелиотроп[134] Искали вкруг для своего спасенья, Но гады то в их голову, то в лоб 139Вонзали жало в бешеном шипенье; Их руки были скручены назад И змеями завязаны… Вот гад 142Вкруг грешника обвился и на теле Его пестрел тройным своим кольцом, А голову связал с своим хвостом. 145Вот змей другой ждать долго не заставил, На грешника одним прыжком вскочил И в шею между плеч его ужалил, 149Едва такую казнь он совершил, Едва свой хвост свернувшийся расправил, Как грешник загорелся, зачадил, 151И в миг один огонь его расплавил И в пепел обратил его. Потом, Когда не стало пламени кругом, 154Из пепла вновь восстал он прежней тенью И образ прежний принял на себя. Так, если древних следовать ученью, 157Себя в ужасном пламени губя, Известный феникс молча умирает И вновь потом из пепла воскресает. 160Питается не хлебом, не травой, Но амми[135], и усталой головой Склоняется на нард[136] он или мирру[137]; 163Таинственный, вполне безвестный миру, В бессилии, на землю он падет, Как будто бы недуг его гнетет 166Иль ненавистный демон сокрушает; Когда ж потом он снова восстает, — Что было с ним – он сам того не знает 169И, озираясь, далее идет. Восставший грешник в том же состоянье, Казалось, был! О, правосудный гнет! 172Как грозен ты в немом своем каранье! «Кто ты? – ему учитель мой сказал. — И здесь за что ты терпишь наказанье?» 175«Недавно из Тосканы я упал Вот в эту бездну, – молвил нам несчастный. — Я жизнь скота людской предпочитал 178И не хочу скрывать: я скот ужасный! Мне имя Ванни Фуччи[138]. Для меня Берлогою достойной и прекрасной 181Была Пистойя». В это время я К учителю с словами обратился: «Скажи ему, чтоб он не шевелился 184И скоро так от нас не уходил; Спроси его, какое совершил Ужасное он прежде преступленье. 187Сварлив и кровожаден очень был При жизни он…» Но в думу углубленный, Успел понять тот грешник осужденный, 190Что мнения такого я о нем. Он уходить от нас не торопился, Лишь только щеки вспыхнули стыдом 193И взгляд его на мне остановился. И он сказал: «Страдаю я, поверь, Сильней гораздо более теперь, 196Чем в миг, когда я с жизнью распростился. Не скрою я, за что сюда попал: Из ризницы сосуды я украл, 199Но, совершив такое преступленье, Из трусости я друга оболгал. Который был казнен за похищенье. 202Но не затем себя я унижал Перед тобой, чтоб вызвать сожаленье. И если ты из мрака этих скал 205Вновь выйдешь в мир, то приложи старанье Запомнить в мире это предсказанье: Теперь Пистойя гонит Черных стан; 208Флоренция и нравы и граждан Спешит менять, но час иной настанет: С долины де ла Магра Марс восстанет, 211И грянет гром в далеких облаках, И дрогнут вдруг все городские стены, И ужас в человеческих сердцах 214Найдет приют, и на поля Пичены Тогда гроза ужасная слетит И Белых всех мгновенно истребит. 217Так ожидай ты этой перемены».Песня двадцать пятая
Богохульство грешника и страшное наказание. Другие призраки. Превращение человека в змею и змеи в человека.
1Сказавши то, презренный этот плут, С гримасой гадкой, поднял обе руки, Шиш показал и начал нагло тут 4Хулить Творца за кару и за муки, Но змей один – я их люблю с тех пор — При первом же его презренном звуке 7Сдавил ему всю шею, чтобы вор Не в силах был произнести ни слова; И смолк кощун, потупя наглый взор. 10Другой же гад скрутил ему сурово В одно мгновенье руки назади, Сдавил все тело, так что никакого 13Не мог движенья сделать он… – Пади И в пламени, Пистойя, ты исчезни, Своим примером людям не вреди, 16И навсегда погибни в адской бездне!.. Везде распространяешь ты разврат… Хотя бы обошли мы целый Ад, 19В нем не нашли бы грешника наглее, Который богохулить так дерзал, И даже тот, кто с фивских стен упал[139], 22Мог показаться лучше и сноснее… Проклятый тать куда-то убежал, Хулы своей оканчивать не смея. 25Затем как будто вырос из земли Центавр, ужасным бешенством пылавший Который мог страшить и издали, 28Центавр с угрозой дьявольской кричавший: «Где этот вор низверженный? Где он, Свои хулы в вертепе извергавший?» 31Был тот центавр обвит со всех сторон Пучками змей, которых и в Маремме Нельзя найти. С его спины дракон, 34Раскрывши крылья, грозно в это время Метал огонь и мимо шедших жег. Тогда путеводитель мой изрек: 37«Перед тобою Каккус[140]; исполинской Он силою когда-то обладал, И прежде за горою Авентинской 40Озера крови в битве проливал; Он с братьями не шел одной дорогой, И воровски однажды он угнал 43Чужое стадо. Мстительный и строгий, Сам Геркулес потом его сразил…» Пока путеводителя с тревогой 46Я слушал, тот центавр в то время был Уж далеко́. Три тени вдруг явились Из-под моста, куда в тот час всходил 49С поэтом я. Мы так заговорились, Что не могли заметить их сперва, Когда ж заговорить они решились, 52Спросив: «Кто вы такие?» – их слова Заставили нас обратить вниманье На призраков, но лиц их очертанье 55Мне было незнакомо, и затем, — Судьба нам помогала постоянно, — Я понял – очутился перед кем, 58Когда один из призраков нежданно Другого назвал: «Слушай, где ты там, Чианфа[141]?» В этот миг к своим губам 61Я поднял тихо палец в знак молчанья, Чтобы певца внимание привлечь… Теперь мое дальнейшее сказанье, — 64Читателя хочу предостеречь, — Сомненье может вызвать, что понятно: Мне было самому невероятно 67Все то, что видел сам я в этот час. Пока я, двух теней узнать желая, С них не сводил своих усталых глаз, 70Змей шестиногий, быстро налетая, На третьего из призраков напал, Его в одну минуту обвивая, 73Сдавил живот и сзади руки сжал, Зубами в щеки грешника вцепился, Хвост за его спиною замотал 76И словно плющ вокруг его обвился. Нам невозможно было уловить, Как быстро грешник тот преобразился: 79Кто дух, кто змей – не мог я отличить; Они слились в одно живое тело, Которого нельзя вообразить, 82Как ни было б воображенье смело. Перемешались вместе их цвета: Полутемно все было, полубело. 85Так пепел от бумажного листа Бывает и не черным и не белым… В то время с видом грустным и несмелым 88Два призрака проговорили вслух: «Аньэло! О, несчастный, бедный дух! Как быстро ты, как страшно изменился! 91Ты не один теперь, да и не два…» Из двух голов – я с ужасом дивился — Одна лишь появилась голова; 94Единый, страшный образ возродился Из двух различных образов. Из рук, Из ног, грудей, спины и брюха вдруг 97Явились члены новые; такого Я безобразья в мире не видал: В них было все чудовищно и ново. 100Первоначальный образ их пропал; Два существа в чудовище сливалось И тихими шагами подвигалось. 103И в этот миг, как ящерица днем Зеленый куст неслышно покидает И, солнечным палимая лучом, 106Как молния наш путь перебегает, Так полз другой черно-багровый змей К двум грешникам. Одну из двух теней 109Кровавый гад ужалил вдруг во чрево И распростерся, падая, пред ней, А призрак неподвижно и без гнева 112Как после сна тяжелого зевал, И у него из раны и из зева Пылающего змея вылетал 115Какой-то дым, в одну струю сливаясь. На змея тень смотрела, и свой взгляд, Кольцом огнеподобным извиваясь, 118От призрака не отводил тот гад. Певец Лукан! Умолкни ты, стараясь Нам передать картин ужасный ряд, 121Где воины Сабелла и Назидий[142] Являются страдальцами. О, ты, Умолкни тоже, чудный наш Овидий 124С повествованьем, полным красоты, О Кадме с Аретузой: обратился Один в змею, а из другой явился 127Источник. Ты, Овидий, обменять Природу двух созданий не решился; Плоть одного другому передать 130Не думал ты. Меж тем передо мною Стал образ человека принимать Проклятый змей с гноящейся спиною, 133А человек вид гада принимал. У гада хвост мгновенно раздвоился, А человек так плотно ноги сжал, 136Что след их разделения вдруг скрылся. Процесс перерожденья совершился В моих глазах: хвост одного не стал 139Похож на хвост, вид членов принимая, Которые бывают у людей; А у другого руки, исчезая, 142Сливались тихо с телом, и длинней Меж тем у гада ноги вырастали. И походил все более тот змей 145На человека. Прежний вид теряли И человек и ядовитый гад. Они друг с друга взгляда не спускали, 148И у обоих дик был страшный взгляд. Вот первый пал, другой же приподнялся, И у него – я молча изумлялся — 151Явились уши, губы, вырос нос, А у другого вытянулось рыло И скрылись уши. Видеть мне пришлось: 154Язык у человека раздвоился, А жало змея медленно срослось В один язык – и дым вдруг прекратился. 157Дух в гадину позорно превратился И с свистом в мрак пропасти пропал, А змей переродившийся сказал: 160«Пусть здесь Буозо будет пресмыкаться, Как пресмыкался некогда я сам». И начал змей презрительно плеваться. 163Едва лишь веря собственным глазам, В Аду я видел это превращенье, И хоть я был смущен, взволнован там, 166Хотя мой ум от страха был растерян, Но Пуччьо Шианкато я узнал, Да, то был он и, в этом я уверен: 169Из трех теней лишь он не испытал Мучение того перерожденья, А в третьей, мрачной тени угадал 172Я Гверчьо Кавальканте привиденье[143].Песня двадцать шестая
Восьмой вертеп восьмого круга. Души коварных советчиков. Улисс и Диомед, погубившие Трою. Рассказ Улисса о путешествии в неизвестную страну.
1Ликуй, ликуй, Флоренция! Везде Могущество твое неотразимо; Известна ты на суше и воде, 4И даже Ад готов неутомимо О флорентийских гражданах кричать… Когда передо мной скользнули мимо 7Пять извергов, и в них я мог узнать Твоих граждан, мне сделалось обидно, Не мог я крика гнева удержать, 10И за тебя мне стало больно, стыдно… Когда мои предчувствия не лгут, Еще ты испытаешь, как постыдно 13Тебе немало бедствий предрекут Озлобленные жители из Прато[144], И их проклятья к худу приведут. 16К прошедшей славе нет уже возврата, И если б над тобою, город зла, Пороков, злодеяний и разврата, 19Беда, как туча черная, всплыла В минуту эту – я б не удивился: Да, на себя, Флоренция, звала 22Давно все кары… Пусть бы разразился Гром над тобой, когда осуждена На бедствия несчастная страна; 25Скорей бы суд ужасный совершился… Еще страшнее в поздние года Казаться будет мне твоя беда. 28И далее пошли мы… Возвратился По тем же скатам ментор мой тогда, Которыми со мною он спустился. 31Меж безднами и трещинами скал Уединенный путь наш продолжался, И в бездну я наверно бы упал, 34Когда б порой за камни не держался Руками. Бесконечная тоска, В тот час, когда вперед я подвигался, 37Была неотразима, велика, И я скорблю в минуту эту снова, Когда воспоминания былого 40Припоминаю вновь, и обуздать Хочу свой ум, чтоб Неба благодать И добродетель – поприща земного 43Вожатого – не мог я потерять… Как селянин простой, – в ту пору года, Когда на небесах начнет сиять 46Июльский день, и южная природа Вкруг рассыпает щедрые дары, — Как селянин следит порой у входа 49В свой дом, как в небе вьются комары, Так я следил в вертепе за огнями, За переливом странной их игры, 52Когда пришли мы тихими шагами К окраине, откуда видно дно: Восьмая пропасть встала перед нами, 55Где было все таинственно-темно. Как тот пророк, которого в Вефиле Медведицы лесные защитили[145], 58Смотрел, как колесницу Илии На небо быстро кони уносили, И очи Елисея не могли 61Следить за бегом их неуловимым И только наблюдали лишь с земли, Как пламя их исчезло в небе дымом, 64Так двигались в вертепе те огни, И в каждом призрак грешника скрывался. Чтоб рассмотреть, как двигались они, 67Я с краю моста к бездне наклонялся, И если бы за камень не держался, То, верно, б там свои окончил дни 70И в пропасти бездонной потерялся. За мной путеводитель наблюдал И на вопрос немой ответ мне дал: 73«В светильниках, перед тобой зажженных, Сокрыты души многих осужденных, Чтобы огонь их вечно пожирал…» 76«Учитель, – отвечал я, – догадаться Мог я и сам, увидевши в огне Мелькающие тени, но дознаться 79Хотелось бы теперь, учитель, мне, Кто это стал к нам ближе приближаться Вон в пламени, и тот огонь на дне 82Двойным костром теперь вдали пылает, И страшный мне костер напоминает, Где Этеокл и брат его сгорел». 85И был ответ: «В том пламени страдает Сам Диомед и вместе с ним – Улисс[146]: Одна их казнь теперь соединяет, 88И здесь в Аду опять они сошлись, Как на земле сошлись для преступленья. Их деревянный конь сгубил, и вниз 91В кромешный Ад за ложь без сожаленья Повержены они. Они должны, Не ведая пощады искупленья, 94Гореть в жилище адском сатаны: За их обман страдает и в могиле Теперь Деидамия об Ахилле. 97И к довершенью страшной их вины Караются они за похищенье Палладиума». Молвил я в волненье: 100«Когда они способны говорить И в пламени, то дай мне разрешенье, Учитель мой, – могу ль о том просить? — 103Тех двух теней дождаться приближенья; Тебе известны, мудрый мой поэт, Все тайные души моей стремленья…» 106И мне Вергилий дал такой ответ: «Мой сын, твое желанье одобряю, — Поистине, дурного в этом нет, 109А потому его я исполняю, Но об одном прошу, чтоб ты привык Воздерживать, где нужно, свой язык. 112Все помыслы твои я понимаю, А потому мне предоставь ты речь С тенями; должен я предостеречь 115Тебя, что эти греки, может статься, С тобой и говорить не захотят…» Когда к нам пламя стало приближаться, 118В котором тени двигалися в ряд, Не в силах на пути разъединяться, И отступить вперед или назад, 121Тогда мой спутник молвил им: «О, тени! Когда хоть чем-нибудь мог угодить Я вам в своем высоком песнопенье, 124Не торопитесь быстро уходить, И пусть один из вас мне повествует О том, за что он осужден страдать 127И в этом вечном пламени тоскует». Тогда один светильник задрожал, — Так ветер иногда огонь волнует, — 130И в тихом колебанье зароптал. Тень перед нами тихо закачалась, Как будто бы – за ней я наблюдал — 133Заговорить с усилием сбиралась. И, наконец, я услыхал слова: «Когда вперед куда-то порывалась 136Моя душа, и кинул я едва, Не в силах совладать с собой, Цирцею, Жизнь впереди казалась мне нова, 139И увлечен я был невольно ею, Забыл отца, свою отчизну-мать, Расстался с Пенелопою своею. 142В себе тоски не мог я обуздать, Не мог забыть прекрасную затею: Хотелось мне весь свет скорей узнать — 145Его пороки, славные деянья, И подвиги людские на земле; И очутился вдруг без колебанья 148В открытом море я на корабле С немногими, мне верными, друзьями, Помчался по волнам в туманной мгле, 151Марокко любовался берегами, Сардинией, прекрасною страной, И многими другими островами, 15 Стоявшими в пустыне водяной. Состарились мы все, когда приплыли До Геркулеса грани роковой: 157Его столбы в проливе узком были Поставлены – чтоб далее никак В своих ладьях пловцы не заходили. 160Но я сказал, увидя этот знак: «Друзья! Для нас тяжка была дорога, До запада достигли мы сквозь мрак, 163И так как жить осталось нам немного, То счастье попытаем и рискнем Проникнуть в мир безлюдный, где тревога 166Людская неизвестна. О своем Припомните вы все происхожденье. Не для того на свете мы живем, 169Чтоб скотски прозябать со дня рожденья, Но для того, чтоб на земле найти Познания и высшие стремленья!» 172Так говорил друзьям я на пути, И речь моя всех их так оживила, Что трудно удержать потом их было, 175Когда вперед мы принялись грести. Корабль свой мы к востоку повернули И словно птица далее порхнули 178В своем безумном беге. В небесах Сверкали звезды полюса другого, Пять раз луна светила в облаках 181И исчезала с неба голубого С тех пор, как мы сквозь роковой проход Скользнули в бездну моря, нам чужого, 184И убегали далее… Но вот Вдали гора пред нами показалась, Черневшая из белой пены вод, 187И та гора громадной нам казалась. Обрадовались все мы ей тогда, Но эта радость тотчас же умчалась 190От нас, сменившись ужасом, когда От той горы поднялся вихрь ужасный И на корабль наш хлынула вода. 193Три раза поднимался он, несчастный, Напором волн, и вот в четвертый раз, Не выдержав с грозой борьбы напрасной, 196Пошел на дно: закрыло море нас.Песня двадцать седьмая
Появление в светильнике призрака Гвидо де Монтефельтро. Рассказ Вергилия о состоянии Романьи. По удалении призрака путники переходят из восьмого в девятый вертеп.
1Вновь светоч колебаться перестал, И неподвижный, тихо умолкая, От нас он удаляться снова стал. 4Учителя желанье исполняя, Тогда другой дрожащий огонек, Что следом шел за ним, не уставая, 7К себе мое внимание привлек. Внутри его – я слышал – раздавался Какой-то странный ропот, на упрек 10Похожий, как тогда мне показался. Как медный бык[147] впервые застонал, И в его реве голос отозвался 13Того, кто вид и формы зверя дал Тому быку, – и полон был страданья Тот страшный рев, хотя он вылетал 16Из медного, литого изваянья, Так точно вылетало из огня Неуловимо-странное роптанье 19И пронеслось около меня. Когда ж оно на волю вдруг прорвалось Из пламени, тогда услышал я, 22Как постепенно в звуки облекалось Роптанье то, и раздались слова, В которых скорбь и горе выражалось[148]: 25«О, смертный, ты, лишь молвивший едва Здесь по-ломбардски: «Можешь удалиться». Прошу тебя на миг остановиться. 28Пришел я слишком поздно, может быть, Но я молю тебя не торопиться, Молю тебя со мной поговорить: 31Исполни же несчастного желанье… Когда сюда ты свергнут в наказанье, Покинув край латинский, где грешить 34Я научился прежде, то нельзя ли Поведать мне: война иль мир теперь В Романии? В довольстве иль в печали 37Живет народ? Мне дороги, поверь, Известья те. В горах, между Урбино И тем хребтом, где, – чудная картина! — 40Берет начало Тибр, я был рожден». Я слушал эти речи со вниманьем И в любопытство весь был обращен, 43Тогда учитель молвил с состраданьем: «С ним сам ты говори: латинец он…» И я, осмелен этим замечаньем, 46С ответом уж готовым на губах, Немедленно воскликнул: «Дух горящий! В Романии – в тиранах и рабах, 49Как в жизни прошлой, так и в настоящей, Всегда живет и будет жить раздор И вечных распрей страх непроходящий, 52Но, к счастию, пока до этих пор Войны там нет, о ней нет слухов даже; Равенна же несчастная все та же, 55Чем и была. Орел Поленты[149] там Гнездится, как и прежде, распустивший Над Червиею крылья… Городок, 58В кровавой битве галлов истребивший И при осаде давший им урок, Теперь не тот, чем прежде быть он мог: 61О подвигах великих позабывший, Зеленых лап[150] теперь узнал он гнет. Веррукио[151], названье пса носивший, 64С своим щенком по-прежнему грызет Свою добычу… Помнишь ты, наверно: Им был убит Монтаньо[152] в свой черед. 67При двух реках, Ламоне и Сантерно, В двух городах по-прежнему царит, Меняя убежденья лицемерно, 70«Лев в поле белом»[153]. Также всех дивит Тот городок[154], что Савио волнами У берега цветущего обмыт: 73Как прежде, меж свободой и цепями, Живет доныне он, расположён Между своей долиной и горами; 76По-прежнему теперь несчастлив он… Ты видишь, я не медлил на ответы, Вопросами твоими не смущен. 79Теперь: кто ты? ответь без страха мне ты, И долго в мире Божьем пусть живет Твое, о призрак, имя». В свой черед 82Я призрака ответа дожидался, И призрак колебаться тихо стал, И наконец ответ я услыхал: 85«Когда б я хоть минуту сомневался В том, что попавший в этот темный Ад Уж никогда не вырвется назад, 88То моего не знал бы ты ответа, Но так как хорошо известно мне, Что все, кого вмещает бездна эта, 91Навечно отдаются сатане, То я готов прервать свое молчанье, Забыв про стыд в подземной глубине. 94Так выслушай правдивое сказанье: Я воином когда-то в мире был, Потом, чтоб все греховные деянья 97Простились мне, в монахи я вступил, Надеялся, что пост и воздержанье Спасут меня – и я бы заслужил 100Прощение, принявши сан духовный, Когда бы мне – позор ему и грех! — Не помешал тогда отец верховный. 103Меня поверг он в бездну прежних всех Моих грехов… О днях печальных тех Ты выслушай рассказ мой хладнокровный. 106Когда я молод был и на земле Жил в образе из крови и из тела, Я львенком не являлся в мире смело, 109Но был лисой и действовал во мгле, Обманы все узнал, все ухищренья, И выгоды ловил я в каждом зле. 112Лукавые такие похожденья Печальную известность дали мне И скоро разнеслись по всей стране… 115Меж тем дни шли, и юность уходила. И для меня то время наступило, Когда седеют наши волоса 118И опускать нам нужно паруса; И вот когда все то мне опостыло, К чему я жадно некогда рвался, 121Я обратился к Богу, ожидая Спасенья в покаянии… О, мог Покаяться, спасти себя тогда я, 124Но в бездну грешных дел опять увлек, Все помыслы хорошие рассеяв, Меня владыка новых фарисеев[155] 127И бросил снова в гибельный поток. В то время вел войну он – не с жидами, Не с сарацинами: его врагами 130Являлись христиане. Никогда, Никто из них под Акрой не являлся За лаврами победы в те года 133И с областью Судана не старался Входить в дела торговые тогда. На них похожим папа не казался. 136Он свой верховный сан забыл вполне С величием святого постриженья, Забыл, что были вервия на мне, 139В которых находили искупленья Монахи, их носившие во сне И наяву в своем уединенье. 142И как молил Сильвестра Константин[156] Ему дать от проказы исцеленье, Так и меня духовный властелин 145Просил спасти его от исступленья Неодолимой гордости. В ответ Ни слова не сказал я, опьяненье 148Какое-то в той просьбе видя. «Нет, — Он продолжал, – забудь свое смущенье; Я отпущу твой грех, но дай совет, 151Как взять мне Пенестрино без сраженья. Ты знаешь – Рай я отпирать могу И два ключа от Неба берегу, 154Хоть Целестин[157] от них и отказался…» При тех речах не мог я устоять И быстро искушению поддался. 157Я отвечал: «Когда мне отпускать, Святой отец, грехи ты в состоянье, То помнишь же: чтобы преград не знать 160И выполнять заветные желанья, Как можно больше людям обещай, Но обещаний тех не исполняй, 163Тогда-то все твои предначертанья Исполнятся, и твой святой престол Получит новый блеск и обаянье». 166Когда моей кончины час пришел, Когда святой Франциск за мной явился, То близ меня он демона нашел, 169Который так к святому обратился: «Оставь его! Он мне принадлежит! За что меня ты оскорблять решился? 172Он мой теперь и в Тартар полетит За свой совет лукавый прежде смерти; С тех пор его Ад целый сторожит 175И в волоса его давно вцепились черти. В одно и то же время он хотел И каяться и предавать умел…» 178«О, горе!» – крикнул я, когда тот демон Схватил меня, и продолжал меж тем он: «Подумал, вероятно, ты, что мне 181И логика людская не под силу? Не думай дурно так о сатане». Тогда сюда в подземную могилу 184Он к Миносу принес меня, а тот Своим хвостом раз восемь окрутился Вокруг спины, раскрыл кровавый рот, 187Сам укусил себя и разразился Проклятием: «Попал ты в тот проход, Где грешников огонь навек пожрет…» 190С тех самых пор в огне я поселился И в пламенной одежде стал страдать…» Рассказ души погибшей прекратился… 193Тень двинулась и начала стонать, Колеблясь и крутясь в своем движенье. И далее мы стали путь держать 196Туда, где в новом, мрачном помещенье Томились души с очень давних пор За то, что не боялись преступленья, 199За то, что в мире сеяли раздор.Песня двадцать восьмая
Девятый вертеп восьмого круга. Призраки сеятелей раздоров и расколов. Магомет, Али, Бертрам де Борн.
1Бессилен человеческий язык, Бессилен стих певца для описанья Всего того, что, подавляя крик, 4Я увидал – и кровь, и истязанье Теней, покрытых язвами. Нет слов Приличных для того повествованья. 7Наш ум так ограничен, что готов От подвига такого отказаться… Когда б собрать всех проливавших кровь 10В долине Апулийской, что сражаться Сошлись и гибли от мечей римлян (Тит Ливий пишет так, и сомневаться 13Нам нет причин), и их богатый стан Достался победителям; когда бы Собрать людей, измученных от ран 16И бившихся – их силы были слабы — С Гвискаром[158]; если б вновь теперь собрать Погибшую при Чеперано рать, 19Где каждый апулиец оказался Изменником[159], и, наконец, всех тех, Чей стан при Тальякоццо разметался 22И лег костьми и где имел успех Старик Алар[160], который там являлся Карателем, перехитрившим всех 25И без оружья в битве победившим; Когда б все эти воины могли Теперь восстать пред нами из земли, — 28На раны их на трупе полусгнившем Не с тем бы отвращеньем я смотрел, С каким глядел на груду страшных тел 31Девятого вертепа. С меньшей силой Из бочки льется на землю вино, Когда пробито в бочке этой дно, 34Чем кровь лилась из призрака… Унылый Имел он вид; он даже за могилой На миг себе покоя не найдет. 37От подбородка самого живот Рассечен у него был, и струями Сбегала кровь. Между его ногами 40Моталися кровавые кишки И легкое, и тот мешок, в котором Там, на земле, до гробовой доски, 43Питанье переваривалось. Взора, Исполненного горя и тоски, При виде столь ужасного позора, 46От грешника я отвести не мог, Тогда и на меня взглянул он тоже, И вдруг, открыв от головы до ног 49Зияющие язвы, клочья кожи, Он мне сказал: «Смотри, смотри сюда, Как сам себя терзаю я всегда, 52Смотри, как Магомет стал изувечен. А далее увидишь предо мной Ты Алия, и у него рассечен 55Весь череп. Этой казни роковой Здесь преданы все грешники: на свете Соблазнов и расколов разных сети 58Они толпе любили расставлять, И за грехи ужаснейшие эти Они должны от тяжких язв страдать, 61Свой путь по кругу этому свершая; Когда ж их раны станут заживать, То их, бичуя вновь и поражая, 64Меч демонов на части рассечет, И язвы вновь откроются, зияя. Но кто ты сам? Ты не спешишь вперед 67Идти в Аду, как будто бы желая Мучение той казни отдалить, Которую успел ты заслужить». 70«Еще он жив, еще земной он житель, И не для мук сошел он в темный Ад, — Так призраку сказал тогда учитель, — 73Но для того, чтоб в светлый мир назад Он с опытностью большей воротился, Я, сам, мертвец, водить его решился 76Из круга в круг, и все, что говорят Мои уста, все истинно». Смутился Рой призраков, и больше сотни в ряд 79Их легион во рву остановился, Чтоб рассмотреть, кто я, каков мой вид; И в ту минуту ими был забыт 82Весь ужас их съедающих мучений… «О, ты, сошедший в царство привидений! Ты, может быть, свет солнечного дня 85Увидишь скоро вновь, – так от меня Скажи ты непременно Фра Дольчине[161], Что если он еще не хочет ныне 88Со мною здесь соседство разделять, То чтобы он скорее запасался Припасами съестными и боялся 91В горах Наварры гибель испытать…» Речь Магомета стихла понемногу. Желая путь дальнейший продолжать, 94С усилием большим он поднял ногу И далее отправился. Иной Явился страшный призрак предо мной: 97Нос у него был вырван совершенно, Одно осталось ухо за виском, И горло перерезано. В таком 100Ужасном виде вырос он мгновенно Передо мной, раскрыв кровавый рот, И мне сказал: «О, ты, кого не ждет 103Пока к себе ужасная геенна, Ты за грехи еще не пострадал, — Тебя в земле Латинской я встречал, 106Когда меня не обмануло сходство. Ты надо мной имеешь превосходство В своей судьбе, и если б ты попал 109В то место, где спускается долина От Верчелло до Маркабо́, тогда Припомни только Пьера Медичина[162]; 112Не откажись – молю я – от труда (Для той мольбы есть важная причина), Не откажись, когда придешь туда, 115Уведомить правдивых граждан Фано[163], Гюидо дель Кассеро и потом Еще Анжионелло ди Каньяно, 118Уведомить обоих их о том, Что ждет их смерть от хищных рук тирана, Что, с собственным расставшись кораблем, 121Насильственно они погибнут в море На шее с камнем. Вот какое горе Им впереди придется испытать. 124И я скорблю об участи их горькой. Меж островами Кипром и Майоркой Такого преступления встречать 127Нептуну, вероятно, не случалось Среди морских пиратов. Этот тать, Тать одноглазый, ставший управлять 130Тем городом, – в котором бы боялась Тень ближнего собрата побывать, — К себе на совещанье приглашать 133Сперва обоих граждан этих станет, А после их предательски обманет, Так что не нужно будет с той поры 136Им ожидать с вершины Фокары[164], Когда морская буря прекратится, И воссылать молитвы с той горы». 139Я отвечал ему: «Все совершится, О чем ты просишь; все твои слова Я передам, поверь мне в том, едва 142На землю я вступлю, но согласиться Ты должен мне на тень ту показать, Которая не может созерцать 145Без горечи стен города». Тогда-то Он руку наложил свою слегка На челюсть близ стоящего собрата. 148И рот его раскрыл, но языка Тот не имел… «Вот он, перед тобою, — Ответил грешник мне, – увы! судьбою 151Лишился он на многие века Способности людей всех – дара слова». То был изгнанник. Цезаря сурово 154Когда-то он умел в том убедить, Что человек, на смелый шаг готовый, Не должен медлить, чтобы победить. 157Его язык был вырван, и дрожащий Стоял передо мною Курион[165], В иные дни советы подававший 160Столь смелые… Объят был страхом он. Затем я увидал другие муки Несчастного. Едва скрывая стон, 163Свои почти обрубленные руки Или верней – обрубки их одни Он поднял над собою… «Помяни 166И Моска ты!»[166] – он крикнул мне с тоскою, А между тем из двух обрубков рук Кровь на лицо его лилась рекою. 169Я отвечал, когда он смолкнул вдруг: «Увы! Всегда у начатого дела Конец бывает… Многих мук 172Причиной для тосканцев были смело Тобой произнесенные слова. От них душа всех граждан наболела 175И род твой сгиб», – прибавил я. Едва Я замолчал, несчастный осужденный, Безумием и горем пораженный, 178Пропал из глаз, и на других теней Я стал смотреть и пред собою снова Увидел то, что в памяти моей 181Живет доныне. Образа такого Нельзя воображению создать, И слабо человеческое слово, 184Чтоб ужас и мой трепет передать. Передо мной встал призрак безголовый, Идущий, как другие, в мгле суровой, 187И, как фонарь, он нес в своей руке Отрезанную голову. В тоске Та голова кровавая стонала; 190Она светильник трупу заменяла, — То было – два в одном и в двух – один. Какая сила их соединяла, 193Лишь постигает высший властелин. И голову рукою подымая Как можно выше, будто бы желая, 196Чтоб каждый звук услышан мною был, Тень молвила: «Ты, человек живущий, Сошедший в мир подземных, адских сил, 199Ты, по вертепу этому идущий, Случалось ли тебе когда-нибудь На муки столь же страшные взглянуть? 202Бертрам де Борн[167] мне имя. Я тот самый Коварный, бессердечный и упрямый, Бесчувственный советник короля, — 205Я клеветник. Лукавя и хуля, С отцом поссорить сына я решился, Вторым я Ахитофелем явился, 208Который Авессалома научил, Чтоб на Давида он вооружился. И вот за то, что в мире разлучил 211Я двух людей, столь близких меж собою, Я с головой своею разлучен Навечно беспощадною судьбою…» 214И далее блуждать пустился он.Песня двадцать девятая
Десятый вертеп, где находятся алхимики и делатели фальшивой монеты. Два алхимика и их судьба.
1Мучения бесчисленных теней, Терзаемых во мраке вечной ночи, И вид их язв, и горечь их скорбей 4Печалью отуманили мне очи, Так что едва я слезы удержал; Но мне путеводитель мой сказал: 7«Что смотришь ты, не отрывая взора От призраков? В других вертепах ты Картиной их мучений и позора 10Не столько поражен был… С высоты, Где мы стоим, ты, может быть, желаешь Их сосчитать под кровом темноты; 13Коль это так, то, верно, ты не знаешь, Что двадцать миль долина заняла, И ты на ней теней не сосчитаешь; 16А между тем луна уже зашла, — Она теперь под нашими ногами, — А между тем далеко не пришла 19К концу дорога наша, и путями Дальнейшими нам суждено идти: Еще не все изведано здесь нами». 22«Когда б ты знал, зачем я на пути, Учитель мой, теперь остановился И отчего не мог глаз отвести, 25То, может быть, и сам бы ты решился Меня из этих мест не торопить И не корил, что я остановился». 28Так я сказал, когда стал уходить Учитель мой, и я за ним шел следом, Дорогой продолжая говорить: 31«Тебе мой каждый помысел стал ведом. В той бездне, от которой я не мог Глаз оторвать, измучен от тревог, 34Я увидал – не мог я ошибиться — Тень одного из родичей своих. За тяжкие грехи он там казнится, 37Хоть поздно, но оплакивает их». «Не обращай ты на него вниманья, Но обрати вниманье на других, 40В Ад сверженных на вечное страданье. Оставь его. Я видел сам, как он Из-за моста грозил тебе, взбешен, 43И пальцем на тебя указывал. Случайно Услышал я, что здесь его зовут Джери дель Бельо[168]. Занят чрезвычайно 46Ты был другим, когда грозил он тут, И лишь когда с правителем Готфора Расстался ты, тобой замечен скоро 49Был этот дух». Я вновь заговорил: «За смерть его никто еще доныне, Учитель мой, из нас не отомстил. 52Вот почему, быть может, в той долине В негодованье он мне погрозил И тем еще сильнее возбудил 55В моей душе и грусть и сожаленье». Так говорили мы и шли вперед К другой ужасной пропасти, и вот 58Взошли мы на такое возвышенье, Откуда бездна стала нам видна До самого таинственного дна… 61Когда ж пришли к последней мы ограде И грешников увидели опять, Тогда вкруг нас и спереди и сзади 64Несчастные так начали стонать, Сливаясь в вопль, в моленье о пощаде, Что должен был невольно я зажать 67Руками уши… Если б из тумана Собрать все испарения болот Сардинии, Мареммы, Вальдикьяны[169], 70Соединив их вместе в свой черед, Тогда бы их зловредное дыханье Напомнило вертеп мне гнусный тот, 73Откуда запах мерзкий исторгался. Зловонием весь воздух заражался, Как будто труп за трупом там сгнивал. 76Сошли мы на ступень одной из скал, Откуда вид ужасный открывался И глаз свободно в бездну проникал. 79В той бездне те преступники скрывались, Которые безжалостно карались Неумолимым роком за подлог. 82Представить худшей казни я не мог. Не думаю, чтоб более терзались Эгины обитатели[170], в тот срок, 85Когда они повсюду отравлялись, Вдыхая постепенно смертный яд Зловредных испарений, и склонялись, 88Чтоб умереть, и гибли с ними в ряд Животные… На острове на этом, Когда про то поверим мы поэтам, 91Все вымерло, почило смертным сном, Лишь живы муравьи одни остались. Но вновь в людей живых перерождались 94Те муравьи Юпитером потом… Такой же точно мертвенной пустыней Мы шли тогда и видели кругом 97Лишь груды тел. Здесь призрак бледно-синий Лежал на животе; ползком другой Куда-то пробирался, иль нагой 100Соседу тихо на спину ложился. Мы дальше шли; путь труден становился. Мы стали воплям страждущих внимать, 103Которые измученного тела С земли не в силах были приподнять, Как будто бы над ними тяготела 106Невидимая тяжесть. В этот раз Двух грешников заметил я. Склонясь Друг к другу, эти призраки сидели, 109И тело их от головы до ног Покрыто было струпьями. На теле Ужасный зуд унять они хотели, 112В кровь струпья раздирая. Я не мог Без ужаса смотреть на их занятье. Нет, конюх, изрыгающий проклятья, 115Чтоб отойти скорее на покой, Не скреб коня с досадою такой, Как оба эти адские собратья 118Ногтями струпья начали срывать, Не в силах боли бешеной скрывать. Как рыбу с очень крупной чешуею 121Приходится ножами отчищать, Так тени осужденных предо мною Себя скоблили с плачем и тоскою. 124И к одному из грешников в тот миг Вергилий обратился вдруг с речами: «Скажи мне, дух, который здесь привык 127Терзать себя ногтями, как клещами, Скажи, когда имеешь ты язык: Латинцев нет ли, грешник, между вами, 130И пусть тебе на твой тяжелый труд Твоих ногтей на целый век достанет, Чтоб унимать чесотки вечный зуд…» 133«Тебя несчастный грешник не обманет, — Сказала тень. – Латинцы оба мы, И призрак наш здесь плакать вечно станет. 136Но кто ты сам, сошедший в Царство тьмы?» И с ним заговорил учитель снова: «Для человека этого живого 139Я перешел чрез целый ряд преград, Из мрачной бездны в бездну опускался, Чтоб показать ему подземный Ад…» 142Едва ответ учителя раздался, Как тень одна отторглась от другой, И каждый грешник видимо старался, 145Приблизившись, заговорить со мной. Учитель подошел ко мне поближе И мне шепнул, знак сделавши рукой: 148«Ты хочешь говорить, так говори же Что хочешь с ними…» Выслушав совет, Я начал речь свою: «Пусть много лет 151О вас на свете память сохранится И вас не позабудет долго свет! Откуда вы – вы мне должны открыться 154И не стыдясь начните свой рассказ: Позорное в вертепе наказанье Вас не смущает пусть на этот раз…» 157И начала свое повествованье Тень первая: «В Ареццо я рожден. Альберо дал однажды приказанье, 160Чтоб на костре я разом был сожжен[171], — И я сгорел. В Аду же очутился Я не за то, за что был умерщвлен. 163Однажды я с Альберо расшутился, Уверивши его, что я летать По воздуху, как птица, научился. 166Но, шутки не умея понимать, Так было смысла здравого в нем мало, Меня глупец решился заставлять, 169Чтоб из него крылатого Дедала Я сотворил, но так как я не мог Ему помочь, тогда меня он сжег. 172Я муки этой огненной не вынес, Сюда ж меня неумолимый Минос Низверг потом, но за другой порок… 175Нет, я попал в кромешный Ад бездонный, Проклятою коростой пораженный, За то, что я алхимик прежде был». 178Тогда с поэтом я заговорил: «Едва ли есть народ другой на свете, Столь суетный, как все сиенцы эти. 181Французы даже суетны не так…» Другая тень тут выразила мненье, Чего не мог я ожидать никак: 184«Для Стрикко[172] только сделай исключенье, Который мотовства был страшный враг. Потом отдать ты должен предпочтенье 187Никколо[173]. Он за то здесь, что открыл И ввел гвоздику сам в употребленье, Гвоздику, это чудное растенье. 190Которое он смело разводил В родном саду[174], где дорогое семя Во всякое плодиться может время. 193Потом, ты исключить еще забыл Веселую ватагу, где когда-то Даньяно[175] расточительный кутил 196И где неистощимый Аббальято[176] Умел острот так много расточать… Когда ж теперь желаешь ты узнать 199Того, кто о сиенцах судит здраво, Как сам ты судишь, то имеешь право Во мне тень Капоккио[177] ты признать. 202Чтобы скорей набить свои карманы, Подделывал я золото и слыл Алхимиком. Я в мире – вспомни – был 205Подобием преловкой обезьяны.Песня тридцатая
Перед поэтами проносится призрак Мирры. Тень Джианни Скикки бросается на алхимика Капоккио и низвергается с ним на дно вертепа. Другие призраки и упрек Вергилия.
1Когда на племя фивское была Разгневана Юнона за Семелу[178] И в месть свой гнев ужасный облекла, 4Тогда Юноной страшному уделу Афамас обречен был. До того Юнона обезумела его, 7Что он, жену увидя, у которой В тот час два сына были на руках, К ней подбежал, в одной его опорой 10Безумство было, – крикнув: «О, в сетях Сейчас поймаю с львятами я львицу!..» Потом с зловещим бешенством в глазах 13Он кверху поднял грозную десницу, Леарха сына за ноги схватил, Швырнул его он кверху, словно птицу, 16И об утес несчастного разбил, А мать с другим ребенком утопилась… Когда величье Трои закатилось 19И царь и царство в сумраке могил Нашли покой, тогда в плену скиталась Несчастная, лишенная всех сил, 22Гекуба и слезами заливалась О смерти Поликсены[179], и потом, Когда в слезах на берегу морском 25Она труп Полидора отыскала, То ярость в ней такая началась, Что, словно пес, Гекуба лаять стала; 28От горести рассудок в ней угас. Но никогда фивяне иль трояне, В которых кровь от бешенства зажглась, 31В дни мирные, или в военном стане, Жестоки столько не были, людей Так не терзали люто, как зверей, 34Подобно двум свирепым привиденьям, Которые – забыть их не могу — Крутились перед нами с озлобленьем, 37Кусались, словно вепри на бегу. Вот тень одна мгновенно наскочила На Капоккио, за́ шею схватила 40Противника, согнув его в дугу, И, бороня им землю, потащила Его с собой. Тогда проговорила — 43Тень аретинца мне: «Смотри ты: вот Джианни Скикки[180] бешеный промчался; Он в ярости других теней грызет». 46«Пусть дух другой, – тогда я отозвался, — Тебя, как эта тень, не загрызет; Но чей же призрак это?» И дает 49Мне тень ответ: «То Мирры похотливой Преступная и грязная душа. Она к отцу любовью нечестивой 52Пылала, в тайных помыслах греша. Но чтоб отец с ней разделить мог ложе, Она меняла вид свой, уничтожа 55Все прежние черты свои, как тот Свирепый дух, который уже скрылся. Плененный кобылицей, без хлопот 58Он получить за то ее решился, Что принял вид Донати, сочинил Духовную и мертвым притворился. 61За тот подлог коня он получил». Когда две тени бешеные скрылись, Свои глаза туда я устремил, 64Где новые преступники роились. И я одним из них был поражен, Так что невольно очи опустились. 67Похож бы был на лютню очень он, Когда б из бедер ноги не торчали. Он страшной водяной был отягчен, 70И эти ноги чуть его держали; Раздутостью пугал его живот. Стонала тень от жажды и печали, 73И, словно пасть, она открыла рот: «О, вы, вы, избежавшие страданья, Которое в вертепе адском жжет, 76Прошу вас, обратите же вниманье Вы на меня, – так говорил дух нам, — Я знаменитый мастер был, Адам[181]. 79Огромное имел я состоянье. Не знал забот, не понимал нужды, А здесь в Аду одно мое желанье: 82Желаю каплю только я воды. В моем уме всегда одна картина: Холмов, цветущих в зелени, гряды, 85И с тех холмов зеленых Казентино Бегут ручьи и падают в Арно… О них воспоминание одно 88На краткий миг во мне не замолкает. Оно ужасней всяких адских мук, Ужаснее, чем тяжкий тот недуг, 91Который вечно здесь меня терзает. Одно воспоминание о тех Местах, где совершил я тяжкий грех, 94Является моей ужасной казнью, И вечной мукой, вечною боязнью Терзаюсь я за то, что выпускал 97Поддельные флорины, и за это Сожжен был я… О, если б отыскал В Аду я два проклятые скелета 100Двух братьев… О, Гюидо! Не желал Я зрелища другого, и его бы На волны Бранды[182] я не променял. 103Те призраки, исполненные злобы, Которые вокруг меня снуют, Сказали мне, когда они не лгут, 106Что в Ад сюда один Гюидо сброшен… Но для чего теперь о том мне знать? Вот в чем вопрос! Разит меня как нож он. 109О, что могу в Аду я предпринять, Чтоб насладиться делом отомщенья, Когда мои все скованы движенья… 112О, если б я хотя был легок так, Чтоб каждое столетье подвигаться Вперед мог на единый только шаг, 115То я бы не подумал колебаться И двинулся б вперед, чтоб отыскать Во тьме, где души падшие крутятся, 118Того, кого я должен проклинать, Хотя окружность адской всей долины И велика… Нельзя мне забывать, 121Что все мои мученья и кручины Чрез двух презренных братьев я узнал. Подделывать фальшивые флорины 124Они меня заставили, и стал Я жертвой их». Но тут спросил его я: «Не знаешь ли, скажи, кто эти двое, 127Которые правей тебя лежат, Один к другому плотно прижимаясь, И пар встает над ними, колыхаясь?» 130Он отвечал: «Когда сошел я в Ад, Они лежали здесь, не поднимаясь, Не шевелясь. Столетий многих ряд 133Им суждено остаться без движенья. Тень первая – Пентефрия жена, За клевету достойная презренья. 136Другая ж тень, с которою она Не разлучаться в бездне сей должна, — Синона[183] тень: то грек, стыда лишенный. 139Над ними пар стоит всегда зловонный…» Тогда одна из этих двух теней, Услыша приговор бесцеремонный, 142Ударила врага рукой своей По животу отвисшему, и брюхо, Как барабан, вдруг загудело глухо. 145Но и Адам ответил ей в тот миг Ударом по лицу своей рукою, И был удар не легок и такою 148Закончен речью: «Если не привык И не могу я с места подвигаться, Зато своей рукой, могу признаться, 151Владею я, и мой удар силен». И отвечал на то ему Синон: «Когда при жизни должен был взбираться 154Ты на костер, тогда твоя рука Была едва ли столько же ловка, Как некогда, когда, на диво свету, 157Чеканил ты фальшивую монету». «На этот раз ты правду говоришь; Зато солгал – и ложь все знают эту — 160Ты при осаде Трои. Замолчи ж!..» Синон же без ответа не остался: «Пусть так, пусть я обманывать старался, 163А деньгами обманывал ты всех. Я за один сюда попался грех, А ты зато в таких грехах попался, 166Которые не снятся сатане…» И тень с раздутым брюхом отвечала: «О деревянном вспомни ты коне, 169Предатель ненавистный! Разве мало Тебе того, что вся земля узнала, Как дал тогда преступный ты совет. 172Тебя теперь стал презирать весь свет! Казнись же тем!» – «А ты страдай от жажды, От жажды, от которой не однажды 175Язык твой будет трескаться и рот, От той воды поганой и зловонной, Что, как забор, твой вспучила живот». 178И отвечал монетчик разъяренный: «Преступный рот привык ты раскрывать Лишь для того, чтоб лгать и предавать. 181Пусть, тяжкою болезнью изнуренный, Я пухну, вечной жаждою томим, А ты – горячкой огненной палим, 184И череп твой всегда – воспламененный… Тебя не стали б долго умолять, Чтоб зеркало Нарцисса полизать 187Решился ты…» Я не щадил усилий, Чтоб уловить теней взбешенных спор, Вдруг: «Берегись! – проговорил Вергилий. — 190Заслужишь ты и гнев и мой укор, Когда их спором будешь увлекаться». Я покраснел и опустил свой взор 193С таким стыдом, что даже, может статься, Готов теперь воскреснуть он опять, Когда я стану вновь припоминать 196Все, что тогда со мной происходило. Я словно был охвачен смутным сном, И хоть вины во мне сознанье было, 199Но я молчал; певец сказал потом: «И бо́льшая вина твоя была бы Искуплена столь искренним стыдом: 202Утешься же! Все люди в мире слабы… Но если ты еще когда-нибудь Услышишь спор, достойный лишь презренья, 205Прочь уходи. Совет мой не забудь».Песня тридцать первая
Путники приближаются к краю глубокого рва, составляющего последний, девятый круг Ада. Немврод, Эфиальт и гигант Антей.
1Речь, от которой я в одно мгновенье, Стыд чувствуя, невольно покраснел, Мне принесла потом и исцеленье. 4Таким копьем, как говорят, владел Ахилл: оно смертельно поражало, И снова роковые язвы тел 7Одним прикосновеньем заживляло[184]. Мы перешли уже долину бед И подвигались далее; лежала 10Над нами мгла: то был ни мрак, ни свет; Над бездной тьмы там поднималась бездна, И не могло быть в сумраке полезно 13Мне зрение, но слух был поражен: Такой ужасный трубный звук раздался, Что заглушил бы гром небесный он, 16И сквозь туман я разглядеть старался То место, где гремел незримый рог. Ему внимая, втайне я сознался, 19Что сам Роланд сильней трубить не мог В печальную минуту пораженья Святого, но несчастного сраженья, 22Где Карл Великий битву проиграл[185]. Едва очнулся я от удивленья И в даль с усильем вглядываться стал, 25Как вдруг мне в ту ж минуту показалось, Что предо мной в тумане возвышалась За башней башня. Тихо я сказал: 28«Учитель! Это город, без сомненья, Я вижу там?» Мне отвечал поэт: «Обманчиво твое воображенье: 31Сквозь эту полутьму и полусвет Не может человеческое зренье Проникнуть, и тебе я дам совет: 34Иди вперед, чтоб ближе убедиться, Как расстоянье может обмануть Порой наш глаз. Так продолжай свой путь, 37Но чтоб не мог ты очень изумиться, — Взяв за руку меня, сказал певец, — То должен ты теперь же убедиться 40И истину проникнуть наконец, Что там не башни видишь сквозь туман ты, Нет, сын мой, это страшные гиганты, 43Которые в колодезе стоят, Погружены от пояса до пят…» Как постепенно в поле начинает 46Редеть туман и глаз наш привыкает Предметы постепенно различать, Так точно сам я начал прозревать; 49Но, сознаваясь в тайном заблужденье, Невольный страх я начал сознавать, Когда яснее стали выступать 52Гиганты предо мной на темном фоне, Как стены замка Монтереджионе[186] Покрыты рядом башен по углам, 55Так из колодцев стали видны нам Громадные, как башни, исполины, Открытые для глаз до половины, 58Которым и доныне с облаков Громами сам Юпитер угрожает. Сквозь тьму, как сквозь таинственный покров, 61Передо мной яснее начинает Обозначаться первый великан: Я различал лицо его и стан, 64Часть живота и руки. Поступила Природа очень мудро, что опять Не хочет уже больше создавать 67Таких чудовищ страшных и лишила, О, Марс, тебя земных твоих врагов, — И если вечно творческая сила 70Природы создает еще китов, Слонов творит, то, рассудивши здраво, Природы мудрость я признать готов: 73Лишь только тот жить не имеет права, В ком действуют повсюду заодно Ум, злость и сила. Людям суждено 76Таких страшилищ в мире опасаться: Никто не может им сопротивляться, От них найти защиту нелегко». 79К гиганту стал я ближе подвигаться. Его лицо так было велико, Что, кажется, могло бы показаться 82Не менее верхушки золотой Над куполом Петра Святого в Риме, Я задрожал перед фигурой той 85Представшего гиганта предо мной. И остальными членами своими Пугал он также. Если б за спиной 88Гиганта, погруженного по бедра, Троим фрисландцам разом бы пришлось Друг другу стать на плечи очень бодро, 91То все-таки коснуться б до волос Того гиганта им не удалось[187]: От плеч его до дна той ямы скверной, 94Где он стоял, и меры ж не найти; То расстоянье пропастью безмерной Являлось глазу. Молча на пути 97Остановился я пред великаном. Он пасть раскрыл и прокричал тогда нам Слова, но ни единый человек 100Их не поймет: «Rafel mai amech Irabi almi!»[188] Он своей гортанью Безумной и бессмысленною бранью 103Лишь разрешался только иногда. К гиганту мой учитель обратился: «Тень жалкая! Труби в свой рог, когда 106Свой тайный гнев ты выразить решился. Труби, чтоб этот гнев утихнуть мог. К твоей груди привязан этот рог… 109На собственную шею посмотри ты… Иль все соображения убиты В тебе давно, бессмысленная тень? 112На шее у тебя висит ремень, А на ремне и самый рог повешен!..» И мне сказал Вергилий: «Ночь и день 115Здесь страждет он, для всех бессильно бешен, И сам себя проклятью предает. Он совершил когда-то преступленье; 118О нем ты слышал. Это сам Немврод. От дикого его столпотворенья Не понимать народа стал народ 121И языков узнали мы смешенье. Не тратя слов, пойдем вперед пока: Не может никакого языка 124Он понимать теперь в своем томленье. Да и его никто уж не поймет». И совершив затем другой обход, 127К гиганту мы приблизились другому; Который мне по своему объему Казался и ужасней и страшней 130И поражал громадностью своей. Не ведал я, чья воля и чья сила Гиганта так мучительно скрутила: 133Одна рука привязана к груди, Другая точно так же назади Привязанная цепью; цепь сходила 136От шеи вниз и тяжело пять раз Вкруг тела великана обвилась. «Перед тобой стоит титан надменный, — 139Так мой путеводитель мне сказал. — С Юпитером, царящим над Вселенной, Помериться он силами желал, 142И вот за то наказан здесь, презренный. Ты Эфиальта[189] видишь пред собой. Его деянья много прославляли 145В те времена, когда своей борьбой Титаны всех богов перепугали. Его рука, готовая на бой 148В иные дни и грозная когда-то, Теперь в цепях, недвижностью объята». И я сказал поэту: «Если мне 151Возможно посмотреть на Бриарея[190], То укажи его мне поскорее». Поэт сказал: «Здесь близко, в стороне 154Увидишь ты громадного Антея[191], Свободен он и может говорить; Он нам с тобой поможет, может быть, 157На дно скорбей ужаснейших спуститься. А тот, о ком ты спрашивал сейчас, В другом вертепе должен находиться 160Закованный, и вид его в сто раз Страшнее Эфиальта…» В то мгновенье Титан зашевелился и потряс 163Руками вдруг. Едва ль землетрясенье Сильнее может башни потрясти, Как этого чудовища движенье 166Меня перепугало на пути. О смерти мысль тогда меня смутила Сильней, чем прежде; далее идти 169Не мог бы я, – вся кровь моя застыла, — Когда б не знал, что связан был титан. Идти вперед во мне явилась сила. 172Мы подошли к Антею. Великан Из мрачного колодца поднимался На полторы сажени, но скрывался 175В колодезе его громадный стан. И молвил мой учитель исполину: «О, ты, сходивший в славную долину, 178Где десять сотен львов завоевал, Где Сципиона слава увенчала И в бегство обратился Аннибал… 181О, ты, о ком молва не перестала Еще доныне громко толковать, Что мог бы ты победу даровать 184Сынам земли, сражаясь с ними рядом! Не откажись помочь нам и спусти В ту бездну нас, где скован вечным хладом 187И льдом, Коцит недвижен на пути… Нет, не смотри на нас суровым взглядом, Не говори, что мы должны идти 190К Тифею или к Тицию[192]… Смотри же Без гнева ты на смертного и ниже Теперь нагнись. Вот этот человек 193Еще живет и кончит, вероятно, Еще не скоро жизненный свой век. Прославит он тебя неоднократно, 196Воздаст тебе он похвалу и честь, Чтоб в светлом мире будущие внуки Могли твою историю прочесть». 199Учитель смолк, и, протянув к нам руки, Гигант Антей (всю силу этих рук Изведал Геркулес сам в тяжкой муке) 202И моего учителя взял вдруг. «Скорей приди теперь в мои объятья, Чтоб мог тебя с собою вместе взять я», — 205Сказал поэт. В минуту ту Антей Мне башней Гаризендой[193] показался, Когда несется облако над ней. 208На миг один я так перепугался, Что всякий спуск другой бы предпочел, Который бы нас свел в пучину зол; 211Но проводник наш тихо подвигался И, наконец, на дно той бездны снес, Где в пропасти холодных, вечных слез 214Сам Люцифер с Иудою томился… Над этой мрачной бездною склонился Антей недолго: голову вознес 217И корабельной мачтой распрямился.Песня тридцать вторая
Дно замерзшей бездны и Коцит. Четыре отделения казни. Два грешника, из которых один грызет голову другого. Вопрос поэта.
1Мне нужен стих суровый и железный, Чтоб леденящий ужас передать, Царящий над последней адской бездной. 4Но стих мой слаб, чтоб верно описать Вселенной дно, юдоль скорбей и срама, На языке, которым лепетать 7Привыкли только дети: «Папа, мама!» Но пусть теперь помогут музы мне, Как помогали некогда оне 10Благому предприятью Амфиона, Который стены Фив соорудил[194] Под лирный звук; пусть мир и слез и стона, 13Которых я в Аду свидетель был, В моих стихах сурово отразится. О, род людской, успевший погрузиться 16В подземный мир, который грозен так, Что страшно говорить о нем решиться, — О, род людской, сошедший в вечный мрак, 19Тебе бы лучше было в мир родиться Баранами иль стадом диких коз!.. Когда на дно колодца опуститься 22К ногам гиганта грозного пришлось, И я смотрел вокруг себя тревожно На стены, на гранитный их откос, 25Тогда услышал голос: «Осторожно Теперь иди, чтобы пятами ног Ты раздавить нечаянно не мог 28Голов теней, измученных борьбою». Я оглянулся быстро, и тогда Я озеро увидел пред собою, 31Застывшее под светлой массой льда, И озера поверхность ледяная, Как зеркало, сверкала. Никогда 34На севере течение Дуная Под толщью ледяной такой коры Не пряталось, и если б две горы, 37Таберник с Пьетрапаной, обломились И рухнули на этот адский лед, То ледяной покров недвижных вод 40Не дрогнул бы… Меж страшных льдин томились Измученные тени. Иногда Так, квакая, из сонного пруда 43Глядят лягушки осенью несмело. Сокрыты льдом до тех частей их тела, Где выступают признаки стыда, 46Сидели тени, щелкая зубами, С опущенным, безжизненным челом, С стучащими от холода зубами; 49Вся горечь мук в молчании немом В их потускневших взорах выражалась… Осматриваясь в трепете кругом, 52Я вниз взглянул, где к призраку прижалась Другая тень, склонившись близко так, Что волоса обоих, мне казалось, 55Перемешались вместе… Тотчас знак Я подал этим призракам рукою: «Скажите мне, кто вы? Зачем с такою 58Мучительно безмолвною тоскою Друг с другом стали тесно, грудь о грудь?» И призраки, чтоб на меня взглянуть, 61Приподняли чело свое и горько Заплакали, но на ресницах только Явились капли жгучих, крупных слез — 64Оледенил их тотчас же мороз, И очи их смежились, замерзая… Друг к другу так же тесно приставая, 67Как две доски, прибитые гвоздем, И ярости своей не унимая, Как иногда козел с другим козлом, 70Два призрака безумно стали драться. Тут третья тень с опущенным лицом И с ухом отмороженным, подняться 73Не в состоянье, стала говорить: «Зачем на нас так пристально глазеешь? Иль смелое желанье ты имеешь 76Узнать – кто эти тени, может быть? То знай, что та долина, где струится Бизенцио[195], там обе тени жить 79Привыкли самовластно; покориться Им и отцу их старому[196] должна Была та превосходная страна. 82Одна их мать рождала, и доныне Не отыскать в Аду во всей Каине[197] Подобных душ, низверженных под лед, 85Где призраки, от стужи мертво-сини, Склоняются на лоно смерзлых вод. Не равен по заслугам с ними тот, 88Кого Артур сразил одним ударом[198], Ни тот злодей, которого зовут Фокаччиа[199], ни этот, ставший тут, 91Передо мной в своем безумье яром, — Сассоло Маскерони[200]. Если ты Тосканец только, то его черты 94Тебе уже знакомы, без сомненья… И чтоб не тратить больше лишних слов — Дальнейшие не нужны рассужденья — 97Я подскажу тебе, кто я таков: Камичион де Пацци[201] я. Прощенья Мне в мире нет, но тьма моих грехов 100Должна бледнеть пред силой преступленья Предателя Карлино[202], и я жду, Когда его увижу здесь в Аду…» 103И сотни лиц передо мной мелькали, Стонали и от холода дрожали… Одно воспоминание о нем, 106Об этом Царстве вечно ледяном, Где стихла человеческая злоба, Меня доводит часто до озноба, 109Когда ко дну спускались глубже мы, Я трепетал за каждый шаг невольно От холода и безрассветной тьмы, 112И вдруг случайно или произвольно, Ступая меж голов, своей ногой Ударил я одну из них так больно, 115Что грешник, изнуренный и нагой, Заплакал и воскликнул так, рыдая: «За что меня ты топчешь? Никогда я 118Тебя не знал!.. Когда сюда сойти Решился ты, но только не для мщенья За страшный бой при Монте-Аперти[203], 121За что же меня мучишь?» В то ж мгновенье Учителю сказал я: «На пути Остановись, чтоб выйти из сомненья 124Я мог теперь и истину узнать — Кто эта тень, – потом без замедленья Я вновь тебя готов сопровождать». 127Путеводитель мой остановился, И к призраку, который изрыгать Проклятья не устал, я обратился: 130«Скажи, кто ты, свой собственный покой Нарушивший неистовою бранью?» Тень крикнула: «А кто ты сам такой, 133Столь равнодушный к нашему страданью, Что попираешь головы теней? Когда бы ты к числу живых людей 136Принадлежал, то слишком бы сурово Так поступать для существа живого». «Я жив еще, – я тени дал ответ, — 139Когда ты об известности хлопочешь, То я могу, когда того ты хочешь, Чтоб долго не забыл тебя весь свет, 142Включить тебя в число имен известных…» «Не нужно мне похвал твоих чудесных, — Завыла тень. – В кромешной этой тьме 145Напрасно льстить ты начинаешь мне!.. Не мучь меня и прочь беги отсюда…» «Кто ты? Ответь, иначе будет худо!» — 148Я закричал, и вмиг моя рука За волоса схватила тень: «Заставлю Я говорить тебя иль волоска 151Ни одного на коже не оставлю». И призрак мне со стоном отвечал: «Рви ж волоса. Хотя б ты ощипал 154Всю голову – я не скажу ни слова…» У грешника стал волоса я рвать И выдернул их не одну уж прядь, 157А он, склонивши голову, сурово Стал лаять по-собачьи. В этот час Другая тень сказала сзади нас: 160«Что сделалось с тобою нынче, Бокка? Иль мало для тебя, что ты жестоко Зубами научился скрежетать? 163Теперь же псам ты начал подражать!.. Кой черт тебя так лаять заставляет?..» «Теперь умолкнуть можешь ты в Аду, — 166Тут я сказал, – и к твоему стыду, За что тебя подземный Ад терзает, Я в мир теперь рассказывать пойду!» 169«Прочь! – крикнул он. – Я не боюсь позора, Но если ты отсюда выйдешь скоро, То не забудь порассказать о том, 172Кто был известен длинным языком. Скажи, что ты, спустившись в нашу сферу, Где дышат все прохладным ветерком, 175Ты видел в ней Буозо де Дуэру[204], Который слезы горькие здесь льет На золото французское… А вот 178(Тебе вопрос предложат, может статься, С кем ты еще в Аду мог повстречаться), Вот близ тебя Беккериа[205], аббат, 181Изменник, обезглавленный когда-то; Потом немного дальше брось свой взгляд — В измене два достойные собрата — 184Джианни Сольданьер[206] и Ганнелон[207], А вот и Трибальделло[208]. Предал он Фаэнцу темной ночью». Отступали 187Мы далее от грешника и вдруг В одной из ям со страхом увидали Двух призраков, обледеневших вкруг, 190Сидевших так, что первый головою Для головы другого мог служить Подобьем шапки. Тот, что под собою 193К земле успел собрата наклонить, В его затылок бешено вцепился Зубами, словно голод утолить 196Мозгами неприятеля решился. Тидей[209] так Меналиппа не глодал, Как этот призрак грыз и пожирал 199Ту голову и мозгом пресыщался. «О, ты, который зверством доказал Всю ненависть к тому, кого терзал, 202И чьим страданьем гнусно упивался, Скажи, чем мог тебя он оскорбить, Чтоб мести я твоей не удивлялся, 205И если точно мог он совершить Ужасное какое преступленье, Скажи – и в светлом мире, может быть, 208Я сам ему придумаю отмщенье».Песня тридцать третья
Рассказ графа Уголино[210], вместе с детьми уморенного голодом в темнице. Речь Данте о Пизе и дальнейший путь. Предатель монах Альберик.
1Тогда грызть мозг врага переставая, От страшной пищи грешник отнял рот; И, губы волосами утирая 4Той головы, сказал мне в свой черед: «Ты хочешь, чтобы прежнего страданья Опять я пережил ужасный гнет? 7Поверь, о нем одно воспоминанье Томит меня; но если мой рассказ Дать может стыд и новое терзанье 10Преступнику, которого сейчас Я пожирал, то свой рассказ начну я, Хотя бы слезы вырвались из глаз, 13И прошлое, тревожа и волнуя, Меня могло смутить и раздражить. Кто ты и как ты мог сюда вступить — 16Не знаю я, но говорит мне что-то, Что флорентинцем должен сам ты быть, И если так, – то мне пришла охота 19Тебе свое прошедшее раскрыть. Во мне ты видишь графа Уголино, А он, – скорбей земных моих причина, 22Неумолимой стоящий вражды, А он – архиепископ Руджиери. Рассказывать теперь мне нет нужды 25О бешенстве, живущем в этом звере, О том, как вкрался в душу мою он И как потом я им был умерщвлен. 28Но ты не знал, как умер Уголино И как была мучительно тяжка Моя, для всех безвестная, кончина. 31Узнай о ней и помни, чья рука Меня так покарала беспощадно, И почему так злобна и дика 34Моя вражда к проклятому. Я жадно Следил в тюрьме за скудным светом дня В пустынной башне. Нынче в честь меня 37Тюрьма та Башней Голода зовется. Я не однажды видел из окна, Как вновь являлась на небе луна, 40Но долго ль мне в тюрьме жить приведется, Не ведал я. Вдруг мне приснился сон, Мне разъяснил все будущее он. 43Во сне мне Руджиери представлялся: Как будто на охоте он гонялся За волком и волчатами. Пред ним, 46Спустив собак, при виде той приманки, Неслись с безумным гиканьем своим Сисмонди, Гуаланди и Ланфранки. 49Не в состоянье бегство продолжать, Волк и волчата стали уставать, И страшные картины мне приснились, 52Как зубы псов в усталых жертв вонзились И грызли их и рвали их бока. За тяжким сном глаза мои открылись. 55Ночная тьма казалась глубока, Еще заря не золотила неба, Но сердце охватила мне тоска, 58Когда, во сне заплакав, стали хлеба Со мною дети бывшие просить. Бесчувственным вполне ты должен быть, 61Когда теперь вполне не сострадаешь Тем мукам, что почувствовал отец, И если ты теперь не зарыдаешь, 64Когда же ты рыдаешь наконец? — Мы встали все; уж час тот приближался, Когда к нам сторож с пищею являлся, 67Но я ужасный сон припоминал, Я верил в этот сон и – сомневался. Так время шло, и вдруг я услыхал, 70Что вход в темницу нашу забивался. Я пристально взглянул в лицо детей, Но промолчал, не находя речей. 73Во мне как будто сердце камнем стало, И слезы не бежали из очей. Но детский плач меня язвил, как жало… 76Мне юный Ансельмуччио сказал: «Отец, отец, скажи мне, что с тобою? Зачем же ты смотреть так дико стал?» 79Я был измучен внутренней борьбою, Но не заплакал и не отвечал. Так день прошел, и новый день настал. 82Когда ж скользнул в темнице нашей снова Печальный и едва заметный свет, В лице детей нашел я тот же след — 85След выраженья дикого, тупого, Которое нашли они во мне. Тогда, склонясь в отчаянье к стене, 88Я начал грызть зубами обе руки. Бессильного отчаяния муки За голод дети приняли… «Отец, — 91Они заговорили, – наш конец Мы встретим безбоязненно и смело, Когда возьмешь ты в пищу наше тело. 94Ты дал нам плоть, возьми ж ее назад…» И я притих, чтоб вновь не мучить их, Не видеть их печальный, кроткий взгляд. 97Смириться я хотел себя заставить… Так, страшное молчание храня, Мы прожили в отчаянье три дня… 100О, для чего же ты не расступилась Тогда, земля!.. Четвертый день настал, Четвертый день семья моя томилась, 103Тогда Гаддо безумно застонал, К моим ногам склоняясь ниже, ниже: «О, помоги, отец, мне, помоги же!» 106Так умер он. И я недолго ждал: В моих глазах и остальные трое Навеки смолкли… Что я испытал 109По смерти их!.. Ногами землю роя, От трупа к трупу ползал я и звал К себе детей… Три дня я их искал, 112Лишенный сил, сознания и зренья… Но голод пересилил наконец Мою тоску и самое мученье…» 115Здесь был его истории конец. Тень искосила гневно и сурово Свои глаза и с яростию снова, 118Как лютый пес, грызть череп начала… О, Пиза, Пиза! Долго ты была Стыдом всего пленительного края! 121Твои соседи, местью не сгорая, Ленивое спокойствие любя, Наказывать не думают тебя! 124Пусть двинутся Капрайя и Горгона[211], Плотиной устье Арно перервут, Пускай река свое поднимет лоно 127И погребет в теченье буйном тут Твоих граждан!.. Вините Уголино В предательстве при сдаче крепостей, 130Но за отца зачем казнить детей? Ведь у него четыре было сына, Которых правота для палачей 133Была ясна!.. Вперед мы путь держали И наконец достигли мест таких, Где льдины новых призраков сжимали 136Мучительно, не так, как всех других, Они не прямо в прорубях стояли, Но книзу головою. Слезы их 139Другим слезам дорогу преграждали И, заливая лица тех теней, На этих лицах тотчас замерзали; 142Прозрачной маской впадины очей У них покрыты были постоянно. Хотя привык я к стуже, беспрестанно 145В вертепе лютый холод вынося, И словно оболочкой роговою На мне была покрыта кожа вся, 148Но все же сильный ветер за спиною Я чувствовал, проговорив: «Поэт! Подуло ветром, кажется, за мною, 151А думал я, что в воздухе здесь нет Движения!..» – «Придем мы к месту скоро, Где ты увидишь сам без разговора, 154Что значит этот ветер». В этот миг Одна из душ вертепа ледяного, К нам обратясь, вдруг испустила крик: 157«О, вы, которым место здесь готово, Вы, павшие в последний адский круг, С моих очей тяжелые покровы 160Сорвите вы, чтоб горести недуг Мог облегчить я горькими слезами, Пока опять не станут над глазами 163Те слезы постепенно замерзать». «Готов исполнить я твое желанье, Когда ты правду станешь отвечать — 166О том, кто ты, несчастное созданье. И если с глаз твоих я не сорву Покрова ледяного, пусть во рву 169С тобой здесь разделю я наказанье». Он отвечал: «Мне имя – Альберик[212], Мой вертоград запущен был и дик, 172Давал плоды дурные постоянно, И финики здесь вместо сочных фиг Я получаю». – «Это очень странно! 175Ты умер разве?» Он же отвечал: «Я сам об этом много размышлял, Но все ж одно могу сказать я смело, 178Что на земле мое осталось – тело. Таков уже последний адский круг, Куда душа сама слетает вдруг, 181Атропоса толчка не дожидаясь. Чтоб поскорей кору застывших слез Ты снял с меня, помочь тебе стараясь, 184Я этот разрешу тебе вопрос: Когда душа с предательством сживется, В чем согрешить мне самому пришлось, 187То тело в лапы беса попадется, И он над телом властвует, пока В нем хоть капля жизни остается, 190И беса власть над телом велика. Душа же человека улетает Сюда в ледник, где вечно изнывает. 193Взгляни на тень, которая дрожит Вблизи меня: она сюда слетела, А между тем души вот этой тело 196Там, на земле, живет еще… Но вид Его тебе известен, может статься: Тебе пришлось с землею расставаться 199Не так давно. Смотри: ведь это он — Бранк д’Орио, который заключен Давно в Аду…» «Не прибегай к обману, — 202Заметил я, – тебе ль я верить стану, Когда ты так бессовестно налгал: Бранк д’Орио еще не умирал, 205До этих пор он на земле, как прежде, И спит, и ест, и ходит он в одежде…» Но призрак вновь тогда заговорил: 208«Еще Микеле Цанке не сходил В вертеп с кипучей, липкою смолою, Как в тело Бранка бес уже входил… 211Я все сказал. Теперь своей рукою Сорви кору с моих застывших глаз». Но я солгал пред ним на этот раз: 214Нечестно поступить с ним было честно… О, генуэзцы, скоро ли всех вас Гнать будут в этом мире повсеместно 217За то, что добродетель вам чужда, И в вашей жизни только вам известна Пороков грязь, коварство и вражда. 220С романцем развращенным встретил рядом Я одного из вас теперь, и вот: Его душа поглощена уж Адом, 223А сам он на земле еще живет.Песня тридцать четвертая
Последний отдел девятого круга Ада. Иуда Искариотский, Брут и Кассий. Выход из Ада у подножия горы Чистилища.
1«Vexilla regis prodeunt Inferni[213], Смотри вперед, – сказал мой проводник, — Когда проникнуть можешь силой взгляда 4Сквозь эту тьму». Мрак страшен был и дик. Едва я различил в ночном тумане, Через который глаз едва проник, 7Подобье странной башни на поляне: Напоминала мельницу она С вертящимися крыльями. Заране 10Дорога показалась мне страшна, Когда, охвачен ветром, не решался Я далее идти и укрывался 13За спутником, едва не сбитый с ног: Другой защиты я найти не мог. Последний круг пред нами открывался, — 16Я с ужасом слагаю этот стих, Припоминая новые мученья Поверженных теней. Я видел их, 19В прозрачном льде застывших без движенья. Я видел ниц лежащими одних, Других совсем в отвесном положенье 22Вниз головою; ноги у иных Сводились к шее прямо вроде лука… Мы двигались, не проронивши звука, 25И наконец, мой спутник указал — Мне на того, кто некогда сиял, Как гордое, прекрасное созданье. 28«Смотри сюда, – учитель мне сказал, — Остановись и обрати вниманье: Вот Люцифер, познавший наказанье, 31Вот адский круг, где должен ты собрать Все мужество, чтоб мог пред сатаною Ты не дрожать…» Могу ли передать, 34Как замер я, что сделалось со мною, Как вдруг я стал фигурой ледяною? Я этого не в силах описать. 37Ни мертв, ни жив я в этот миг казался, Так пусть читатель сам теперь поймет, Каков я был, когда я оставался 40Без смерти и без жизни!.. Вечный лед Был погружен до половины груди Владыки мира скорби… Все мы, люди, 43Скорей бы с великанами земли И с ростом их помериться решились, Чем великаны ростом их могли 46С его рукой помериться. Явились Его размеры страшными для глаз. Действительно казался он для нас 49Началом скорби, он, теперь ужасный, Зловещий, отвратительный на взгляд И некогда божественно прекрасный; 52Повергнутый за то в проклятый Ад, Что с Саваофом в дерзкое боренье Хотел вступить… Отпрянул я назад, 55Заметя в нем трех лиц соединенье. Одно лицо являлось впереди И было ярко-красно в то мгновенье, 58А остальные два – по сторонам С средины плеч могучих поднимались У Люцифера страшного, и там 61В одну большую голову сливались. Лицо его – на правой стороне Казалось с желто-белым цветом мне, 64А левое – по цвету походило На цвет лица людей из той страны, Где в тростниках струятся воды Нила. 67У демона под каждым ликом было, Как бы у птиц большой величины, По два крыла, и верно, никогда 70Громадней парусов еще не знали Морские корабли или суда: Так крылья те размерами пугали. 73Они без перьев были, и тогда Мышей летучих мне напоминали Развернутые крылья. Сатана, 76По воздуху крылами ударяя (Среди морей гроза не так сильна), Производил три ветра, заставляя 79Коцит под этим ветром замерзать. Сам Люцифер не уставал рыдать, Шестью глазами слезы исторгая, 82И эти слезы, падая из глаз, С темно-кровавой пеною сливались, По подбородкам демона струясь 85Тройным ручьем… Три пасти раскрывались, И каждым ртом он грешника терзал И зубы разом в трех теней вонзал. 88Для грешника, который был в средине, Боль от зубов не так была страшна, Как от когтей. Когтями сатана, — 91Припоминаю с ужасом я ныне, — Всю кожу со спины его сдирал. «Вот этот грешник, – спутник мне сказал, — 94Что более двух остальных страдает, Иудою Искариотским он Зовется. Люцифер ему сгрызает 97Всю голову, а ноги – видишь, – вон Болтаются снаружи. Остальные, Вниз головой повиснувшие тут, 100Преступники такие же большие. Налево изнывающий есть – Брут[214]: Смотри, как он, давно бессильно лют, 103Ни слова не промолвивши, крутится, А тот, который крепко так сложен, Смотри сюда правее – Кассий он. 106Но нам пора отсюда удалиться Затем, что все здесь рассмотрели мы, А ночь близка… Нам медлить не годится 109Средь этой непроглядной, вечной тьмы». Поэту повинуясь, я решился Обвить его рукой и уцепился 112В одно мгновенье за плечи, а он, Когда раскрылись демонские крылья, Собрал свои последние усилья 115И, дерзостью безумной увлечен, За сатану руками ухватился И по бокам косматым опустился, Скользя меж им и ледяной стеной, 119До самых бедер беса и со мной (Все для меня казалось непонятно), Ногами вверх, а головою вниз 122Он быстро опрокинулся обратно И стал ползти, а я на нем повис… 124Мне чудилось, хоть то невероятно, Что снова возвращаемся мы в Ад. Что не вперед стремимся, а назад. 127Тогда сказал мой спутник, задыхаясь, Как человек, лишенный сил почти: «Держись теперь ты крепче, не срываясь. 130По одному лишь этому пути Из царства зол мы можем удалиться. Нам выхода другого не найти: 133Затем со мной спешил остановиться Он на одной из выдавшихся скал, Где на обрыве мог я укрепиться, 136А сам передо мной он твердо стал. Я поднял вверх глаза, воображая Увидеть Дите так, как он стоял, 139И, сам своим глазам не доверяя, Увидел только ноги сатаны, Но кверху обращенные… Сгорая 142Сомнением – что чувствовал тогда я — Понять простые смертные должны, Во мне все мысли сделались темны, — 145Я был смущен, никак не постигая, Как миновал я роковую грань. Тогда сказал путеводитель: «Встань, 148Пройти еще нам остается много, И будет тяжела еще дорога, А солнце совершило в небесах 151Уж треть пути». Тогда мы очутились В подземных, незнакомых мне местах. Куда лучи дневные не пробились, 154И глыбы первобытные земли Передо мной в пещере громоздились. Я с места встал. «Пока мы не ушли 157Из этих мест, мое недоуменье Прошу тебя, учитель, разреши: Где тот ледник в его оцепененье? — 160Так говорил поэту я в тиши. — Как Люцифер мне виден вверх ногами, Когда сейчас он только был над нами? 163Как вечером возможен утра свет?.. Вся голова моя как бы в тумане». И мне Вергилий дал тогда ответ: 166«Ты миновал уже черту той грани, Где Люцифером замкнут темный Ад; Когда я опрокинулся назад, 169Ты перешел ту точку роковую, Тот центр земли, куда со всех сторон Все тяжести стремятся. Небосклон 172Теперь иной над нами; мы иную Имеем гемисферу над собой; Она лежит под самой сферой той, 175Раскинутой над нашею землею, Под сферою, где прежде умерщвлен Был тот, что без греха на свет рожден 178И умер без грехов. Своей пятою Теперь ты попираешь малый круг, Джудекке антиподный. Над тобою — 181Теперь есть свет, там – мрак лежит вокруг, А Люцифер, нам лестницей служивший, Лежит все там же. В Царство вечных мук 184Упал он с Неба, ужасом смутивший Земную глубь, и, отступив назад, Земля покрылась морем, где, застывший 187От холода, всегда недвижен лед. Ад – пустота, холодная могила, И место то, которое нас ждет[215], 190От проклятого тоже отступило И сделалось особою горой». Внутри земли, под каменной корой 193Одно есть место: трудно б очень было Его найти, когда бы ручейка Журчание его нам не открыло, 196Иначе тьма была так глубока, Что далее идти бы невозможно… В том месте, где ручей бежал, была 199С расселиной наклонною скала, В расселину прошли мы осторожно: Земная жизнь к себе нас вновь звала, 202Скользили мы без отдыха над бездной, И наконец над нами в вышине Сверкнул небес прекрасный купол звездный 205И снова улыбнулись звезды мне.«Тристан и Изольда»
Роман о Тристане и Изольде
В средние века в литературе появился и стал чрезвычайно распространенным так называемый рыцарский роман. Самым известным произведением того времени стала повесть о Тристане и Изольде. Основной темой которого была страстная, трагическая любовь. Волею случая молодые люди выпивают любовный напиток, который наполняет их души безрассудной страстью. Герои понимают безнадёжность и преступность своего чувства, но всё время стремятся друг к другу. Не сумев в жизни обрести счастья, они в смерти навсегда остаются вместе.
Легенда о Тристане и Изольде корнями уходит в глубину веков. И хотя параллели сюжета просматриваются у многих народов, в поэзию средневековой Западной Европы эта история пришла в кельтском оформлении, с именами и характерными чертами сказаний, которые отличались богатой фантазией и пылкими чувствами.
В художественных произведениях последующих веков и в современной культуре можно встретить бесчисленные намеки и отсылки к данной легенде. Сюжет и отдельные сцены множество раз воспроизводились в литературе, живописи, музыке, театральных постановках, кинематографе, в работах мастеров декоративно-прикладного искусства.
Первые версии романа в литературной обработке (прежде всего в стихотворной форме) начали появляться с середины XII века. Возникло множество подражаний, сначала на французском, а потом и на различных европейских языках – немецком, испанском, итальянском, английском и других. Позже, в XIII веке, создаются прозаические дополненные варианты повествования. Но все они были рукописные и плохо сохранились. Восстановить и обработать оставшиеся части и отрывки, собрать их воедино – кропотливая и трудная задача, с которой блестяще справился видный французский ученый, филолог-медиевист, Жозеф Бедье (1864–1938). Воссозданный и реконструированный им «Роман о Тристане и Изольде» в стилизованном пересказе завоевал большую популярность и много раз издавался на русском языке. Именно он и предлагается сейчас читателю.
Глава I Детские годы Тристана
Не желаете ли, добрые люди, послушать прекрасную повесть о любви и смерти? Это повесть о Тристане и королеве Изольде. Послушайте, как любили они друг друга, к великой радости и к великой печали, как от того и скончались в один и тот же день – он из-за нее, она из-за него.
В былые времена царствовал в Корнуэльсе король Марк. Проведав, что его враги на него ополчились, Ривален, король Лоонуа, переправился через море ему на помощь. Служил он ему и мечом и советом, как то сделал бы вассал, и служил столь верно, что Марк наградил его рукою сестры своей, красавицы Бланшефлер, которую Ривален полюбил несказанной любовью.
Он сочетался с нею браком в церкви Тинтажеля. Но едва успел он жениться, как до него дошли вести, что его старинный враг, герцог Морган, обрушившись на Лоонуа, разоряет его земли, опустошает нивы и города. Наскоро снарядил Ривален корабли и повез Бланшефлер, беременную, в свою дальнюю страну. Пристав у своего замка Каноэль, он оставил королеву на попечение конюшему своему Роальду, которому за его верность дали славное прозвище: Роальд Твердое Слово. Затем, собрав баронов, он отправился на войну. Долго ждала его Бланшефлер. Увы, ему не суждено было возвратиться! Однажды она узнала, что герцог Морган вероломно убил его. Она не оплакивала его: ни стонов, ни сетований. Но ее члены сделались слабыми и безжизненными; душа ее страстно пожелала вырваться из тела. Роальд старался ее успокоить.
– Государыня! – говорил он. – Прикоплять горе к горю нет выгоды. Разве всем родившимся не предстоит умереть? Пусть же Господь примет умерших, и да сохранит он живых!..
Но она не хотела его слушать. Три дня ждала она свидания с милым супругом; на четвертый родила сына и, взяв его на руки, сказала:
– Сын мой, давно желала я увидеть тебя: вижу прекраснейшее создание, какое когда-либо породила женщина. В печали родила я, печален первый мой тебе привет, и ради тебя мне грустно умирать. И так как ты явился на свет от печали, Тристан и будет тебе имя[216].
Так сказав, она поцеловала его и как поцеловала, скончалась. Роальд Твердое Слово взял на воспитание сироту. Уже воины герцога Моргана окружили замок Каноэль. Как было Роальду долго выдержать войну? Правду говорят: «Отчаянность – не храбрость». Пришлось ему сдаться герцогу Моргану. Но из боязни, чтобы Морган не умертвил сына Ривалена, конюший выдал его за собственного ребенка и воспитал со своими сыновьями.
Спустя семь лет, когда наступило время взять мальчика из рук женщин, Роальд вверил его мудрому наставнику, славному оруженосцу Горвеналу. Скоро обучил его Горвенал искусствам, какие приличествовали баронам: как владеть копьем и, мечом, щитом и луком, бросать каменные диски, перескакивать одним прыжком широчайшие рвы; научил его ненавидеть всякую ложь, всякое вероломство, помогать слабым, держать данное слово; обучил всякого рода пению, игре на арфе и охотничьему делу. Когда мальчик ехал верхом среди юных оруженосцев, то казалось, что его конь, оружие и он сам составляли одно целое и нельзя было их разделить. Глядя на него, столь прекрасного, мужественного, широкоплечего, тонкого в талии, сильного, верного и храброго, все славили Роальда, что у него такой сын. А Роальд, памятуя о Ривалене и Бланшефлер, юность и прелесть которых оживала перед ним, любил Тристана как сына и втайне чтил его как своего повелителя.
Случилось так, что вся его радость окончилась в тот день, когда норвежские купцы, заманив Тристана на свой корабль, увезли его как славную добычу. Пока они плыли к неведомым странам, Тристан метался как молодой волк, попавший в капкан. Но известно по опыту, – и все моряки хорошо это знают, – что море неохотно носит корабли вероломных и не помогает похищениям и предательствам. Гневное поднялось оно, объяло корабль мраком и гнало его восемь дней и восемь ночей куда попало. Наконец моряки увидели сквозь туман берег, изрезанный утесами и подводными рифами, о которые должно было разбиться их судно. Они покаялись, поняв, что море разгневалось на них из-за этого ребенка, похищенного ими в недобрый час. Они дали обет отпустить его на волю и оснастили лодку, чтобы высадить его на берег. Тотчас же стихли ветры и волны, просияло небо; в то время как корабль норвежцев исчезал вдали, успокоенные и смеющиеся воды отнесли лодку Тристана к песчаному берегу.
С большим трудом взобрался юноша на утес и увидел, что за холмистой и пустынной степью простирается бесконечный лес. Он сокрушался, сожалея о Горвенале, Роальде, своем отце, и о земле Лоонуа, как вдруг далекий звук охотничьего рога и оклики развеселили его сердце. На опушке леса показался прекрасный олень. Свора собак и охотники неслись по его следам, голося и трубя. Но когда несколько ищеек повисло на загривке зверя, он пал, в нескольких шагах от Тристана, на задние ноги при последнем издыхании, и один из охотников ударил его копьем. Между тем как, собравшись в кружок, они трубили об удаче, Тристан с удивлением увидел, как старший охотник полоснул оленя по горлу, словно сбираясь его перерезать.
– Что делаете вы, господин мой? – воскликнул он. – Пристало ли свежевать столь благородное животное, как свежуют заколотую свинью? Разве таков обычай этой страны?
– Друг мой, – ответил охотник, – что сделал я таксе, что могло бы тебя удивить? Да, я отниму сначала голову оленя, потом рассеку тушу на четыре части, которые мы и отвезем, привязав к луке наших седел, королю Марку, нашему повелителю. Так поступаем мы; так поступали жители Корнуэльса со времен древнейших охотников. Если, однако, тебе знаком более достойный обычай, покажи нам его: вот тебе нож, друг мой, мы охотно у тебя поучимся.
Встав на колени, Тристан содрал с оленя шкуру, прежде чем разнять его; затем разнял, как подобало, не трогая крестца, отобрал потроха, морду, язык, бедра и сердечную жилу.
И охотники и доезжачие, склонившись над ним, смотрели и любовались.
– Друг! – сказал главный охотник. – Обычай этот прекрасен. В какой стране научился ты ему? Скажи нам, откуда ты родом и как тебя звать?
– Господин мой, зовут меня Тристаном, а выучился я этому обычаю в моем отечестве Лоонуа.
– Тристан! – сказал охотник. – Да воздаст Господь отцу, который так достойно воспитал тебя. Он, наверно, барон богатый и могучий.
Тристан, умевший не только хорошо говорить, но и с толком молчать, ответил ему хитро:
– Нет, господин, отец мой – купец; я же тайно покинул дом на корабле, который отправлялся торговать в дальние страны, ибо хотел узнать, как в чужих землях живут люди. Если вы примете меня в число своих охотников, я с удовольствием пойду за вами и обучу вас, господин, и другим утехам охоты.
– Дивлюсь я, милый Тристан, что есть такая страна, где сыновья купцов знают то, чего в других землях не ведают дети рыцарей. Ступай же с нами, если хочешь! Добро пожаловать: мы отведем тебя к королю Марку, нашему повелителю.
Тристан кончил разнимать оленя; он отдал собакам сердце, голову и внутренности и показал охотникам, как выделять долю для собак и подзывать их на рог. Затем, разместив на рогатинах хорошо приготовленные части оленьей туши, поручил он каждому охотнику в отдельности: одному – большой филей, другому – зад, этим – лопатки, тем – задние ноги, этому – оленьи бедра. Он научил их строиться попарно, чтобы ехать в хорошем порядке, согласно с достоинством тех частей дичи, которые торчали на рогатинах.
И вот они двинулись в путь и ехали, беседуя, пока не очутились перед прекрасным замком. Его окружали луга, плодовые сады, живые воды, рыболовные тони и пахотные поля. Множество кораблей заходило в гавань. Замок возвышался над морем, крепкий и красивый, хорошо защищенный против всякого приступа и осадных орудий; а главная его башня, некогда воздвигнутая великанами, была построена из каменных глыб, огромных и хорошо обтесанных, расположенных как шахматная доска с зелеными и голубыми клетками.
Тристан спросил, как зовется замок.
– Зовут его Тинтажель.
– Тинтажель? – воскликнул Тристан. – Да будешь ты благословен от Бога, ты и твои хозяева!
Здесь, добрые люди, некогда в великом веселии отец его Ривален сочетался браком с Бланшефлер. Но, увы, Тристан не знал об этом! Когда они подъехали к замковой башне, звуки охотничьих рогов привлекли к воротам баронов и самого короля Марка.
Когда старший охотник рассказал ему о приключившемся, Марк залюбовался прекрасным распорядком поезда, хорошо свежеванным оленем и великим смыслом охотничьего обихода. Но в особенности восхищался он чудным юношей-чужестранцем, и его глаза не могли от него оторваться.
«Откуда у меня эта внезапная нежность?», – спрашивал король свое сердце, а понять не мог. То была его собственная кровь, добрые люди: она-то заходила и заговорила в нем. То была любовь, которую он некогда питал к сестре своей Бланшефлер.
Вечером, когда унесли столы, валлийский жонглер[217], мастер своего дела, появился среди собравшихся баронов и запел песни под звуки арфы. Тристан сидел у ног короля. И когда певец сыграл прелюдию к новой мелодии, он обратился к нему с такой речью:
– Песня эта лучше всех других: когда-то древние бретонцы сложили ее, чтобы прославить любовь Граэлента. Нежен ее мотив, нежны и слова. В пении ты искусен, сыграй ее получше.
Тот пропел, а потом спросил:
– Дитя мое, что понимаешь ты в искусстве музыки? Если купцы из земли Лоонуа также обучают своих сыновей игре на арфе, роте[218] и скрипке, то встань, возьми эту арфу и покажи свое искусство.
Тристан взял арфу и спел так прекрасно, что бароны, слушая его, умилялись, а Марк восхищался певцом из земли Лоонуа, куда в былое время Ривален увез Бланшефлер.
Когда песня кончилась, король долго молчал.
– Сын мой! – сказал он наконец. – Да благословен будет учитель, который обучил тебя, благословен и ты Господом! Господь любит добрых певцов. Их голос и голос арфы проникают в сердца людей, пробуждают в них дорогие воспоминания и заставляют забывать многие печали и многие злодеяния. На радость нам ты вступил в этот дом. Останься надолго со мной, друг мой!
– Я с удовольствием послужу вам, государь, как ваш певец, охотник и ленник[219].
Так он и сделал. И в продолжение трех лет взаимная любовь возрастала в их сердцах. Днем Тристан сопровождал Марка в залу суда или на охоту; а ночью в королевской горнице, где он спал вместе с другими ближними и верными людьми, играл на арфе, чтобы утолить горе короля, когда тот бывал печален.
Бароны души в нем не чаяли, особенно сенешаль Динас из Лидана, как то покажет вам повесть. Но нежнее баронов и Динаса из Лидана любил его король. Однако, несмотря на их нежность, Тристан был неутешен, что утратил отца своего Роальда, наставника Горвенала и землю Лоонуа.
Добрые люди! Рассказчику, который хочет понравиться, пристало избегать слишком долгих повествований. Предмет этой повести так прекрасен и разнообразен, – к чему же удлинять рассказ? Вот я и скажу вкратце, как, проблуждав долгое время по морям и странам, Роальд Твердое Слово пристал к Корнуэльсу, нашел Тристана и, показав Марку карбункул, когда-то данный королем Бланшефлер как дорогой брачный подарок, сказал ему:
– Король Марк, этот юноша – Тристан из Лоонуа, ваш племянник, сын вашей сестры Бланшефлер и короля Ривалена! Герцог Морган не праведно владеет его землей; пора бы вернуться ей к законному наследнику.
Скажу вкратце, что, приняв от своего дяди посвящение в рыцари, Тристан поехал за море на корнуэльских кораблях, заставил боевых вассалов своего отца признать себя, вызвал на бой убийцу Ривалена, поразил его на смерть и вступил во владение своей землей. Потом он размыслил, что король Марк не может более быть счастлив без него; и так как благородство сердца всегда указывало ему на самое мудрое решение, он созвал своих графов и баронов и так сказал им:
– Сеньоры Лоонуа! По Божьей милости и при вашей помощи я отвоевал себе эту страну, отомстил за короля Ривалена и воздал моему отцу должное ему. Но два человека, Роальд и король Марк Корнуэльский, поддержали сироту, скитавшегося бедняка, и мне подобает назвать их отцами: не обязан ли я им воздать должное? У именитого человека две собственности: его земля и его тело. И вот Роальду, которого вы здесь видите, я оставляю мою землю. Отец мой, вы будете владеть ею, а ваш сын после вас. Королю же Марку я отдаю свое тело: я покину эту страну, хотя она мне и дорога, и пойду в Корнуэльс служить моему господину Марку. Таково мое решение. Но вы, сеньоры Лоонуа, мои ленники и обязаны мне советом. Итак, если кто из вас хочет предложить мне другое, пусть встанет и заговорит.
Все бароны со слезами на глазах похвалили Тристана. А он, взяв с собой одного Горвенала, направился в страну короля Марка.
Глава II Морольд Ирландский
Когда Тристан туда вернулся, Марк и все его бароны были в глубокой печали, ибо король Ирландии снарядил флот, чтоб опустошить Корнуэльс, если Марк вновь откажется, как то делал в течение пятнадцати лет, платить дань, которую некогда платили его предки.
Да будет вам ведомо, что по старым договорам ирландцы имели право взимать с жителей Корнуэльса в первый год триста фунтов меди, во второй – триста фунтов серебра, а в третий – триста фунтов золота; когда же наступал четвертый год, они брали триста юношей и триста девушек пятнадцатилетнего возраста, избранных по жребию из корнуэльских семей. И вот в этот год король послал в Тинтажель со своим требованием исполинского рыцаря Морольда, на сестре которого он был женат; этого Морольда никто никогда не мог победить в бою.
Король Марк письмами за своей печатью собрал ко двору всех баронов своей земли, чтобы с ними держать совет. В назначенное время, когда бароны собрались в сводчатую залу дворца и Марк уселся на троне, Морольд повел такую речь:
– Король Марк, услышь в последний раз наказ короля Ирландии, моего повелителя! Он приглашает тебя уплатить, наконец, дань, которую ты ему обязан. А за то, что ты долго в ней ему отказывал, он требует, чтобы ты выдал мне сегодня же триста юношей и триста девушек пятнадцатилетнего возраста, избранных по жребию из корнуэльских семей. Корабль мой, стоящий на якоре в порту Тинтажеля, увезет их, и они станут нашими рабами. Но если кто-либо из твоих баронов (я исключаю лишь тебя, король Марк, как то и подобает) захотел бы доказать единоборством, что король Ирландии взимает эту дань беззаконно, я приму его вызов. Кто из вас, сеньоры Корнуэльса, желает вступить в бой за свободу своей страны?
Исподлобья переглядывались бароны друг с другом, а затем потупляли головы. Один говорил себе: «Погляди, несчастный, каков Морольд Ирландский! Он будет сильнее четырех здоровенных бойцов. Погляди на его меч: разве ты не знаешь, что он заколдован, что он сносил головы смелым рыцарям с тех самых пор, как король Ирландии посылает этого великана с вызовом в подвластные ему земли? Или тебе хочется, бедняге, пойти на смерть? К чему искушать Господа?» Другой думал: «Разве я воспитал вас, милые сыновья, для рабской доли? Вас, милые дочки, для доли распутниц? Но ведь смерть моя не спасла бы вас». И все молчали.
Еще раз сказал Морольд:
– Кто из вас, сеньоры Корнуэльса, хочет принять мой вызов? Я предлагаю ему прекрасный поединок: в три дня от Тинтажеля мы доедем на лодках до острова святого Самсона.[220] Там ваш рыцарь и я будем биться один на один, и будут честь и слава его роду, что он отважился на бой.
Они продолжали молчать. Морольд походил на кречета, запертого в клетке с маленькими птичками: когда он является, все умолкают.
И в третий раз заговорил Морольд:
– Что же, доблестные сеньоры Корнуэльса, если такая участь кажется вам более достойной, выбирайте ваших детей по жребию: я их увезу. Не думал я, что страна эта населена одними рабами.
Тогда Тристан преклонил колени перед королем Марком и сказал:
– Государь мой, если будет на то ваша милость, я, выйду на бой.
Тщетно пытался отговорить его король Марк: рыцарь он молодой, к, чему послужит его отвага? Тристан бросил Морольду рукавицу, и Морольд ее поднял.
В назначенный день Тристан стал на ковре из драгоценной пурпурной ткани и велел вооружить себя для великого подвига. Он обрядился в панцирь и шлем из вороненой стали. Бароны плакали от жалости к храбрецу и со стыда за себя. «О Тристан, – говорили они, – смелый боец, прекрасный юноша! Почему не я, а ты решился на этот бой? От моей смерти было бы всем меньше печали!..»
Звонят в колокола; и все бароны и мелкие люди, старцы, дети и женщины плачут и молятся, провожая Тристана до берега. Они еще надеются: ведь надежда в сердцах людей питается и малым. Тристан сел в лодку один и направился к острову святого Самсона. Морольд натянул на мачту своей ладьи роскошный пурпурный парус и первым прибыл на остров. Он привязывал свое судно у берега, когда Тристан, причалив, ногой оттолкнул в море свое.
– Что ты делаешь, боец? – спросил Морольд. – Почему не привязал свою ладью канатом, как я это сделал?
– К чему это, боец? – ответил Тристан. – Лишь один из нас возвратится отсюда живым: или мало ему будет одной ладьи?
И оба, возбуждая друг друга бранными словами, направились вглубь острова.
Никто не видел жестокой битвы. Но трижды всем почудилось, будто морской ветер донес до берега яростный крик; и тогда в знак горести женщины били себя в грудь, а товарищи Морольда, собравшись в стороне у своих шатров, смеялись. Наконец около полудня увидели вдали пурпурный парус: ладья ирландца отчалила от острова. И раздался крик ужаса: «Морольд, Морольд!» Ладья все приближалась, и внезапно, когда она взлетела на гребень волны, на носу ее увидели рыцаря, в руках которого было два поднятых меча: это был Тристан.
Тотчас двадцать ладей устремилось ему навстречу, а юноши бросились вплавь. Храбрец выскочил на берег; и в то время как матери, стоя на коленях, целовали его железные наколенники, он крикнул товарищам Морольда:
– Сеньоры ирландцы, славно сражался Морольд! Смотрите, меч мой зазубрен; кусок лезвия засел глубоко в его черепе. Возьмите же, сеньоры, этот кусок стали: то дань Корнуэльса.
Он направился к Тинтажелю. На его пути освобожденные им юноши с громкими криками махали зелеными ветками, и окна украсились роскошными тканями. Но когда среди радостных песен, под звуки колоколов, труб и рогов, столь громких, что нельзя было бы расслышать и Божьего грома, Тристан добрался до замка, он упал на руки королю Марку, и кровь потекла из его ран.
В великом унынии вернулись в Ирландию спутники Морольда. Бывало, возвращаясь в гавань Вейзефорд, Морольд радовался, что снова увидит своих людей, которые толпой будут приветствовать его, увидит королеву, сестру свою, и племянницу, белокурую Изольду с волосами цвета золота, чья краса уже сияла, как занимающаяся заря. Они оказывали ему ласковый прием и, если он бывал ранен, исцеляли его, ибо им ведомы были мази и настои, которые оживляли раненых, почти уже мертвецов. Но на что теперь эти волшебные снадобья, травы, собранные в урочный час, разные зелья? Он лежал мертвый, зашитый в оленью шкуру, и обломок вражеского меча еще торчал в его черепе. Белокурая Изольда извлекла его и спрятала в ларец из слоновой кости, драгоценный, как ковчежец для мощей. И, склонившись над огромным трупом, без конца повторяя хвалы усопшему и беспрестанно посылая одно и то же проклятие его убийце, мать и дочь поочередно руководили погребальным причитанием женщин. С этого дня белокурая Изольда научилась ненавидеть имя Тристана из Лоонуа. Между тем в Тинтажеле Тристан хирел: зараженная кровь сочилась из его ран. Врачи поняли, что Морольд вонзил в его тело отравленное копье; и так как их снадобья и противоядия не могли его спасти, они предоставили его Божьему милосердию. Из его ран исходило такое ужасное зловоние, что самые близкие друзья избегали его – все, исключая короля Марка, Горвенала и Динаса из Лидана. Они одни могли оставаться у его изголовья: их любовь превозмогала отвращение. Наконец Тристан приказал отнести себя в хижину, построенную в стороне, на берегу, и здесь, лежа у волн, ожидал смерти. Ему думалось: «Итак, ты покинул меня, король Марк, – меня, который спас честь твоей земли? Нет, я знаю, милый мой дядя, что ты отдал бы свою жизнь за мою; но чему помогла бы твоя любовь? Приходится умирать! Но как сладко все же видеть солнце; да и сердце мое еще не утратило мужества. Хочу вверить себя морю и его случайностям. Я желал бы, чтоб оно унесло меня одного далеко. К какой земле? Не знаю. Но там, быть может, я найду того, кто меня исцелит. И, может быть, я еще послужу тебе когда-нибудь, славный мой дядя, как игрец на арфе, как охотник и твой верный вассал».
Он так молил короля Марка, что тот склонился к его просьбе. Он сам отнес его в ладью без весел и паруса; по желанию Тристана с ним положили одну лишь его арфу. К чему паруса, когда его руки не могли бы их распустить? К чему весла, к чему меч? И как моряк во время долгого плаванья бросает за борт труп старого товарища, так и Горвенал дрожащими руками оттолкнул в море ладью, в которой лежал милый его сын, и море ее унесло.
Семь дней и семь ночей оно тихо несло Тристана. Порой он играл на арфе, чтобы утолить свою муку. Наконец море, незаметно для него, пригнало его к берегу. Как раз в эту ночь рыбаки выехали из гавани, чтобы закинуть в море сети, и плыли на веслах. Вдруг они услышали нежную мелодию, смелую и живую, скользившую по поверхности вод. Недвижимые, подняв весла над водой, они прислушивались. При первом свете зари они заметили блуждавшую ладью. Они говорили друг другу: «Так овевала неземная музыка ладью святого Брендана, когда он плыл к Счастливым островам по морю, которое было белее молока». Они принялись грести, чтобы догнать ладью; а она шла наугад, и казалось, ничего в ней не было живого, кроме голоса арфы. Но по мере того как она приближалась, мелодия затихала и, наконец, умолкла; когда они подъехали, руки Тристана упали неподвижно на еще дрожавшие струны. Рыбаки подобрали его и вернулись в гавань, чтобы поручить раненого своей милосердной госпоже, в надежде, что она, может быть, сумеет его излечить.
Увы, гавань эта была Вейзефорд, где покоился прах Морольда, а госпожа их была белокурая Изольда! Она одна, сведущая в целебных зельях, могла спасти Тристана, но из всех женщин она одна желала его смерти. Когда, оживленный ее знахарством, Тристан пришел в себя, он понял, что волны выбросили его на землю, исполненную для него опасностей; но, достаточно смелый, чтобы защитить свою жизнь, он быстро сумел найти красноречивые и хитрые слова. Он рассказал, будто он жонглер, который сел на торговый корабль и направился в Испанию, чтобы научиться искусству читать по звездам; морские разбойники напали на его корабль; раненный, он спасся на лодке. Ему поверили. Никто из товарищей Морольда не признал в нем прекрасного рыцаря острова святого Самсона: так ужасно исказились от яда его черты. Но когда, спустя сорок дней, златовласая Изольда его почти уже излечила, когда в его теле, снова сделавшемся гибким, начала возрождаться прелесть юности, он понял, что ему надо удалиться. Он бежал и после многих опасностей однажды снова предстал перед королем Марком.
Глава III Поиски за златовласой красавицей
При дворе короля Марка, добрые люди, были четыре барона, вероломнейшие из всех людей; они ненавидели Тристана жестокой ненавистью за его доблесть и за нежную любовь, которую питал к нему король. Я могу назвать их вам по именам: Андрет, Генелон, Гондоин и Деноален; из них герцог Андрет приходился королю Марку племянником, как и Тристан. Зная, что король намеревался умереть бездетным, чтобы завещать свою землю Тристану, они распалились завистью и стали наветами возбуждать против Тристана баронов Корнуэльса.
– Сколько чудесного в его жизни! – говорили эти предатели. – Но вы, сеньоры, как люди умные, сумеете, без сомнения, объяснить себе это. Одно то, что он победил Морольда, уже великое чудо. Но каким волшебством мог он один, полумертвый, проплыть по морю? Кто из нас, сеньоры, сумел бы управиться с судном без весел и парусов? Колдуны, говорят, это могут. Далее, в какой волшебной стране мог он найти лекарство для своих ран? Конечно, сам он колдун. Да и ладья его была заговорена, так же как его меч и арфа, которая что ни день вливает яд в сердце короля Марка. Как сумел он покорить это сердце мощью и обаянием волшебства! Он станет королем, сеньоры, и вы получите ваши земли от колдуна. Они убедили в этом большинство баронов; ведь многие не знают, что вещи, совершаемые силою волшебства, может совершить и сердце силой любви и доблести. Поэтому бароны стали требовать от короля Марка, чтобы он взял себе в жены какую-нибудь принцессу, которая дала бы ему наследников; они грозили, что, если он станет отказываться, они удалятся в свои крепкие замки, чтобы вести с ним войну. Король противился и в сердце своем клялся, что, пока жив его дорогой племянник, ни одна королевская дочь не взойдет на его ложе. Но тогда сам Тристан, которому крайне обидно было подозрение в корыстной любви к дяде, стал ему угрожать: пусть король подчинится воле своих баронов, иначе и он покинет его двор и перейдет на службу к славному королю Гавуа. Тогда Марк назначил своим баронам срок: через сорок дней он объявит им свое решение.
В назначенный день, один в своей комнате, он ожидал их прихода и думал с грустью: «Где бы мне найти королевскую дочь, столь далекую и недоступную, чтобы я мог притвориться, – но только притвориться, – будто желаю ее себе в жены?»
В этот миг в открытое на море окно влетели две ласточки, строившие себе гнездо, и стали биться друг с другом; потом, внезапно испугавшись, они улетели, но одна из своего клюва выронила длинный женский волос тоньше шелка, сиявший, как солнечный луч. Подняв его, Марк позвал баронов и Тристана и сказал им:
– Чтобы угодить вам, сеньоры, я возьму себе жену, если только вы разыщете ту, которую я избрал.
– Разумеется, мы готовы, дорогой наш государь. Но кто же та, на которой вы остановили свой выбор?
– Я выбрал ту, которой принадлежит этот золотой волос; и знайте, что никакой другой я не желаю.
– А откуда у вас, дорогой наш государь, этот золотой волос? Кто вам его принес? Из какой страны?
– Он у меня от златовласой красавицы. Две ласточки мне его принесли: они знают, из какой страны.
Бароны поняли, что над ними посмеялись и обманули их. С досадой взглянули они на Тристана, ибо подозревали, что он присоветовал эту уловку. Но Тристан, разглядев золотой волос, вспомнил о белокурой Изольде. Он улыбнулся и сказал:
– Король Марк, не правильно ты поступаешь. Разве не видишь, что подозрения этих сеньоров меня позорят? Но тщетно придумал ты эту насмешку: я отправлюсь на поиски за златовласой красавицей. Знай, что поиски эти опасны и что мне труднее будет возвратиться из ее страны, чем с острова, на котором я убил Морольда; но я хочу снова подвергнуть случайностям мое тело и жизнь ради тебя, мой славный дядя. А для того, чтобы твои бароны знали, что я люблю тебя бескорыстной любовью, я клянусь честью: либо умру в этом деле, либо привезу в замок Тинтажель златовласую королеву.
Он оснастил доброе судно, нагрузил его пшеницей, вином, медом и другими припасами, посадил на него, кроме Горвенала, сто юных рыцарей знатного рода, выбранных из самых храбрых, и одел их в платье из грубой шерсти, в плащи из простого камлота, чтобы они походили на купцов; но под палубой корабля они спрятали богатые одеяния из золотой парчи, шелка и пурпура, какие приличествуют послам могучего государя. Когда судно вышло в открытое море, кормчий спросил:
– Дорогой господин мой, куда держать нам путь?
– Друг, держи путь в Ирландию, прямо в гавань Вейзефорд.
Содрогнулся кормчий. Не знал разве Тристан, что со смерти Морольда король Ирландии охотился за корнуэльскими судами, а пойманных моряков вешал на рогатинах? Тем не менее кормчий послушался и доплыл до опасной страны. Тристан начал с того, что уверил жителей Вейзефорда, будто его спутники – купцы из Англии, приехавшие сюда для мирной торговли. Но так как эти странного вида купцы проводили день в благородных играх в тавлеи[221] и шахматы и, казалось, лучше умели справляться с игральными костями, чем отвешивать пшеницу, то Тристан побоялся быть узнанным и не знал, как приняться за поиски. Однажды утром он услышал голос такой страшный, что можно было принять его за крик злого духа. Никогда не слышал он зверя, который ревел бы так ужасно и диковинно. Он подозвал женщину, проходившую в гавани:
– Скажи мне, красавица, чей это голос, который я слышал? Не скрой от меня.
– Разумеется, господин мой, скажу вам без обмана. Это голос зверя, самого страшного и гнусного, какой только существует на белом свете. Каждый день он выходит из своей пещеры и становится у городских ворот. Никто не может ни войти, ни выйти, пока не выдадут дракону девушку; схватив в свои когти, он пожирает ее быстрее, чем человек успевает прочесть «Отче наш».
– Не смейся надо мной, – молвил Тристан, – а скажи, в состоянии ли человек, рожденный от матери, убить его в поединке?
– Доподлинно не знаю, дорогой господин. Но верно то, что двадцать испытанных рыцарей брались за этот подвиг, ибо король Ирландии оповестил через глашатая, что выдаст дочь свою, белокурую Изольду, за того, кто убьет чудовище; но чудовище всех их пожрало.
Расставшись с женщиной и вернувшись к судну, Тристан тайно вооружился. Любо было посмотреть, какой славный боевой конь вышел из купеческого корабля, какой могучий рыцарь на нем выехал! Но в гавани было пустынно: заря только что занялась, и никто не увидел храбреца вплоть до самых ворот, на которые указала ему женщина. Внезапно по дороге проскакали пять человек; пришпорив коней и бросив поводья, они мчались по городу. Тристан схватил одного из них за его рыжие заплетенные волосы, да так крепко, что опрокинул его на круп лошади и задержал.
– Да хранит вас Господь, сеньор! – сказал он ему. – По какой дороге идет дракон?
И когда беглец указал, Тристан отпустил его.
Чудовище приближалось. Голова у него была медвежья, глаза красные, как пылающие уголья, на лбу два рога, уши длинные и мохнатые, когти как у льва, хвост змеиный, тело чешуйчатого грифа[222].
Тристан пустил на него своего коня с такой силой, что, хотя и щетинясь от ужаса, он прыгнул на чудовище. Копье Тристана, коснувшись чешуи, разбилось вдребезги. Тогда храбрец обнажил меч, занес его и ударил дракона по голове, но не оцарапал даже его шкуры; однако чудовище почувствовало удар: оно выпустило когти, вонзило их в щит и оборвало его застежки. С незащищенной грудью Тристан еще раз бросился на дракона с мечом и нанес в бок столь сильный удар, что он прозвенел в воздухе. Тщетно: ранить дракона он не может; а тот извергает из ноздрей потоки ядовитого пламени. Панцирь Тристана почернел, как потухший уголь; конь его пал и издох. Быстро вскочив на ноги, Тристан вонзил свой добрый меч в пасть чудовища. Он проник в него весь и рассек пополам сердце. В последний раз испустил дракон свой ужасный крик – и издох.
Тристан отрезал у него язык и спрятал в кармане; затем, шатаясь от едкого дыма, он пошел напиться к стоячей воде, которая поблескивала невдалеке. Но яд, сочившийся из языка дракона, нагрелся от его тела, и в высокой траве, которая окаймляла болото, храбрец упал без признаков жизни.
Надо вам сказать, что беглец с рыжими заплетенными волосами был Агингерран Рыжий, сенешаль короля Ирландии, и что он домогался руки белокурой Изольды. Он был трус. Но таково могущество любви, что каждое утро он садился вооруженный в засаду, чтобы напасть на чудовище; однако, еще издалека заслышав его рев, смельчак этот обращался в бегство. В тот день в сопровождении своих четырех товарищей он осмелился вернуться и, увидев мертвого дракона, павшего коня и разбитый щит, рассудил, что победитель где-нибудь испускает дух. Тогда он отсек голову чудовищу, отнес ее к королю и потребовал обещанную прекрасную награду.
Король не поверил его храбрости, но, желая поступить с ним по закону, пригласил своих вассалов явиться ко двору через три дня; перед собравшимися баронами сенешаль[223] Агингерран должен был представить доказательство своей победы.
Когда белокурая Изольда узнала, что ее хотят выдать замуж за этого труса, она вначале долго смеялась, потом загрустила, но на следующий же день, подозревая подлог, она взяла с собой своего слугу, верного белокурого Периниса, и юную служанку, свою подругу Бранжьену, и все направились тайком к логовищу чудовища. На дороге Изольда заметила следы подков странного очертания: наверно, конь, который здесь проскакал, не был подкован в ее стране. Потом она нашла обезглавленное чудовище и павшего коня; он был взнуздан не по ирландскому обычаю. Конечно, убил дракона приезжий человек; но жив ли он еще?
Изольда, Перинис и Бранжьена долго искали его; наконец среди болотистых трав Бранжьена увидела блестящий шлем храбреца. Он еще дышал. Перинис взял его на своего коня и тайно отвез в женские покои. Там Изольда рассказала обо всем своей матери и поручила ей приезжего. Когда королева снимала с него доспехи, ядовитый язык дракона выпал из его кармана. Приведя рыцаря в чувство с помощью какого-то зелья, ирландская королева сказала ему:
– Я доподлинно знаю, чужеземец, что ты убил чудовище. А наш сенешаль, вероломный трус, отрубил у него голову и требует в награду дочь мою, белокурую Изольду. Сумеешь ли ты через два дня доказать поединком, что право не на его стороне?
– Королева, – сказал Тристан, – срок очень короток; но вы, без сомнения, сумеете меня вылечить в два дня. Я добыл Изольду, убив дракона, – может быть, снова добуду ее, победив сенешаля.
Тогда королева, окружив его заботливым уходом, принялась варить для него сильнодействующие настои. На следующий день белокурая Изольда приготовила ему купанье и нежно растерла его тело мазью, приготовленной матерью. Ее глаза остановились на лице раненого. Она увидела, что он красив, и задумалась: «Если его храбрость равна его красоте, мой боец, наверно, будет славно драться!» А Тристан, подкрепленный теплотою воды и силою благовоний, смотрел на нее и при мысли, что он завоевал златовласую королеву, усмехнулся. Изольда заметила это и подумала: «Почему усмехнулся этот чужеземец? Не сделала ли я что-нибудь такое, чего не подобало? Не пренебрегла ли какой-нибудь услугой, какую должна оказывать девушка своему гостю? Да! Он, должно быть, усмехнулся потому, что я не вычистила его доспехов, потускневших от яда».
И она пошла туда, где были сложены доспехи Тристана. «Вот шлем из доброй стали, – подумала она, – он не изменит ему в трудный час. И панцирь крепок, легок – вполне достоин, чтобы его носил мужественный боец». Она взяла меч за рукоять: «Вот добрый меч под стать храброму барону!» Она вынула из драгоценных ножен окровавленный клинок, чтобы обтереть его. Видит, он сильно зазубрен. Смотрит на форму зазубрин… Уж не этот ли клинок поломался о череп Морольда? Она колеблется, смотрит еще раз, хочет проверить свои подозрения; бежит в комнату, где хранила осколок стали, некогда извлеченный из черепа Морольда; прикладывает осколок к зазубрине: еле виден след полома.
Тогда она бросилась к Тристану и, занеся над его головой огромный меч, вскричала:
– Ты – Тристан из Лоонуа, убийца Морольда, милого моего дяди! Умри же!
Тристан сделал усилие, чтобы удержать ее руку, но тщетно: тело его было разбито. Однако ум сохранил свою живость, и он сказал находчиво:
– Хорошо, я умру, но выслушай меня, чтоб не пришлось тебе потом долго каяться. Знай, принцесса, что ты не только властна убить меня, но у тебя на то есть и право. Да, ты имеешь право на мою жизнь, так как ты мне дважды ее сохранила и возвратила мне. В первый раз это было давно: я – тот раненый жонглер, которого ты спасла, выгнав из его тела яд, которым копье Морольда его отравило. Не красней, девушка, что ты излечила эти раны: разве не получил я их в честном бою? Разве я вероломно убил Морольда? Разве не он меня вызвал и я не должен был защищать себя? Во второй раз ты меня спасла, когда разыскала возле болота. Ведь ради тебя, девушка, я сразился с драконом. Но оставим все это; я хотел только доказать тебе, что, спасши меня дважды от смерти, ты приобрела право на мою жизнь. Убей же меня, если думаешь снискать себе этим славу и честь. Без сомнения, когда ты будешь лежать в объятиях храброго сенешаля, тебе сладко будет вспомнить о твоем раненом госте, который подвергал свою жизнь опасности, чтобы добыть тебя, и добыл, а ты убила его, беззащитного, во время купанья.
– Странные речи я слышу! – воскликнула Изольда. – Почему же убийце Морольда понадобилось добывать меня? Потому, без сомненья, что, как некогда Морольд хотел увезти на корабле корнуэльских девушек, так и ты, в виде отмщения, похвастался тем, что сделаешь рабыней ту, которую изо всех девушек Морольд любил больше всего?..
– Нет, принцесса, – ответил Тристан. – Но однажды две ласточки, прилетев в Тинтажель, занесли туда твой золотой волос. Думал я, что они явились возвестить мне мир и любовь. Вот почему я и поехал искать тебя за море, вот почему не побоялся чудовища и его яда. Взгляни на этот волос, зашитый в золотые нити моего блио[224]: цвет золотых нитей исчез, но золото волоса не потускнело.
Изольда отбросила меч и взяла в руки блио Тристана. Она увидела в ней золотой волос и долго молчала, потом поцеловала в уста своего гостя в знак мира и одела его в богатые одежды.
Когда бароны собрались, Тристан тайно отправил к своему кораблю Периниса, слугу Изольды, передать своим спутникам, чтобы они шли ко двору, разодетые, как подобает посланным могучего короля, ибо он надеялся в этот же день довершить начатое.
Горвенал и сто рыцарей, уже четыре дня печалившиеся об исчезновении Тристана, обрадовались вести. Они вошли поодиночке в залу, где великое множество ирландских баронов уже собралось, уселись вместе в один ряд, и драгоценные каменья переливались на их богатых одеждах из шелка и пурпура. Говорят промеж себя ирландцы: «Кто эти великолепные сеньоры? Кому они известны? Поглядите на их пышные одеяния, опушенные соболями и расшитые золотом; смотрите, как на рукоятях мечей, на застежках шуб играют рубины, бериллы, изумруды и множество других камней, которых и назвать мы не сумеем! Кто когда видел такое великолепие? Откуда они, чьи они?» Но сто рыцарей молчали и не вставали со своих мест ни перед кем, кто бы ни входил.
Когда король Ирландии уселся под балдахином, сенешаль Агингерран Рыжий объявил, что докажет с помощью свидетелей и подтвердит поединком, что он убил чудовище и что Изольда должна быть ему отдана.
Тогда Изольда поклонилась своему отцу и сказала:
– Государь, есть здесь человек, который берется уличить нашего сенешаля во лжи и коварстве. И этому человеку, готовому доказать, что он освободил нашу страну от бедствия и что ваша дочь не должна быть отдана трусу, – обещаете ли вы простить старые его вины, как бы велики они ни были, и даровать мир и покровительство?
Король задумался и не торопился ответом. Тогда его бароны закричали:
– Обещайте ему, государь, обещайте!
– Обещаю, – сказал король. Изольда стала перед ним на колени:
– Дай мне поцелуй мира и милости в знак того, что ты поцелуешь также и этого человека.
Получив поцелуй, она пошла за Тристаном и за руку привела его в собрание. При его появлении сто рыцарей встали все вместе, приветствовали его, сложив руки крестом на груди, и выстроились вокруг него; а ирландцы догадались, что см их повелитель. Но многие узнали его, и раздался громкий крик:
– Это Тристан из Лоонуа, это убийца Морольда!
Засверкали обнаженные мечи, и негодующие голоса повторяли:
– Смерть ему!
Но Изольда воскликнула:
– Король, поцелуй этого человека в уста, как ты обещал!
Король поцеловал Тристана в уста, и шум затих.
Тогда юный герой показал язык дракона и предложил поединок сенешалю, который не посмел принять его и признался в обмане.
Затем Тристан сказал так:
– Сеньоры, да, я убил Морольда, но я приехал из-за моря, чтобы предложить вам хорошее возмещение. Чтобы искупить свою вину, я подверг себя смертельной опасности, освободив вас от чудовища, и таким образом добыл себе белокурую Изольду. Получив ее, я увезу ее на своем корабле. Но, чтобы в землях Ирландии и Корнуэльса не пылала больше взаимная ненависть, а только любовь, да будет вам ведомо, что король Марк, мой повелитель, возьмет ее себе в супруги. Вот сто знатных рыцарей, готовых поклясться на мощах святых, что король Марк шлет вам привет и любовь, что желание его – почитать Изольду как свою любимую супругу и что все корнуэльцы будут ей служить как своей госпоже и королеве.
Принесли мощи, и, к великой радости всех, сто рыцарей поклялись, что Тристан сказал правду.
Король взял Изольду за руку и спросил Тристана, честно ли приведет он ее к своему повелителю. Перед своими ста рыцарями и баронами Ирландии Тристан поклялся в этом. А белокурая Изольда содрогалась от стыда и печали. Значит, Тристан, добыв ее, пренебрег ею, чудная сказка о золотом волосе была только обманом, и он отдает ее другому!.. Но король вложил правую руку Изольды в правую руку Тристана, и Тристан удержал ее в знак того, что берет ее от имени короля Корнуэльса.
Таким образом, из любви к королю Марку хитростью и силой Тристан выполнил наказ: достал златовласую королеву.
Глава IV Любовное зелье
Когда наступило время поручить Изольду корнуэльским рыцарям, мать ее набрала трав, цветов и корней, положила их в вино и сварила могучий напиток. Сварив его при помощи своего ведовства и знахарства, она вылила его в кувшин и тайно сказала Бранжьене:
– Девушка, ты последуешь за Изольдой в страну короля Марка; ты ее любишь верной любовью. Возьми же этот кувшин с вином и запомни мои слова: спрячь его так, чтобы ничей глаз его не видел и ничьи уста его не коснулись. Но когда наступит брачная ночь, в то время, когда оставляют супругов одних, налей в кубок этого вина, настоенного на травах, и поднеси королю Марку и королеве Изольде, чтобы они выпили вместе. Да смотри, дитя мое, чтобы после них никто не отведал этого напитка, ибо такова его сила, что те, которые выпьют его вместе, будут любить друг друга всеми своими чувствами и всеми помыслами навеки, и в жизни и в смерти.
Бранжьена обещала королеве поступить, как та приказала.
Рассекая глубокие волны, судно уносило Изольду. Но чем более удалялась девушка от ирландской земли, тем больше она горевала. Сидя в шатре, где она заперлась с Бранжьеной, своей служанкой, она плакала, вспоминая о своей стране. Куда везли ее эти иноземцы? К кому? Какая участь готовилась ей?.. Когда Тристан приходил к ней, желая успокоить ее ласковыми словами, она гневалась, отталкивала его, и ненависть наполняла ее сердце. Ведь он, похититель, убийца Морольда, хитростью оторвал ее от матери, от ее родины и не удостоил сохранить ее для себя самого, а везет ее по морю, как добычу, во вражескую страну… «Несчастная! – говорила она себе. – Да будет проклято море, которое несет меня; лучше бы мне умереть, где я родилась, чем жить там».
Однажды ветры стихли; паруса повисли вдоль мачт. Тристан велел пристать к острову. Корнуэльские рыцари и моряки, утомленные морским путем, сошли на берег. Одна Изольда осталась на судне, да еще девочка, ее служанка.
Тристан подошел к королеве и пытался успокоить ее сердце. Так как солнце пекло и их мучила жажда, они попросили напиться; девочка стала искать какого-нибудь напитка и нашла кувшин, доверенный Бранжьене матерью Изольды.
– Я нашла вино! – крикнула она им.
Нет, то было не вино: то была страсть, жгучая радость, и бесконечная тоска, и смерть.
Девочка наполнила кубок и поднесла своей госпоже. Изольда сделала несколько больших глотков, потом подала кубок Тристану, который осушил его до дна.
В это время вошла Бранжьена и увидела, что они переглядываются молча, как бы растерянные, очарованные. Она увидела перед ними почти опорожненный сосуд и около него кубок. Схватив сосуд и подбежав к корме, она бросила его в волны и жалобно воскликнула:
– Несчастная я! Да будет проклят тот день, когда я родилась, проклят день, когда взошла на это судно! Изольда, дорогая моя, и ты, Тристан, вы испили вашу смерть!
А корабль снова понесся к Тинтажелю. Тристану казалось, что живое терние, с острыми шипами и благоуханными цветами, пустило свои корни в крови его сердца и крепкими узами связало с прекрасным телом Изольды его тело, его мысль, все его желания. И он подумал: «Андрет, Деноален, Генелон и Гондоин, вы клеветали на меня, будто я добивался владений короля Марка. Но я еще более бесчестен: не земель его жажду я. Милый мой дядя, ты, который полюбил меня, сироту, раньше, чем признал во мне кровь твоей сестры Бланшефлер, ты, который оплакивал меня так нежно, когда нес на руках в ладью без весел и парусов! Милый дядя, зачем ты не прогнал с первого же дня бродячего ребенка, явившегося, чтобы стать предателем? Что я задумал? Изольда – твоя жена, я – твой вассал. Изольда – твоя жена, я – твой сын. Изольда – твоя жена, и любить меня она не может».
Изольда любила его. Она хотела его ненавидеть: разве он не пренебрег ею оскорбительным образом? Она хотела его ненавидеть, но не могла, ибо сердце ее было охвачено тем нежным чувством, которое острее ненависти.
С тревогой следила за ними Бранжьена, еще сильнее терзаясь оттого, что она одна знала, какое зло невольно им причинила. Два дня следила она за ними, видела, что они отказываются от всякой пищи, всякого питья, всякого утешения, что они ищут друг друга, как слепые, которые тянутся друг к другу ощупью. Несчастные! Они изнывали врозь, но еще больше страдали, когда, сойдясь, трепетали перед ужасом первого признания.
На третий день, когда Тристан подошел к расставленному на палубе шатру, где сидела Изольда, она, увидев его, сказала кротко:
– Войдите, сеньор.
– Государыня! – сказал Тристан. – Зачем назвали вы меня сеньором? Не я ли, напротив, ваш ленник и вассал, обязанный почитать вас, служить вам и любить вас как свою королеву и госпожу?
Изольда ответила:
– Нет, ты знаешь, что ты сеньор мой и властелин! Ты знаешь, что я подвластна твоей силе и твоя раба! Ах, зачем не растравила я тогда раны жонглера, зачем не дала погибнуть в болотной траве убийце чудовища? Зачем не опустила на него меч, уже занесенный, когда он купался? Увы, я не знала тогда, что знаю теперь!
– Изольда, что же знаешь ты теперь? Что тебя терзает?
– Увы, меня терзает все, что я знаю, все, что я вижу. Меня терзает море, мое тело, моя жизнь!
Она положила руку на плечо Тристана; слезы затуманили лучи ее глаз, губы задрожали. Он повторил:
– Милая, что же терзает тебя? Она отвечала:
– Любовь к тебе.
Тогда он коснулся устами ее уст.
Но когда в первый раз они вкусили сладость любви, Бранжьена, которая следила за ними, вскрикнула и, простирая руки, вся в слезах, пала к их ногам:
– Несчастные, остановитесь и, если еще возможно, вернитесь к прежнему! Но нет, это путь без возврата! Сила любви уже влечет вас, и никогда более не будет вам радости без горя: вами овладело вино, настоенное на травах, любовный напиток, который доверила мне твоя мать, Изольда. Лишь один король Марк должен был выпить его с тобой, но дьявол посмеялся над нами троими, и вы осушили кубок. Друг мой, Тристан, и дорогая Изольда, в наказание за то, что я плохо стерегла напиток, отдаю вам мое тело и жизнь, ибо по моей вине вы испили в проклятой чаше любовь и смерть!
Любящие обнялись; в их прекрасных телах трепетало любовное желание и сила жизни.
Тристан сказал:
– Пусть же придет смерть!
И когда вечерний сумрак окутал корабль, быстро несшийся к земле короля Марка, они, связанные навеки, отдались любви.
Глава V Бранжьена отдана рабам
Король Марк встретил белокурую Изольду на берегу. Тристан взял ее за руку и подвел к нему, и король принял ее, взяв тоже за руку. С большими почестями повел он ее в замок Тинтажель, и когда они появились в замке среди вассалов, красота ее так все осветила, что стены засияли, словно озаренные восходящим солнцем. Похвалил тогда король Марк милую услугу ласточек, которые принесли ему золотой волос, похвалил и Тристана и сто рыцарей, что наудачу поехали на корабле добывать ему радость его очей и сердца. Увы, славный король, корабль принес и тебе великое горе и жестокие терзания.
Десять дней спустя, созвав всех своих баронов, Марк взял себе в жены белокурую Изольду. Но когда наступила ночь, Бранжьена, чтобы скрыть бесчестье своей госпожи и спасти ее от смерти, заняла ее место на брачном ложе. Во искупление своей плохой охраны на море и из любви к королеве она, верная служанка, пожертвовала ей непорочностью своего тела. Темная ночь скрыла от короля ее обман и его позор.
Рассказчики утверждают, что Бранжьена не бросила в море кувшин с вином, настоенным на травах, не до конца осушенный любящими, но что на другой день, когда ее госпожа сама взошла на ложе короля Марка, она вылила в чашу остатки любовного напитка и дала их супругам; и будто король Марк выпил много, а Изольда незаметно вылила свою долю. Но знайте, добрые люди, что эти рассказчики испортили и извратили повесть. Если они сочинили эту ложь, то потому, что не поняли великой любви, которую Марк всегда питал к королеве. Действительно, как вы об этом услышите вскоре, несмотря на мучения, терзания и жестокие возмездия, Марк никогда не в силах был изгнать из своего сердца ни Изольду, ни Тристана; но знайте, добрые люди, что он не пил вина, настоенного на травах: тут не было ни яда, ни колдовства, одно тонкое благородство его сердца внушало ему любовь.
Изольда стала королевой и живет как будто бы в радости; Изольда стала королевой и живет в горе. Изольду нежно любит король Марк, бароны ее почитают, а мелкий люд обожает ее. Изольда проводит дни в своих покоях, пышно расписанных и устланных цветами. У Изольды драгоценные уборы, пурпурные ткани и ковры, привезенные из Фессалии, песни жонглеров под звуки арфы; занавесы с вышитыми на них леопардами, орлами, попугаями и всеми морскими и лесными зверями. У Изольды страстная, нежная любовь, и Тристан – с нею, когда угодно, и днем и ночью, ибо, по обычаю знатных господ, он спит в королевском покое вместе с приближенными и доверенными людьми. А между тем Изольда трепещет. К чему трепетать? Разве не хранит он свою любовь в тайне? Кто заподозрит Тристана? Кто станет заподозривать сына? Кто ее видит, кто за ней следит? Кто свидетель? Да, свидетель следит за ней: Бранжьена, одна Бранжьена подсматривает за ней, Бранжьена знает ее жизнь, Бранжьена держит ее в своих руках. Боже, что, если, не желая больше каждый день как служанка стлать ложе, на которое она первая взошла, она выдаст их королю? Что, если Тристан умрет от ее вероломства?.. Так от страха сходила с ума королева. Но не от верной Бранжьены, а от ее собственного сердца происходило это терзание. Послушайте, добрые люди, какое великое предательство она затеяла! Но Бог, как вы об этом узнаете, сжалился над ней, и вы ее пожалеете.
В тот день Тристан и король охотились где-то далеко, и Тристан не знал об этом преступлении. Позвав двух рабов, Изольда посулила им волю и шестьдесят золотых, если они поклянутся исполнить ее желание. Они поклялись.
– Я поручу вам девушку, – сказала она. – Вы отведете ее в лес, близко или далеко, но в такое место, чтобы никто никогда не узнал о случившемся; там вы ее убьете и принесете мне ее язык. Запомните, чтобы повторить мне, слова, которые она вам скажет. Ступайте, и по возвращении вы будете свободны и богаты.
Затем она позвала Бранжьену:
– Милая моя, видишь ли, как тело мое изныло и как я страдаю? Пойди-ка в лес за травами, которые пригодны против этого недуга. Вот два раба: они проведут тебя, они знают, где растут полезные травы. Иди за ними, да знай, сестрица, что если я посылаю тебя в лес, то дело идет о моем покое и жизни.
Рабы увели Бранжьену. Когда они пришли в лес, она захотела остановиться, ибо увидела, что целебные травы росли кругом в изобилии. Но они повлекли ее дальше:
– Ступай, девушка, здесь место непригодное.
Один из рабов шел впереди, его товарищ – за нею. Не стало проторенных тропинок – везде тернии, шипы и чертополох. Тогда шедший впереди обнажил свой меч и обернулся. Бранжьена метнулась к другому рабу, ища у него помощи, но и у того был в руке меч наголо, и он сказал:
– Девушка, нам придется убить тебя.
Бранжьена упала на траву, пытаясь руками отклонить острия мечей. Она просила пощады таким жалобным и нежным голосом, что они сказали:
– Если королева Изольда, твоя и наша госпожа, хочет твоей смерти, то, без сомнения, ты сильно перед ней провинилась.
– Не знаю, в чем, друзья, – ответила она. – Помню лишь об одном проступке. Когда мы выехали из Ирландии, каждая из нас увезла с собой, как самое ценное украшение, по рубашке, белой как снег, для нашей брачной ночи. На море приключилось, что Изольда разорвала свою брачную рубашку, и я ей одолжила на брачную ночь свою. Вот все, в чем я провинилась перед нею, друзья. Но если уж она хочет моей смерти, то скажите ей, что я посылаю ей привет и любовь и что благодарю ее за честь и добро, которое она оказывала мне с тех пор, как ребенком, похищенная пиратами, я была продана ее матери и приставлена ей служить. Да сохранит Господь в своем милосердии ее честь, тело и жизнь! Теперь, милые, убивайте!
Рабы сжалились; они посоветовались между собою и, решив, что такой проступок, может быть, и не заслуживает смерти, привязали ее к дереву.
Потом убили щенка; один из них отрезал у него язык, завязал его в полу своей охотничьей куртки, и оба снова явились к Изольде.
– Говорила ли она что-нибудь? – спросила Изольда тревожно. – Да, государыня, говорила. Она сказала, что вы рассердились на нее за одно: вы разорвали на море свою рубашку, белую как снег, которую везли из Ирландии, и она вам одолжила свою в вечер вашего брака. В этом, говорила она, ее единственное преступление. Она вас благодарила за все благодеяния, оказанные ей с детства, и молила Бога сохранить вашу честь и жизнь. Она шлет вам привет и любовь. Вот, государыня, ее язык; мы его принесли вам.
– Убийцы! – вскричала Изольда. – Отдайте мне Бранжьену, дорогую мою служанку! Не знали вы разве, что она была моим единственным другом? Отдайте мне ее, убийцы!
– Истину говорят, государыня, что женщина меняет свои решения в короткий срок: в одно и то же время она и смеется и плачет, любит и ненавидит. Мы убили Бранжьену: вы ведь так приказали.
– Как я могла это приказать, и за какой проступок? Разве не была она мне дорогой подругой, нежной, верной, прекрасной? Вы это знаете, убийцы: я послала ее за целебными травами и вам ее доверила, чтобы защитить ее на пути. Я скажу, что вы ее убили, и вас изжарят на угольях.
– Знайте же, королева, что она жива: мы приведем ее к вам здоровой и невредимой.
Но Изольда не верила им и, как обезумевшая, проклинала то убийц, то самое себя. Она удержала одного из рабов при себе, между тем как другой поспешил к дереву, к которому была привязана Бранжьена.
– Тебя Бог спас, красавица: твоя госпожа снова зовет тебя к себе!
Явившись к Изольде, Бранжьена встала на колени, умоляя простить ее, но и королева пала на колени перед ней, и обе, обнявшись, надолго лишились чувств.
Глава VI Большая сосна
Не верной Бранжьены, а самих себя должны остерегаться любящие. Но как могли быть бдительными их опьяненные сердца? Любовь гонит их, как жажда гонит раненого оленя к реке. Так внезапно спущенный, после долгого голода, молодой ястреб бросается на добычу. Увы, любовь нельзя укрыть! Правда, благодаря разумной Бранжьене никто не застал ни разу королеву в объятиях ее друга; но не видал ли каждый всегда и везде, как их томило желание, сжигая их, словно струясь из них, как молодое вино льется через край чана?
Уже при дворе четыре предателя, ненавидящие Тристана за его доблесть, бродят вокруг королевы. Они уже знают правду о ее прекрасной любви; снедаемые алчностью, ненавистью и злорадством, они понесут эту весть к королю и увидят, как нежность его сменится яростью, как Тристан будет изгнан или предан смерти, а королева будет терзаться. Они боялись, однако, гнева Тристана, пока, наконец, ненависть не превозмогла в них страх. Однажды четыре барона позвали короля Марка на совет, и Андрет сказал ему:
– Великий государь! Сердце твое, несомненно, раздражится, и нам четверым это будет очень прискорбно, но мы обязаны объявить тебе то, что нечаянно открыли. Ты отдал свое сердце Тристану, а Тристан хочет тебя опозорить. Тщетно мы тебя предупреждали: из любви к одному человеку ты пренебрегаешь своей родней, своими баронами и всех нас забросил. Знай же: Тристан любит королеву. Это верно, и об этом уже много говорят.
Пошатнулся благородный король и ответил:
– Подлый человек, какое вероломство ты задумал! Да, я отдал свое сердце Тристану. В тот день, когда Морольд вызывал вас на поединок, все опустили головы, дрожа, и словно онемели, а Тристан вышел против него за честь своей страны, и из каждой его раны душа его могла улететь. Вот почему вы его ненавидите и вот почему я люблю его больше, чем тебя, Андрет, больше, чем всех вас, больше, чем всех других! Но что же вы такое открыли, что видели, что слышали?
– В сущности ничего, государь, ничего такого, чего бы не могли видеть и твои глаза, слышать и твои уши. Смотри сам, прислушивайся, великий государь; может быть, еще есть время.
И, удалившись, они оставили его на досуге впивать яд.
Король Марк не мог стряхнуть с себя наваждение. В свою очередь, против желания, он стал следить за своим племянником и за королевой. Но Бранжьена заметила это, предупредила их, и тщетны были старания короля испытать Изольду хитростью. Вскоре он возмутился этой недостойной борьбой и, сам поняв, что более не в состоянии отогнать от себя подозрения, призвал Тристана и сказал ему:
– Тристан, покинь этот замок и, уйдя из него, не отваживайся более перебираться через его рвы и ограду. Низкие люди обвиняют тебя в большом предательстве. Не спрашивай меня: я не сумею передать тебе их обвинений, не пороча нас обоих. Не ищи слов, которые могли бы успокоить меня: я чувствую, они были бы бесполезны. Все же не верю я предателям; если бы я им верил, разве я не предал бы тебя позорной смерти? Но их злокозненные речи смутили мне сердце, и только твой отъезд меня успокоит. Уезжай! Нет сомнения, я вскоре тебя призову. Уезжай же, сын мой, всегда мне дорогой!
Когда эта весть дошла до предателей, они заговорили промеж себя:
– Он уехал, уехал чародей, изгнали его, как вора. Что с ним станется? Он, наверно, поедет за море искать приключений и предложит свои бесчестные услуги какому-нибудь дальнему королю.
Нет, Тристан не в силах уехать: когда он переступил ограду и рвы замка, он почувствовал, что далее уйти не в состоянии. Он остановился в самом городе Тинтажеле, поселился с Горвеналом у одного горожанина и изнывал, мучимый лихорадкой, раненный сильнее, чем в те дни, когда копье Морольда отравило его тело ядом. Прежде, когда он лежал в лачуге, построенной на берегу моря, и все избегали зловония его ран, трое были при нем – Горвенал, Динас из Лидана и король Марк; теперь Горвенал и Динас еще находились у его изголовья, но король Марк не являлся; и Тристан стонал:
– Да, милый дядя, тело мое распространяет теперь запах еще более отвратительного яда, и твоя любовь не может превозмочь твоего омерзения.
И вместе с тем в жару лихорадки желание, точно конь, закусивший удила, беспрерывно влекло его к плотно запертым башням, за которыми заключена была королева; конь и всадник, поднявшись, снова пускались в тот же путь.
За плотно запертыми башнями изнемогала и белокурая Изольда, еще более несчастная, потому что среди чужих людей, которые за нею следили, ей надо было целый день изображать притворное веселье и смех, а ночью, лежа возле короля Марка, не двигаться, сдерживая дрожь во всем теле и приступы лихорадки. Она хочет бежать к Тристану. Ей кажется, что она встает и подходит к двери, но у порога ее предатели поставили в темноте большие косы: их отточенные злые лезвия впиваются на ходу в ее нежные колени, и ей кажется, что она падает и из ее порезанных колен бьют две алые струи.
Скоро любящие умрут, если никто не придет к ним на помощь. А кто же может спасти их, если не Бранжьена? С опасностью для жизни она прокралась к дому, где хирел Тристан. Радостно открыл ей двери Горвенал; и, ради спасения любящих, она учит Тристана уловке.
Никогда, добрые люди, не слыхали вы о более хитрой любовной уловке.
За замком Тинтажель простирался обширный плодовый сад, окруженный крепкой изгородью. Без числа росли в нем прекрасные деревья, отягощенные плодами, птицами и благоуханными гроздьями. В самом отдаленном от замка месте, рядом с кольями изгороди, возвышалась высокая и прямая сосна, могучий ствол которой поддерживал широко раскинувшуюся вершину. У ее подножия протекал ручей: вода разливалась вначале широкой полосой, светлая и спокойная, в мраморном водоеме, потом, заключенная в тесные берега, она неслась по саду, проникая даже внутрь замка и протекая по женским покоям.
И вот, по совету Бранжьены, Тристан каждый вечер искусно строгал кусочки коры и мелкие сучья. Перескочив через острую изгородь и подойдя к сосне, он бросал их в источник. Легкие как пена, они плыли по поверхности и текли вместе с пеной; а в женских покоях Изольда следила, когда они появятся. После этого вечером, если Бранжьене удавалось удалить короля Марка и предателей, Изольда направлялась к своему милому. Она шла спешно и пугливо, следя при каждом своем шаге, не скрыты ли за деревьями в засаде предатели. Увидев ее, Тристан бросался к ней, простирая объятия. И тогда им покровительствовали ночь и дружеская тень большой сосны.
– Тристан, – говорила королева, – моряки уверяют, что Тинтажельский замок зачарован и что вследствие этих чар два раза в году, зимой и летом, он исчезает и бывает невидим для глаз. Теперь он исчез. Не это ли тот чудесный сад, о котором, под звуки арфы, говорят песни? Воздушная стена окружает его со всех сторон, деревья в цвету, почва напоена благоуханием, рыцарь живет там, не старясь, в объятиях своей милой, и никакая вражья сила не может разбить воздушную стену…
На башнях Тинтажеля уже звучат рожки дозорщиков, возвещающих зарю.
– Нет, – отвечал Тристан, – воздушная стена уже разрушена, и не здесь тот чудесный сад. Но настанет день, моя дорогая, когда мы пойдем с тобой вместе в счастливую страну, откуда никто не возвращается. Там высится замок из белого мрамора; в каждом из тысячи его окон горит свеча, и у каждого жонглер играет и поет бесконечную мелодию. Солнце там не светит, и никто не сетует, что его нет. Это блаженная страна живых.
А на вершине башен Тинтажеля заря уже освещала большие зеленые и голубые каменные глыбы замка.
Изольда обрела свою радость. Подозрения короля Марка рассеялись; предатели, наоборот, догадались, что Тристан видится с королевой. Но Бранжьена сторожила так хорошо, что все их старания выследить любящих были тщетны. Наконец герцог Андрет (да посрамит его Господь!) сказал своим товарищам:
– Сеньоры, посоветуемтесь с Фросином, горбатым карликом. Он сведущ в семи искусствах[225], в магии и во всякого рода волшебстве. Он умеет при рождении ребенка так хорошо наблюдать семь планет и движение звезд, что предсказывает все, что приключится с ним в жизни. Властью Бугибуса и Нуарона[226] он открывает самые сокровенные тайны. Он откроет нам, если пожелает, хитрости белокурой Изольды.
Из ненависти к красоте и доблести маленький злой человечек начертил волшебные знаки, принялся за чары и заклинания, посмотрел на движение Ориона[227] и Люцифера[228] и сказал:
– Радуйтесь, сеньоры, в эту ночь вам удастся их поймать.
Они повели его к королю.
– Государь, – сказал колдун, – прикажите вашим охотникам спустить свору ищеек и оседлать коней. Объявите, что вы семь дней и семь ночей будете в лесу на охоте, и вы можете меня повесить, если не услышите в эту же ночь, какие речи ведет с королевой Тристан.
Король так и сделал, хотя и очень неохотно. Когда наступила мочь, он оставил своих охотников в лесу, посадил карлика за собой на коня и вернулся в Тинтажель. Потайным входом он проник в сад, и карлик привел его к большой сосне.
– Государь, вам надо взобраться на ветви этого дерева. Возьмите туда с собой ваш лук и стрелы; они вам, быть может, пригодятся. Да держитесь потише; долго ждать вам не придется.
– Убирайся, чертов пес! – ответил Марк. И карлик ушел, уводя коня.
Он сказал правду: король ждал недолго. В эту ночь луна сияла, светлая и прекрасная. Скрытый в ветвях, король видел, как его племянник перескочил через острую изгородь. Тристан встал под деревом и принялся бросать в воду стружки и сучья. Но так как, бросая, он наклонился над ключом, то увидел образ короля, отраженный в воде. Ах, если бы мог он остановить мчавшиеся стружки! Но, увы, они быстро несутся по саду. Там, в женских покоях, Изольда следит за их появлением: она, несомненно, уже увидела их и спешит сюда. Да защитит Господь любящих!
Она явилась. Тристан стоит неподвижно и глядит на нее; он слышит на дереве скрип стрелы, вправляемой в тетиву.
Она подходит, легкая и осторожная по обыкновению. «Что это? – думает она. – Почему Тристан не бежит мне навстречу? Не увидел ли он какого-нибудь врага?»
Она останавливается, хочет проникнуть взглядом в темную чащу; внезапно, при свете луны, она тоже замечает голову короля, отраженную в ручье. Она проявила свою женскую сообразительность тем, что не подняла глаз на ветви дерева.
– Господи Боже! – прошептала она. – Дозволь мне только заговорить первой.
Она подошла еще ближе. Послушайте, как она опередила и предупредила своего милого:
– Сеньор Тристан, на что ты отважился? Звать меня в такое место и в такой час! Ты говоришь, что уже много раз меня вызывал, чтобы упросить меня. В чем твоя просьба? Чего ты от меня ждешь? Наконец я пришла, ибо не могла забыть, что если я королева, то этим обязана тебе. Я здесь; чего же ты хочешь?
– Просить милости, королева, чтобы ты успокоила короля.
Она дрожит и плачет, а Тристан славит Господа Бога, что он открыл опасность его милой. – Да, королева, часто звал я тебя, и всегда напрасно: с тех пор как король прогнал меня, ты ни разу не удостоила явиться на мой зов. Сжалься теперь надо мной, несчастным: король меня ненавидит, не знаю за что; но ты, может быть, знаешь. А кто, кроме тебя одной, может смягчить его гнев, благородная королева, добрая Изольда, которой доверяется сердце Марка?
– Разве ты в самом деле не знаешь, сеньор Тристан, что он нас обоих подозревает? И в какой еще измене! Мне ли, к великому моему стыду, сообщать тебе о том? Мой супруг думает, что я люблю тебя преступной любовью. Про то знает Господь; и если я лгу, пусть он покроет позором мое тело! Никогда не дарила я никого своей любовью, кроме того, кто первый заключил меня, девушку, в свои объятия. Ты хочешь, Тристан, чтобы я просила короля о твоем помиловании? Да если бы он узнал только, что я пришла под эту сосну, завтра же он развеял бы мой прах по ветру!
Тристан воскликнул с тоскою:
– Говорят, милый дядя: «Тот не подл, кто не делает подлостей». Но в чьем же сердце могло зародиться такое подозрение?
Изольда продолжала:
– Да, ты любил меня, Тристан, – к чему это отрицать? Разве я не жена твоего дяди и не спасла тебя дважды от смерти? И я, в свою очередь, любила тебя: разве ты не родня королю, и не слышала ли я много раз от моей матери, что жена не любит своего мужа, если не любит его родни? Из любви к королю я любила тебя, Тристан, и даже теперь, если он вернет тебе свою милость, я буду этому рада. Но я дрожу, мне очень страшно. Я уйду, я и так слишком замешкалась.
Вверху, на ветвях, жалость разобрала короля, и он тихо улыбнулся. Изольда побежала. Тристан молил ее вернуться:
– Королева, во имя спасителя, приди ко мне на помощь, смилуйся! Трусы хотели отстранить от короля всех тех, кто его любит; им это удалось, и теперь они посмеиваются над ним. Пусть так! Я уйду из этой страны таким же бедняком, каким когда-то сюда явился. Но во всяком случае попроси короля, чтобы, в благодарность за прежние услуги и дабы я без стыда мог уехать в далекие края, он дал мне из своей казны сколько нужно, чтобы оплатить расходы, выкупить моего коня и доспехи.
– Нет, Тристан, тебе не следует обращаться ко мне с такой просьбой. Я одна в этой стране, одна в этом дворце, где меня никто не любит, – без поддержки, во власти короля. Если я замолвлю за тебя хоть одно слово, разве ты не понимаешь, что я могу навлечь на себя позорную смерть? Бог да сохранит тебя, друг! Не праведно ненавидит тебя король, но во всякой земле, куда бы ты ни пришел, Господь Бог будет тебе верным другом.
Она ушла, добежала до своей комнаты, где Бранжьена заключила ее, трепещущую, в свои объятия. Королева рассказала ей все, что случилось.
– Изольда, госпожа моя! – воскликнула Бранжьена. – Бог явил для тебя великое чудо. Он, милостивый отец, не хочет, чтобы пострадали те, о которых знает, что они невинны.
Под большой сосной, опершись на мраморный бассейн, Тристан сетовал:
– Господь да смилуется надо мной и да исправит великую не правду, которую я терплю от моего дорогого господина!
Уже он перескочил за изгородь сада, а король говорит про себя, улыбаясь:
– Милый племянник, да будет благословен этот час! Видишь ли: далекое путешествие, к которому ты снаряжался утром, уже кончилось.
Там, на опушке леса, карлик Фросин вопрошал звезды и прочел в них, что король угрожает ему смертью. Он почернел от страха и стыда, надулся от злости и быстро пустился бежать по направлению к валлийской земле.
Глава VII Карлик Фросин
Король Марк примирился с Тристаном. Он дозволил ему возвратиться в замок, и Тристан по-прежнему ночует в королевском покое, среди приближенных и доверенных людей. Когда ему захочется, он может входить и выходить: короля это более не заботит. Но кто же может долго скрывать свою любовь?
Марк простил своим предателям, и когда сенешаль Динас из Лидана нашел однажды в дальнем лесу горбатого карлика, блуждавшего и жалкого, он привел его к королю, который сжалился над ним и простил ему его проступок.
Но его доброта только раздражала ненависть баронов. Снова застав Тристана с королевой, они обязались следующей клятвой: если король не выгонит своего племянника из страны, они удалятся в свои крепкие замки и будут с ним воевать. Они пригласили короля для переговоров.
– Государь, люби нас, ненавидь нас, на это твоя воля, но мы желаем, чтоб ты изгнал Тристана. Он любит королеву; это видят все, и мы терпеть этого больше не желаем.
Выслушал их король, вздохнул и промолчал, опустив голову.
– Нет, государь, мы терпеть этого больше не желаем, ибо теперь мы знаем, что эта весть, когда-то новая, уже не поражает тебя и ты снисходишь к их преступлению. Как ты поступишь? Обдумай и решись. Что касается нас, то если ты не удалишь навсегда своего племянника, мы уедем в наши владения, отвлечем от твоего двора и соседей, ибо не можем вынести, чтобы они здесь оставались. Вот что мы предлагаем тебе на выбор. Решай.
– Я уже раз поверил, сеньоры, скверным словам, которые вы говорили о Тристане, и в этом раскаялся. Но вы – мои ленники, и я не хочу лишаться услуг моих людей. Дайте же мне совет, прошу вас: вы мне обязаны советом. Вы знаете хорошо, что я враг всякой гордыни и высокомерия.
– В таком случае, государь, вели позвать сюда карлика Фросина. Ты ему не доверяешь из-за того, что случилось в саду. Однако разве не прочел он в звездах, что королева придет в тот вечер под сосну? Он сведущ во многом, посоветуйся с ним.
Проклятый горбун поспешил явиться, и Деноален обнял его. Послушайте, какому предательству научил он короля:
– Прикажи, государь, своему племяннику, чтобы завтра на заре он поскакал в Кардуэль, к королю Артуру, с грамотой на пергаменте, хорошо запечатанной воском. Государь, Тристан спит возле твоего ложа. После первого сна выйди из твоего покоя; клянусь Богом и римским законом[229], что, если он любит Изольду грешной любовью, он захочет прийти поговорить с ней перед отъездом; если он явится так, что я про то не узнаю, а ты не увидишь, тогда убей меня. Что касается остального, предоставь мне вести дело по собственному усмотрению. Только смотри, не говори Тристану о поручении до того часа, когда надо будет идти спать.
– Хорошо, – ответил Марк, – пусть будет так.
Тогда карлик затеял гнусное предательство. Зайдя к пекарю, он купил на четыре денье[230] крупичатой муки и спрятал ее за пазуху. Кто когда-либо измыслил подобное предательство! Поздно вечером, когда король отужинал и его приближенные заснули в просторной зале по соседству с его покоем, Тристан подошел по обыкновению к ложу короля Марка.
– Дорогой племянник, – сказал ему король, – исполни мою волю: поезжай верхом к королю Артуру в Кардуэль и пусть он распечатает эту грамоту. Передай ему мой привет и не оставайся там более одного дня.
– Я выеду завтра, государь.
– Да, завтра, до рассвета.
И вот Тристан в большом волнении. Расстояние от его ложа до ложа Марка было в длину копья. Им овладело страстное желание поговорить с королевой, и он замыслил в сердце, что на заре, если Марк будет спать, он приблизится к Изольде. Боже, что за безумная мысль!
Карлик, по обыкновению, спал в королевском покое. Когда ему показалось, что все заснули, он поднялся и между ложем Тристана и постелью королевы посыпал крупичатой муки: если один из любовников приблизится к другому, мука сохранит отпечаток его шагов. Пока он сыпал, увидел это Тристан, еще не уснувший. «Что это значит? – подумал он. – Этот карлик не имеет обыкновения оказывать мне услуги. Но он обманется: глуп будет тот, кто дозволит ему снять следы своих ног».
В полночь король встал и вышел, а за ним и горбун-карлик. В комнате было темно – ни зажженной свечи, ни светильника. Тристан поднялся во весь рост на своей постели. Боже, зачем пришла ему эта мысль? Поджав ноги и измерив глазами расстояние, он сделал прыжок и упал на ложе короля. Увы, накануне в лесу клык огромного кабана ранил его в ногу, и, по несчастью, рана не была перевязана. При усилии от скачка она раскрылась, и потекла кровь; Тристан не видел ее, и она лилась, обагряя простыни. В это время карлик на свежем воздухе, при свете луны, узнал с помощью своего колдовства, что любовники оказались вместе. Затрясшись от радости, он сказал королю:
– Ступай теперь, и если не застанешь их вместе, вели меня повесить.
Они вошли в комнату – король, карлик и четыре предателя. Тристан заслышал их, поднялся, прыгнул и упал на свое ложе. Но, увы, при этом скачке кровь из раны брызнула и обильно смочила муку.
Король, бароны и карлик со светильником – уже в комнате. Тристан и Изольда притворились спящими. Они оставались одни в покое, не считая Периниса: он лежал в ногах Тристана и не двигался. Но король увидел на ложе обагренные простыни, а на полу – муку, смоченную свежей кровью.
Тогда четыре барона, ненавидевшие Тристана за его доблесть, схватили его на постели, грозя королеве, издеваясь над ней, дразня ее, обещая ей праведный суд. Они нашли кровоточивую рану.
– Тристан, – сказал король, – всякие оправдания бесполезны: завтра ты умрешь!
– Смилуйся, государь! – воскликнул Тристан. – Во имя Бога, за нас распятого, сжалься над нами!
– Отомсти за себя, государь! – сказали предатели.
– Дорогой дядя, – заговорил снова Тристан, – не за себя я молю: мне не тяжело умирать. Конечно, если бы не боязнь тебя рассердить, я дорого отплатил бы за это оскорбление трусам, которые без твоей защиты не осмелились бы своими руками коснуться моего тела; но из уважения и любви к тебе я отдаюсь на твою волю: делай со мной что хочешь, бери меня, государь, но сжалься над королевой.
И Тристан униженно склонился к его ногам.
– Сжалься над королевой, ибо если есть в твоем доме человек, достаточно отважный, чтобы утверждать ложно, будто я любил ее преступной любовью, я готов сразиться с ним на поединке. Во имя Господа Бога, смилуйся над нею, государь!
Но четыре барона связали веревками его и королеву. Если бы он только знал, что ему не дозволят доказать поединком свою невиновность, он дал бы скорее разорвать себя на части, чем допустил бы позорным образом связать себя.
Он надеялся на Бога и знал, что никто не посмеет выступить против него с оружием. И он по праву полагался на Бога. Когда он клялся, что никогда не любил королеву преступной любовью, предатели смеялись наглому обману. Но я обращаюсь к вам, добрые люди: вы знаете всю правду о любовном зелье, выпитом на море, и можете решить, ложно ли он говорил. Не поступок доказывает преступление, а истинный суд. Люди видят поступок, а Бог видит сердца: он один – праведный судья. Потому-то он пожелал, чтобы всякий обвиняемый имел возможность доказать свою правоту поединком, и он сам сражается на стороне невинного. Вот почему Тристан требовал суда и поединка, остерегаясь в чем-либо оказать неуважение королю Марку. Но если бы он мог предугадать, что потом произошло, он убил бы предателей. Боже, зачем не убил он их!
Глава VIII Прыжок из часовни
По городу темной ночью бежит молва: Тристан и королева схвачены, король хочет их казнить. Богатые горожане и мелкий люд – все плачут.
– Увы, как нам не плакать! Тристан, смелый боец, неужели ты умрешь от такого подлого предательства? А ты, благородная, почитаемая королева! В какой земле народится когда-либо принцесса, столь прекрасная, столь любимая? Это плод твоего колдовства, горбун-карлик! Да не удостоится лицезреть Господа тот, кто, встретив тебя, не вонзит в твое сердце копье! Тристан, милый друг, дорогой! Когда Морольд, явившийся, чтобы захватить наших детей, высадился на этом берегу, никто из баронов не посмел выступить против него: все молчали, как немые, лишь ты, Тристан, вышел на поединок за всех нас, людей Корнуэльса. Ты убил Морольда, он поразил тебя копьем, и от этой раны ты едва не умер за нас. И нынче, памятуя обо всем этом, неужели допустим мы твою смерть?
Жалобы и вопли разносятся по всему городу; все бегут во дворец. Но таков гнев короля, что не найдется столь сильного и смелого барона, который решился бы замолвить слово, чтобы смягчить его.
День близится, ночь уходит. Еще до восхода солнца Марк выехал за город к месту, где он обыкновенно творил суд и расправу. Он велел вырыть в земле яму и» наложить в нее узловатых колючих прутьев и белого и черного терновника, вырванного с корнем.
В шесть часов утра он велел кликнуть клич по всей стране, чтобы тотчас же собрались корнуэльские люди. Они шумно сбегались; и не было никого, кто бы не плакал, кроме карлика из Тинтажеля. Тогда король сказал так:
– Сеньоры, этот костер из терновника я велел сложить для Тристана и королевы, ибо они преступили закон. Все закричали:
– Требуем суда, государь, прежде всего суда, тяжбы и разбирательства! Казнить их без суда – позор и преступление. Дай им отсрочку, окажи милость!
Марк ответил гневно:
– Не будет им ни отсрочки, ни милости, ни защиты, ни суда. Клянусь Господом, творцом мира, если кто еще посмеет просить меня об этом, его первого сожгут на костре.
Он приказал развести огонь и немедленно привести из замка Тристана. Терновник пылает, все молчат, король ждет.
Слуги добежали до покоя, где под крепкой стражей находились любящие. Тристана схватили за руки, спутанные веревками. Клянусь Богом, что за подлость была так связать его! Он плачет от обиды; но какая польза от этих слез? Его тащат позорным образом, а королева восклицает, почти обезумев от горя:
– Быть убитой для твоего спасения – вот что было бы мне великой радостью!
Стража и Тристан выходят из города, направляясь к костру, но за ними мчится всадник, догоняет их, соскакивает на ходу с боевого коня: это Динас, славный сенешаль. Узнав о случившемся, он выехал из своего замка Лидана; пена, пот и кровь струились с боков его коня.
– Сын мой, я спешу на королевский суд! Господь, быть может, внушит мне такой совет, который вам обоим будет пригоден; по крайней мере он и теперь дозволит мне сослужить тебе малую службу. Друзья, – сказал он слугам, – я желаю, чтобы вы вели его без пут.
Динас разрубил позорные веревки и прибавил:
– Если он попытается убежать, разве не при вас ваши мечи?
Он поцеловал Тристана в уста, снова сел на коня и умчался.
Послушайте же, каково милосердие Божие! Не желая смерти грешника, Господь внял слезам и воплям бедных людей, которые молили его за любящих. У дороги, по которой проходил Тристан, на вершине скалы возвышалась над морем обращенная к северу часовня. Стены задней ее стороны были расположены на краю берега, высокого, каменистого, с острыми уступами; в ее абсиде[231], над самой пропастью, было расписное окно искусной работы какого-то святого человека. Тристан сказал тем, кто его вел:
– Видите ли вы эту часовню, добрые люди? Позвольте мне войти в нее. Смерть моя близка: я помолюсь Богу, чтобы он простил мне мои прегрешения. У часовни всего один выход, а у каждого из вас есть по мечу; вы хорошо понимаете, что я могу выйти только этой дверью и что, когда я помолюсь, мне придется волей-неволей отдаться в ваши руки.
Один из стражей сказал:
– Разумеется! Отчего ему не позволить?
Они дали ему войти. Он кинулся внутрь часовни, пробежал мимо алтаря, подскочил к окну в абсиде, схватился за него, открыл и прыгнул наружу… Лучше это падение, чем смерть на костре, да еще перед таким сборищем!
Знайте, добрые люди, что Бог смиловался над ним: ветер надул его одежду, подхватил его и опустил на большой камень у подножия скалы.
До сих пор еще корнуэльцы зовут этот утес «Прыжок Тристана».
А перед церковью все его ждали; но тщетно: Бог принял его теперь под свою защиту. Он бежит, рыхлый песок осыпается под его ногами. Он падает, оборачивается, видит вдали костер: пламя трещит, дым поднимается столбом… Он бежит.
Схватив меч, опустив поводья, Горвенал вырвался из города: король сжег бы его самого вместо его господина. На поляне он нагнал Тристана.
– Бог помиловал меня, наставник! – воскликнул Тристан. – Но к чему мне это, несчастному? Если нет со мною Изольды, все утратило для меня цену. И зачем не разбился я при падении! Я спасся, Изольда, а тебя убьют. Ее сжигают из-за меня, из-за нее умру и я.
Сказал ему Горвенал:
– Дорогой мой господин, успокойся, не слушайся голоса гнева! Видишь ты этот частый кустарник, окруженный широким рвом? Спрячемся там: много людей проходит по этой дороге; они нас оповестят, и если, сын мой, Изольду сожгут, клянусь Богом, сыном Марии, никогда не ночевать мне под кровлей до того дня, когда мы за нее отомстим.
– Но у меня нет меча, дорогой наставник!
– Вот он: я его привез тебе.
– Хорошо, милый наставник: теперь я не боюсь никого, кроме Бога.
– Да еще, сын мой, есть у меня под платьем такая вещь, которая тебя порадует, – панцирь, крепкий и легкий: он может тебе сослужить службу.
– Дай его сюда, дорогой наставник: клянусь Богом, в которого верую, что теперь я освобожу мою милую.
– Не торопись! – сказал Горвенал. – Господь, без сомнения, уготовил тебе какое-нибудь более надежное отмщение. Подумай, что приблизиться к костру не в твоей власти: горожане окружают его, а они короля боятся. Может быть, тот или другой и желает твоего освобождения, но он первый же тебя и ударит. Ведь правильно говорят, сын мой: отчаянность – не храбрость. Погоди…
Случилось, что, когда Тристан бросился со скалы, какой-то бедный человек из мелкого люда увидел, как он поднялся и побежал. Человек этот поспешил в Тинтажель, прокрался в горницу Изольды и сказал ей:
– Не плачьте, государыня, ваш друг спасся.
– Да будет благословен Господь! – промолвила она. – Пусть теперь меня вяжут или развязывают, щадят или казнят, мне это все равно.
Предатели так скрутили веревками кисти ее рук, что потекла кровь; и она сказала, улыбаясь:
– Если бы я заплакала от этого мучения теперь, когда Господь в милосердии своем только что вырвал моего милого из рук предателей, чего бы я стоила?
Когда до короля дошла весть, что Тристан бежал через окно часовни, он побледнел от гнева и приказал своим людям привести Изольду.
Ее влекут. Она появляется на пороге залы, протягивает свои нежные руки, из которых сочится кровь. Крик несется по всей улице: «Боже, смилуйся над ней! Благородная, достойная королева, в какую печаль ввергли нашу страну те, что предали тебя! Будь они прокляты!»
Королеву приволокли к костру из пылающего терновника. Тогда Динас из Лидана пал к ногам короля:
– Внемли мне, государь! Я служил тебе долго, честно и верно и не ради выгоды: нет такого бедняка, сироты, старухи, которые дали бы мне денежку за сенешальство, что я держал от тебя в течение всей моей жизни. В награду за это помилуй королеву. Ты хочешь сжечь ее без суда: это – преступление, ибо она не признается в том, в чем ты ее обвиняешь. К тому же размысли: если ты сожжешь ее, не будет больше мира в твоей стране. Тристан убежал: ему хорошо известны равнины, леса, переправы и проходы, а он смел. Конечно, ты его дядя, он не нападет на тебя самого; но он перебьет всех баронов, твоих вассалов, какие ему попадутся.
Слышали это четыре предателя и побледнели; им уже виделся Тристан, поджидающий их в засаде.
– Государь! – сказал сенешаль. – Если правда то, что я верно тебе служил всю свою жизнь, отдай мне Изольду: я тебе отвечаю за нее как ее страж и поручитель.
Но король взял Динаса за руку и поклялся именем всех святых, что он тотчас совершит суд. Тогда Динас поднялся и сказал:
– Я возвращаюсь в Лидан, государь, и бросаю вашу службу.
Грустно улыбнулась ему Изольда. Динас сел на своего боевого коня и удалился, печальный и угрюмый, потупив голову.
Изольда стоит перед костром. Вокруг нее толпа кричит, проклиная короля, проклиная предателей. По лицу Изольды текут слезы. Она одета в узкий блио серого цвета, с тонкой на нем золотой полоской; золотая нить вплетена в ее волосы, спадающие до ног. Кто бы увидел ее столь прекрасной и не пожалел, у того сердце предателя. Боже, как крепко связали ей руки!
Случилось, что сто прокаженных, обезображенных, с источенным белесоватым телом, приковыляли на костылях под звуки своих трещоток и столпились у костра; и из-под распухших век их налитые кровью глаза любовались зрелищем.[232] Ивен, самый отвратительный из больных, закричал королю пронзительным голосом:
– Ты хочешь, государь, предать огню свою жену? Наказание справедливое, но слишком скорое. Быстро сожжет ее это сильное пламя, быстро рассеет буйный ветер ее пепел; и когда пламя потухнет, муки ее прекратятся. Хочешь ли, я научу тебя худшему наказанию, так, что она будет жить, но с великим позором, вечно желая себе смерти? Хочешь ли того?
Король ответил:
– Пусть живет, но с великим позором, который хуже смерти. Кто научит меня такой казни, того я особо возлюблю.
– Итак, скажу коротко свою мысль, государь. Видишь ли, у меня сто товарищей. Отдай нам Изольду – пусть она будет наша. Недуг разжигает наши страсти. Дай ее твоим прокаженным. Никогда женщина не будет иметь худшего конца. Посмотри, как лохмотья липнут к нашим сочащимся ранам… А она, которой были любы, пока она находилась с тобой, дорогие ткани, подбитые пестрым мехом, драгоценности, покои, изукрашенные мрамором, она, которая наслаждалась хорошими винами, почетом, весельем, – когда она увидит двор твоих прокаженных и ей придется войти в наши низкие лачуги и спать с нами, тогда красавица белокурая Изольда познает свой грех и пожалеет о прекрасном костре из терновника!
Выслушав его, король поднялся с места и долго стоял неподвижно. Наконец он подбежал к королеве и схватил ее за руку. Она воскликнула:
– Сжалься надо мной, государь! Сожгите, сожгите меня скорей!
Король молчал. Ивен и сто больных теснились вокруг нее. Слушая, как они кричат и вопят, все сердца сжались от жалости. А Ивен доволен; Изольда уходит, и Ивен ее ведет. Ужасный сонм вышел из города. Они направились по дороге, где Тристан сидел в засаде. – Что ты намерен делать, сын мой? – крикнул Горвенал. – Вот твоя милая!
Тристан выехал на коне из чащи.
– Ивен, довольно тебе провожать ее: оставь ее, коли жизнь тебе мила!
Но Ивен сбросил свой плащ.
– Смелей, друзья! Возьмемся за палки, за костыли! Настало время показать нашу доблесть.
Любо было видеть, как, скинув свои плащи, прокаженные поднялись на больных ногах, отдувались, кричали, потрясая костылями; тот грозит, этот ворчит. Но противно было Тристану бить их. Сказители утверждают, что он убил Ивена. Так говорить непристойно. Нет, он слишком доблестен, чтобы убивать такое отродье. Не он, а Горвенал, отломив крепкий дубовый сук, ударил им по черепу Ивена: черная кровь брызнула и потекла по всему телу, вплоть до искривленных ног.
Тристан отбил королеву – и она уже больше не испытывает никаких страданий. Он разрезал веревки, связывавшие ее руки; и, покинув равнину, они углубились в лес Моруа. Там, в густой чаще, Тристан почувствовал себя в безопасности, как за стеной крепкого замка.
Когда солнце склонилось, они остановились все втроем у подножия горы. Страх утомил королеву; она опустила свою голову на грудь Тристана и заснула.
Наутро Горвенал похитил у одного лесничего лук и две хорошо оперенные зубчатые стрелы и отдал Тристану, хорошему стрелку, который подстерег косулю и убил ее. Горвенал набрал груду сухих сучьев, достал огнивом искру и зажег большой костер, чтобы изжарить дичь, а Тристан нарубил ветвей, устроил шалаш и покрыл его листвой; Изольда устлала его густой травой. Тогда в глубине дикого леса началась для беглецов жизнь суровая, но милая им.
Глава IX Лес Моруа
В глуби глухого леса с великим трудом, словно преследуемые звери, они бродят и редко осмеливаются к вечеру возвратиться на вчерашний ночлег. Питаются они только мясом диких зверей, вспоминая с сожалением о вкусе соли и хлеба. Их изможденные лица побледнели; одежда, раздираемая шипами, превращается в лохмотья. Они любят друг друга – и не страдают.
Однажды, когда они скитались по большим лесам, никогда не знавшим топора, случайно они набрели на хижину отшельника Огрина. На солнце, в кленовой роще, вблизи своей часовни, прогуливался тихими шагами старик, опираясь на посох.
– Сеньор Тристан! – воскликнул он. – Узнай, какой великой клятвой поклялись жители Корнуэльса. Король велел объявить во всех приходах: кто тебя поймает, получит в награду сто марок золотом. И все бароны поклялись выдать тебя живым или мертвым. Покайся, Тристан! Бог прощает грешников.
– Мне – покаяться, друг Огрин? В каком же преступлении? Ты, который нас судишь, знаешь ли ты, какое зелье мы испили на море? Да, славный напиток нас опьянил, и я предпочел бы скорее нищенствовать всю свою жизнь по дорогам и питаться травами и корнями вместе с Изольдой, чем без нее быть королем славного государства.
– Да поможет тебе Господь, сеньор! Ибо ты погиб и на этом свете и в будущем. Изменника своему господину следует разорвать на части двумя конями, сжечь на костре, и там, где пал его пепел, трава больше не растет, и пахота на том месте без пользы; там гибнут и деревья и злаки.
Тристан, отдай королеву тому, кто сочетался с ней браком по римскому закону.
– Она более не принадлежит ему: он отдал ее своим прокаженным; у прокаженных я ее и отнял. Теперь она навсегда моя; расстаться с ней я не могу, как и она со мной.
Огрин присел. У его ног Изольда плакала, склонив голову на колени человека, принявшего на себя страду во имя Божие. Отшельник повторял ей святые слова евангелия; но, обливаясь слезами, она качала головой и не хотела ему верить.
– Увы, – сказал Огрин, – как утешать мертвых? Покайся, Тристан, ибо человек, живущий в грехе без раскаяния, мертв.
– Нет, я живу и не раскаиваюсь. Мы вернемся в лес, который дает нам приют и нас охраняет. Пойдем, Изольда, дорогая!
Изольда поднялась. Они взялись за руки и углубились в высокие травы и вереск; деревья сомкнули за ними свои ветви, и они исчезли за листвой.
Послушайте, добрые люди, о славном приключении. Тристан воспитал собаку-ищейку, красивую, живую, легкую на бегу: ни у одного графа, ни у одного короля не было ей равной для охоты с луком и стрелами. Звали ее Хюсден. Пришлось запереть собаку в башне, навязав ей на шею чурку. С того дня, как она не видела более своего хозяина, она отказывалась от всякой пищи, рыла лапами землю, в глазах ее были слезы, она выла. Многим стало ее жалко.
– Хюсден, – говорили они, – ни одно животное не умело так преданно любить, как ты. Да, мудро изрек Соломон: «Преданный мне друг – это моя борзая».
И король Марк, вспоминая о прошлых днях, думал в своем сердце: «Большой ум у этой собаки, что она так плачет по своем хозяине; есть ли кто в Корнуэльсе, кто бы стоил Тристана?»
Три барона пришли к королю:
– Велите, государь, отвязать Хюсдена: мы узнаем, от тоски ли по своем хозяине собака так скучает. Если нет, то, когда ее отвяжут, вы увидите, как она будет бросаться, с раскрытой пастью и высунув язык, на людей и животных, стараясь укусить их.
Ее отвязали. Она выскочила из двери и побежала в горницу, где прежде находила Тристана. Она рычит, воет, ищет – напала, наконец, на след своего хозяина. Шаг за шагом пробегает она по дороге, которою Тристан шел к костру. Все следуют за нею. Громко тявкая, она лезет на утес. Вот она в часовне, вскочила на алтарь, внезапно прыгает из окна, падает у подошвы скалы, снова находит след на берегу, останавливается на мгновение в цветущей роще, где прятался в засаде Тристан, затем направляется к лесу. Нет никого, кто бы, видя это, ее не пожалел.
– Государь, – сказали тогда рыцари, – не надо следовать за нею: она, пожалуй, заведет нас в такое место, откуда трудно будет и выбраться.
Они оставили ее и вернулись. Достигнув леса, собака огласила его своим лаем. Издалека услышали его Тристан, королева и Горвенал: «Это Хюсден!» Они испугались: наверно, король их преследует; он, должно быть, напустил на них ищеек, как на диких зверей. Они углубились в чащу. На опушке, с натянутым луком, стал Тристан, но когда Хюсден увидел и признал своего хозяина, он прыгнул прямо к нему, вертя головой и хвостом, выгибая спину, свиваясь кольцом. Затем он подбежал к белокурой Изольде, к Горвеналу, приласкался и к коню.
Тристан сильно опечалился:
– Увы! Какое горе, что он нас нашел! Что может поделать с собакой, которая не умеет быть спокойной, преследуемый человек? По равнинам и лесам, по всей своей земле ищет нас король: Хюсден выдаст нас своим лаем. Увы, ведь из любви и по природному благородству пришла моя собака искать смерти! Нам следует, однако, остерегаться. Что делать? Посоветуйте мне.
Погладив Хюсдена, Изольда сказала:
– Пощади ее! Мне пришлось слышать об одном валлийском леснике, который приучил свою собаку бегать без лая по кровяному следу раненых оленей. Вот была бы радость, дорогой Тристан, если бы удалось, потрудившись, выучить тому и Хюсдена.
Он задумался на мгновение, меж тем как собака лизала руки Изольды. Сжалился Тристан и говорит:
– Попытаюсь, уж слишком тяжело мне убивать ее. Вскоре Тристан пошел на охоту, выгнал лань и ранил ее стрелой. Собака хочет броситься по следам лани и лает так громко, что слышно на весь лес. Тристан ударом заставляет ее замолчать; Хюсден поднимает голову на своего господина; он удивлен, не смеет больше лаять и не идет по следу. Тогда Тристан кладет его у своих ног, затем бьет себя по сапогу каштановым прутом, как то делают охотники, чтобы науськать собаку. Видя это, Хюсден хочет снова залаять, и Тристан наказывает его. Не прошло и месяца, как, школя собаку таким образом, он научил ее охотиться в молчанку: когда, бывало, он ранит стрелою косулю или лань, Хюсден, никогда не подавая голоса, выслеживает ее по снегу, льду или траве. Если он настигал зверя в лесу, то отмечал то место, притаскивая туда ветви; если заставал его на лугу, то покрывал травой тушу и возвращался без лая за своим хозяином.
Прошло лето, наступила зима. Любящие жили, приютясь в пещере, на земле, отвердевшей от мороза; ледяшки щетинили их ложе из опавших листьев. Ни он, ни она не чувствовали горя – такова была сила их любви. Но когда вернулось светлое время года, они построили под большими деревьями шалаш из зазеленевших ветвей. Тристан с детства умел искусно подражать пению лесных птиц; он подражал то иволге, то синице, то соловью или другому пернатому, и порой на ветвях шалаша множество птиц, прилетевших на его призыв, распевали, назобившись, свои песни в сиянии дня. Любящие не бродили более по лесу и не скитались беспрестанно, ибо ни один барон не отваживался их преследовать, зная, что Тристан повесил бы его на ветвях дерева.
Случилось однако, что один из четырех предателей, Генелон, – да будет проклят он Богом! – увлеченный охотой, осмелился забрести в лес Моруа. В то утро на опушке леса, в глубоком овраге, Горвенал, расседлав своего коня, пустил его пастись на молодой траве; поблизости, под навесом из ветвей, на груде цветов и зелени, Тристан покоился, крепко обняв королеву, и оба спали.
Внезапно Горвенал заслышал лай своры: собаки мчались, выгоняя оленя, который бросился в овраг. Вдали на лугу показался охотник. Горвенал признал его: это был Генелон, тот из баронов, которого больше всего ненавидел его господин. Он скакал один, без конюшего, вонзив шпоры в окровавленные бока своего коня и нахлестывая его шею. Спрятавшись за деревом, Горвенал подстерегал его; быстро подъезжает он, медленнее будет возвращаться.
Вот он проезжает. Выскочив из засады, Горвенал хватает его коня под уздцы. И, в одно мгновение припомнив все то зло, какое сделал этот человек, он валит его с коня, кромсает мечом и удаляется, унося с собой отрубленную голову. Там, под навесом из листьев цветущей зелени, спали, крепко обнявшись, Тристан и королева. Горвенал тихо подошел к ним; в руке у него мертвая голова.
Когда охотники нашли под деревом обезглавленный труп, они так перепугались, как если бы Тристан уже гнался за ними по пятам; они бросились бежать, убоявшись смерти. С тех пор никто уже больше в этом лесу не охотился.
Чтобы порадовать сердце своего господина, когда он проснется, Горвенал привязал голову за волосы к шесту шалаша; густая листва ее обрамляла.
Тристан проснулся и увидел полускрытую ветвями голову, которая глядела на него. Он узнал Генелона и вскочил в испуге. Но его наставник крикнул ему:
– Успокойся, он мертв! Я убил его вот этим мечом. Сын мой, это был твой враг.
И Тристан обрадовался: человек, которого он ненавидел, Генелон, убит.
С тех пор никто не решался проникнуть в дикий лес. Ужас охранял вход в него; любящие – в нем хозяева. Тогда-то смастерил Тристан лук «Без промаха», из которого стрелы всегда попадали в цель, в человека или зверя, в намеченное место.
То было летним днем, добрые люди, в пору жатвы, вскоре после троицына дня. Птицы пели по росе навстречу утренней заре. Тристан вышел из шалаша, опоясался мечом, снарядил лук «Без промаха» и один отправился в лес на охоту. Прежде, чем настанет вечер, великое горе его постигнет. Нет, никогда любящие не любили так сильно и не искупили этого так жестоко.
Когда Тристан вернулся с охоты, утомленный изнуряющим зноем, он обнял королеву.
– Где был ты, дорогой?
– Ходил за оленем; он вконец истомил меня. Смотри, пот с меня течет. Хочу лечь и поспать.
На ложе из зеленых ветвей, устланное свежей травой, первая легла Изольда. Тристан лег возле нее, положив между нею и собою обнаженный меч. У королевы на пальце был золотой перстень с чудным изумрудом, который подарил ей Марк в день их свадьбы. Так спали они, крепко обнявшись; одна рука Тристана была просунута под шею его милой, другою он обхватил ее прекрасное тело, но уста их не соприкасались. Ни малейшего дуновения ветерка, ни один листок не шелохнет. Сквозь ветвяную крышу падал луч солнца на лицо Изольды, и оно сияло, как льдинка.
Случилось, что лесник набрел в лесу на место, где трава была помята; накануне там покоились любящие. Он не признал следа их тел, но направился по следу шагов и пришел к их жилищу. Он увидел их спящими, узнал и пустился бежать, боясь грозного пробуждения Тристана. Пробежав две мили, отделяющие лес от Тинтажеля, он поднялся по ступеням в залу, где застал короля, творившего суд среди созванных им вассалов.
– По какому делу явился ты сюда, друг мой? Ты, вижу я, запыхался, точно псарь, долго бегавший за ищейками. Не хочешь ли ты просить, чтобы я рассудил какую-нибудь твою обиду? Кто выгнал тебя из моего леса?
Лесник отвел его в сторону и тихо сказал:
– Я видел королеву и Тристана. Они спали; я испугался.
– В каком месте?
– В шалаше, в лесу Моруа. Они спали в объятиях друг у друга. Поспеши, если хочешь отомстить. – Иди, жди меня на опушке леса, у подножия Красного Креста. Да не говори никому о том, что ты видел: я тебе дам золота и серебра, сколько захочешь взять.
Лесник отправился и сел у подножия Красного Креста. Да будет проклят доносчик! Но он умрет позорною смертью, как вам сейчас поведает мой рассказ.
Король велел оседлать своего коня, опоясался мечом и, не сопровождаемый никем, незаметно выехал из города. Когда он ехал один, припомнилась ему ночь, когда поймал он своего племянника: какую нежность выказала тогда к Тристану прекрасная белокурая Изольда! Если он застанет их врасплох, он покарает их за их великие грехи, отомстит тем, кто его опозорил. У Красного Креста он нашел лесника:
– Иди вперед, веди меня скоро и прямо.
Их окутала черная тень высоких деревьев. Король следовал за доносчиком, положившись на свой меч, когда-то наносивший славные удары. А что, если Тристан проснется? Один Бог ведает, кому из них двоих суждено остаться на месте! Наконец лесник сказал тихо:
– Государь, мы подъезжаем!
Он подержал королю стремя и привязал коня за уздечку к зеленой яблоне. Они еще приблизились и внезапно на залитой солнцем лужайке увидели цветущий шалаш. Король расстегнул свою мантию с застежками из чистого золота и сбросил ее, обнаружив свой прекрасный стан. Он вытащил меч из ножен, повторяя в своем сердце, что сам умрет, если не убьет их. Лесник следовал за ним, но король сделал ему знак вернуться.
Он проник в шалаш один, с обнаженным мечом, и уже занес его… Какое будет горе, если он нанесет этот удар! Но он увидел, что губы их не соприкасались и обнаженный меч разделял их тела.
«Боже! – подумал он. – Что я вижу! Могу ли я убить их? Они так долго жили в этом лесу, и если бы любили друг друга грешной любовью, разве положили бы этот меч между собой? И разве не знает каждый, что обнаженное лезвие, разделяющее два тела, служит порукой и охраной целомудрия? Если бы они любили друг друга грешной любовью, почивали бы они так непорочно? Нет, я их не убью: это было бы большим грехом; и если бы я разбудил этого спящего и один из нас был убит, об этом долго стали бы говорить, и к нашему стыду. Но я устрою так, что, проснувшись, они узнают, что я застал их спящими и не пожелал их смерти и что Бог сжалился над ними».
Солнце, проникая в шалаш, палило белое лицо Изольды. Король взял свои рукавицы, опушенные горностаем. «Это она, – вспомнил он, – привезла их мне тогда из Ирландии». Он всунул их в листву, чтобы заткнуть отверстие, через которое падал луч, потом осторожно снял перстень с изумрудом, который подарил королеве: прежде надо было сделать усилие, чтобы надеть его ей на палец, а теперь пальцы ее так исхудали, что перстень снялся без труда. Вместо него король надел ей свой, подаренный ему Изольдой. Затем он взял меч, который разделял любящих. Он узнал и его: то был меч, который зазубрился о череп Морольда. Вместо него король положил свой. Выйдя из шалаша, он вскочил в седло и сказал лесничему:
– Беги теперь и спасайся, если можешь!
А Изольде виделось во сне, будто она в Богатом шатре среди большого леса. Два льва на нее бросились и стали драться из-за нее… Она вскрикнула и проснулась: рукавицы, опушенные белым горностаем, упали ей на грудь. На ее крик Тристан вскочил, хотел схватить свой меч – и признал по золотой чашке, что это меч короля. И королева увидела на своем пальце перстень Марка.
– Горе нам! – воскликнула она. – Король нас застал!
– Да, – сказал Тристан, – он унес мой меч; он был один, испугался и пошел за подкреплением. Он вернется и велит сжечь нас перед всем народом. Бежим!
И большими переходами, сопровождаемые Горвеналом, они устремились к Уэльсу, до границ леса Моруа. Сколько мучений причинила им любовь!
Глава X Отшельник Огрин
Три дня спустя Тристан долго выслеживал раненого оленя. Наступила ночь; и в темном лесу он стал раздумывать:
«Нет, вовсе не из страха пощадил нас король. Он взял мой меч, когда я спал и был в его власти; он мог поразить меня. К чему были подкрепления? Чтобы взять меня живым? Если он желал этого, зачем было, обезоружив меня, оставить мне собственный меч? О, я узнал тебя, отец! Не из страха, а из нежности и сострадания ты пожелал простить нас. Простить! Кто бы мог, не унижая себя, простить такой проступок? Нет, он вовсе не простил: он понял. Понял он, что у костра, в прыжке из часовни и в засаде против прокаженных Бог принял нас под свою защиту. Вспомнил он о ребенке, который когда-то играл на арфе у его ног, о моей земле Лоонуа, покинутой для него, о копье Морольда, о крови, пролитой за его честь. Вспомнил он, что я не признал своей вины, но тщетно требовал суда, своего права и поединка, и благородство его сердца склонило его к уразумению того, чего бароны его не понимают. Не то чтобы он знал или когда-нибудь мог узнать правду о нашей любви, но он сомневается, надеется, чувствует, что говорил я не ложно; он хочет, чтобы я судом доказал свою правоту. О милый мой дядя, если бы мне с помощью Божьей победить в поединке, добиться мира с тобой и снова для тебя надеть панцирь и шлем! Но что я говорю? Он взял бы Изольду… И я бы отдал ее ему? Уж лучше бы он зарезал меня во сне! Прежде, преследуемый им, я мог его ненавидеть и забыть; он отдал Изольду больным, она была уже не его, она была моей. И вот своим состраданием он пробудил во мне нежность и отвоевал королеву. Королеву!.. У него она была королевой, а в этом лесу она живет как раба. Что сделал я с ее молодостью? Вместо покоев, убранных шелковыми тканями, я ей предоставил этот дикий лес, шалаш вместо роскошного полога; и ради меня идет она по этому страдному пути. О Господи Боже, царь вселенной, помилуй меня и дай мне силы, чтобы я мог вернуть Изольду королю Марку! Разве не его она жена, повенчанная с ним по римскому закону перед всей знатью его страны?»
Опершись на свой лук, Тристан долго тосковал в ночи.
В чаще, окруженной забором из терновника, которая служила им убежищем, белокурая Изольда ждала возвращения Тристана. При свете месяца она увидела сияющий на ее пальце золотой перстень, который надел на него Марк. Она подумала: «Кто подарил мне так великодушно этот золотой перстень? Не тот разгневанный человек, который отдал меня прокаженным, – нет! Это тот великодушный государь, который принял меня и покровительствовал мне с того дня, как я явилась в его страну. Как любил он Тристана! Но я пришла – и что я сделала? Тристану подобало жить во дворце короля с сотней юношей, которые служили бы ему, чтобы достигнуть рыцарского звания; ему следовало разъезжать по замкам и баронствам, ища себе прибыли и подвигов. Из-за меня забыл он рыцарское дело, изгнан от двора, преследуем по лесу, ведет эту дикую жизнь…»
Она услышала шаги Тристана, ступавшие по листьям и сухим ветвям; вышла, по обыкновению, к нему навстречу, чтобы снять с него оружие, взяла из его рук лук «Без промаха» со стрелами и развязала привязи меча.
– Дорогая, это меч короля Марка, – сказал Тристан. – Он должен был убить нас, – он нас пощадил.
Изольда взяла меч, поцеловала его в золотую чашку, и Тристан увидал, что она плачет.
– Дорогая, – сказал он, – если бы только я мог примириться с королем Марком! Если бы он дозволил мне доказать поединком, что никогда, ни на деле, ни на словах, я не любил тебя преступной любовью! Всякий рыцарь, от Лидана до Дургама, который бы осмелился мне противоречить, нашел бы меня готовым к бою. А потом, если бы король согласился удержать меня в своей дружине, я послужил бы ему к великой его славе, как своему господину и отцу; а если бы он предпочел удалить меня, оставив тебя у себя, я направился бы к фризам или в Бретань в сопровождении одного только Горвенала. Но куда бы я ни пошел, я всегда останусь твоим, королева. Я не думал бы об этой разлуке, Изольда, если бы не жестокая нужда, которую ты, моя прекрасная, терпишь из-за меня так долго в этих пустынных местах.
– Вспомни, Тристан, об отшельнике Огрине, что живет в своей рощице. Вернемся к нему, дорогой, и да смилуется над нами всемогущий царь небесный!
Они разбудили Горвенала. Изольда села на коня, которого Тристан повел под уздцы. И всю ночь они шли в последний раз по любимым лесам, не говоря ни слова.
Утром они отдохнули, затем снова пустились в путь, пока не достигли хижины отшельника. На пороге часовни Огрин читал книгу. Он их заметил издали и ласково приветствовал их:
– Друзья, любовь гонит вас из одного горя в другое. Долго ли будет продолжаться ваше безумие? Соберитесь с духом, раскайтесь наконец!
– Послушай, сеньор Огрин, – промолвил Тристан, – помоги нам примириться с королем. Я отдам ему королеву. Сам я уйду далеко, в Бретань или к фризам, и если когда-нибудь король согласится принять меня к себе, я возвращусь и стану служить ему как должно.
Склонясь к ногам отшельника, Изольда сказала, полная такой же печали:
– Я не буду более так жить. Я вовсе не говорю, будто раскаиваюсь в том, что любила Тристана; я люблю его и теперь и всегда буду его любить. Но по крайней мере телесно мы навсегда будем разлучены.
Отшельник пролил слезы и восславил Господа:
– Боже великий, всемогущий! Благодарю тебя, что ты продлил мне жизнь настолько, чтобы прийти им на помощь.
Он дал им мудрые советы, потом взял чернила и пергамент и написал послание, в котором Тристан предлагал королю примирение. Когда он написал все слова, которые Тристан говорил ему, Тристан запечатал пергамент своим перстнем.
– Кто отнесет это послание? – спросил отшельник.
– Я отнесу его сам.
– Нет, сеньор Тристан, ты не пойдешь в этот опасный путь; я пойду за тебя. Я хорошо всех знаю в замке.
– Полно, сеньор Огрин. Королева останется в твоей хижине; когда смеркнется, я сам поеду с моим конюшим, который посторожит моего коня. Когда темная ночь сошла на лес, Тристан пустился в путь с Горвеналом. У ворот Тинтажеля он оставил его. На стенах дозорщики перекликались звуками рожков. Тристан перебрался через ров, прошел по городу с опасностью для жизни, перескочил, как бывало, через острую изгородь сада, снова увидал мраморный водоем, ручей, большую сосну и приблизился к окну, за которым спал король. Он его тихо окликнул. Марк проснулся.
– Кто зовет меня ночью в такой час?
– Это я, Тристан. Государь, приношу вам послание; я оставлю его на решетке окна. Велите прикрепить ваш ответ к перекладине Красного Креста.
– Ради Бога, милый племянник, подожди меня! Король бросился к порогу и трижды прокричал в ночь:
– Тристан! Тристан! Тристан, сын мой!
Но Тристан был уже далеко. Он нашел своего конюшего и легко вскочил в седло.
– Безумец! – сказал Горвенал. – Торопись, поспешим по этой дороге.
Они доехали, наконец, до хижины, где нашли поджидавших их – отшельника за молитвой и Изольду в слезах.
Глава XI Опасный брод
Марк велел разбудить своего капеллана[233] и подал ему письмо. Капеллан взломал печать и сначала приветствовал короля от имени Тристана, затем, искусно разобрав написанные слова, сообщил ему, что писал ему Тристан.
Марк слушал, не говоря ни слова и радуясь в своем сердце, ибо он еще любил королеву.
Он созвал нарочно самых знатных баронов, и когда все собрались и умолкли, король сказал:
– Я получил это послание, сеньоры! Я ваш король, вы мои ленники. Послушайте, что мне пишут, потом посоветуйте мне, – я этого требую от вас, ибо вы обязаны мне советом.
Капеллан встал, обеими руками развернул послание и, стоя перед королем, заговорил:
– Сеньоры! Тристан шлет вначале привет и любовь королю и всем его баронам. «Король, – прибавляет он, – когда я убил дракона и добыл дочь ирландского короля, она была выдана мне; в моей власти было ее оставить для себя, но я этого не пожелал, а привез ее в твою страну и тебе ее отдал. Но лишь только ты взял ее себе в жены, клеветники заставили тебя поверить своим наветам. В своем гневе ты хотел, славный дядя и государь, сжечь нас без суда, но Господь сжалился над нами: мы умолили его. Он спас королеву, и это было праведно; и я также спасся помощью всемогущего Бога, бросившись с высокой скалы. Что же такое свершил я с тех пор, за что меня можно было бы укорить? Королева была отдана недужным; я явился, чтобы отбить ее, и ее увез: мог ли я не помочь в такой нужде той, которая, будучи невинной, едва не погибла из-за меня? Я бежал с ней в леса. Имел ли я возможность выйти из леса и спуститься в равнину, чтобы отдать вам королеву? Не был ли дан вами приказ взять нас живыми или мертвыми? Но и теперь, как прежде, я готов вызвать на поединок любого бойца, чтобы доказать, что ни королева ко мне, ни я к королеве не питали любви, которая была бы вам оскорблением. Назначьте поединок: я не отказываюсь ни от какого противника. И если я не смогу доказать, что я прав, сожгите меня перед лицом ваших подданных. Если я одержу победу и вы захотите снова взять к себе светлоликую Изольду, ни один из ваших баронов не послужит вам лучше меня. Если же, напротив, вам моя служба не по сердцу, я уеду за море и предложу свои услуги королю Гавуа или королю фризов, и вы никогда более не услышите обо мне. Обдумайте это, государь. И если вы не придете со мной ни к какому соглашению, я отвезу Изольду в Ирландию, где ее добыл: она будет царствовать в своей стране».
Все бароны Корнуэльса, услышав, что Тристан предлагает им поединок, заявили королю:
– Прими королеву, государь! Безумны те, которые оклеветали ее перед тобой. Что до Тристана, то пусть уйдет, как он предлагает, воевать в Гавуа или к королю фризов. Вели привести Изольду в назначенный день, да поскорее.
Трижды спросил король:
– Не встанет ли кто, чтобы обвинить Тристана?
Все молчали. Тогда он сказал капеллану:
– Напиши письмо как можно скорее: ты слышал, о чем в нем нужно говорить. Скорее пиши его: уж слишком много выстрадала Изольда в свои юные годы! И пусть мое послание еще до вечера прикрепят к перекладине Красного Креста. Скорее!
И он прибавил:
– Прибавь еще, что я шлю им обоим привет и любовь.
Около полуночи Тристан прошел через Белую Поляну, нашел письмо и принес его, запечатанное, отшельнику Огрину. Отшельник прочел ему послание. Марк соглашался, по совету своих баронов, принять Изольду, но не желал оставить Тристана на своей службе: придется ему уехать за море через три дня после того, как он передаст королеву в руки Марку у Опасного Брода.
– Боже! – сказал Тристан. – Какое горе потерять тебя, дорогая! Но это необходимо, ибо теперь я могу избавить тебя от мук, которые ты выносила ради меня. Когда настанет час разлуки, я тебе дам подарок – залог моей любви; из безвестной страны, куда я направлюсь, я пошлю тебе посланца. Он мне передаст твое желание, дорогая, и при первом зове я примчусь издалека.
Изольда вздохнула и сказала:
– Оставь мне Хюсдена, твою собаку, Тристан. Никогда никакая самая дорогая ищейка не будет холена с большей почестью. Глядя на нее, я буду вспоминать тебя, и это облегчит мою печаль. Есть у меня перстень из зеленой яшмы – возьми его из любви ко мне, носи его на пальце. А если когда-нибудь посланец станет утверждать, что он явился от твоего имени, я ему не поверю, что бы он ни делал и ни говорил, пока не покажет мне этот перстень; но лишь только я его увижу, никакая сила, никакой королевский запрет не помешают мне сделать то, о чем ты меня попросишь, будет ли то мудро или безумно.
– Я отдаю тебе Хюсдена, милая.
– Милый, прими в замену этот перстень.
И оба поцеловали друг друга в уста.
Оставив любящих в хижине, Огрин направился, опираясь на костыль, в Мон. Он накупил там горностая и других мехов, шелковых тканей, пурпура, парчи, сорочку белее лилии, сверх того иноходца[234] в золотой сбруе, который шел плавной поступью. Люди смеялись над ним, видя, как он тратит деньги, накопленные за долгие годы, на такие странные и дорогие покупки. Но старик нагрузил на коня богатые ткани и возвратился к Изольде.
– Твое платье, королева, обратилось в лохмотья. Прими эти подарки, чтобы быть прекраснее в тот день, когда ты отправишься к Опасному Броду. Боюсь только, что они тебе не понравятся: я ведь неопытен в выборе женских нарядов.
Между тем король велел провозгласить по Корнуэльсу, что через три дня у Опасного Брода он примирится с королевой. Дамы и рыцари толпой явились на это собрание: всем хотелось снова увидеть королеву Изольду. Все ее любили, кроме тех трех предателей, которые еще оставались в живых. Но один из них умрет от меча, другой будет пронзен стрелою, третий утоплен, а что до лесника, то его убьет в лесу ударами палки честный Перинис Белокурый. Так Господь, ненавидящий всякое неистовство, отомстит за любящих их врагам.
В назначенный для собрания день у Опасного Брода весь луг сиял, изукрашенный и расцвеченный богатыми шатрами баронов. Тристан ехал с Изольдой по лесу. Опасаясь засады, он надел под лохмотья свой панцирь. Внезапно оба появились на опушке леса и увидали вдали, среди баронов, короля Марка.
– Милая, – сказал Тристан, – вот король, твой властитель, его рыцари и слуги; они приближаются к нам, и через мгновение нам нельзя будет говорить друг с другом. Заклинаю великим и всемогущим Богом, исполни то, о чем я тебя попрошу, если когда-нибудь я пришлю к тебе посланца.
– Милый Тристан, лишь только я увижу перстень из зеленой яшмы, ни башни, ни стены, ни крепкий замок не помешают мне исполнить волю моего друга.
– Да вознаградит тебя Господь, Изольда!
Их кони шли рядом; он привлек ее к себе и сжал в объятиях.
– Дорогой мой, – сказала Изольда, – выслушай мою последнюю просьбу. Скоро ты покинешь эту страну. Погоди же по крайней мере несколько дней, спрячься и не уезжай, пока не узнаешь, как со мной обойдется король, гневно или ласково. Я одна; кто защитит меня от предателей? Я боюсь. Лесник Орри тебя тайно приютит. Прокрадись ночью к разрушенному подвалу; я пошлю туда Периниса сказать тебе, если со мной станут обращаться дурно.
– Никто не посмеет этого, дорогая. Я спрячусь у Орри. Если кто тебя оскорбит, пусть боится меня, как самого дьявола.
Обе стороны приблизились друг к другу настолько, чтобы обменяться приветом. На расстоянии выстрела из лука перед своими людьми бодро ехал король, вместе с ним Динас из Лидана.
Когда бароны подъехали к Тристану, он, держа под уздцы коня Изольды, приветствовал короля и сказал:
– Государь, возвращаю тебе белокурую Изольду, Перед людьми твоей земли я прошу тебя дозволить мне защитить себя в виду твоего двора. Я не подвергался еще суду. Дай мне оправдаться поединком: если я буду побежден – жги меня в сере, если же я одержу победу – оставь меня при себе, а не хочешь – я уйду в дальние страны.
Никто не принял вызова Тристана. Тогда Марк, в свою очередь, взял под уздцы иноходца Изольды и, передав его Динасу, отошел в сторону, чтобы держать совет.
Обрадованный Динас оказал королеве всякий почет и уважение. Он снял с нее роскошную мантию алой парчи, и ее нежное тело предстало в тонкой тунике и длинном Шелковом блио. Улыбнулась королева, вспомнив о старом отшельнике, который не пожалел для нее своих денег. На ней было богатое платье, стан ее был изящен, глаза блестели, волосы были светлы, как солнечные лучи. Когда увидели ее предатели, прекрасную, чтимую, как встарь, – раздраженные, они подъехали к королю. В это время один из баронов, Андре де Николь, старался убедить его.
– Государь, – говорил он, – оставь Тристана при себе, из-за него тебя более будут страшиться.
Понемногу он смягчил сердце короля, но предатели, подъехав, сказали:
– Послушайся, государь, совета, который мы даем тебе по чести. Королева была оклеветана понапрасну, мы это признаем. Но если Тристан и она возвратятся вместе к твоему двору, снова станут говорить об этом. Пусть лучше Тристан удалится на некоторое время; когда-нибудь ты, без сомнения, призовешь его снова.
Марк так и поступил: он велел передать Тристану через своих баронов, чтобы он удалился немедленно. Тогда Тристан подошел к королеве и стал с ней прощаться. Они взглянули друг на друга, и королева, застыдившись при людях, покраснела.
А короля взяла жалость, и он в первый раз обратился к племяннику:
– Куда пойдешь ты в таких лохмотьях? Возьми в моей казне, что тебе будет угодно: золота, серебра, разных мехов.
– Государь, – ответил Тристан, – не возьму я ни гроша, ни полушки. Пойду послужу с великой радостью славному королю фризов, как смогу.
Он поворотил коня и направился к морю. Изольда следила за ним взглядом и не отворачивалась, пока могла видеть его издали.
При известии о примирении стар и млад, мужчины, женщины и дети, выбежали толпой из города навстречу Изольде; сильно сокрушаясь об изгнании Тристана, они радостно приветствовали вернувшуюся к ним королеву.
При звоне колоколов по улицам, усыпанным тростниками и изукрашенным шелковыми тканями, король, графы и принцы сопровождали ее. Ворота дворца были отперты для всех желающих: богатые и бедные могли садиться и пировать; и, чтобы хорошенько отпраздновать этот день, король Марк отпустил на волю сто рабов и посвятил в рыцари двадцать оруженосцев, вручив им собственноручно меч и панцирь.
Между тем с наступлением ночи Тристан, согласно обещанию, данному им королеве, прокрался к леснику Орри, который тайно приютил его в полуразрушенном подвале. Пусть берегутся предатели!
Глава XII Суд раскаленным железом
Вскоре Деноален, Андрет и Гондоин сочли себя в безопасности: без сомнения, думали они, Тристан влачит свою жизнь за морем, в стране слишком отдаленной, чтобы он мог до них добраться. И вот однажды на охоте, когда король, прислушиваясь к лаю своей своры, придержал на поляне своего коня, они все трое подъехали к нему.
– Король, выслушай нашу речь. Ты раньше приговорил королеву без суда, – это было против закона; теперь ты оправдал ее без суда, – опять же это против закона. Ведь она так и не оправдалась; и бароны твоей страны осуждают вас обоих. Посоветуй ей лучше, чтобы она сама потребовала Божьего суда: что ей стоит, невинной, поклясться на мощах святых, что она ни разу не согрешила? Что ей стоит, невинной, подержать в руках раскаленное железо? Так требует обычай; этим легким искусом навсегда рассеялись бы старые подозрения. Возмущенный Марк ответил:
– Да покарает вас Господь, корнуэльские сеньоры, за то, что вы беспрестанно домогаетесь моего позора! Из-за вас изгнал я своего племянника. Чего требуете вы еще? Чтобы я изгнал королеву в Ирландию? Какие у вас жалобы? Разве Тристан не предлагал защитить ее от старых наветов? Чтобы оправдать ее, он сделал вызов, и вы слышали его все. Вы от меня требуете, сеньоры, свыше должного. Бойтесь же, чтобы я снова не призвал сюда человека, изгнанного из-за вас.
Задрожали тогда трусы: им уже представилось, что Тристан вернулся и сейчас выпустит всю кровь из их тела.
– Мы, государь, дали вам совет для вашей же чести, как подобает вашим ленникам; но отныне мы будем молчать. Забудьте ваш гнев, даруйте нам снова вашу милость.
Марк приподнялся на седле:
– Вон из моей земли, предатели! Не будет вам больше милости! Ради вас я изгнал Тристана, а теперь ваша очередь; вон из моей земли!
– Хорошо, государь. Замки наши крепки, с надежной оградой, на неприступных скалах.
И, не попрощавшись с ним, они повернули коней.
Не подождав ни ищеек, ни охотников, Марк погнал своего коня в Тинтажель, поднялся по ступеням в залу, и королева услышала, как отдавались по плитам его торопливые шаги.
Она встала, пошла ему навстречу, взяла у него, по обыкновению, меч и поклонилась до земли. Марк удержал ее за руки и хотел ее поднять. В эту минуту Изольда, устремив на него взгляд, увидела, что его благородные черты искажены гневом: таким видела она его, бешеного, перед костром.
«О, моего друга нашли, – подумала она. – Король схватил его!» Сердце ее похолодело в груди, она безмолвно упала к ногам короля. Он обнял ее и нежно поцеловал. Постепенно она пришла в чувство.
– Дорогая, что тебя мучит?
– Мне страшно, государь: вы в таком гневе!
– Да, я вернулся разгневанный с охоты.
– Если вас раздражили ваши охотники, стоит ли принимать к сердцу неудачи охоты?
Марк улыбнулся при этих словах.
– Нет, дорогая, не охотники меня раздражили, а эти три предателя, которые нас издавна ненавидят. Ты их знаешь: Андрет, Деноален и Гондоин. Я их изгнал из своей земли.
– Что худое осмелились они сказать против меня, государь?
– Какое тебе дело? Я их изгнал.
– Всякий вправе высказать свою мысль, государь; и я вправе узнать, в чем меня обвиняют. А от кого, кроме вас, узнать мне об этом? Я одинока в этой чужой стране; у меня нет никакого защитника, кроме вас, государь.
– Будь по-твоему. Они полагают, что тебе следует оправдаться перед судом – искусом на раскаленном железе. «Подобало бы самой королеве потребовать такого суда, – говорили они. – Этот искус легок для того, кто уверен в своей невинности. Что ей стоит подвергнуться этому? Господь – справедливый судья; он рассеет навсегда старые наветы». Вот что они предлагали. Но оставим все это; я их изгнал, говорю тебе.
Изольда содрогнулась; она взглянула на короля.
– Государь, прикажи им вернуться к твоему двору. Я оправдаю себя клятвой.
– Когда?
– На десятый день.
– Срок очень близок, дорогая.
– Наоборот, он слишком далек. Но я прошу вас до его наступления пригласить короля Артура с Говеном, Жирфлетом, сенешалем Кеем и ста рыцарями: пусть явятся к границе вашей земли на Белую Поляну, к берегу реки, что разделяет ваши владения. Там, перед ними, хочу я произнести клятву, а не перед одними вашими баронами, потому что иначе не успею я поклясться, как они потребуют, чтобы вы наложили на меня еще новый искус, и наши муки никогда не кончатся. Но они не решатся на это, если поручителями за суд будут Артур и его рыцари.
Между тем как глашатаи, посланные Марком, спешили к королю Артуру, Изольда тайком отправила к Тристану своего верного слугу Периниса Белокурого. Перинис бежал по лесу, избегая торных тропинок, пока не достиг хижины лесника Орри, где давно дожидался его Тристан. Перинис сообщил ему о случившемся, о новом коварстве, о назначенном сроке, часе и месте суда.
– Моя госпожа пыросит вас, чтобы вы были в назначенный день на Белой Поляне, так искусно нарядившись паломником, чтобы никто не мог вас узнать, и без оружия. Чтобы добраться до места суда, ей надо переправиться через реку в челноке; ждите ее на противоположном берегу, где будут рыцари короля Артура. Тогда, без сомнения, вы сможете оказать ей помощь. Моя госпожа страшится дня суда, но полагается на милость Господа, сумевшего вырвать ее из рук прокаженных.
– Возвратись к королеве, мой славный, дорогой друг Перинис, и скажи ей, что я исполню ее волю.
Так вот, добрые люди, когда Перинис возвращался в Тинтажель, случайно заметил он в чаще того самого лесничего, который застал спавших любовников и выдал их королю. Однажды, во хмелю, он похвастался своим предательством. Вырыв в земле глубокую яму, он искусно прикрывал ее ветвями, чтобы ловить волков и кабанов. Когда он увидел, что слуга королевы устремился на него, он хотел бежать, но Перинис прижал его к краю ловушки:
– Зачем бежать тебе, доносчик, предатель королевы? Останься здесь у могилы, которую сам потрудился себе вырыть.
Его палка со свистом закружилась в воздухе. Палка и череп разбились одновременно, и Перинис Белокурый, Верный, столкнул ногой тело лесничего в прикрытую ветвями яму…
В назначенный для суда день король Марк, Изольда и корнуэльские бароны, доехав до Белой Поляны, появились у реки в прекрасном строе, и собравшиеся вдоль другого берега рыцари Артура приветствовали их своими блестящими знаменами.
Перед ними, сидя на откосе, протягивал деревянную чашку для подаяний жалкий паломник. Завернувшись в увешанный раковинами плащ, он просил милостыню крикливым и унылым голосом[235].
Люди корнуэльцев приближались на веслах. Когда они готовились пристать, Изольда спросила окружавших ее рыцарей:
– Как мне, сеньоры, ступить на твердую почву, не замарав в грязи моей длинной одежды? Надо бы, чтобы мне помог какой-нибудь перевозчик.
Один из рыцарей окликнул паломника:
– Друг, подбери свой плащ, сойди в воду да перенеси королеву, если не боишься упасть на полпути: я вижу, ты очень немощен.
Тот взял королеву на руки. Она сказала ему тихо: «Милый!», а потом так же тихо: «Упади на песок».
Достигнув берега, он споткнулся и упал, крепко обнимая королеву. Конюшие и моряки, схватив весла и багры, хотели накинуться на бедняка.
– Оставьте его, – сказала королева, – он, видно, ослабел от долгого паломничества.
И, оторвав золотую пряжку, она бросила ее паломнику.
Перед шатром Артура, на зеленой траве, постлана была богатая шелковая ткань из Никеи, и на ней были положены мощи святых, извлеченные из ковчежцев и рак. Их охраняли Говен, Жирфлет и сенешаль Кей.
Помолившись Богу, королева сняла драгоценности с рук и шеи и раздала их бедным нищим, скинула свою пурпурную мантию и тонкое покрывало и отдала их; отдала также верхнюю сорочку, блио и башмаки, усыпанные драгоценными каменьями. Она оставила на теле только тунику без рукавов и с обнаженными руками и ногами предстала перед обоими королями. Вокруг бароны смотрели на нее молча и плакали. Возле мощей горел костер. Дрожа, протянула она правую руку к мощам святых и сказала:
– Короли Логрии и Корнуэльса, сеньоры Говен, Кей, Жирфлет и вы все, будьте моими поручителями. Я клянусь этими святыми мощами и всеми святыми мощами на свете, что ни один человек, рожденный от женщины, не держал меня в своих объятиях, кроме короля Марка, моего повелителя, да еще этого бедного паломника, который только что упал на ваших глазах. Годится ли такая клятва, король Марк?
– Да, королева. Пусть же Господь явит свой правый суд!
– Аминь! – сказала Изольда.
Она приблизилась к костру, бледная, шатаясь. Все молчали. Железо было накалено. Она погрузила свои голые руки в уголья, схватила железную полосу, прошла десять шагов, неся ее, потом, отбросив ее, простерла крестообразно руки, протянув ладони, и все увидели, что тело ее было здорово, как слива на дереве. Тогда изо всех грудей поднялся благодарственный клик Господу.
Глава XIII Трели соловья
Когда, войдя в хижину лесника Орри, Тристан отбросил свой посох и снял паломнический плащ, он ясно понял в своем сердце, что настал день сдержать данную королю Марку клятву и удалиться из корнуэльской земли.
Чего он еще медлит? Королева оправдалась, король ее холит и почитает. Артур, если бы явилась надобность, взял бы ее под свою защиту, и впредь ни одна клевета не восторжествовала бы над нею. К чему дольше блуждать по окрестностям Тинтажеля? Он этим тщетно подверг бы опасности свою жизнь, жизнь лесника и спокойствие Изольды. Разумеется, надо уехать. В одежде паломника на Белой Поляне он в последний раз ощутил прекрасное тело Изольды в своих объятиях.
Три дня еще он медлил, не будучи в состоянии оторваться от края, где жила королева. Но когда наступил четвертый день, он попрощался с лесничим, приютившим его, и сказал Горвеналу:
– Дорогой мой наставник, наступил час отправиться в далекий путь: мы поедем в Уэльс.
Ночью, печальные, они пустились в путь. Дорога пролегала мимо сада, окруженного изгородью, где Тристан когда-то поджидал свою возлюбленную. Ночь сияла ясная. На повороте дороги, недалеко от изгороди, он увидел могучий ствол высокой сосны, выделявшейся на светлом небе.
– Обожди меня у ближайшего леса, дорогой наставник, я скоро вернусь.
– Куда идешь ты? Безумец, ты без устали ищешь смерти!
Но Тристан уверенным прыжком уже перескочил изгородь. Он подошел к высокой сосне близ водоема из белого мрамора. К чему бросать теперь в воду искусно нарезанные стружки? Изольда больше не придет! Легкими, осторожными шагами отважился он приблизиться к замку по тропинке, по которой некогда приходила к нему королева.
В опочивальне в объятиях уснувшего Марка бодрствовала Изольда. Внезапно в открытое окно, где играли лучи месяца, влетели трели соловья.
Изольда слушала звонкий голос, зачаровавший ночь; она встала такая печальная, что нет на свете столь жестокого сердца, сердца убийцы, которое не сжалилось бы над ней. Королева задумалась: откуда этот напев? Вдруг она поняла: «О, это Тристан! Так в лесу Моруа подражал он певчим птицам, чтобы повеселить меня. Он уезжает, и это его последнее прости! Как он печалится! Таков соловей, когда на исходе лета он прощается с ним в великой печали. Никогда более, дорогой, не услышу я твоего голоса!»
Трель зазвучала, еще более страстная. «О, чего требуешь ты? Чтобы я пришла? Нет, вспомни об отшельнике Огрине и о данной нами клятве. Умолкни, нас сторожит смерть! Но что смерть? Ты меня зовешь, ты меня хочешь, – я иду!»
Она высвободилась из объятий короля, накинула на почти обнаженное тело плащ, подбитый серым мехом. Ей надо было пройти соседнюю залу, где каждую ночь десять рыцарей сторожили поочередно; в то время как пятеро спали, другие пятеро, вооруженные, стояли у дверей и окон, высматривая, нет ли чего снаружи. Но случилось так, что все они заснули, – пятеро на постелях, пятеро на полу. Изольда перешагнула через их раскинувшиеся тела, подняла засов двери, – кольцо зазвенело, не разбудив никого из дозорщиков. Она переступила порог, и певец умолк.
Безмолвно под деревьями прижал он ее к своей груди; руки их плотно сомкнулись вокруг тел, и до зари они не разнимали объятий, точно их связали. Забыв о короле и о дозорщиках, любовники радуются и осыпают друг друга ласками.
Эта ночь их опьянила, и в последующие дни, когда король покинул Тинтажель, чтобы вершить суд в Сен-Любене, Тристан, вернувшийся к Орри, отваживался каждое утро, при свете солнца, прокрадываться по саду до женских покоев.
Один крестьянин заметил его и пошел сказать Андрету, Деноалену и Гондоину:
– Сеньоры, зверь, которого вы считаете прогнанным, вернулся в свою берлогу.
– Кто это?
– Тристан.
– Когда ты его видел?
– Сегодня утром, и я хорошо разглядел его. Вы также можете увидеть его завтра на заре, когда он придет, опоясанный мечом, в одной руке – лук, в другой – две стрелы.
– Как же мы увидим его?
– Из одного окна, мне известного. Если я покажу вам его, что вы мне дадите?
– Марку серебра: ты станешь зажиточным крестьянином.
– Так слушайте, – сказал крестьянин. – Можно видеть горницу королевы сверху через узенькое окошко, которое пробито очень высоко в стене; но большой полог, протянутый по горнице, закрывает его отверстие. Пусть завтра кто-нибудь из вас тихонько заберется в сад, срежет там длинную ветвь терновника, обточит ее конец, потом поднимется до этого окошка и воткнет ветку, как спицу, в ткань полога; таким образом он сможет слегка отодвинуть его в сторону. И сожгите меня, сеньоры, если он тогда не увидит за занавеской того, кого я назвал.
Андрет, Гондоин и Деноален стали обсуждать, кому первому дать возможность насладиться этим зрелищем, и решили, наконец, предоставить его Гондоину. Они разошлись… Завтра на заре они встретятся, завтра на заре бойтесь Тристана, высокие сеньоры!
На другой день было еще темно, когда Тристан, оставив хижину лесника Орри, пополз к замку среди густых кустов терновника. Выходя из чащи, он глянул на лужайку и увидел Гондоина, который шел из своего замка. Тристан кинулся назад в терновник и притаился в засаде.
«Боже, – взмолился он в душе своей, – устрой так, чтобы человек, который сейчас подходит, не заметил меня раньше времени!»
Схватив меч, он поджидал его. Но случилось так, что Гондоин направился в другую сторону и удалился. Тристан вышел из чащи, обманутый в ожиданиях, натянул лук и нацелился… Увы, тот человек был уже недосягаем для его стрелы.
Как раз в это время показался вдали и Деноален: тихо по тропинке спускался он на маленьком вороном иноходце, в сопровождении двух огромных борзых. Спрятавшись за яблоней, Тристан следил за ним. Он видел, как тот науськивал собак на кабана в перелеске. Но раньше, чем борзые успеют выгнать его из берлоги, их хозяин получит такую рану, какой ни один лекарь не сумеет вылечить. Когда Деноален поравнялся с ним, Тристан сбросил свой плащ, прыгнул вперед и очутился перед своим врагом. Предатель хотел бежать. Но тщетно! Он не успел даже крикнуть: «Ты ранил меня!» Он свалился с коня. Тристан отрубил ему голову, обрезал волосы, обрамлявшие его лицо, и спрятал их за пазухой: он хотел показать их Изольде, чтобы обрадовать сердце своей милой. «Увы, – думал он, – куда делся Гондоин? Он спасся. Жаль, что мне не удалось с ним расплатиться!»
Он обтер свой меч, вложил его в ножны, навалил на труп ствол дерева и, оставив окровавленное тело, направился, накинув капюшон, к своей милой.
В замок Тинтажель Гондоин явился раньше его: он уже взобрался на высокое окно, воткнул терновый прут в занавеску, раздвинул два полотнища и мог оглядеть прекрасно устланную тростниками комнату. Сперва он не увидел никого, кроме Периниса, потом пришла Бранжьена, еще держа в руках гребень, которым она расчесывала золотые волосы королевы.
Но вот вошла Изольда и за нею Тристан. В одной руке У него лук из заболони и стрелы, в другой – две длинные пряди волос.
Он сбросил с себя плащ, и открылся его прекрасный стан. Белокурая Изольда поклонилась, приветствуя его; но в ту минуту, когда она снова выпрямилась и подняла к нему голову, она заметила на пологе тень головы Гондоина. Тристан сказал ей:
– Видишь ли эти прекрасные кудри? Они – с головы Деноалена. Я ему отомстил за тебя. Никогда более не придется ему покупать и продавать ни щит, ни копье.
– Это хорошо, господин мой; но натяни-ка лук, прошу тебя; хочется мне узнать, хорошо ли он натягивается.
Тристан натянул лук, удивленный, еще не совсем понимая. Взяв одну из двух стрел, Изольда вправила ее в тетиву, посмотрела, крепка ли она, и быстро сказала шепотом:
– Я вижу нечто, что мне не нравится. Целься получше, Тристан.
Он приготовился, поднял голову и увидел на вершине полога тень головы Гондоина. «Господь да направит эту стрелу!» – мысленно произнес он.
Обернулся он к стене и выстрелил. Длинная стрела просвистела в воздухе, – кобчик и ласточки не летят быстрее, – вонзилась в глаз предателя, пробила мозг, как сердцевину яблока, и застряла, дрожа, в черепе.
Тогда Изольда сказала Тристану:
– Теперь беги, милый! Ты видишь, предатели знают о твоем убежище. Андрет еще жив, он все расскажет королю; тебе уже небезопасно в хижине лесника. Беги, милый! Верный Перинис скроет это тело в лесу так надежно, что король никаких вестей о нем никогда не получит. Ты же беги из этой страны ради твоего спасения, ради моего!
– Как мне жить? – говорит Тристан.
– Да, милый Тристан, жизни наши связаны и вплетены одна в другую. А мне как жить? Тело мое здесь, а сердце мое у тебя.
– Изольда, милая, я уезжаю, не знаю куда. Но если когда-либо ты увидишь перстень из зеленой яшмы, исполнишь ли ты то, о чем через него я у тебя попрошу?
– Да, ты это знаешь: если я увижу перстень из зеленой яшмы, ни башня, ни крепкий замок, ни королевский запрет не помешают мне исполнить волю моего милого, будет ли то безумно или мудро.
– Да воздаст тебе Господь, рожденный в Вифлееме, дорогая!
– Да сохранит тебя Господь, дорогой!
Глава XIV Волшебная погремушка
Тристан удалился в Уэльс, в страну благородного герцога Жилена. Герцог был молод, могуществен, добр; он принял Тристана как желанного гостя. Чтобы почтить его и развеселить его, он не жалел никакого труда; но ни подвиги, ни празднества не могли утолить тоску Тристана.
Однажды, когда он сидел возле молодого герцога, сердце его так заболело, что, сам того не замечая, он начал вздыхать. Желая смягчить его горе, герцог велел принести в свои покои любимую забаву, которая в печальные минуты чаровала его глаза и сердце. На стол, покрытый роскошной пурпурной скатертью, посадили его собачку Пти-Крю[236]. Это была заколдованная собачка: досталась она герцогу с острова Авалона[237]; ему послала ее фея в знак любви. Никто не был бы в состоянии достаточно искусными словами описать ее свойства и красоту. Шерсть ее отливала столь чудесно расположенными цветами, что нельзя было назвать ее масти: сначала ее шея казалась белее снега, круп зеленее трилистника, один бок – красный, точно пурпурный, другой – желтый, как шафран, живот – голубой, как лазурь, спина – розоватая; но если посмотреть на нее подольше, все эти цвета начинали плясать в глазах, сливаясь в какой-то один оттенок, то белый, то зеленый, желтый, голубой или пурпурный, – то более темный, то посветлее. На шее у нее подвязана была на золотой цепочке погремушка такого веселого, ясного и нежного звона, что от звуков ее сердце Тристана умилилось, успокоилось, и горе его растаяло. Исчезли из памяти все беды, вынесенные ради королевы, – такова была волшебная сила погремушки; сердце, слыша ее звон, такой нежный, веселый и ясный, забывало всякое горе. И в то время как Тристан, в обаянии волшебства, ласкал маленькое заколдованное животное, которое рассеивало все его горе и шерсть которого казалась на ощупь мягче бархата, он подумал, что это был бы хороший подарок для Изольды. Но что было делать? Герцог Жилен любил Пти-Крю более всего на свете, и никто не был бы в состоянии получить ее от него ни хитростью, ни просьбами.
Однажды Тристан сказал ему:
– Что бы вы дали, государь, тому, кто освободил бы вашу страну от косматого великана Ургана, который требует от вас тяжелой дани?
– Сказать по правде, я предложил бы его победителю выбрать из моих богатств то, что он сочтет наиболее ценным; только никто не отважится сразиться с великаном.
– Вот удивительные слова! – возразил Тристан. – Но ведь благополучие страны достигается только подвигами, а я за все золото Милана не откажусь от желания сразиться с великаном.
– В таком случае да поможет тебе Господь, рожденный от девы в Вифлееме, и да защитит он тебя от смерти, – сказал герцог Жилен.
Тристан настиг косматого Ургана в его логовище. Долго и яростно бились они; наконец доблесть восторжествовала над силой, ловкий меч – над тяжелой палицей, и Тристан, отрубив правую руку великана, отнес ее герцогу.
– В награду, государь, согласно вашему обещанию, дайте мне Пти-Крю, вашу очарованную собачку.
– О чем просишь ты, друг мой! Оставь ее мне, возьми лучше мою сестру и с ней половину моей страны.
– Прекрасна ваша сестра, государь, прекрасна и ваша страна, но я для того только и бился с косматым Урганом, чтобы получить вашу очарованную собачку. Вспомните о вашем обещании!
– Возьми же ее, но знай, что ты отнимаешь у меня радость моих глаз и веселье моего сердца.
Тристан передал собачку валлийскому жонглеру, разумному и хитрому, и тот доставил ее в Корнуэльс. Прибыв в Тинтажель, он тайно отдал ее Бранжьене. Сильно обрадовалась королева, наградила жонглера десятью марками золота, а королю сказала, что этот драгоценный подарок прислала ей мать, королева Ирландии. Она приказала мастеру сделать для собачки домик, изукрашенный золотом и драгоценными камнями; куда бы она ни шла, она носила собачку с собой как память о своем милом, и всякий раз, как она смотрела на нее, печаль, тоска и сожаление изглаживались из ее сердца.
Вначале она не понимала этого чуда: если она ощущала такую сладость, когда глядела на собачку, то это, думала она, происходило от того, что она подарена Тристаном; видно, мысль о ее друге так усыпляла ее тоску. Но однажды она узнала, что это было дело волшебства и что один лишь звук погремушки чаровал ее сердце.
«О, – подумала она, – хорошо ли, что я нахожу утешение, тогда как Тристан несчастен? Он мог бы удержать у себя эту заколдованную собачку и таким образом забыть свою печаль. По великому своему благородству он предпочел послать ее мне, отдать мне свою радость, чтобы самому терпеть по-прежнему горе. Но тому не бывать! Тристан, я хочу страдать, пока ты страдаешь!»
Она взяла волшебную погремушку, позвенела ею в последний раз, тихо отвязала ее, потом бросила через открытое окно в море.
Глава XV Белорукая Изольда
Любовники не могли ни жить, ни умереть друг без друга. Жить им в разлуке было ни жизнь, ни смерть, но то и другое вместе.
Тристан хотел бежать от своего горя, носясь по морям, островам и странам. Снова увидел он свою страну Лоонуа, где Роальд Твердое Слово встретил своего сына со слезами нежности. Но, не будучи в состоянии жить в его земле, Тристан отправился по герцогствам и королевствам, ища приключений: из Лоонуа – к фризам, от фризов – в Гавуа, из Германии – в Испанию. Служил он многим государям и совершил много подвигов, но в течение двух лет не было ему никакой вести из Корнуэльса – ни друга, ни послания.
Тогда он подумал, что Изольда разлюбила его и забыла.
И вот случилось однажды, что, странствуя вдвоем с Горвеналом, прибыли они в Бретань. Они проехали опустошенную равнину: повсюду обрушившиеся стены, деревни без жителей, поля, выжженные огнем; их кони шли по пеплу и углям на пустынной поляне.
Тристан задумался: «Я истомлен и устал. К чему мне эти приключения? Госпожа моя далеко, никогда я ее не увижу. Почему в течение двух лет не послала она искать меня повсюду? Ни одной весточки от нее! В Тинтажеле король ее почитает, ей служит, живется ей радостно; конечно, погремушка волшебной собачки оказала свое действие. Изольда меня забыла, и ей мало дела до прежних печалей и радостей, мало дела до несчастного, который скитается по этой опустелой стране. Неужели никогда не забуду я ту, которая меня любила? Неужели не найду никого, кто бы уврачевал мое горе?»
В течение двух дней Тристан и Горвенал проезжали по полям и селениям, не встречая ни человека, ни петуха, ни одной собачки.
На третий день, около полудня, они подъехали к холму, на котором возвышалась старая часовня и рядом с ней жилище отшельника. На отшельнике не было тканой одежды; он носил козлиную шкуру с лоскутьями шерсти на спине. Простершись на земле, с обнаженными коленями и локтями, он молился Марии Магдалине о ниспослании ему спасительных молитв. Он приветствовал подъехавших и, в то время как Горвенал разнуздывал коней, снял с Тристана доспехи и приготовил еду. Он не предложил им тонких блюд, а только хлеб из ячменя, смешанного с пеплом, и ключевую воду. После ужина, когда смерклось и они уселись около огня, Тристан спросил, что это за разоренная страна.
– Почтенный сеньор, – сказал отшельник, – эта страна – Бретань, и владеет ею герцог Гоэль. Страна эта была некогда богата пастбищами и пашнями: здесь были мельницы, там яблони, фермы. Но граф Риоль Нантский произвел это опустошение: его фуражиры все предали огню и разграбили. Люди его надолго разбогатели. Уж такова война.
– Брат, – сказал Тристан, – почему же граф Риоль так разорил вашего государя Гоэля?
– Я вам поведаю, сеньор, причину войны. Надо вам знать, что Риоль был вассалом герцога Гоэля, а у герцога есть дочь, прекраснейшая из всех принцесс; ее-то захотел взять в жены граф Риоль, но отец отказался отдать ее вассалу, и граф Риоль попытался захватить ее силой. Много людей погибло из-за этой ссоры.
– Может ли герцог Гоэль еще продолжать войну? – спросил Тристан.
– С великим трудом, сеньор. Однако его последний замок Карэ еще держится, ибо стены его крепки; мужественно и сердце славного рыцаря Каэрдина, сына герцога Гоэля. Но враг теснит их и морит голодом. Долго ли будут они в состоянии сопротивляться?
Тристан спросил, в каком расстоянии находится замок Карэ.
– Всего в двух милях, сеньор.
Они разошлись и заснули. Наутро, когда отшельник помолился и они подкрепились хлебом из ячменя с пеплом, Тристан попрощался с почтенным мужем и направился в Карэ.
Остановившись у плотных стен, он увидел толпу людей, стоявших дозором на дороге, и спросил, где герцог. Гоэль был среди них с сыном своим Каэрдином. Он сказал, кто он такой, и Тристан обратился к нему:
– Я Тристан, король Лоонуа; Марк, король Корнуэльса, мне дядя. Я узнал, сеньор, что ваши вассалы притесняют вас, и пришел предложить вам свои услуги.
– Увы, сеньор Тристан, ступайте своей дорогой, и да воздаст вам Господь! Как принять вас здесь? У нас нет более припасов, нет совсем ржи, чтобы поддержать существование, остались только ячмень да бобы.
– Что ж, – отвечал Тристан, – я два года прожил в лесу, питаясь травами, кореньями и дичиной. И поверьте, я находил такую жизнь прекрасной. Прикажите отворить мне ворота.
Тогда Каэрдин сказал:
– Прими его, отец, если он так мужествен; пусть возьмет свою долю в нашем счастье и нашем горе.
Они приняли его с почетом. Каэрдин показал своему гостю крепкие стены, главную башню и вокруг нее другие, деревянные укрепления, хорошо защищенные оградой; в них скрывались в засаде стрелки. С зубчатых стен он показал ему на равнине, вдали, палатки и шатры графа Риоля. Когда они возвратились к порогу замка, Каэрдин сказал Тристану:
– Теперь, дорогой мой, поднимемся в залу, где находятся моя мать и сестра.
Взявшись за руки, оба вошли в женский покой. Мать и дочь, сидя на ковре, вышивали золотом по английской ткани и пели песню про то, как красавица Доэта, сидя под белым терновником, ждет не дождется своего возлюбленного Доона, который так медлит прийти. Тристан поклонился им, они ему. Затем оба рыцаря уселись возле них. Каэрдин показал на епитрахиль, которую вышивала его мать, и сказал:
– Смотри, дорогой друг Тристан, какая искусница моя мать, как она умеет украшать епитрахили[238] и ризы, чтобы потом принести их в дар бедным монастырям! Как быстро руки моей сестры продевают золотые нити в эту белую ткань! Тебя, сестрица, по праву прозвали Изольдой Белорукой!
Услышав, что ее зовут Изольдой, Тристан улыбнулся и посмотрел на нее нежнее.
Граф Риоль разбил свой стан в трех милях от Карэ, и уже много дней люди герцога Гоэля не решались делать против него вылазки.
На следующий день Тристан, Каэрдин и двенадцать юных рыцарей выступили из Карэ в панцирях и шлемах и проехали сосновой рощей до рвов неприятельского лагеря; затем, выскочив из засады, они силой отбили подводу графа Риоля с провиантом. С этого дня, меняя на разные лады военные хитрости и приемы, они разоряли его плохо охраняемые шатры, нападали на его обоз, ранили и убивали его людей и никогда не возвращались в Карэ без какой-нибудь добычи. Благодаря этому Тристан и Каэрдин стали питать друг к другу такое доверие и любовь, что поклялись во взаимной дружбе и товариществе. Ни разу не нарушали они этого слова, как вы узнаете из рассказа.
И вот, когда они возвращались с этих набегов, толкуя о рыцарских подвигах и благородных делах, Каэрдин часто расхваливал своему дорогому другу сестру свою, белорукую Изольду, простодушную, прекрасную.
Однажды утром, чуть только занялась заря, дозорный спешно спустился с башни и побежал по залам с криком:
– Сеньоры, вы заспались! Риоль идет на приступ!
Рыцари и горожане вооружились и побежали на стены. Они увидели в долине сверкающие шлемы, развевающиеся шелковые знамена: все войско графа Риоля двигалось в стройном порядке. Герцог Гоэль и Каэрдин тотчас же выстроили перед воротами передовые отряды рыцарей. Подъехав «на расстояние выстрела из лука, они пришпорили коней и опустили копья, а стрелы сыпались на них, как апрельский дождь.
Тристан вооружился, в свою очередь, вместе с теми, которых дозорный разбудил последними. Он затянул пояс, надел блио, узкие сапоги с золотыми шпорами, облекся в кольчугу, прикрепил шлем и забрало, сел на коня, пришпорил его и поскакал в долину, прикрыв грудь щитом и крича: «Карэ!» Это было кстати: уже воины Гоэля отступали за изгородь.
Любо было тогда посмотреть на груды убитых коней и раненых бойцов, на удары, наносимые юными рыцарями, на траву, обагрявшуюся, где только они появлялись, кровью. В их первом ряду гордо остановился Каэрдин, завидев, что против него вышел смелый барон, брат графа Риоля. Они столкнулись, опустив копья. Нантский боец сломал свое, не выбив из седла Каэрдина, а тот более метким ударом пробил щит противника и вонзил ему в бок стальное острие копья по самый значок. Покачнувшись в седле, рыцарь потерял стремена и упал.
На крик брата граф Риоль помчался против Каэрдина, но Тристан преградил ему путь. Они сшиблись, и копье Тристана сломалось в его руках, меж тем как копье Риоля, ударившись в нагрудник Тристанова коня, пробило его, глубоко вонзилось в тело, и конь пал мертвым на поляне. Тристан сразу вскочил на ноги и, размахивая сверкающим мечом, крикнул:
– Трус! Позорная смерть тому, кто ранит коня, оставив в живых его хозяина! Живым ты отсюда не уйдешь!
– Сдается мне, что ты лжешь! – ответил Риоль, направляя на него своего коня.
Но Тристан уклонился от удара и, подняв руку, с такой силой хватил мечом по шлему Риоля, что своротил его обруч и отбил наносник. Меч, скользнув по плечу рыцаря, угодил в бок его коня, который, в свою очередь, зашатался и пал. Риолю удалось выпутаться; он поднялся, и оба, пешие, с пробитыми и рассеченными щитами, с порванными кольчугами, яростно накинулись друг на друга. Наконец Тристан ударил противника по карбункулу его шлема. Обруч подался; удар был такой сильный, что граф упал на колени и ладони.
– Вставай, коли можешь, боец! – крикнул ему Тристан. – В недобрый час явился ты на это полег тебе придется умереть!
Риоль поднялся с земли, но Тристан снова сшиб его ударом, который рассек его шлем, разрубил тулью[239] и обнажил череп. Риоль взмолился о пощаде, и Тристан принял от него меч. Он взял его вовремя, так как со всех сторон подбегали нантские воины на подмогу своему господину; но тот уже сдался. Риоль обещал отдаться в плен герцогу Гоэлю, снова принести клятву в повиновении и верности и отстроить выжженные города и деревни. По его приказанию битва прекратилась, и войско его отступило.
Когда победители возвратились в Карэ, Каэрдин сказал своему отцу:
– Сеньор, позови Тристана и удержи его при себе. Нет лучше его рыцаря, а твоя страна нуждается в бойце, исполненном такой доблести.
Посоветовавшись со своими людьми, герцог Гоэль призвал Тристана и сказал ему:
– Друг, не знаю, как выразить тебе мою любовь. Ты мне сохранил эту страну, и я хочу отблагодарить тебя. Дочь моя, белорукая Изольда, происходит из рода герцогов, королей и королев. Возьми ее, я отдаю ее тебе.
– Я принимаю ее, сеньор, – ответил Тристан.
Ах, добрые люди, зачем сказал он эти слова! Ведь из-за них он и умер.
Выбрали день, назначили срок. Герцог явился со своими друзьями, Тристан со своими. Капеллан отслужил мессу. При всех, перед церковными вратами, по закону святой церкви, Тристан сочетался браком с белорукой Изольдой. Свадьба была пышная и богатая.
Но когда наступила ночь и слуги Тристана стали снимать с него одежды, случилось, что, потянув за слишком узкий рукав его блио, они стащили с его пальца перстень из зеленой яшмы, перстень белокурой Изольды. С громким звоном ударился он о плиты. Тристан взглянул и увидел его. И тут проснулась в нем старая любовь: он понял свой проступок.
Вспомнился ему день, когда белокурая Изольда дала ему этот перстень: то было в лесу, где ради него она влачила тяжелую жизнь. И, лежа с другой Изольдой, он представил себе шалаш в Моруа. По какому безумию обвинил он в своем сердце свою милую в измене? Нет, она продолжала терпеть из-за него горе, а он сам изменил ей. Но ему стало жаль и жены своей Изольды, простодушной, прекрасной. В недобрый час полюбили его обе Изольды; обеим он изменил.
Между тем белорукая Изольда дивилась, что он вздыхает, лежа с ней рядом. Наконец она сказала ему, слегка застыдившись:
– Дорогой сеньор, не оскорбила ли я вас чем-нибудь? Почему не подарите вы меня ни одним поцелуем? Скажите мне, чтобы мне знать мою вину; я искуплю ее сторицею, если могу.
– Не сердись, дорогая, – отвечал Тристан, – я дал обет. Некогда, в другой стране, когда я бился с драконом и чуть было не погиб, я призвал Богоматерь и произнес обет, что если, по ее милости, я спасусь и возьму жену, целый год я буду воздерживаться от объятий и поцелуев.
– Если так, я постараюсь это перенести, – сказала белорукая Изольда.
Но когда поутру служанка надела на нее чепец, какой носят замужние женщины, она грустно улыбнулась и подумала, что на такой убор не имеет права.
Глава XVI Каэрдин
Несколько дней спустя герцог Гоэль, его сенешаль и все его ловчие, Тристан, белорукая Изольда и Каэрдин выехали из замка в лес на охоту. По узкой дороге Тристан ехал слева от Каэрдина, который правой рукой придерживал за удила коня белорукой Изольды. Случилось, что конь ее поскользнулся в луже. От удара его копыта вода плеснула так сильно под одежды Изольды, что совсем смочила ее, и она почувствовала холод выше колен. Слегка вскрикнув, она шпорами подняла коня и рассмеялась таким громким и ясным смехом, что нагнавший ее Каэрдин спросил:
– Чему ты смеешься, сестрица?
– Одной мысли, которая пришла мне в голову, братец. Когда эта вода плеснула на меня, я ей сказала: «Вода, ты смелее, чем был когда-либо Тристан!» Вот почему я рассмеялась. Но я проговорилась, братец, и раскаиваюсь в этом.
Удивленный Каэрдин начал ее так настойчиво расспрашивать, что она рассказала ему всю правду о своем браке. Тут Тристан нагнал их, и они втроем молча доехали до охотничьего домика. Каэрдин отозвал Тристана в сторону и сказал ему:
– Сеньор Тристан, сестра сказала мне всю правду о своем браке. Я считал тебя ровней и товарищем, но ты нарушил верность и опозорил мой род. Если ты не оправдаешься передо мной, знай, что я тебя вызову на поединок.
Тристан отвечал:
– Да, я явился к вам на ваше несчастье. Но узнай и мое горе, славный, милый друг, брат и товарищ, и, может быть, сердце твое успокоится. Знай, что у меня есть другая Изольда, красивейшая из всех женщин, которая выстрадала за меня много бед и теперь еще страдает. Правда, сестра твоя любит меня и почитает, но из любви ко мне другая Изольда обращается с большим почетом с собачкой, которую я ей подарил, чем твоя сестра со мной. Давай бросим охоту, последуй за мной в одно местечко, куда я тебя поведу, и я тебе расскажу про горе моей жизни.
Тристан повернул коня и пришпорил его. Каэрдин погнал своего следом за ним. Не обменявшись ни одним словом, они домчались до самой чащи леса. Там Тристан рассказал свою жизнь Каэрдину. Он поведал ему, как на море он испил любовь и смерть, рассказал про предательство баронов и карлика, про королеву, которую вели на костер и отдали прокаженным, и про свою любовь с нею в глухом лесу; рассказал, как он вернул ее королю Марку и как, удалившись от нее, он хотел полюбить белорукую Изольду; как он отныне и навсегда знает, что не может ни жить, ни умереть без королевы.
Каэрдин молчал и дивился; он чувствовал, что его гнев невольно улегся.
– Друг, – сказал он наконец, – чудные слова я слышу. Ты разжалобил мое сердце, ибо такие беды ты выстрадал, от которых да избавит Господь всех и каждого. Вернемся в Карэ; через три дня, если я буду в состоянии, я скажу тебе то, что думаю.
В своей горнице в Тинтажеле белокурая Изольда вздыхает по Тристану, зовет его; нет у нее другой мысли, другой надежды, другого желания, как любить его всегда. В нем вся ее страсть, а в течение двух лет она ничего о нем не знает. Где он? В какой стране? Жив ли он даже?
В своей горнице сидит белокурая Изольда и поет грустную песню любви. Она поет о том, как Гуруна схватили и убили за любовь к даме, которую он любил более всего на свете, и с помощью какой хитрости граф дал своей жене съесть сердце Гуруна, и как она горевала.
Тихо поет королева, подыгрывая себе на арфе. Прекрасны ее руки, хороша песня, тих ее напев, и нежен голос.
В горницу вошел Кариадо, богатый граф с одного дальнего острова. Он приехал в Тинтажель, чтобы служить королеве, и много раз со времени отъезда Тристана добивался ее любви. Но королева отвергла его ухаживание, считая это низостью. То был красивый рыцарь, гордый, осанистый и речистый, более у места в женских покоях, чем в битве. Он застал Изольду за песней и сказал, смеясь:
– Что за печальная песня, – печальная, как песня орлана! Не говорят разве, что орлан поет, чтобы возвестить смерть? И, конечно, о моей смерти вещает песня, ибо я умираю от любви к вам.
– Пусть так, – сказала Изольда, – пусть моя песня возвещает вашу смерть, ибо вы никогда не являлись сюда без того, чтобы не сообщить мне дурной вести. Вы всегда были орланом или совой, чтобы говорить дурное про Тристана. Какое еще плохое известие сообщите вы мне сегодня?
Кариадо отвечал ей:
– Вы раздражены, королева, не знаю чем, но глуп тот, кто смутится вашими речами. Смерть ли мою возвещает орлан или нет, а вот плохая весть, которую приносит вам сова: ваш друг Тристан погиб для вас, королева Изольда, он женился в другой стране. Распоряжайтесь вашим сердцем свободно, потому что он презрел вашу любовь. Он женился на знатной девушке, на белорукой Изольде, дочери бретонского герцога.
Кариадо вышел в гневе, а белокурая Изольда поникла головой и заплакала.
На третий день Каэрдин позвал к себе Тристана и сказал:
– Друг, я принял решение в своем сердце. Если ты сказал мне правду, жизнь, которую ты ведешь в этой стране, – сумасбродство и безумие, и никакого добра от этого не будет ни тебе, ни сестре моей, белорукой Изольде. Итак, слушай, что я задумал. Мы отправимся вместе в Тинтажель, ты снова увидишь королеву и узнаешь, тоскует ли она еще по тебе и верна ли тебе. Если она тебя забыла, возможно, что ты более полюбишь сестру мою Изольду, простодушную, прекрасную. Я поеду с тобой: разве я тебе не ровня, не товарищ?
– Брат, – сказал Тристан, – правду говорят: сердце человека стоит золота целой страны.
Вскоре Тристан и Каэрдин взяли посохи и паломничьи одежды, будто собрались поклониться святым мощам в дальней стране. Они попрощались с герцогом Гоэлем, Тристан взял с собою Горвенала, а Каэрдин одного оруженосца. Тайно снарядили они судно и поехали в Корнуэльс.
Всю дорогу ветер был добрый и благоприятный, и однажды утром, еще до зари, они прист Лидана Там, решили они, добрый сенешаль Динас, наверно, их приютит и сумеет скрыть их приезд.
Когда рассвело, оба путника направились к Лидану и вдруг увидели, что кто-то рысцой едет за ними на коне по той же дороге. Они бросились в лес, но всадник проехал мимо, не заметив их, потому что он дремал в седле. Тристан узнал его.
– Брат, – сказал он Каэрдину, – это сам Динас из Лидана. Он спит. Без сомнения, он возвращается от своей милой и грезит о ней; невежливо было бы его разбудить. Но следуй за мной на расстоянии.
Он догнал Динаса, тихо взял под уздцы его коня и пошел рядом. Наконец лошадь споткнулась, и толчок этот разбудил спящего. Он открыл глаза и посмотрел на Тристана, словно не веря себе:
– Как! Это ты, Тристан! Да благословит Господь час, в который я тебя снова вижу: я так долго его ждал!
– Да сохранит тебя Господь, друг мой! Какие вести сообщишь ты мне о королеве?
– Увы, грустные вести! Король любит ее и хочет, чем только может, ее порадовать; но со дня твоего изгнания она тоскует и плачет по тебе. Зачем тебе снова видеться с ней? Или ты снова стремишься к своей и ее смерти? Пожалей королеву, Тристан, оставь ее в покое.
– Друг, – оказал Тристан, – сделай мне одолжение: укрой меня в Лидане, отнеси ей мое послание и устрой так, чтобы я увидел ее раз, один только раз.
Динас ответил:
– Жалко мне моей королевы, и я исполню твое поручение только в том случае, если уверюсь, что она тебе по-прежнему дороже всех других женщин.
– О Динас, скажи ей, что она мне по-прежнему дороже всех других женщин, это будет правда.
– Ну, тогда следуй за мной, Тристан, я помогу тебе в твоей нужде.
В Лидане сенешаль приютил Тристана, Горвенала, Каэрдина и его оруженосца, а когда Тристан рассказал ему от начала до конца все то, что с ним случилось, Динас отправился в Тинтажель, чтобы разведать, что делается при дворе.
Он узнал, что через три дня королева Изольда, король Марк и вся его дружина, конюшие и охотники покинут Тинтажель, чтобы поселиться в замке на Белой Поляне, где была приготовлена большая охота. Тогда Тристан дал сенешалю свой перстень из зеленой яшмы и поручение, которое он должен был передать королеве словесно.
Глава XVII Динас из Лидана
Итак, Динас вернулся в Тинтажель, поднялся по ступеням и вошел в залу. Под балдахином Марк и белокурая Изольда сидели за шахматной доской. Динас сел на скамью возле королевы, как бы для того, чтобы наблюдать за ее игрой, и два раза, притворившись, будто указывает ей ходы, положил свою руку на шахматную доску; на второй раз Изольда узнала на пальце перстень с яшмой. Тогда для нее игра кончилась. Она толкнула слегка руку Динаса так, что несколько фигур упало в беспорядке.
– Видите, сенешаль, – сказала она, – вы так спутали Мою игру, что я уже не могу продолжать ее.
Марк вышел из залы. Изольда удалилась в свой покой и велела позвать к себе сенешаля:
– Ты послан Тристаном, друг?
– Да, королева, он в Лидане, скрывается в моем замке. – Правда ли, будто он женился в Бретани?
– Вам сказали правду, но он уверяет, что ничуть не изменил вам, что ни одного дня он не переставал любить вас более всех женщин, что он умрет, если не повидает вас хоть раз. Он просит, чтобы вы согласились на это, исполнив обещание, которое вы ему дали в последний день, когда он говорил с вами.
Королева помолчала некоторое время, раздумывая о другой Изольде. Наконец она ответила:
– Да, в последний день, когда мы с ним говорили, я, помнится, сказала ему: если когда-либо я увижу перстень с зеленой яшмой, то ни башни, ни крепкий замок, ни королевский запрет не помешают мне исполнить волю моего милого, будет ли то мудро или безумно.
– Королева, через два дня двор должен покинуть Тинтажель, чтобы направиться в Белую Поляну. Тристан просит передать вам, что он спрячется в терновых кустах около дороги. Он умоляет вас сжалиться над ним.
– Я сказала: ни башни, ни крепкий замок, ни королевский запрет не помешают мне исполнить волю моего милого.
На третий день, когда весь двор готовился к отъезду из Тинтажеля, Тристан, Горвенал, Каэрдин и его оруженосец надели кольчуги, взяли мечи и щиты и направились тайными тропками к назначенному месту. Две дороги вели через лес к Белой Поляне: одна – широкая и отлично вымощенная, по которой должно было пройти шествие, другая – каменистая и заброшенная. Тристан и Каэрдин оставили на второй дороге обоих оруженосцев, которые должны были поджидать их там, охраняя коней и щиты, сами же забрались в лес и спрятались в чаще. Перед этой чащей, посреди хорошей дороги, Тристан положил ветвь орешника, обвитую побегом козьей жимолости.
Вскоре шествие показалось на дороге. Впереди ехал отряд короля Марка. В стройном порядке проследовали фурьеры и конюшие, повара и кравчие, потом капелланы, псари с борзыми и ищейками, потом сокольничьи с соколами на левой руке, за ними доезжачие, потом рыцари и бароны. Они ехали мелкой рысцой, чинно выстроившись по двое, и любо было смотреть на них, богато одетых, на конях в бархатной сбруе, усыпанной ценными украшениями. Позади всех проехал король Марк, и Каэрдин восхищался, видя вокруг него ближних его людей, по двое с каждой стороны, одетых сплошь в золотые или багряные ткани.
Затем появился отряд королевы. Впереди ехали прачки и горничные, за ними жены и дочери баронов и графов. Они ехали поодиночке, и каждую сопровождал молодой рыцарь. Наконец показался конь, на котором сидела красавица, краше которой Каэрдин никогда еще не видел: прекрасная станом и лицом, с плоскими бедрами, хорошо очерченными бровями, смеющимися глазами и маленькими зубами; она одета была в красный бархат, тонкая пластинка золота с драгоценными камнями украшала ее прекрасный лоб.
– Это королева? – спросил шепотом Каэрдин.
– Королева? – сказал Тристан. – Нет, это Камилла, ее служанка.
Затем проехала на сером коне другая девушка, с лицом более белым, чем февральский снег, и более алым, чем розы. Глаза ее сияли, как звезды, отраженные в источнике.
– Ну, теперь я ее вижу; это королева, – сказал Каэрдин.
– О нет, – отвечал Тристан, – это Бранжьена Верная.
Вдруг засветилась вся дорога, точно солнце внезапно излило все сияние сквозь листву высоких деревьев, и появилась белокурая Изольда. Герцог Андрет – да будет он проклят Господом! – ехал по ее правую руку.
В это мгновение из терновой чащи полились трели малиновки и жаворонка; Тристан вложил в них всю свою нежность. Королева поняла знак своего милого. Она заметила на дороге ветвь орешника, крепко обвитую козьей жимолостью, и подумала в своем сердце: «Так и мы с тобой, милый: ни ты без меня, ни я без тебя».
Она остановила своего иноходца, подошла к коню, который вез на себе усыпанный драгоценными камнями домик, где на пурпурном коврике лежала собачка Пти-Крю, взяла ее на руки и стала гладить ее рукой, своей горностаевой мантией ласкать и нежить ее. Потом, положив ее на место, обернулась к терновой чаще и сказала громким голосом:
– Лесные птички, вы повеселили меня своими песнями, и я приглашаю вас послужить мне и далее. Мой повелитель, король Марк, проедет прямо до Белой Поляны, я же думаю заночевать сегодня в замке Сен-Любен. Проводите меня до него, птички, – вечером я вас щедро награжу, как славных менестрелей.
Тристан запомнил эти слова и обрадовался. Но предатель Андрет уже встревожился. Он усадил королеву снова на коня, и шествие тронулось.
Послушайте о грустном приключении. Когда проходил королевский отряд, на дороге, где Горвенал и оруженосец Каэрдина сторожили коней своих господ, появился вооруженный рыцарь по имени Блери. Он издали узнал Горвенала и щит Тристана. «Что я вижу! – подумал он. – Это Горвенал, а тот, другой, – сам Тристан». Пришпорив своего коня, он помчался к ним, крича: «Тристан!» Но оба всадника уже поворотили коней и пустились в бегство. Блери бросился за ними, повторяя:
– Тристан, остановись, заклинаю тебя твоим мужеством!
Но всадники не обернулись. Тогда Блери закричал:
– Тристан, остановись, заклинаю тебя именем белокурой Изольды!
Трижды заклинал он беглецов именем белокурой Изольды, но тщетно: они исчезли, и Блери удалось догнать одного только коня, которого он и увел как добычу. Он приехал в замок Сен-Любен в то время, как королева только что в нем расположилась. Застав ее наедине, он сказал ей:
– Государыня, Тристан здесь. Я видел его на заброшенной дороге, что ведет из Тинтажеля. Он обратился в бегство. Трижды кричал я ему, чтобы он остановился, заклиная его именем белокурой Изольды, но страх обуял его, и он не осмелился обождать меня.
– Славный рыцарь, что вы говорите? Это ложь и безумие: как мог бы Тристан оказаться в этой стране? Как мог бы он бежать от вас? Неужели бы он не остановился, если бы его заклинали моим именем?
– Однако я его видел, государыня, и вот доказательство – я захватил одного из его коней. Поглядите, вон он во всем убранстве там, на дворе.
Блери увидел, что Изольда разгневана. Грустно ему стало за нее, ибо он любил Тристана и королеву. Он ушел, жалея о том, что сказал.
Тогда заплакала Изольда и сказала: «Несчастная я! Слишком долго я живу, ибо дожила до того, что Тристан издевается надо мною и позорит меня! Прежде, когда его заклинали моим именем, с каким бы врагом не вступил он в бой! Он смел и силен; если он бежал от Блери, если не удостоил остановиться при имени своей милой – это значит, что другая Изольда им владеет. К чему же он вернулся? Он мне изменил, он захотел вдобавок опозорить меня, надо мной посмеяться. Разве не довольно ему моих прежних терзаний? Пусть же он возвращается к своей белорукой Изольде, сам опозоренный».
Она позвала Периниса Верного, рассказала ему, что узнала от Блери, и прибавила:
– Друг, отыщи Тристана на заброшенной дороге, что идет от Тинтажеля к Сен-Любену, да скажи ему, что я не шлю ему привета, и пусть он не отваживается приблизиться ко мне, ибо я прикажу выгнать его своей страже и слугам.
Перинис принялся за поиски. Найдя Тристана и Каэрдина, он передал то, что велела сказать королева.
– Что говоришь ты, брат? – воскликнул Тристан. – Как мог я бежать от Блери? Ты видишь, с нами нет даже наших коней. Горвенал сторожил их; мы его не нашли в условленном месте и продолжаем искать его.
В это мгновение подъехал Горвенал с оруженосцем Каэрдина, и они рассказали о своем приключении.
– Перинис, милый, добрый друг, – сказал Тристан, – вернись скорей к своей госпоже, передай ей, что я шлю ей привет и любовь, что я не нарушил той верности, которою ей обязан, что она мне дороже всех женщин; попроси ее, чтобы она снова послала тебя ко мне с помилованием. Я буду ждать здесь твоего возвращения.
Перинис вернулся к королеве и передал ей то, что видел и слышал. Но она ему не поверила.
– Ах, Перинис, ты был мне близким, верным человеком: мой отец приставил тебя еще ребенком служить мне, но колдун Тристан соблазнил тебя своими выдумками и подарками. И ты тоже мне изменил. Уходи прочь!
Перинис упал перед нею на колени:
– Суровые слова я слышу, королева. Никогда в жизни не было мне так больно. Но о себе я не забочусь: мне больно за вас, королева, что вы оскорбляете доблестного Тристана; и вы пожалеете об этом, когда будет слишком поздно.
– Ступай, я тебе не верю. Даже ты, Перинис, Перинис Верный, изменил мне!
Долго ждал Тристан, чтобы Перинис принес ему прощение от королевы. Перинис не явился.
Поутру Тристан надел на себя длинный плащ, весь изодранный, покрасил местами свое лицо киноварью и зеленой шелухой ореха, так что стал походить на больного, изъеденного проказой; в руки он взял чашку из сучковатого дерева для сбора подаяния и трещотку прокаженного.
Он вошел в Сен-Любен и начал бродить по его улицам, выпрашивая измененным голосом милостыню у каждого встречного. Только бы ему удалось повстречать королеву!
Она выходит, наконец, из дворца; Бранжьена, слуги и стража сопровождают ее. Она направляется в церковь. Прокаженный идет за слугами, вертит свою трещотку и молит жалобным голосом:
– Королева, подайте мне что-нибудь; вы не знаете, как я нуждаюсь!
По мощному телу и осанке Изольда его признала. Она вся дрожит, но не удостаивает его взглядом. Прокаженный ее молит. Жалко было слышать его! Он тащится за нею:
– Королева, если я осмелюсь подойти к вам, не гневайтесь; смилуйтесь надо мной, я вполне этого заслуживаю.
Но королева зовет слуг и стражу.
– Прогоните этого прокаженного, – говорит она им.
Слуги толкают его и бьют. Он сопротивляется и кричит:
– Сжальтесь, королева!
Тогда Изольда громко рассмеялась. Ее смех звенел еще, когда она вошла в церковь. Услышав ее смех, прокаженный ушел. Королева сделала несколько шагов по церкви, затем ноги ее ослабели, и она упала на колени, головой наземь, руки крестом.
В тот же день Тристан распрощался с Динасом в таком огорчении, что, казалось, он лишился рассудка; и судно его отплыло в Бретань.
Увы, королева вскоре раскаялась, когда узнала от Динаса из Лидана, что Тристан уехал в такой грусти. Она поверила, что Перинис говорил правду, что Тристан не бежал, когда его заклинали ее именем, что она напрасно прогнала его. «Как это! – думала она. – Я тебя прогнала, милый Тристан! Отныне ты будешь меня ненавидеть, и никогда я тебя не увижу. Никогда не узнаешь ты, как я раскаиваюсь, какую кару хочу наложить на себя в доказательство и в слабый знак моего раскаяния!»
С того дня, чтобы наказать себя за свою ошибку и безумие, белокурая Изольда облеклась во власяницу и стала носить ее на теле.
Глава XVIII Тристан – юродивый
Вновь увидел Тристан Бретань, Карэ, герцога Гоэля и жену свою, белорукую Изольду. Все его ласково встретили, но белокурая Изольда его прогнала, и для него ничего не осталось в мире. Долго томился он вдали от нее, но однажды решил снова повидать ее, готовый на то, чтобы она снова велела позорно избить его своей страже и слугам. Он знал, что вдали от нее его неизбежно и скоро постигнет смерть; так лучше уж умереть сразу, чем умирать медленно, каждый день. Кто живет в скорби, подобен мертвецу. Тристан желает смерти, жаждет ее. Пусть же королева по крайней мере узнает, что он погиб из-за любви к ней; если она узнает это, ему легче будет умереть.
Он ушел из Карэ, не сказав никому, ни родным, ни друзьям, ни даже своему милому товарищу Каэрдину; он ушел, нищенски одетый, пешком: никто не обращал внимания на бедных бродяг, что странствуют по большим дорогам. Он шел до тех пор, пока не достиг берега моря.
В гавани снаряжалось в путь большое торговое судно; уже моряки натягивали паруса и поднимали якорь, чтобы отплыть в открытое море.
– Да хранит вас Господь, добрые люди, и счастливый вам путь! В какие края вы направляетесь?
– В Тинтажель.
– В Тинтажель? Добрые люди, возьмите меня с собой!
Он садится на корабль. Попутный ветер надул паруса, и судно понеслось по волнам; пять ночей и пять дней плыло оно к Корнуэльсу, а на шестой пристало к гавани Тинтажеля.
За гаванью возвышался над морем замок, хорошо укрепленный со всех сторон: можно было в него войти только через одну железную дверь, и два надежных сторожа охраняли ее день и ночь. Как проникнуть в замок?
Тристан сошел с корабля и сел на берегу. Он узнал от проходившего мимо человека, что Марк находится в замке и недавно собирал двор.
– А где же королева и ее прекрасная прислужница Бранжьена?
– Они также в Тинтажеле, я недавно их видел; королева Изольда казалась печальной по обыкновению.
При имени Изольды Тристан вздохнул и подумал, что ни хитростью, ни удальством ему не удастся увидеть снова свою возлюбленную: ведь король Марк убьет его…
«А не все ли равно, если даже убьет? Не умру ли я от любви к тебе, Изольда? И что делаю я каждый день, как не умираю? А ты, Изольда, если бы знала, что я здесь, согласилась ли бы ты побеседовать со своим милым, не велела ли бы выгнать его своей страже? Пущусь на хитрость, оденусь юродивым; это безумие будет великой мудростью. Иной примет меня за слабоумного, а будет не умнее меня; тот сочтет меня дурнем, кто сам еще более дурень».
Проходил рыбак в куртке из грубой шерстяной ткани с большим капюшоном. Увидев его, Тристан сделал ему знак и отвел в сторону:
– Друг, хочешь променять свою одежду на мою? Дай мне свою куртку – очень она мне нравится.
Рыбак посмотрел на одежду Тристана, нашел ее лучше своей, тотчас взял ее и быстро удалился, радуясь обмену.
Затем Тристан обстриг наголо свои светлые кудри, оставив на голове только крест из волос; вымазал свое лицо снадобьем из чудодейственной травы, привезенным из его страны, и тотчас цвет лица и облик его изменились так поразительно, что ни один человек на свете не мог бы его узнать. Он вырвал в огороде сук каштанового дерева, сделал из него палку, привесил ее к шее и босиком отправился прямо к замку.
Привратнику он показался несомненно помешанным, а он спросил его:
– Подойди-ка. Где ты так долго был? Тристан ответил, изменив свой голос:
– На свадьбе аббата из Мона, одного из моих друзей. Он женился на аббатисе, толстой особе в покрывале. От Безансона до Мона все священники, аббаты, монахи и церковнослужители были приглашены на эту свадьбу; и все они, с палками и посохами, прыгают, играют и пляшут на лугу, под тенью высоких деревьев. Но я их оставил, чтобы прийти сюда, потому что сегодня я обязан прислуживать при королевской трапезе.
– Войдите же, сеньор, сын косматого Ургана, – сказал ему привратник. – Вы велики ростом и волосаты, как он; весьма похожи на вашего отца.
Когда Тристан вошел в замок, играя своей дубинкой, слуги и конюшие столпились вокруг него и стали травить его, как волка.
– Поглядите на помешанного, у-гу-гу!
Они кидали в него камнями, колотили его палками, но он терпел это, прыгая, предоставляя себя на их волю; если на него нападали слева, он оборачивался и бил палкой направо.
Среди смеха и крика, увлекая за собой беспорядочную толпу, он добрался до порога залы, где под балдахином, рядом с королевой, сидел король Марк. Он подошел к двери, повесил на шею свою дубину и вошел. Увидав его, король сказал:
– Вот славный собеседник. Пусть приблизится. Его привели, с палкой на шее.
– Привет тебе, дружок! – сказал Марк. Тристан ответил, до крайности изменив голос:
– Государь, добрейший и благороднейший из всех королей, я знал, что при виде вас мое сердце растает от нежности. Да хранит вас Бог, славный повелитель!
– Зачем пришел ты сюда, дружок?
– За Изольдой, которую я так любил. У меня есть сестра, которую я к вам привел, прекрасная Брюнгильда. Королева надоела вам, попробуйте эту. Поменяемся: я отдам вам сестру, а вы дайте мне Изольду; я ее возьму и буду преданно служить вам. Король засмеялся:
– Если я тебе отдам королеву, что станешь ты с ней делать, куда ее уведешь?
– Туда, наверх, между небом и облаком, в мое чудное хрустальное жилище. Солнце пронизывает его своими лучами, ветры не могут его поколебать; туда понесу я королеву, в хрустальный покой, цветущий розами, сияющий утром, когда его освещает солнце.
Король и бароны говорят промеж себя:
– Славный это дурень, на слова мастер!
Он сел на ковер и нежно смотрит на Изольду.
– Друг, – сказал ему Марк, – откуда явилась у тебя надежда, что моя жена обратит внимание на такого безобразного дурака, как ты?
– У меня есть на то право: много для нее я потрудился, из-за нее и с ума сошел.
– Кто же ты такой?
– Я Тристан, что так любил королеву и будет любить ее до смерти.
При этом имени Изольда вздохнула, изменилась в лице и гневно сказала ему:
– Ступай вон! Кто тебя привел сюда? Ступай вон, злой дурак!
Он заметил ее гнев и сказал:
– А помнишь ли ты, королева Изольда, тот день, когда, раненный отравленным мечом Морольда, плывя по морю со своей арфой, я случайно пристал к ирландским берегам? Ты меня исцелила. Неужели ты не помнишь этого больше?
– Вон отсюда, дурак! – отвечала Изольда. – Не нравятся мне ни твои шутки, ни ты сам.
Тут помешанный обернулся к баронам и погнал их к дверям, крича:
– Вон отсюда, дурни! Дайте мне поговорить с Изольдой наедине: ведь я пришел сюда миловаться с ней.
Король засмеялся, а Изольда покраснела и сказала:
– Прогоните этого безумца, государь!
А тот продолжал своим страшным голосом:
– А помнишь ли ты, королева Изольда, большого дракона, которого я убил в твоей стране? Я спрятал его язык в кармане и, совсем опаленный его ядом, упал у болота. Дивный тогда я был рыцарь!.. И я ждал смерти, когда ты пришла ко мне на помощь.
– Замолчи! – отвечала Изольда. – Ты оскорбляешь рыцарей, ты помешан от рождения. Да будут прокляты моряки, которые привезли тебя сюда, вместо того чтобы бросить в море!
Юродивый громко расхохотался и продолжал:
– А помнишь ли ты, королева Изольда, о том, как во время купанья ты хотела убить меня моим же мечом, и сказку о золотом волосе, которою я тебя успокоил, и о том, как я защитил тебя от сенешаля?
– Умолкни, злой рассказчик! Зачем явился ты сюда со своими бреднями? Вчера вечером ты упился, и, наверно, хмель внушил тебе эти грезы.
– Правда, я пьян, и от такого напитка, что никогда опьянение это не пройдет. А помнишь ли ты, королева Изольда, тот чудный, жаркий день в открытом море? Тебе захотелось пить – помнишь ли, королевская дочь? Мы выпили оба из одного кубка. С той поры я всегда был пьян, и плохим опьянением…
Когда Изольда услышала эти слова, которые она одна могла понять, она закрыла лицо мантией, встала и хотела уйти, но король удержал ее за горностаевый капюшон и заставил снова усесться с ним рядом:
– Погоди немного, дорогая Изольда, дай дослушать его глупости до конца.
– Какие же мастерства знаешь ты, юродивый?
– Я служил королям и графам.
– В самом деле? Умеешь ли ты охотиться с собаками и птицами?
– Конечно, когда мне приходит в голову поохотиться в лесу, я умею ловить с моими борзыми журавлей, что летают в поднебесье, с ищейками – лебедей, белых гусей, диких голубей, с моим луком – нырков и выпей.
Все добродушно рассмеялись, а король спросил:
– А что добываешь ты, дружок, когда идешь на охоту за речной дичью?
– Беру все, что нахожу: с ястребами – лесных волков и больших медведей, с кречетами – кабанов, с соколами – серн и ланей, лисиц – с коршунами, зайцев – с кобчиками. И когда я возвращаюсь к тому, кто оказывает мне гостеприимство, я хорошо умею играть дубиной, наделять головнями конюших, настраивать мою арфу и петь под музыку, любить королев и бросать в ручей хорошо выстроганные щепки. В самом деле, разве не хороший я менестрель[240]? Сегодня вы видели, как я умею драться палкой.
И он принялся размахивать ею вокруг себя.
– Ступайте вон отсюда, – крикнул он, – корнуэльские сеньоры! Чего еще ждете вы? Разве вы еще не наелись, не сыты?
Позабавившись дураком, король велел подать себе коня и ястребов и увел с собой на охоту рыцарей и оруженосцев.
– Государь, – сказала ему Изольда, – я чувствую себя усталой и расстроенной. Дозволь мне отдохнуть в моей комнате, я не могу более слушать эти глупые шутки.
Она удалилась, задумавшись, в свою комнату, села на постель и сильно загоревала:
– Несчастная я! Для чего я родилась? На сердце у меня тяжело и печально. Бранжьена, дорогая сестра, жизнь моя так сурова и жестока, что лучше было бы умереть. Там какой-то помешанный, выстриженный накрест, пришел в недобрый час: этот юродивый, этот жонглер – волшебник или знахарь, он в точности знает все обо мне, о моей жизни; знает такое, чего никто не ведает, кроме тебя, меня и Тристана; он узнал это, бродяга, гаданьем и колдовством.
Бранжьена ответила:
– Да не сам ли это Тристан?
– Нет! Тристан прекрасен, он лучший из рыцарей, а этот человек уродлив и мерзок. Да будет он проклят Богом! Да будет проклят час его рождения, проклят и корабль, привезший его, вместо того чтобы утопить там, далеко, в глубоких волнах!
– Успокойтесь, королева, – сказала Бранжьена, – сегодня вы только и знаете, что проклинать и отлучать. Где вы научились такому делу? Но, может быть, этот человек – посланец Тристана?
– Не думаю, я его не признала. Но пойди за ним, дорогая, поговори с ним, посмотри, не признаешь ли ты его.
Бранжьена направилась в залу, где оставался лишь юродивый, сидевший на скамье.
Тристан узнал ее, бросил палку и сказал:
– Бранжьена, благородная Бранжьена, заклинаю тебя Богом, сжалься надо мной!
– Какой дьявол научил тебя моему имени, противный Дурак?
– Давно я его знаю, красавица! Клянусь моей головой, некогда белокурой; если разум ее покинул, то виною тому ты, красавица. Не ты ли должна была оберечь любовное зелье, которое я выпил в открытом море? Было жарко, Изольда отпила из серебряного кубка и подала его мне. Ты одна это знаешь, красавица, – разве не помнишь ты этого более?
– Нет, – отвечала Бранжьена и, взволнованная, бросилась к комнате Изольды.
Но помешанный побежал вслед за ней с криком: «Сжалься!»
Он вошел, увидел Изольду, кинулся к ней, протянул руки и хотел прижать ее к своей груди; но, застыдившись, вся в холодном поту от волнения, она откинулась назад, избегая его. Видя, что она от него отстраняется, Тристан затрепетал от стыда и гнева, отошел к стене у двери и сказал своим по-прежнему измененным голосом:
– Да, я слишком долго жил, если дожил до дня, когда Изольда меня отталкивает, не удостаивает любви, презирает меня. О Изольда, кто сильно любит, не скоро забывает! О Изольда, прекрасен и дорог полноводный ручей, который разливается и бежит широкими светлыми волнами; когда он высохнет, он ни к чему не годен. Такова любовь, которая иссякла.
Изольда ответила:
– Я смотрю на тебя, друг, и сомневаюсь; дрожу, не уверена, не узнаю Тристана.
– Королева Изольда, я Тристан – тот, который так любил тебя. Или не помнишь того карлика, который насыпал муку между нашими постелями, мой прыжок, кровь, что потекла из моей раны, подарок, который я тебе прислал, – собачку Пти-Крю с волшебной погремушкой? Или не помнишь ты искусно обструганных щепок, которые я бросал в ручей?
Изольда смотрит на него, вздыхает, не знает, что сказать и чему верить; она отлично видит, что ему известно все, но было бы безумием признать в нем Тристана. А он говорит ей:
– Королева и госпожа моя, я вижу ясно, что вы бросили меня; я обвиняю вас в измене. Я изведал, однако, дни, красавица, когда вы любили меня искренно: то было в темном лесу, под лиственным сводом. Помните ли вы тот день, когда я вам отдал мою собаку, славного Хюсдена? О, она меня всегда любила и ради меня покинула бы белокурую Изольду. Где она? Что вы с ней сделали? Она по крайней мере узнала бы меня.
– Она бы узнала вас? Вы говорите пустяки. С тех пор как Тристан уехал, она все время лежит там, в своей конуре, и бросается на всякого, кто подходит к ней. Бранжьена, приведи ее ко мне.
Бранжьена привела собаку.
– Поди сюда, Хюсден, – сказал Тристан. – Ты был моим, я возьму тебя снова.
Когда Хюсден услышал его голос, он вырвался с привязью из рук Бранжьены, подбежал к своему хозяину, стал вертеться у его ног, лизать ему руки, лаять от радости.
– Хюсден, – воскликнул юродивый, – благословен тот труд, который я затратил, воспитав тебя! Ты меня лучше принял, чем та, которую я так любил. Она не хочет признать меня. Узнает ли она хоть этот перстень из зеленой яшмы, который когда-то мне подарила, плача и целуя меня, в день расставания? С этим маленьким перстнем из яшмы я никогда не разлучался: часто я просил у него совета в моих печалях, часто орошал горькими слезами зеленую яшму.
Изольда увидела перстень. Она широко раскрыла руки:
– Вот я! Возьми меня, Тристан!
Тогда Тристан перестал изменять свой голос.
– Милая, как могла ты так долго не узнавать меня – дольше, чем эта собака? Разве дело в перстне? Разве не думаешь ты, что мне было бы отраднее, если бы ты узнала меня при одном напоминании о былой любви? Разве дело в звуке моего голоса? Звук моего сердца – вот что ты должна была бы услышать!
– Милый, – сказала Изольда, – я, быть может, услышала его раньше, чем ты думаешь, но мы окружены кознями: могла ли я, как эта собака, последовать своему влечению, подвергая тебя опасности быть схваченным и убитым на моих глазах? Я оберегала себя, оберегала и тебя. Ни твое напоминание о былой жизни, ни звук твоего голоса, ни самый этот перстень ничего мне не доказывают, так как все может быть злым делом волшебника. Но при виде перстня я сдаюсь. Разве не клялась я, что, как только его увижу, хотя бы мне погибнуть, я исполню все, что ты пожелаешь, будет ли то мудро или безумно? Мудро или безумно, я твоя; возьми меня, Тристан!
Она упала без чувств на грудь своего милого. Когда она пришла в себя, Тристан держал ее в объятиях, целовал ей глаза и лицо. Он вошел с ней под полог. В руках он держал королеву.
Чтобы позабавиться юродивым, слуги приютили его под лестницей залы, как собаку в конуре. Он смиренно выносил их насмешки и удары, потому что порой, приняв свое прежнее обличье и красоту, он шел из своей берлоги в горницу королевы.
Но спустя несколько дней две служанки заподозрили обман и предупредили Андрета. Тот приставил к женскому покою трех хорошо вооруженных дозорных. Когда Тристан хотел войти в него, они закричали:
– Назад, дурак! Возвращайся к себе на солому!
– Что это, славные сеньоры? – сказал юродивый. – Разве сегодня вечером мне не след миловаться с королевой? Не знаете ли вы разве, что она меня любит и меня ждет?
Тристан замахнулся палкой. Слуги испугались и дали ему пройти. Он заключил Изольду в свои объятия.
– Надо мне бежать, дорогая, ибо вскоре меня узнают. Надо бежать, и, без сомнения, я уже никогда не вернусь. Смерть моя близка: вдали от тебя я умру с тоски.
– Обними меня крепко, мой милый, и прижми так сильно, чтобы в этом объятии наши сердца разорвались и души улетели! Увези меня в счастливую страну, о которой ты некогда говорил: в страну, откуда никто не возвращается, где чудесные певцы поют бесконечные песни. Увези меня!
– Да, я увезу тебя в счастливую страну живых. Срок близится: разве мы не испили с тобой все горе и всю радость? Срок близится. Когда он настанет и я позову тебя, Изольда, – придешь ли ты?
– Зови меня, друг. Ты знаешь, что я приду.
– Да вознаградит тебя за это Господь, дорогая! Когда он выходил из комнаты, дозорные кинулись на него, но юродивый громко расхохотался, завертел палкой и крикнул:
– Вы меня гоните, славные сеньоры? К чему это? Мне нечего здесь больше делать, ибо моя госпожа посылает меня далеко, чтобы приготовить ей светлый покой, который я ей обещал, хрустальный покой, цветущий розами, сияющий утром, когда его освещает солнце!
– Ступай же, дурень, в недобрый час!
Слуги расступились, и юродивый не спеша вышел, приплясывая.
Глава XIX Смерть
Едва вернулся он в Бретань, в Карэ, как ему пришлось, в помощь своему дорогому товарищу Каэрдину, воевать с одним бароном по имени Бедалис. Он попал в засаду, устроенную Бедалисом и его братьями. Тристан убил семерых братьев, но сам был ранен ударом копья, которое было отравлено.
С большим трудом добрался он до замка Карэ и велел перевязать свои раны. Лекаря явились в большом числе, но ни один не мог вылечить его от яда, ибо им не удалось даже распознать его. Они не сумели составить пластырь, который вытянул бы его наружу. Тщетно толкут они и растирают коренья, собирают травы, приготовляют настои: Тристану все хуже и хуже, яд разливается по его телу, он побледнел, и кости его начинают обнажаться.
Он почувствовал, что жизнь его угасает, понял, что приходится ему умирать. Тогда он захотел снова повидать белокурую Изольду. Но как добраться до нее? Он так ослабел, что умер бы на море; а если бы и доехал до Корнуэльса, то как там избегнуть врагов? Он стонет, яд терзает его; он ждет смерти.
Он позвал к себе тайком Каэрдина, чтобы поведать ему свое горе, ибо они любили друг друга верной любовью. Он пожелал, чтобы никого не было в его горнице, кроме Каэрдина, и никого в соседних покоях. Изольда, жена его, удивилась в душе такому странному желанию. Это встревожило ее, и она захотела услышать, о чем они будут говорить. Припав в соседней комнате к стене, у которой стояла постель Тристана, она прислушалась. Один из ее верных слуг сторожил за дверью, чтобы никто ее не поймал.
Тристан собрался с силами, поднялся, прислонился к стене. Каэрдин сел возле него, и оба тихо заплакали. Они оплакивали свое добрее товарищество по оружию, так рано прерванное, свою великую дружбу, свою любовь, и каждый из них сокрушался о другом.
– Славный, дорогой друг, – сказал Тристан, – я на чужбине, где нет у меня ни родных, ни друзей, кроме тебя одного: ты здесь один был мне радостью и утешением.
Перед смертью я хотел бы повидаться с белокурой Изольдой. Но как, какой хитростью дать ей знать, в какой я нужде? Ах, если бы я нашел посланца, который согласился бы отправиться к ней, она бы приехала, – так сильно она меня любит. Каэрдин, дорогой товарищ, прошу тебя во имя нашей дружбы, твоего благородного сердца, нашего товарищества: попытайся ради меня, и если ты отвезешь мое послание, я стану твоим вассалом и буду любить тебя более всех людей.
Видит Каэрдин, что Тристан плачет, опечален, жалуется; сердце его смягчилось состраданием, и он отвечал тихо, ласково:
– Дорогой мой товарищ, не плачь, я исполню твое желание. Разумеется, друг мой, из любви к тебе я готов подвергнуться смертельной опасности. Никакая беда, никакое опасение не помешают мне сделать все, что в моей власти. Скажи, что ты желаешь ей передать, и я снаряжусь к отъезду.
Тристан отвечал:
– Друг, благодарю тебя! Выслушай, в чем моя просьба. Возьми этот перстень: это условный знак между нами. И когда ты прибудешь в ее страну, постарайся, чтобы при дворе тебя приняли за купца. Покажи ей шелковые ткани и устрой так, чтобы она увидала этот перстень; тотчас же она найдет уловку, чтобы поговорить с тобой наедине. Скажи ей тогда, что сердце мое шлет ей привет, что она одна может принести мне облегчение; скажи ей, что, если она не придет, я умру. Пусть вспомнит о наших былых утехах, о великих горестях, о великих печалях и радостях, о сладости нашей верной и нежной любви; пусть вспомнит о любовном зелье, выпитом вместе на море. О, это смерть свою мы там испили! Пусть вспомнит мой обет – никого, кроме нее, никогда не любить. Я сдержал свое слово. За стеной белорукая Изольда услышала эти речи и едва не лишилась чувств.
– Торопись, друг мой, и возвращайся скорее; если ты замешкаешься, ты меня больше не увидишь. Назначь себе срок в сорок дней и привези с собой белокурую Изольду. Скрой от сестры свой отъезд или скажи ей, что едешь за лекарем. Отправляйся на моем судне да возьми с собой два паруса: один белый, другой черный. Если ты привезешь ко мне королеву Изольду, натяни на обратном пути белый парус, а если не привезешь, плыви с черным. Друг мой, мне нечего тебе более сказать; да направит тебя Господь и возвратит сюда благополучно!
Он вздохнул, заплакал, принялся стонать. Каэрдин тоже заплакал, поцеловал Тристана и простился с ним.
При первом попутном ветре он вышел в море. Моряки подняли якоря, поставили паруса, поплыли при легком ветерке, и нос судна стал рассекать высокие и глубокие волны. Они везли с собой богатые товары – шелковые ткани, выкрашенные в редкие цвета, дорогую посуду из Тура, вина из Пуату, кречетов из Испании; благодаря этой хитрости Каэрдин надеялся проникнуть к Изольде. Восемь дней и восемь ночей рассекали они волны, плывя на всех парусах к Корнуэльсу.
Опасен женский гнев, каждый должен его остерегаться! Чем сильнее женщина любила, тем ужаснее она мстит. Быстро рождается любовь женщины, быстро рождается и ее ненависть, и, раз загоревшись, неприязнь держится упорнее дружбы. Женщины умеют умерять свою любовь, но не ненависть.
Припав к стене, белорукая Изольда слышала каждое слово. Она так любила Тристана! И вот, наконец, она узнала про его любовь к другой… Она удержала в памяти все слышанное. Если когда-либо ей это удастся, как отомстит она тому, кого она любила больше всего на свете! Однако она не показала виду. Лишь только отворили дверь, она вошла в горницу Тристана; скрыв свой гнев, она принялась снова за ним ухаживать, была ласкова, прислуживала ему, как подобает любящей женщине. Она тихо говорила с ним, целовала его в губы и спрашивала, скоро ли вернется Каэрдин с лекарем, который должен был излечить его… А на самом деле она искала случая, как бы отомстить.
Каэрдин плыл, не переставая, пока не бросил якорь в гавани Тинтажеля. Взяв на руку ястреба, кусок ткани редкого цвета, кубок чудной чеканной работы, он поднес все это королю Марку и вежливо попросил его покровительства и мира, дабы ему можно было торговать в его земле без боязни ущерба от баронов и виконтов. И король обещал ему это перед всеми придворными. Тогда Каэрдин предложил королеве застежку тонкой работы из чистого золота.
– Государыня, – сказал он, – это доброе золото, – и, сняв с пальца перстень Тристана, он приложил его к застежке. – Вот смотрите, королева, золото этой застежки дороже, хотя золото этого перстня также имеет немалую цену.
Когда Изольда узнала перстень из зеленой яшмы, сердце ее задрожало, цвет лица изменился, и, предчувствуя то, что она услышит, она отвела Каэрдина в сторону, к окну, будто затем, чтобы лучше рассмотреть и приторговать перстень. Каэрдин быстро сказал ей:
– Королева, Тристан ранен отравленным копьем и Должен умереть. Он велел сказать вам, что вы одна можете ему принести облегчение. Он напоминает вам великие горести и печали, пережитые вами вместе. Оставьте у себя этот перстень, он дарит его вам. Изольда ответила, обомлев:
– Друг, я последую за тобой. Завтра поутру пусть корабль твой будет готов к отплытию.
На другой день поутру королева сказала, что хочет поехать на соколиную охоту, и велела держать наготове собак и птиц. Но герцог Андрет, который все время за ней следил, отправился вместе с нею. Когда они оказались в поле, недалеко от морского берега, поднялся фазан. Андрет напустил на него сокола. День был светлый, ясный, и сокол взвился и исчез.
– Смотрите, сеньор Андрет, сокол уселся там, в гавани, на мачте незнакомого мне судна. Чье оно?
– Королева, – ответил он, – это судно купца из Бретани, который вчера подарил вам золотую застежку. Пойдем туда, возьмем нашего сокола.
Каэрдин бросил доску, как сходни, со своего судна на берег и вышел навстречу королеве.
– Не пожелаете ли вы, государыня, войти на мое судно? Я покажу вам мои богатые товары.
– Охотно, сеньор, – сказала королева.
Она сошла с коня, направилась к доске, прошла по ней и вступила на судно. Андрет хотел за нею последовать и вступил на доску, но Каэрдин, стоявший на палубе, ударил его веслом, Андрет зашатался и упал в море. Он хотел взобраться на корабль, но Каэрдин новым ударом весла свалил его, крикнув:
– Умри, предатель! Вот тебе расплата за все то зло, которое причинил ты Тристану и королеве Изольде!
Так Господь отомстил за любящих предателям, которые так их ненавидели. Все четверо погибли – Генелон, Гондоин, Деноален, Андрет.
Подняли якорь, поставили мачту, натянули паруса. Свежий утренний ветер зашелестел в вантах и надул паруса. Из гавани в открытое море, совершенно белое и вдали залитое лучами солнца, устремилось судно.
В Карэ Тристан хирел. Он страстно желал приезда Изольды. Ничто его не радовало, и если он был еще жив, то потому, что ждал. Каждый день посылал он дозорного на берег – посмотреть, не возвращается ли судно и какого цвета парус его; никакого другого желания не было у него на сердце. Вскоре он велел перенести себя на скалу Пенмарх и, пока солнце стояло над горизонтом, глядел в даль моря.
Послушайте, добрые люди, печальную повесть, жалостную для всех, кто любит. Изольда уже приближалась, вдали уже показалась скала Пенмарх, и судно плыло быстрее. Вдруг налетела буря, ветер крепко надул паруса, и корабль завертелся. Моряки выбежали на наветренную сторону палубы, но тут ветер ударил им в спину. Ветер бушует, вздымаются высокие волны, воздух сгустился в мрак, море почернело, дождь налетает шквалами. Ванты и булини лопнули, моряки спустили паруса и носятся по воле волн и ветра. На свою беду, они забыли втащить на палубу лодку, привязанную к корме за судном; волна разбила ее и унесла.
– Горе мне, несчастной! – воскликнула Изольда. – Не дал мне Господь дожить до того, чтобы увидеть Тристана, моего милого, один бы раз, один бы только раз. Он хочет, чтобы я утонула в этом море. Еще бы раз побеседовать с тобою, Тристан, и мне легко было бы умереть! Если я не явлюсь к тебе, дорогой, значит Бог этого не желает, и в этом мое большое горе. Смерть мне нипочем: если Богу угодно это, я приму ее; но, дорогой мой, когда ты об этом узнаешь, ты умрешь, я в этом уверена. Такова наша любовь, что ни ты без меня, ни я без тебя не можем умереть. Я вижу перед собой твою смерть и в то же время свою. Увы, друг мой, не сбылось мое желание – умереть в твоих объятиях, быть погребенной в твоем гробу; не суждено это было нам с тобою. Я умру одна, без тебя, исчезну в море. Может быть, ты не узнаешь о моей смерти и будешь еще жить, поджидая моего приезда. Если Богу будет угодно, ты даже исцелишься; может быть, после меня полюбишь другую женщину, полюбишь белорукую Изольду. Не знаю, что станется с тобой; что до меня, дорогой, то, если бы я узнала, что ты умер, я не могла бы жить больше. Пусть же Господь позволит мне исцелить тебя или нам вместе умереть одной мукой!
Так жаловалась королева, пока длилась буря. Через пять дней она утихла. На самой вышке мачты Каэрдин весело натянул белый парус, чтобы Тристан издалека мог различить его цвет. Уже Каэрдин видит Бретань. Но, увы, вслед за бурей почти сразу наступило затишье. Море расстилалось спокойное, гладкое, ветер не надувал парусов, и моряки тщетно лавировали вправо и влево, взад и вперед. Вдали виднелся берег, но ветер унес их лодку, и они не могли пристать. На третью ночь Изольде приснилось, будто она держит на коленях голову большого кабана, который пятнает кровью ее платье, и она поняла, что уже не увидит своего милого живым.
Тристан был слишком слаб, чтобы оставаться на Пенмархской скале, и уже много дней лежал он в комнате, вдали от берега, плача по Изольде, которая все не являлась. Печальный и измученный, он жалуется, вздыхает, мечется на своем ложе; вот-вот, кажется, он умрет от желания.
Наконец ветер окреп, и показался белый парус. Тогда-то белорукая Изольда отомстила.
Она подошла к ложу Тристана и сказала ему:
– Друг, Каэрдин возвращается: я видела его судно на море. Оно подвигается с большим трудом. Однако я его узнала. Лишь бы только принесло оно то, что может тебя исцелить!
Тристан затрепетал.
– А уверена ли ты, друг мой, что это его судно? Скажи же, какой на нем парус.
– Я его хорошо рассмотрела: они его совсем распустили и поставили очень высоко, потому что ветер слабый. Знай же, что он совсем черный.
Тристан повернулся к стене и сказал:
– Я не могу больше удерживать свою жизнь. Трижды произнес он: «Изольда, дорогая!» На четвертый раз он испустил дух.
Тогда в доме заплакали рыцари, товарищи Тристана. Они сняли его с ложа, положили на богатый ковер и завернули тело в саван.
На море поднялся ветер, ударивший в самую середину паруса. Белокурая Изольда сошла на берег. Она услышала, как на улицах все громко рыдают, а в церквах и часовнях звонят в колокола. Она спросила у местных жителей, по ком этот заупокойный звон, по ком этот плач. Один старик ответил ей:
– У нас великое горе, госпожа. Благородный, смелый Тристан скончался. Он был щедр со всеми неимущими, помогал всем страждущим. Это худшее несчастье, какое когда-либо постигало нашу страну.
Слышит это Изольда, не может вымолвить слова. Поднимается она к замку, проходит по улице в растрепавшемся чепце. Бретонцы дивятся, глядя на нее: никогда не видели они женщины подобной красоты. Кто она такая, откуда она?
Около Тристана белорукая Изольда, растерявшись от зла, которое она совершила, испускала над трупом громкие вопли. Другая Изольда вошла и сказала ей:
– Встань, дай мне к нему подойти. У меня больше прав его оплакивать, чем у тебя, поверь мне. Я сильнее его любила.
Она обратила лицо к востоку и помолилась Богу. Потом, слегка приоткрыв тело, легла рядом с ним, своим милым, поцеловала его в уста и в лоб и нежно прижалась к нему – тело с телом, уста с устами. Так отдала она душу, умерла с горя по своему милому.
Когда король Марк узнал о смерти любящих, он переправился за море и, прибыв в Бретань, велел сделать два гроба: один из халцедона – для Изольды, другой из берилла – для Тристана. Он отвез в Тинтажель на своем корабле дорогие ему тела и похоронил их в двух могилах около одной часовни, справа и слева от ее абсиды. Ночью из могилы Тристана вырос терновник, покрытый зеленой листвой, с крепкими ветками и благоуханными цветами, который, перекинувшись через часовню, ушел в могилу Изольды. Местные жители срезали терновник, но на другой день он возродился, такой же зеленый, цветущий и живучий, и снова углубился в ложе белокурой Изольды. Трижды хотели его уничтожить, но тщетно. Наконец сообщили об этом чуде королю Марку, и тот запретил срезать терновник.
Добрые люди, славные труверы[241] былых времен Беруль, и Томас, и Эйльгарт, и мейстер Готфрид сказывали эту повесть для всех тех, кто любил, не для других. Они шлют через меня вам привет, всем тем, кто томится и счастлив, кто обижен любовью и кто жаждет ее, кто радостен и кто тоскует, – всем любящим. Пусть найдут они здесь утешение в непостоянстве и несправедливости, в досадах и невзгодах, во всех страданиях любви.
Иллюстрации
Базилика святого Франциска в Ассизи, Италия
Интерьер верхнего храма базилики святого Франциска в Ассизи, Италия
Святой Франциск Ассизский
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Легенда о святом Франциске Ассизском». Франциск преклоняется перед распятьем. 1297–1299 гг. Базилика святого Франциска в Ассизи, верхний храм
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Легенда о святом Франциске Ассизском». Сон Папы Иннокентия III 1297–1299 гг. Базилика святого Франциска в Ассизи, верхний храм
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Легенда о святом Франциске Ассизском». Франциск Ассизский отказывается от имущества. 1297–1299 гг. Базилика святого Франциска в Ассизи, верхний храм
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Сцены из жизни Христа». Арест (Поцелуй Иуды). 1304–1306 гг. Капелла дель Арена в Падуе, южная стена
Собор Санта-Мария-дель-Фиоре. Флоренция, Италия
Доменико де Микелино (Доменико ди Франческо). Данте. 1465 г. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Италия
Кафедральный собор в Ареццо, Тоскана.
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Легенда о святом Франциске Ассизском». Изгнание демонов из Ареццо. 1297–1299 гг. Базилика святого Франциска в Ассизи, верхний храм
Джотто ди Бондоне. Мадонна с младенцем, ангелами и святыми. 1306–1310 гг. Галерея Уффици, Флоренция
Чимабуэ. Мадонна с младенцем на троне. 1280–1285 гг. Галерея Уффици, Флоренция
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Сцены из жизни Христа». Бегство в Египет. 1305 г. Капелла дель Арена в Падуе, южная стена
Джотто ди Бондоне. Серия фресок «Сцены из жизни Христа». Оплакивание Христа. 1305 г. Капелла дель Арена в Падуе, южная стена
Иероним Босх. Сад земных наслаждений. Около 1490–1510 гг. Музей Прадо, Мадрид
Успенский собор. 1186–1189 гг. Владимир
Иероним Босх Поклонение Волхвов около 1510 г. Музей Прадо, Мадрид
Надгробие Ричарда Львиное Сердце. Аббатство Фонтевро
Надгробие Алиеноры Аквитанской. Аббатство Фонтевро
Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), Франция
Оконная роза-витраж собора Парижской Богоматери
Реймсский собор (Нотр-Дам-де-Реймс), Франция
Страсбургский собор (Нотр-Дам-де-Страсбур), Франция
Скульптурная композиция «Искуситель и Неразумные девы». Южный боковой портал фасада Страсбургского собора, Франция
Статуи-аллегории «Церковь» и «Синагога» в Страсбургском соборе, Франция
Храм Святого Иоанна Предтечи, Керчь
Монастырь Симонопетра на Афоне
Бюст Нефертити. Новый музей Берлина
Эхнатон в синей короне. Египетский музей
Эхнатон, Нефертити и три их дочери под лучами Атона. Амарна
«Книга мертвых» Фрагмент папируса. Новое царство
Клеопатра в оркужении богов Египта. Рельеф
Эхнатон подносящий дары Атону Рельеф. Амарна
Тутанхамон и его супруга Анхесенпаатон, дочь Эхнатона. Амарна
Золотая погребальная маска Тутанхамона. Египетский музей
Эхтатон. Статуя из амарнского храма Атону
Бог Ра в солнечной барке. Рельф храма в Дендера
Тронное кресло Тутанхамона
Скифы. Рельф с гробницы Александра Великого
Александр Великий. Мозаика. Помпеи
Аристотель и Александр. Гравюра. XIX в.
Александр Македонский. Бюст. I в. н. э.
Тийя, мать Эхнатона. Египетский музей
Аргиппина, Мать Нерона. I н. э.
Нерон и Агриппина. I в. до н. э.
Триумф в древнем Риме. Неизвестный художник XVII в.
Посейдон. Мозаика из города Зевгмы, основанного Александром
Афина. Мозаика из города Зевгмы, основанного Александром
Парфенон. Портик Кариатид.
Парфенон. Современный вид
Нерон. Бюст. I в. н. э
Бюсты Эхнатона и Нефертити. Амарна.
Золотая монета с изображение Александра Великого. 3 в. до н. э.
Пленные цари. Барельеф царского дворца в Сузах
Надрогбие Ричарда Львиное Сердце. Аббатство Фонтевро
Надгробие Алиеноры Аквитанской. Аббатство Фонтевро
Гай Юлий Цезарь. Бюст. I в. до н. э.
Питер-Пауль Рубенс. Нерон и Агриппина
Перикл на Агоре. Гравюра XIX в.
Набросок проекта летательного аппарата. Леонардо да Винчи. 1503 г.
Анатомические заметки Леонардо да Винчи 1498 г.
Витрувианский человек. Набросок. Леонардо да Винчи. 1492 г.
Алиенора Аквитанская. Псалтырь. 1198 г.
Битва при Иссе. ок. 100 до н. э.
Франсуа Кенель. Портрет Генриха III, покровителя Джордано Бруно.
Биллем Кей. Портрет герцога Альбы
Генрих VIII и его потомки: старшая дочь Мария с супругом Филиппом Испанским, принц Эдуард и Елизавета
Карл I под стражей отправляется на казнь
Артур Хью. Прекрасная Розамунда
Антонис ван Дейк. Портрет Карла I
Клод Жаканд. Сен-Мар передает шпагу Людовику XIII
Эдвард Берн-Джонс. Прекрасная Розамунда и королева Алиенора
Ганс Гольбейн. Портрет Марии Тюдор
Исаак Оливер. Потрет королевы Елизаветы I
Корнелис Янис ван Келен. Портрет королевы Генриетты-Марии
Джузеппе Гарибальди. Фотография 1861 г.
Ганс Гольбейн. Портрет Генриха VIII
Корнелис Янис ван Келен. Портрет королевы Генриетты-Марии в трауре
Антонио Ариас Фернандес. Карл V и его сын Филипп II
Рождение дофина
Филипп де Шампань. Портрет кардинала Ришелье
Шарль Эммануэль Пата. Портрет Марии-Антуанетты.
Шарль Эммануэль Пата. Портрет Марии-Антуанетты.
Наброски. Леонардо да Винчи.
Амарна. Современный вид.
Жозеф Дюплесси. Портрет Бенджамина Франклина.
Примечания
1
«Цветочки Франциска Ассизского» (Перевод А. Ельчанинова). СПб., 2006, с. 336.
Вернуться
2
«Цветочки Франциска Ассизского» (Перевод А. Ельчанинова). СПб., 2006, с. 436.
Вернуться
3
Джоржио Вазари. «Жизнеописания». М., 2007, с.109.
Вернуться
4
И то, что изучал я много лет / Великие твои произведенья. – Еще до появления «Божественной Комедии» Данте был уже известен как автор многих произведений на латинском и итальянском языках.
Вернуться
5
Ловчий Пес – так называл Данте владельца Вероны Кана Гранде делла Скала, известного своей храбростью и благородством. Имя Пес он получил, по свидетельству своих современников, из-за того, что его мать во время беременности видела сон, будто она разрешилась от бремени собакой. При жизни его называли Великим за подвиги. Именно при его дворе Данте, изгнанный из Флоренции, нашел себе пристанище. Так как Данте начал писать «Божественную Комедию» еще до своего изгнания, когда Кан был ребенком, то комментаторы полагают, что стихи о Ловчем Псе вставлены поэтом уже после, в те дни, когда на Кана Гранде современники возлагали все свои надежды.
Вернуться
6
И родиной его мы назовем / Страну от Фельтро и до Фельтро. – Здесь речь идет о Вероне, которая с одной стороны граничит с Тревизакою, где находится местечко Фельтро, а с другой примыкает к Романии, где есть гора, называемая тоже Фельтро.
Вернуться
7
Кровь девственной, воинственной Камиллы, / Где Турн и Низ нашли свой смертный час. – Камилла – воинственная дева, дочь Метаба, царя вольсков, и Турн – сын Дауна, царя ругулов, защищая Лациум, погибли в битве с выходцами из Трои. Там же был убит мужественный Низ вместе со своим другом Эвриалом.
Вернуться
8
Видения умерших на земле / Вторичной смерти ждут и не дождутся… – Души грешников, осужденные на адские муки, призывают забвение этих мучений – вторичную смерть.
Вернуться
9
Эней – отец Сильвия, сын Анхиза, брат Приама, завоеватель Лациума, где властвовали его потомки, от которых производят род Ромула, основателя Рима.
Вернуться
10
Дева Всеблагая – олицетворение милосердия. Не проще ли – что это образ Богоматери, Мадонны? Толкователи Данте даже в лице Беатриче ищут олицетворение богословия, хотя Данте, кажется, просто воссоздавал в ней образ своей первой и единственной любви. Беатриче была источником его еще младенческого вдохновения. Известно, что когда Данте было только девять лет – он полюбил восьмилетнего, прекрасного ребенка – Беатриче Портинари, которая умерла юной. Идеальной любви к Беатриче Данте оставался верен до конца жизни.
Вернуться
11
Лючия – фантастический образ, по-видимому, олицетворение небесной благодати и сострадания.
Вернуться
12
Что на земле безумцами блуждали. – Т. е. те, которые на земле были поражены безумием. Слово «безумие» в этом месте нужно понимать не в смысле умопомешательства, а как общее понятие о людях, здравый смысл которых часто подавляется их страстями.
Вернуться
13
Смотрю: да, это точно он, о ком / Народ с презреньем часто отзывался… – В буквальном переводе: «Вглядываюсь и узнаю в ней того, кто опозорил себя высоким отречением». Это место очень спорное. Некоторые предполагают, что Данте подразумевал Исава, продавшего право первородства (предположение более чем неправдоподобное); другие – Диоклициана, отрекшегося от престола; папу Целестина V, сложившего папскую тиару по проискам кардинала д’Ананьи, впоследствии папы Бонифация VIII; Торреджиано де Черки, предводителя партии Белых, отказавшегося от начальства над войсками.
Вернуться
14
Смотри, с мечом… – Меч здесь: символ войн, воспетых когда-то Омиром.
Вернуться
15
Электра – некоторые думают, что Данте говорит об Электре – дочери Атланта и супруге Карита – царя Италии, которая от Юпитера родила царя Дардана, основателя Трои. Другие же признают в этом случае Электру за дочь Агамемнона, известную своими несчастьями и упоминаемую в трагедиях Софокла.
Вернуться
16
Камилла – дочь Метаба, царя вольсков.
Вернуться
17
Пентесилея – царица амазонок, убитая Ахиллом при защите Трои.
Вернуться
18
Латин – царь аборигенов, отец Лавинии, которая была обещана в жены Турну – царю рутулов, но впоследствии вышедшая за Энея, что вызвало войну между Энеем и Турном.
Вернуться
19
Саладин – султан Египта и Сирии.
Вернуться
20
Марция – жена Катона Утикского.
Вернуться
21
Юлия – дочь Цезаря и жена Помпея.
Вернуться
22
Корнелия – мать Гракхов.
Вернуться
23
Вкруг мудреца… – Данте говорит об Аристотеле, учение которого пользовалось в его время большим почетом.
Вернуться
24
Демокрит – древнегреческий философ, приписывавший создание мира действию одной только случайности.
Вернуться
25
Диоскорид – уроженец Сицилии, известный своим трактатом «О лекарственных веществах».
Вернуться
26
Аверроэс – родом из Кордовы, был известен как лучший толкователь Аристотеля.
Вернуться
27
То жена-самоубийца. – Речь идет о Дидоне, изменившей памяти своего первого мужа Сихея и вышедшей замуж за Энея. Брошенная Энеем, Дидона лишила себя жизни.
Вернуться
28
Тристан – племянник Марко, короля Корнваллийского, первый из рыцарей Круглого стола двора короля Артура. Он любил Изольду, супругу Марко, который, уличив попавшихся любовников, умертвил Тристана.
Вернуться
29
Ты, ради нас сошедший в эту тьму… – Так говорит у Данте прекрасная Франческа, дочь Гвидо да Полента, владельца Равенны. Насильно обвенчанная с Джианчиотто, старшим сыном Малатесты, владельца Римини, она любила его младшего брата Паоло. Джианчиотто был безобразен, хром, зол и скуп; Паоло же был прекрасен, добр, щедр и страстно любил Франческу. Ревнивый муж узнал о любви своей жены к Паоло и умертвил их обоих. Учитывая то, с каким ожесточением преследовал Данте в своей поэме папскую власть, скорее всего, речь идет о Целестине V, тем более что отречение этого папы свершилось при жизни поэта. Скандальный характер этого отречения поразил в свое время всю Западную Европу. Говорили, что каждую ночь кардинал д’Ананьи, искавший папского престола, прятался в храме, где молился папа, и приказывал ему сложить тиару. Целестин повиновался, принимая его слова за голос свыше. Это объяснение, как и многие другие, на которые мы указываем, делает переводчик дантовского «Ада» Фан Дим, комментировавший Данте по древнему словарю «Vocabolario degli Academici della Crusca». Учитывая то, с каким ожесточением преследовал Данте в своей поэме папскую власть, скорее всего, речь идет о Целестине V, тем более что отречение этого папы свершилось при жизни поэта. Скандальный характер этого отречения поразил в свое время всю Западную Европу. Говорили, что каждую ночь кардинал д’Ананьи, искавший папского престола, прятался в храме, где молился папа, и приказывал ему сложить тиару. Целестин повиновался, принимая его слова за голос свыше. Это объяснение, как и многие другие, на которые мы указываем, делает переводчик дантовского «Ада» Фан Дим, комментировавший Данте по древнему словарю «Vocabolario degli Academici della Crusca».
Вернуться
30
Ланчелот – рыцарь, прославленный в романах Круглого стола. Он любил королеву Жиневру, и она отвечала ему взаимностью.
Вернуться
31
Галеот – был наперсником и помощником в любви Ланчелота и королевы Жиневры. Франческа называет Галеота искусителем потому, что с его помощью Ланчелот в первый раз решился поцеловать любимую королеву.
Вернуться
32
Чиакко – на флорентийском наречии значит «свинья». Неизвестно, кого из своих сограждан Данте заклеймил этим названием в своей поэме.
Вернуться
33
Лесные – т. е. партия Белых, к которой принадлежал сам Данте. Эта партия называлась Лесной потому, что ее предводитель Виери де Черки был уроженцем лесистой провинции Валь-ди-Ниеволе.
Вернуться
34
И гордость Черных, после испытанья, / Поднимет, ими вызванный, пришлец. – Здесь речь идет о Карле Валуа, прозванном Безземельным, брате Филиппа Прекрасного, короля французского. Карл Валуа, по просьбе партии Черных и по приглашению папы Бонифация VIII, под личиной миротворца явился во Флоренцию, откуда скоро изгнал партию Белых и возвысил вражескую ей партию Черных.
Вернуться
35
Два праведника только там живут… – Полагают, что двумя праведниками Данте называет самого себя и своего друга Гвидо Кавальканти.
Вернуться
36
Где Фарината? Местопребыванье / Где Рустикуччи, Арриго, Моска, Тегьяйо… – перечисляются имена знатных флорентийцев.
Вернуться
37
И снова низко опустился / В среду слепцов… – «Слепцами» Данте, по-видимому, называет всех ослепленных безумием и сошедших с пути добродетели.
Вернуться
38
Плутус – бог богатства, и поэт делает его владыкой того круга, где заключены скупцы и расточители. Плутуса не нужно путать с мифологическим богом Ада – Плутоном.
Вернуться
39
Pap Satan, pap Satan, aleppe! – Стих этот подвергался разным толкованиям. Все комментаторы, однако, соглашаются, что слова этого стиха не принадлежат ни одному европейскому наречию. По толкованию римского ориенталиста Ланчи, приведенный стих состоит из еврейских слов, которые можно перевести на русский язык следующим образом: «Восстань, сатана, восстань в своем блеске, Царь тьмы».
Вернуться
40
Флегиас – царь лапитов, отец Корониды, обольщенной Аполлоном. В отмщение он сжег Дельфийский храм, за что был убит Аполлоном и свержен им в Ад. В личности Флегиаса Данте олицетворяет бешенство и неукротимый гнев.
Вернуться
41
Знай: эта тень… – Речь идет о Филиппе Ардженти, богатом и знатном флорентийце, известном своим бешеным нравом.
Вернуться
42
Дис – название города Дитэ объясняют словом «Дис» – так греки и римляне называли Плутона.
Вернуться
43
Но вход в подземный Ад / Остался без затворов. – Здесь поэт говорит о первых вратах Ада, сокрушенных Спасителем при сошествии его в Ад и оставшихся с тех пор не запертыми.
Вернуться
44
Эрикта – фессалийская волшебница. О ней упоминает поэт Лукан в своей поэме.
Вернуться
45
«Царица плача» – Прозерпина, жена Плутона.
Вернуться
46
Горгона Медуза. – Чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Ее голова, отсеченная по приказанию богини Паллады, сохранила силу превращать в камни всех осмеливающихся взглянуть на нее.
Вернуться
47
Не мы ли, / Когда Тезей нас вздумал испугать… – Когда Тезей сходил в Ад для похищения Прозерпины.
Вернуться
48
Арль – город в Провансе.
Вернуться
49
Пола – город на границе Истрии.
Вернуться
50
Фарината Уберти – был вождем гибеллинов и победил гвельфов при Монте-Аперти.
Вернуться
51
Гвидо Кавальканти – друг Данте. Как философ, не уважал поэзии.
Вернуться
52
И имя несчастливца угадал. – Это был Кавальканте де Кавальканти – отец Гвидо.
Вернуться
53
Богиня Ада – Прозерпина. В этих стихах Фарината предсказывает изгнание Данте из Флоренции.
Вернуться
54
С тех самых пор, как Арбии струи… – Здесь Данте говорит вождю гибеллинов, что в битве на берегах Арбии, где Фарината остался победителем, столько было пролито крови, что река зарумянилась от нее, и за это, прибавляет Данте, в храме, где собирались правители республики для совещаний о делах, раздавались выражения ненависти и проклятия ко всему роду Уберти.
Вернуться
55
Фредерик Второй – император, сын Генриха V и племянник Фридриха Барбароссы.
Вернуться
56
Кардинал – имеется в виду кардинал Октавиан дельи Убальдини. Он был известен в Италии под общим именем кардинала.
Вернуться
57
Когда пред лучезарной… – Вергилий говорит о Беатриче.
Вернуться
58
Здесь папа Анастасий заключен, / Что был введен Фотином в искушенье. – В одной старинной хронике папу Анастасия II совершенно несправедливо обвиняют в покровительстве расколу диакона Фотина Фессалоникского.
Вернуться
59
Кагор – город в Лангедоке. Во времена Данте Кагор был известен как вертеп ростовщиков.
Вернуться
60
Философа забыл ты наставленье… – Вергилий намекает на Аристотеля, учению которого следовал сам Данте.
Вернуться
61
Чудовище лежало на скале… – Речь идет о Минотавре, рожденном от Пасифаи, царицы критской. Вероятно, всем известны мифологические предания о любви Пасифаи и сказка об изобретенной Дедалом деревянной телицы для быка.
Вернуться
62
Любовью – я слыхал – / Не раз уже мир обращался в хаос. – Чтобы понять это место, нужно припомнить такое обстоятельство: по системе Эмпедокла, мир существует только войною стихий; не будь этой войны, мир опять обратился бы в прежний хаос.
Вернуться
63
Хирон – воспитатель Ахилла.
Вернуться
64
Несс – центавр, по легенде, раненный отравленной стрелой Геркулеса, оставил своей любовнице Деянире хитон, омоченный в своей крови, и уверил ее, что она этим хитоном может навсегда приковать к себе любимого ею Геркулеса. По просьбе Деяниры Геркулес надел на себя этот хитон и умер в нестерпимых муках.
Вернуться
65
Фол – центавр, известен тем, что участвовал в похищении Гипподамии, жены Перитоя.
Вернуться
66
Аццолино – тиран Падуи. В битве против властителей Ломбардии он попал в плен и, не допустив перевязать свои раны, умер в Сончино в 1260 г.
Вернуться
67
Господний храм он оскорбил глубоко… – В 1291 г. Гвидо Монфорте, в отмщенье за смерть своего отца, убил в храме Генриха, племянника Генриха III, короля английского. Сердце убитого было перенесено в Лондон и помещено в золотой ковчег, который был поставлен на колонне возле одного моста на Темзе.
Вернуться
68
Пирр – царь эпирский, сын Ахилла, по объяснению некоторых комментаторов. Вольни с бо́льшим подобием полагает, что Данте говорит здесь совсем о другом Пирре, тоже царе эпирском, ненасытном властолюбце и непримиримом враге римлян.
Вернуться
69
Секст – сын Помпея, известен своими морскими разбоями.
Вернуться
70
Корнето – город в бывших папских владениях.
Вернуться
71
Чечина – река, текущая в Тосканском герцогстве и впадающая в море между Ливорно и Пиомбино.
Вернуться
72
Гарпии – баснословные птицы с женским лицом. Когда трояне по разрушении Трои пристали к Строфадским островам, то гарпии, отравляя съестные припасы путешественников, вынудили их оставить острова (Эн., кн. III).
Вернуться
73
Перешел ты во второй / Круг Ада… – т. е. во второе подразделение седьмого круга.
Вернуться
74
Я тот, кому был дорог Фредерик… – Пьер делле Винье – любимец императора Фредерика II. Долго пользуясь неограниченным доверием императора, он был обвинен в измене, посажен в темницу и лишен зрения. В отчаянии разбил себе голову о стену своей тюрьмы.
Вернуться
75
Лано – сиенец; был убит в сражении при Пиеве-дель-Топпо, не желая спасаться бегством.
Вернуться
76
Сант-Андреа – падуанский дворянин, знаменитый мот своего времени. Истратив свои богатства, он в отчаянии кончил жизнь самоубийством.
Вернуться
77
Им позабыт был гордый покровитель. – Флоренция во времена языческие была под покровительством бога Марса.
Вернуться
78
С горячим и безжизненным песком / Равнины мертвой степи нам открылись… – Здесь упоминается о ливийских песках, через которые прошел Катон Младший, когда после смерти Помпея он спешил соединиться с армией Юбы, царя нумидийского.
Вернуться
79
И, волю Александра исполняя, / Тушило войско землю под собой. – Об огнях, сходивших в Индии на войско Александра Македонского, упоминается в одном письме Александра к Аристотелю, но там сказано, что Александр приказал воинам устилать землю одеждами, чтобы огненный дождь не зажигал земли.
Вернуться
80
Флегра – долина в Фессалии, в которой Юпитер одержал победу над титанами.
Вернуться
81
Буликаме – источник горячей минеральной воды близ Витербо, известный некогда тем, что там во множестве собирались грешницы.
Вернуться
82
В уединении жил древний царь когда-то. – Сатурн, царствовавший во времена золотого века.
Вернуться
83
А в сердце Иды старец древний скрыт… – Старец олицетворяет время; Золотом блестит его чело означает век невинности, или золотой век; стан из серебра – век, последовавший за золотым, или серебряный; От пояса до ног – со сталью медь – века менее счастливые; нога из глины – век, в который жил Данте, век испорченной нравственности и сомнительного счастья. Старец обращен лицом к Риму, как к престолу истинной веры, а спиной к Дамиетте, как к гнезду язычества и заблуждений. Из старца льются слезы – грехи людей, стекающие в адскую бездну.
Вернуться
84
Кадзант – маленький остров к северо-западу от Бригге.
Вернуться
85
Брента – река, вытекающая из той части Альпийских гор, которая называется Киарентата. Летом она разливается от тающих снегов, и жители ограждают свои жилища окопами.
Вернуться
86
Брунетто Латини – учитель Данте и Гвидо Кавальканти, родом из Флоренции. Оратор, поэт, историк, философ, астролог и богослов, он в особенности известен по своему физико-математическому сочинению под названием «Сокровище». Оно написано в Париже, на французском языке, во время изгнания Брунетто.
Вернуться
87
Народ, сошедший некогда с высот / Старинной Фиезолы… – «Неблагодарным и злым» народом Данте называет флорентийцев. Часть из них происходила из Фиезолы – города, расположенного в гористых окрестностях, в близком расстоянии от Флоренции.
Вернуться
88
Святая дева – т. е. Беатриче.
Вернуться
89
Присциан из Кесарии – известный римский грамматик VI столетия.
Вернуться
90
Франциск д’Аккорсо – знаменитый проповедник.
Вернуться
91
То я б тебе на призрак указал / Развратника. – Т. е. на Андрея де Моцуи, епископа флорентийского, который за свою известную безнравственность был переведен в Виченцу, где протекает река Бакилионе.
Вернуться
92
Господа служитель… – т. е. служитель служителей Господа. Так называют себя папы в своих буллах.
Вернуться
93
За призом из зеленого сукна… – В Вероне были установлены соревнования по бегу, на которых каждый победитель получал в награду кусок зеленого сукна. Эти соревнования, как правило, проходили в первый день Великого поста.
Вернуться
94
Гвидо Гьерра – внук прекрасной Гуальдрады и графа Гвидо, сын Руджиери. В битве при Беневенте между Карлом I и Манфредом был главным виновником победы, которую одержал Карл I. Манфред, как известно, был убит в этом сражении.
Вернуться
95
Теггьяйо Альдобранди – родом из фамилии Адимири. Он не советовал флорентийцам идти на Сиену, но те его не послушались и были наголову разбиты в битве при долине Арби.
Вернуться
96
Джакопо Рустикуччи – богатый флорентийский рыцарь, все свои несчастья объясняющий злобой своей жены, которая сумела возбудить в нем ненависть ко всем женщинам.
Вернуться
97
Гуильельм Борсиере – флорентиец знаменитого рода, известный своим остроумием. О нем же упоминает и Боккаччо в «Декамероне».
Вернуться
98
Как всплеск воды вблизи меня раздался… – Здесь упоминается о реке Монтоне, которая до Форли носит название Аквакета. Вместе с рекой По она вытекает из той части Альп, которая называется Монвизо.
Вернуться
99
Аббатство Святого Бенедикта – богатый монастырь, в котором, по свидетельству Данте, могло бы поместиться совершенно свободно до тысячи монахов, но жадность властей ограничила их число.
Вернуться
100
Украшал / Те сумки знак особенный. – Поэт пересчитывает гербы разных ростовщиков.
Вернуться
101
Витальяно дель Денте – известный ростовщик того времени в Падуе.
Вернуться
102
Малебольдже – восьмой круг Ада, разделенный на десять вертепов. Malebolge в переводе – Злые Рвы. В этой и в следующих песнях сохранены итальянские имена демонов, без истолкования значения этих имен.
Вернуться
103
Венедико Каччьянимико – продал свою сестру Гезолу маркизу феррарскому Обиццо д’Эсте.
Вернуться
104
Ясон – обольстил Изифилу и Медею, а потом бросил их.
Вернуться
105
Изифила – дочь Тоанта, царя Лемносского. Во время общего избиения всех мужчин обманом и хитростью спасла своего отца.
Вернуться
106
Симон-волхв – В «Деяниях апостолов» говорится о некоем муже по имени Симон, который приобрел себе славу «во граде Самарии». «Видев же Симон, яко возложением рук апостольских, дается Дух Святый, принесе им сребро, глаголя: “Дадите и мне власть сию, да, на него же яще возложу руце, приимет Духа Святаго”. Петр же рече к нему: “Сребро твое с тобою да будет в погибель, яко дар Божий непщевал еси сребром стяжати. Несть ни части ни жребия в словесе сем: ибо сердце твое несть право пред Богом. Покайся убо во злобе твоей сей…”».
Вернуться
107
Одну купель немного лет назад / Разбил я сам… – В церкви Святого Иоанна, во Флоренции, были четыре купели, закрытые решетками: одну из решеток Данте изломал для спасения утопавшего ребенка. Поэт говорит об этом в опровержение клеветы, обвинявшей его в святотатственном наложении рук на святыню.
Вернуться
108
И, как монах, который вдруг пришел / На исповедь убийцы… – В Италии зарывали убийц головою вниз. Случалось, что, желая замедлить минуту смерти, иной по несколько раз призывал исповедника будто бы для довершения исповеди.
Вернуться
109
Ты ль, Бонифаций… – Тень грешника, опрокинутого головою вниз, есть тень папы Николая III, из фамилии Орсини. Ту же казнь предсказывает Данте папе Бонифацию VIII, тогда правившему ключами святого Петра.
Вернуться
110
Вечная жена – т. е. Церковь.
Вернуться
111
Медведицы я сын… – Здесь Данте намекает на фамилию Орсини, от которой происходил папа Николай III.
Вернуться
112
Новый Ясон – так Данте называет папу Климента V, который был избран папою по покровительству французского короля Филиппа Красивого, напоминая, что Климент, подобно Ясону, купил свой духовный сан.
Вернуться
113
Амфиарай – один из семи царей, осаждавших Фивы. Во время осады он скрылся, но жена указала его убежище. Вынужденный идти на битву, он, как гласит предание, был поглощен расступившейся землею.
Вернуться
114
Тирезий – фивский волхв, побил двух свившихся змей, превратился в женщину, а через семь лет он употребил тот же способ, чтобы снова превратиться в мужчину (Метам., кн. III).
Вернуться
115
Аронт – тосканский гадатель (Лукан. «Фарсалия» I).
Вернуться
116
Манто – знаменитая волшебница, дочь Тирезия, фивского волхва. После смерти отца она, по свидетельству Вергилия, оставила Фивы и в Италии родила сына Окна, или Биапора, основателя Мантуи.
Вернуться
117
Бенако – озеро, на котором есть маленький островок Св. Георгия; на нем прежде была выстроена часовня, возле которой сходились границы трех епископских владений.
Вернуться
118
Казалоди – был владетелем Мантуи. Пинамонте Бонакосса, дворянин мантуанский и гибеллин, убедил Казалоди изгнать из Мантуи несколько дворянских фамилий. Затем с помощью черни он умертвил остававшихся дворян и, наконец, изгнал и самого Казалоди. Данте называет безумцем Казалоди за легковерие, с которым тот был обманут коварным врагом.
Вернуться
119
В те дни, когда вся Греция в смятенье / Была перед грядущею бедой… – На Трою ополчилась вся Греция, оставались только дети, не способные носить оружие. Для отплытия кораблей нужно было избрать счастливую минуту: Еврипил и Калхас – авгуры – предсказали ее по полету птиц (Эн., кн. II).
Вернуться
120
Микеле Ското – астролог, предсказавший своему государю императору Фридерику II день, место и род его смерти.
Вернуться
121
Гвидо Бонатти – астролог, из Форли.
Вернуться
122
Асдент – сапожный мастер и тоже астролог времен Фридерика II.
Вернуться
123
С изображеньем Каина… – Простолюдины были убеждены, что на полном месяце видно изображение Каина, несущего связку терний.
Вернуться
124
О, Малебранке! Вот еще явился / Священной Дзиты новый старшина. – По мнению некоторых комментаторов, грешником, которого демон бросает в кипящую смолу, был Мартино Боттайо из Лукки, старшина этого города, находившегося под покровительством Дзиты. Данте изображает нравы города Лукка до того развращенными, что честнейшим гражданином там считался Бонтуро Бонтури, продавший свою родину пизанцам. За то демон жестоко смеется над грешником, предупреждая его, что смоляная пропасть не река Серкио и что лицемерное поклонение образу святого Лика, особенно уважаемому в городе Лукка, не спасет его от вечных мучений.
Вернуться
125
Капрона – укрепленный замок, на берегу Арно, принадлежавший пизанцам. Граждане Лукки завладели им, но скоро вынуждены были сдаться на капитуляцию. При сдаче победители, пропуская их сквозь свои ряды, кричали: «Нападай!» Это навело страх на побежденных, о котором свидетельствует Данте, пользуясь этим событием для сравнения.
Вернуться
126
Гомита – монах, сардинец, был известен ужаснейшими злодействами. Он изменил государю и покровителю своему Нино Висконти, владетелю Галлуры, отпустил за деньги отданных для хранения ему пленников, за что и был повешен.
Вернуться
127
Микеле Цанке Логодоро – сенешаль короля Энцо, побочного сына императора Фредерика II, обольстил мать своего короля Аделазию и благодаря браку с ней стал владетелем Логодоро.
Вернуться
128
Напомнило мне басню о сраженье / Лягушки с крысой. – Басня Эзопа.
Вернуться
129
Рясы Фредерика… – Гранжье рассказывает, что будто бы один из кельнских аббатов просил у папы дозволения носить монахам красные рясы, шпоры и на седле иметь серебряные позолоченные стремена. Папу рассердила эта просьба, и он приказал монахам одеваться в черные рясы и пользоваться деревянными стременами. При императоре Фредерике II преступников сажали в свинцовые рясы и сжигали на кострах.
Вернуться
130
В великом нашем городе… – т. е. во Флоренции.
Вернуться
131
«Веселое братство». – Папа Урбан IV учредил рыцарский орден братства святой Марии. Это братство вело жизнь разгульную, и народ в насмешку назвал его «веселым братством».
Вернуться
132
Я – Каталано, он же Лодеринго… – В 1226 г. были избраны в подесты Флоренции из ордена «веселого братства» два рыцаря – Каталоне Каталано и Лодеринго де Андоло. Первый был гибеллином, второй гвельфом. Некоторое время их правление было благодетельно, но скоро предались они гвельфам и сожгли в одной из частей города, называвшейся Гардинго, дворец гибеллина Уберти.
Вернуться
133
Хелидры, амфисбены и якули – названия баснословных змей, о которых упоминают Лукан и другие древние писатели.
Вернуться
134
Гелиотроп – по мнению древних – драгоценный камень, с помощью которого можно было стать невидимым. Боккаччо упоминает об этом свойстве гелиотропа в одной из сказок «Декамерона».
Вернуться
135
Амми – эфиопский тмин.
Вернуться
136
Нард – ароматическое растение, известное под названием andropogon nardus.
Вернуться
137
Мирра – смолистый древесный душистый сок.
Вернуться
138
Ванни Фуччи – побочный сын знатного пистойца Фуччи деи Ладзари, похитил священные сосуды и драгоценности из собора Пистойи и скрыл их у друга своего нотариуса Ванни делла Мона, но, устрашенный розысками, предал своего друга, который был повешен.
Вернуться
139
Тот, кто с фивских стен упал… – Капаней, один из царей фивских, о котором упоминается в песне XIV «Ада».
Вернуться
140
Каккус – центавр, был известен воровством. Он был убит Геркулесом.
Вернуться
141
Чианфа – знаменитый флорентийский разбойник.
Вернуться
142
Сабелла и Назидий – воины, о которых упоминает Лукан в IX песне «Фарсалии». Оба они были укушены змеями в Ливии, и, по словам Лукана, Сабелла немедленно превратился в пепел, а Назидий так распух, что невозможно было различить его членов.
Вернуться
143
Буозо де Абати, Пуччио Шианкато и Франческо Гверчио Кавальканте – флорентийские разбойники. За смерть Кавальканте родные и свойственники его выжгли городок Гавиллу и перерезали всех жителей.
Вернуться
144
Прато – небольшой замок близ Флоренции. Жители его, укрыв одного убийцу, навлекли на себя пеню в десять тысяч флоринов, за что проклинали Флоренцию, желая ей всевозможных бедствий. Желание это сбылось: в 1304 г. мост через Арно обрушился с толпой народа; в том же году пожар совершенно опустошил Флоренцию: сгорело 1700 дворов; наконец, распри Белых и Черных не раз нарушали спокойствие города.
Вернуться
145
Как тот пророк, которого в Вефиле / Медведицы лесные защитили… – Данте говорит о пророке Елисее, который, входя в Вефиль, был оскорблен ругательством отроков, за что последних растерзали две медведицы. (Кн. Царств II, 2. В той же главе упоминается о вознесении святого Илии на Небо в присутствии пророка Елисея.)
Вернуться
146
Сам Диомед и вместе с ним – Улисс… – Улисс и Диомед, как известно, участвовали в осаде Трои и были главными виновниками обмана, с помощью которого долго не сдававшаяся Троя после десятилетней гибельной осады наконец была взята.
Вернуться
147
Медный бык – изобретателем медного быка был Перилл Афинянин; по приказанию сицилийского тирана Фалариса, изобретатель был первою жертвою изобретенного им рода казни.
Вернуться
148
И раздались слова, / В которых скорбь и горе выражалось… – Грешник, говорящий из середины пламенного светильника – граф Гвидо де Монтефельтро.
Вернуться
149
Орел Поленты – фамилия Полента владела городами Равенною и Червией, в их гербе был орел.
Вернуться
150
Зеленые лапы – здесь говорится о городе Форли, который долго сопротивлялся войску, посланному папой Мартином IV и состоявшему преимущественно из французов. Войско это было разбито графом де Монтефельтро – тем самым, которому Данте сообщает новости о мире. Форли принадлежал фамилии Орделаффи, в гербе которой был зеленый лев.
Вернуться
151
Веррукио – отец и сын, Малатеста и Малетестино, прозванные псами за жестокость, с которой они правили городом Римини.
Вернуться
152
Монтаньо Парчитати – один из вождей гибеллинских, был убит Малатестой.
Вернуться
153
«Лев в поле белом». – Близ реки Ламоне стоит город Фаэца; на реке Сантерно – город Имола. Над ними властвовал Макинардо Пагани – то гвельф, то гибеллин, смотря по обстоятельствам. В его гербе был всегда лев на серебряном поле.
Вернуться
154
Тот городок… – Здесь Данте говорит о городе Чезене, на реке Савио.
Вернуться
155
Владыка новых фарисеев… – Именем князя новых фарисеев поэт называет папу Бонифация VIII. Он был в войне с фамилией Колонна, дворец которых в Риме был близ церкви Святого Иоанна Латеранского.
Вернуться
156
И как молил Сильвестра Константин… – Существует легенда, что император Константин вызвал папу Сильвестра из его пустыни, чтобы тот молитвами избавил императора от проказы.
Вернуться
157
И два ключа от Неба берегу, / Хоть Целестин от них и отказался… – Папа Целестин V, по проискам Бонифация VIII, добровольно сложил с себя папскую тиару.
Вернуться
158
Роберт Гвискар – брат Ричарда, герцога нормандского. Он покорил Апулию и Калабрию в XVI в. Так как Данте начал писать свою поэму до этих событий, то современники недаром полагали, что великий поэт одарен духом пророчества, предсказывая события и даже призывая бедствия на крамольную и развращенную свою родину. Так как Данте начал писать свою поэму до этих событий, то современники недаром полагали, что великий поэт одарен духом пророчества, предсказывая события и даже призывая бедствия на крамольную и развращенную свою родину.
Вернуться
159
Где каждый апулиец оказался / Изменником… – При Чеперано была битва, в которой Карл Анжу разбил Манфреда, короля сицилийского и апулийского, покинутого апулийцами, и взял его в плен. Это было мнение Данте. Виллаки же свидетельствует, что при Чеперано Манфред сам сдался Карлу; измену же апулийцев он относит к битве при Беневенте, где Манфред был убит.
Вернуться
160
Алар – французский рыцарь, содействовавший советом Карлу Анжу в победе над Конрадином, племянником Манфреда.
Вернуться
161
Фра Дольчине – проповедовал в 1305 г. общность имущества и женщин. Он был взят в плен в горах Наварры и потом сожжен.
Вернуться
162
Пьер де Медичина – был известен в Болонье как интриган. Он поссорил Гюидо Поленто, владельца Римини, с владельцем Равенны.
Вернуться
163
Уведомить правдивых граждан Фано… – Медичина просит поэта предупредить двух граждан Фано – Гюидо дель Кассеро и Анджионелло ди Каньяно – об угрожающей им опасности: Малатеста велел их утопить в море.
Вернуться
164
Фокара – гора между Фано и Каттоликою, известная по окружающим бурям.
Вернуться
165
Курион – трибун, изгнанный из Рима, подал Цезарю совет перейти Рубикон. Совет был дан в Римини; он был началом междоусобной войны.
Вернуться
166
Помяни и Моска ты! – Намек на известную историческую вражду двух флорентийских партий – Черных и Белых. Буоньдельмонте оскорбил несколько знатных фамилий, оставив невесту из дома Алиедей. Оскорбленные согласились отомстить: Моска предложил убить Буоньдельмонте и сам поразил его.
Вернуться
167
Бертрам де Борн – владелец Готфора, знаменитый трубадур и наперсник Генриха, сына Генриха II, короля английского, короновавшего его еще при своей жизни. Коварный советник настроил юного принца против отца, подобно тому как Ахитофель вооружил Авессалома против Давида.
Вернуться
168
Джери дель Бельо – родственник Данте со стороны матери, был умным и любезным человеком, но в то же время невоздержанным на язык. Уличенный в клевете одним из фамилии Джерми, он убил его, а потом был сам умерщвлен родственником убитого. Смерть его была отомщена только тридцать лет спустя.
Вернуться
169
Вальдикьяна – так называется одна долина от болота, образуемого маленькой рекой Киано. Оно находится между Ареццо, Кортоне, Киузи и Монтепульчиано. Маремма – болотистая приморская полоса земли между Пизой и Сиеной. Вальдикьяна, Маремма и Сардиния известны своими вредными испарениями, особенно опасными в июле и в августе.
Вернуться
170
Эгины обитатели… / Когда они повсюду отравлялись… – В царствование Эака, сына Юпитера, чума истребила всех жителей и почти всех насекомых и скот на острове Эгине. По просьбе Эака Юпитер превратил в людей оставшихся живыми муравьев, и таким образом остров снова был населен. Новые люди названы были Мирмидонами (от греч. mirtis – муравей).
Вернуться
171
В Ареццо я рожден. / Альберо дал однажды приказанье, / Чтоб на костре я разом был сожжен… – Гриффолино из Ареццо, обвиненный в чародействе, сожжен по приказанию сиенского епископа, которого Альбер был незаконнорожденным сыном.
Вернуться
172
Стрикко из Сиены – промотал огромное богатство. Данте в насмешку изображает Стрикко и других ему подобных мотов людьми умеренными и скромными.
Вернуться
173
Никколо из Сиены – известен мотовством, первым придумал употреблять в кушаньях гвоздику и другие пряности.
Вернуться
174
В родном саду… – Садом поэт называет в этом случае расточительную Сиену.
Вернуться
175
Каччио Даньяно – принадлежал к числу первейших мотов Сиены.
Вернуться
176
Аббальято – товарищ и душа разгульной сиенской молодежи, заслужил от Данте похвалу за умеренность, которой он постоянно держался среди безумного мотовства своих приятелей.
Вернуться
177
Капоккио – сиенец, по мнению одних комментаторов, флорентиец, если верить другим. Изучал физику и естественную историю вместе с Данте. Впоследствии алхимия увлекла его, а неудачи в открытии великой тайны привели его к тому, что он стал подделывать золото и сделался, как он говорит, «обезьяной природы».
Вернуться
178
Разгневана Юнона за Семелу… – Юнона ненавидела фивян за любовь Юпитера к Семеле, дочери Кадма – основателя Фив. С помощью фурии Тизифоны она привела Афамаса, царя фивского, в такое состояние бешеного помешательства, что, приняв жену свою Ину за львицу и сыновей за львят, он схватил одного из них, Леарха, и убил об скалу, а мать утопилась с другим сыном.
Вернуться
179
О смерти Поликсены… – Греки, взяв в плен семейство Приама, умертвили Поликсену – дочь Приама и Гекубы – на могиле Ахилла; в то же время брат Поликсены, Полидор, был убит Полимнестром. Гекуба, лишившись детей, до того обезумела, что вопли ее походили на лай пса.
Вернуться
180
Джианни Скикки – известен был во Флоренции уменьем изменять черты своего лица и принимать желаемый облик. Рассказывают, что по смерти Буозо Донати он лег на постель умершего и продиктовал завещание, лишавшее наследства законных наследников. За это он получил в дар дорогую кобылицу.
Вернуться
181
Мастер Адам из Бресчии – по наущению графов Ромены, Гюи Александра и Агинольфа, подделывал флорины с изображением Иоанна Крестителя с одной и лилией с другой стороны.
Вернуться
182
Фонтан Бранда – старейший фонтан Сиены.
Вернуться
183
Синон – беглый грек, живший в Трое и убедивший жителей ввезти в город деревянного коня, от которого пала Троя.
Вернуться
184
Таким копьем, как говорят, владел Ахилл… – Копье Ахилла, принадлежавшее прежде его отцу Пелею, ранив Телефа, сына Геркулеса, исцелило его новой раной (Метам., кн. XII).
Вернуться
185
Сам Роланд сильней трубить не мог / В печальную минуту пораженья… – Предание гласит, что после Ронсевальской битвы звуки Роландовой трубы были слышны за восемь лье.
Вернуться
186
Монтереджионе – замок близ Сиены, укрепленный башнями.
Вернуться
187
Троим фрисландцам разом бы пришлось / Друг другу стать на плечи… – Фрисландцы славились большим ростом.
Вернуться
188
«Rafel mai amech / Irabi almi!» – Эти слова не имеют никакого смысла. Они влагаются в уста Немвроду, от которого произошло смешение языков.
Вернуться
189
Эфиальт – один из титанов, восставших против Юпитера.
Вернуться
190
Бриарей – другой титан.
Вернуться
191
Антей – великан, убитый Геркулесом. По свидетельству Лукана, пещера Антея была в долине, возле реки Брагада, близ Замы, где Сципион разбил Аннибала.
Вернуться
192
Тифей и Тиций – титаны, восставшие тоже против Юпитера. 10 Гаризенда – наклоненная башня в Болонье, названная по имени своего строителя.
Вернуться
193
Гаризенда – наклоненная башня в Болонье, названная по имени своего строителя.
Вернуться
194
Благому предприятью Амфиона, / Который стены Фив соорудил… – По звуку лиры Амфиона воздвигались стены Фив и камни укладывались сами собою.
Вернуться
195
Бизенцио – река, протекающая в долине Фальтерона, между Луккою и Флоренцией.
Вернуться
196
Покориться / Им и отцу их старому… – Альберто де Альберти, флорентиец. По смерти Альберто сыновья его Александр и Наполеон убили друг друга.
Вернуться
197
Не отыскать в Аду во всей Каине… – Последний круг Ада разделен на четыре части, из которых каждая получила название от одного из преступнейших предателей, именно: на Каину – от Каина, предавшего брата, на Антенору – от Антенора, предавшего родину, на Птоломею – от Птоломея, предавшего своего гостя, и на Джудекку – от Иуды, предавшего своего Господа.
Вернуться
198
Тот, / Кого Артур сразил одним ударом… – Мордрек, сын или племянник короля Артура, хотел убить отца, но Артур предупредил его и проколол насквозь.
Вернуться
199
Фокаччиа де Канчеллиери из Пистои – отрубил руку у своего двоюродного брата и убил дядю.
Вернуться
200
Сассоло Маскерони – известен своими злодействами и убийством родного дяди.
Вернуться
201
Камичион де Пацци – предательски умертвил родственника своего Уберти.
Вернуться
202
Карлино де Пацци – предал гвельфам за деньги замок Пиано-ди-Травиньо.
Вернуться
203
За страшный бой при Монте-Аперти… – При Монте-Аперти была битва между гвельфами и гибеллинами. Во время этой битвы Бокка дель Абати, бывший на стороне гвельфов, перешел к гибеллинам и отрубил руку Джаккопо делла Вакка, державшего знамя. Гвельфы, не видя своего знамени, сочли сражение проигранным, обратились в бегство и были разбиты.
Вернуться
204
Буозо де Дуэра – начальствовал отрядом гибеллинской конницы, оберегавшим Кремону и проход Олио против войска Карла Анжу. Буозо без боя оставил вверенный ему пост, будто бы подкупленный французами. Таково мнение Данте и многих его современников; другие же оправдывают Буозо, утверждая, что он не мог удержать папского войска, в несколько раз сильнейшего.
Вернуться
205
Аббат Беккериа из Павии – в звании легата папы Александра IV он покушался предать Флоренцию гибеллинам, но измена его открылась, и он был обезглавлен.
Вернуться
206
Джианни Сольданьер – сначала гибеллин, потом гвельф, был некоторое время правителем Флоренции.
Вернуться
207
Ганнелон из Майнца – его измене приписывают поражение Карла Великого при Ронсевале.
Вернуться
208
Трибальделло дель Манфреди – предал Фаэнцу Иоанну д’Аппиа, владелицу Романьи.
Вернуться
209
Тидей – один из семи царей, осаждавших Фивы. Убив фивянина Меналиппа и пораженный им смертельно, он приказал подать себе его голову и грыз ее перед смертью.
Вернуться
210
Граф Уголино Герардеска – тиран Пизы. Изменою архиепископа Руджиери он был заключен в башню с двумя сыновьями и двумя внуками и уморен голодом.
Вернуться
211
Капрайя и Горгона – два островка близ устья Арно.
Вернуться
212
Фра Альберик – член «веселого братства». Поссорившись со своими родными, созвал их на пир и, в то время как разносили плоды, велел их умертвить. От этого произошла пословица: он покушал плодов Альберика.
Вернуться
213
«Vexilla regis prodeunt Inferni». – Буквально в оригинале: «Знамена царя Ада приближаются». Данте взял эти слова из католического духовного гимна Спасителю: «Vexilla regis prodeunt». Прибавив к ним слово «inferni», Данте совершенно изменил смысл стиха.
Вернуться
214
Налево изнывающий есть – Брут… – Брут и Кассий помещены в Джудекке как изменники и цареубийцы.
Вернуться
215
И место то, которое нас ждет… – Здесь намек на Чистилище.
Вернуться
216
Имя Тристана созвучно с французским словом triste – печальный.
Вернуться
217
Певец, музыкант, рассказчик.
Вернуться
218
Маленькая арфа.
Вернуться
219
Вассал, подданный.
Вернуться
220
В старину у некоторых народов был обычай устраивать поединки на небольших островах, чтобы один из противников не мог убежать далеко от другого.
Вернуться
221
Тавлеи, или триктрак – игра вроде шашек.
Вернуться
222
Сказочное крылатое чудовище с головой орла и туловищем льва.
Вернуться
223
Высший придворный чиновник, ведавший судопроизводством; иногда – наместник короля.
Вернуться
224
Нечто вроде безрукавки, надевавшейся поверх рубашки, но под верхнее платье.
Вернуться
225
Совокупность преподававшихся в средневековых школах наук: грамматика, логика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка.
Вернуться
226
Имена бесов. Первое представляет собой набор звуков, второе значит «чернявый».
Вернуться
227
Одно из созвездий.
Вернуться
228
Древнее название «утренней звезды» (планеты Венеры).
Вернуться
229
Католической верой.
Вернуться
230
Мелкая медная монета, грош.
Вернуться
231
Та часть церкви или часовни, где находится алтарь.
Вернуться
232
До того, как для прокаженных были устроены особые поселения, они бродили толпами по дорогам, выпрашивая подаяние. Они обязаны были носить с собой трещотки, звук которых предупреждал всех об их приближении.
Вернуться
233
Священник при домашней церкви.
Вернуться
234
Лошадь с особым аллюром: сначала она одновременно выносит обе правые ноги, затем обе левые. На иноходцах обыкновенно ездили дамы.
Вернуться
235
Паломники, возвращавшиеся из Палестины, украшали свои шляпы или плащи раковинами в знак того, что переправлялись через море.
Вернуться
236
«Коротышка», «малышка».
Вернуться
237
В кельтских сказаниях волшебный остров, страна блаженства, населенная феями и избранными героями, попавшими туда после смерти или еще при жизни.
Вернуться
238
Часть облачения священника, надеваемая на шею.
Вернуться
239
Часть шлема, прикрывающая лоб, иногда украшалась карбункулом – драгоценным камнем темнокрасного цвета.
Вернуться
240
Певец и музыкант, обычно увеселявший высшее общество.
Вернуться
241
Певцы-поэты, слагавшие или исполнявшие как лирические стихотворения, так и повести или поэмы See more books in -reading.club
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



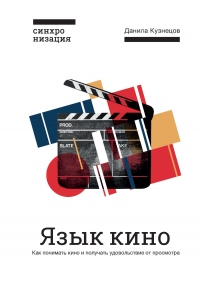

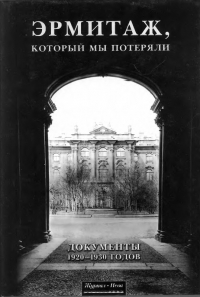
Комментарии к книге «Средневековье. Большая книга истории, искусства, литературы.», Паола Дмитриевна Волкова
Всего 0 комментариев