Аркадий Ипполитов Только Венеция. Образы Италии XXI
Продюсер: Сергей Николаевич
Дизайн: Ирина Борисова
Фото: Роберто Базиле ()
Фото на обложке: Серж Лидо (Serge Lido). Serge Golovine, danseur-etoile du «Grand Ballet du Marquis de Cuevas» a la place San-Marco a Venise, pendant le Festival Musical en septembre 1950.
Автор и издательство благодарят Центральную научную библиотеку Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийского театрального общества) за возможность публикации снимка Сержа Лидо из фондов библиотеки.
Издательство приносит благодарность Юрию Кацману за деятельную помощь в подготовке проекта.
Издательство благодарит за поддержку сайт «Особая буква» () и его главного редактора Сергея Тимофеева.
© Некоммерческое партнерство «Открытый Фестиваль Искусств «Черешневый Лес», текст, илл., 2014
© Юрий Кацман, оригинал-макет, 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Интродукция
Глава первая Звук Венеции
Кинотеатр «Знание». – Юноши в лодке. – Про реальность «Плотов» и «Неисцелимых». – Карпаччо и affluence. – «Невидимые города» и «Имена стран». – Канале Гранде. – Кампо Санто Стефано. – Дворец Сальвиати. – Роман «Сомнамбулы». – Самая прекрасная в мире юбка. – Встреча с юношами в лодке. – Two Wheeler, звук обманчивый. – Подлинный звук. – Удар в лоб и карта Якопо Барбари
Песенка. Какая-то песенка, пропетая какой-то эстрадной певичкой на каких-то ступенях. Чего это были ступени? Собора Сан Марко? Какого-то мостика? Ступени Сан Джорджо Маджоре? Хоть убей, не помню, помню, что певица была рыжа, что она по ступеням, поя-заливаяся, спускалась и что – кажется, опять же кажется – она спускалась в какую-то открывающуюся панораму, и в панораме были и ширь, и воздух, и вздох. Где такое в Венеции? Я ничего не помню, ну ничегошеньки, – впору завыть, как старуха-мать в фильме Бергмана «Земляничная поляна», живой труп над ворохом старых фотографий: это я вспоминаю мою первую встречу с Венецией. Состоялась она 31 декабря 1970 года, когда мне было двенадцать лет, – точную дату я вычислил с помощью свидетелей. Встреча произошла в «Знании», старом ленинградском кинотеатре на Невском проспекте в доме № 72, первом звуковом в России, теперь переделанном в «Кристалл Палас». Тогда, 31 декабря 1970 года, в «Знании» крутился документальный – кажется, немецкий – фильм про Венецию, и я, в первый раз приведённый на него мамой, потом бегал смотреть его раз – не помню сколько точно – пять, шесть, семь, девять? – по-моему, ни один другой фильм я не пересмотрел столько раз, разве что Le charme discret de la bourgeoisie. Не помню ни названия, ни режиссёра, но помню холодный и практически пустой зал и моё безграничное счастье, когда на экране появлялось… что появлялось, я тоже не очень хорошо помню: певичка, которая вроде, как мне теперь кажется, Моникой Витти была, стеклодувы, го́ндолы, конечно же, гондольеры с сине-белым полосатым верхом, дворец Дожей и площадь Сан Марко – обычный чепуховый набор. Мне кажется, что затем в моей жизни я где-то на этот фильм наткнулся, но он лишь мелькнул и показался мне совершенно бездарным. Я, снова его повстречав, не обратил внимания ни на режиссёра, ни на страну, потому что он был мне совсем не нужен в жизни, только детское воспоминание портил. Как и полагается, «в мире новом друг друга они не узнали», но теперь, как раз когда я решился написать эту книгу, я начал фильм специально разыскивать, в розысках никак не преуспев, потому что, честно говоря, слишком настырен и не был – зачем тьмой низких истин подменять нас возвышающий обман? Пусть останется счастье в холоде декабрьского «Знания», ведь если я теперь снова увижу эти кадры, стеклодувов и гондольеров и всё про фильм узнаю, то моё знание раскавычится, а это будет совсем другая история. Пусть также рыжая певичка останется Моникой Витти, похожей, правда, не на антониониевскую Монику из «Ночи», а на Монику из «Не промахнись, Ассунта!».
Русский павильон на Венецианской биеннале
Ленинград, холод, декабрь – моя Венеция родилась там и так. Конечно же, о Венеции я знал и раньше – кто ж про неё не знает, знал, что там дома в воду понатыканы и очень красиво, но благодаря фильму, воспоминания о котором ненадежны, как свидетельства детей, Венеция во мне приобрела очертания, превратилась в образ. До того это была чистая абстракция – а как же могло быть ещё в декабре, холоде и Ленинграде? Тогда и альбомов-то про Венецию никаких не было, вряд ли я даже фотографии города видел: это теперь дворец Дожей рекламирует кафельную плитку на каждом шагу. В образ, во мне сформировавшийся, я влюбился страстно, и, если признаться честно, в мою соседку по парте, я был влюблен гораздо меньше, хотя её и обожал так пылко, что даже о самоубийстве подумывал, как многие в тринадцать лет.
Было ещё одно обстоятельство, для моей Венеции очень важное. Открытка с фрагментом из «Истории святой Урсулы» Карпаччо: вид в просвет колонн лоджии из «Прибытия английских послов» с водой, домиками, церковкой и чёрной лодочкой с двумя юношами. Юноши повёрнуты спиной к зрителю, и их кудрявые белокурые волосы столь пышны, что кокетливые чёрные береты, довольно большие, с трудом натянуты на шевелюры – кудрей много, и головы кажутся перевернутыми горшками с какой-то благоуханной и буйной растительностью, кустами лаванды. Один юноша сидит, непринуждённо облокотившись на лодочную перекладину, нам видна только его половина, а второй показан во весь рост, он лодкой управляет стоя, с помощью длинного весла, как и положено в го́ндоле – вроде бы слово «го́ндола» я уже знал, но говорил, конечно, гондо́ла, по-русски. Красивое слово и с русским ударением немного неприличное, мне всегда так в детстве казалось.
Красоты этот фрагмент преисполнен божественной, и таинственности, и ничего лучше судьба не могла мне послать, обозначая Венецию моей жизни, чем эту открытку, которую я купил в Доме книги и которая стала основой моей коллекции открыток с картин. Теперь их у меня тысяч пятнадцать, я уж и не помню, что есть, чего нет, иногда покупаю двойные экземпляры, а тогда каждая открытка была драгоценностью. Открытки были ужасающего качества, их издательство «Изобразительное искусство» печатало, даже «Авроры» тогда на свете не было, – купил я двух юношей года за два до встречи с песенкой в «Знании», то есть когда мне было десять лет. Открытки собирать я начал именно в десять, поэтому сейчас могу утверждать, что фильм и Карпаччо появились в моей жизни почти одновременно, хотя тогда я их не связывал. Юноши были куплены за три копейки, тогда так открытка стоила, и зеленовато-сизый Карпаччо был самым ценным из первых моих приобретений, я до сих пор его храню.
Моя трёхкопеечная Венеция прекрасна, невозможно прекрасна. Как прекрасны и оба юноши – именно что «не возможно», так как никогда они не обернутся, нет никакой возможности увидеть их лица, никогда и ни для кого, но ни у кого, надеюсь, нет ни малейших сомнений, что черты их лиц упоительны. В конце концов, об этом можно судить и по задницам. Разве можно предположить, что у стоящего юноши, чьи узкие красные штаны натянуты на бёдра столь низко, как это сейчас модно, будет заурядное лицо? Конечно же, нет, не может быть такого предположения, и скрытое лицо юноши манит как блаженная страна за далью непогоды. Ведь на его белом исподнем, столь энигматично выбивающемся в зазор, образовавшийся между поясом и коротенькой, лихо задравшейся вверх курточкой, любому, кто умеет видеть, внятна невидимая надпись, нечто среднее между пророческим откровением и божественным лейблом, между [мене, мене, текел, упарсин], и Calvin Klein или Dolce & Gabbana: модный посланец царства вечности.
Безусловно, этот Карпаччо – лучший знак Венеции. В реальности Венеция и такая, и не такая, и лучше, чем в этом фрагменте Карпаччо, и намного хуже. Впрочем, существует ли реальность в Венеции? Многие это подвергали сомнению, и я, хоть и считаю, что реальность в Венеции существует, так что данная книга в некотором роде мыслится мною как изложение доводов в пользу именно подобного утверждения, всё же допускаю определённую долю вероятности правоты тех, кто считает иначе. Пробегая умом всю цепь моих отношений с Венецией, я вижу, что моя решающая встреча с ней – «знание» в кавычках. Закавыченность знания доказывает, что Венеция – «вещь в себе», cosa in sè, рождённая лишь моими субъективными свойствами, и, как и полагается по Канту, той Венеции, что столь чувственно и наглядно представлена в моём сознании, в действительности не существует, да и не может существовать, так как её вид определён лишь моими субъективными свойствами, и ничем другим. Кавычки маркируют относительность моего знания и моей Венеции, но – что делать? – Венеция мучает меня, и, будучи, как всё, что порождено знанием, умозрительной, она предстает во мне вполне ощутимо, так, как это произошло, когда я грохнулся, поскользнувшись на ещё сырых от только схлынувшей ноябрьской aqua alta, «высокой воды», камнях около Понте деи Инкурабили, Ponte dei Incurabili, Моста Неисцелимых, прямо напротив Оспедале деи Инкурабили, Ospedale dei Incurabili, Госпиталя Неисцелимых. Грохнулся и телесно ощутил реальность Венеции, мокрую, склизкую и довольно-таки твёрдую. Существующую вне пределов моего разума. Грохнулся очень внятно, переживания моих ягодиц были объективны, как марксистско-ленинская материя, но где это произошло? Вроде как на Фондамента делле Дзаттере, Fondamenta delle Zattere, то есть на Набережной Плотов, – на это указывало обозначение названия набережной на одном из домов, и все карты, визитки реальности, вторят этому указанию. И в то же время…
Многие безрезультатно искали на картах, визитках реальности, Набережную Неисцелимых, Фондамента дельи Инкурабили, Fondamenta degli Incurabili, ставшую благодаря эссе Иосифа Бродского чуть ли не самым притягательным местом в Венеции для русских интеллектуалов. Найти не могли, хотя в эссе Бродского, в его названии, Фондамента дельи Инкурабили существует во всей своей осязательности, так что Джон Апдайк написал, что Набережная Неисцелимых превращает частный опыт хронического венецианского туриста в кристалл, чьи грани отражают всю полноту жизни. Но где же грани Набережной Неисцелимых, полноту жизни отражающие, находятся? Бродский лишь единожды упомянул о Фондамента дельи Инкурабили в тексте, дав указание, звучащее обманчиво точно: «От дома (поклонницы Эзры Паунда. – Прим. автора.) мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili». Но это и всё, поди разберись в Венеции, где лево, где право. Следуя указанию поэта, вы никогда никакой Фондамента дельи Инкурабили не найдёте, а всё на Фондамента делле Дзаттере, Набережную Плотов, будете натыкаться. Нет никакой Набережной Неисцелимых и в помине, она ни в одном путеводителе не упоминается, но Бродский называет своё эссе «Фондамента дельи Инкурабили», «Неисцелимые» для него важны, и текст его «Дзаттере», «Плотами», никак не может быть обозначен, что за глупость. Конечно, эссе Бродского и есть Фондамента дельи Инкурабили, то есть cosa in sè, рождённая лишь субъективными свойствами самого Иосифа, поэтому в гидах её может и не быть, однако если вы пороетесь в архивах и антикварных лавках, то на очень старых венецианских картах, пылящихся там, выцветших, как смытые ветрами и дождями фрески с фасадов старых дворцов, вы сможете найти надпись Fondamenta degli Incurabili.
Набережная Неисцелимых является как привидение: картами уже давно никто не пользуется, они бесполезны, как искусство, но карты доказывают, что Фондамента дельи Инкурабили есть, она на какой-то грани действительности и воображаемого, как и всё в Венеции. Но она существует, совершенно точно, это именно то место, где я поскользнулся, и расположено оно как раз около Понте деи Инкурабили и напротив Оспедале деи Инкурабили. Теперь и я могу это подтвердить, так как камни набережной врезались в меня во всей апдайсковской кристаллической полноте и Неисцелимые обступили меня со всех сторон. Столь внятный ушиб я получил, конечно, на Фондамента делле Дзаттере, но упал-то я в метафизичность Фондамента дельи Инкурабили, то есть в бродскую Набережную Неисцелимых, и именно там и растянулся, а не посреди какой-то Набережной Плотов, чётко отмеченной на визитных карточках реальности, которыми пользуются «хронические туристы». В Венеции с объективностью всё не просто.
С Венецией вообще всё сложно, и именно поэтому я всё время возвращаюсь к юношам Карпаччо, к трёхкопеечной открытке. Что в них такого уж венецианского, что до сих пор, если при мне звучит это имя – Венеция, – я тут же их лёгкую чёрную лодку и красные штаны вспоминаю? Почему я считаю – а я так считаю, – что это самый выразительный знак Венеции? Что ж, поразмыслив, я точно могу ответить: укачивающая зыбкость, неустойчивое равновесие и скользящая неуловимость – это важнее всего. Важнее даже того, что вся сцена просто очень красива: юноши, вода, лодка, колокольня, косой парус – то есть всё то, на что сердце каждого моментально отзовётся, как на стихотворение «Белеет парус…», которое все так любят в детстве. Отзовётся и тут же заглохнет – у человека «со вкусом», во всяком случае, ибо слово «красота» истаскалось, как шлюха подзаборная. Модернизм ХХ века красоту отправил в лакейскую, где она стала гламурить, как дура, и теперь её удел – журналы мод да путеводители.
В Венеции же красоты так много, что даже и раздражение вызывает. Что ж уж тут такого особенного: понатыкай дворцов в воду – так всё красиво будет, трёхкопеечно красиво – и Венецию в трёхкопеечности обвиняли чуть ли не чаще, чем любое другое место на земле. И Карпаччо раздражает, он чуть ли не на каждом заборе, давно превратился в знак туристического потребления венецианской культурки, как Боттичелли – в знак потребления культурки флорентийской. Набери теперь в интернете «карпаччо», так выскочит:
карпаччо из говядины карпаччо из лосося карпаччо из свеклы карпаччо из курицыи только где-то на последнем месте проблеснёт «карпаччо витторе», ибо наша эпоха потреблятства – «потреблятство» очень удачный перевод термина affluenza, являющегося миксом из affluence, «изобилие», и influenza, «грипп», изобретенного де Графом, Ванном и Нейлором и поставленного в заглавие их нашумевшей книги Affluenza: The All-Consuming Epidemic 2001 года, по-русски звучащее как «Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру» – совсем уж всё в жральню превратило. Блюдо «карпаччо» стало гораздо известнее, чем художник, своё имя блюду отдавший, – о да, это всё так, и, дорогой читатель «со вкусом», меня от глупого восхищения Венецией воротит так же, как и тебя, но мой трёхкопеечный Карпаччо выскакивает из эпохи, потреблятства начисто лишённой. Это мне оправдание и оправдание той красоты Венеции, что так меня, двенадцатилетнего, захватила в никчёмном, скорее всего, фильме, где были дворец Дожей и площадь Сан Марко, го́ндолы и гондольеры и всё то, отчего приличного человека в эпоху The All-Consuming Epidemic тошнит. Ленинградский декабрь всё очистил.
Укачивающая неуловимость лодочки с двумя юношами из «Жизни святой Урсулы» – главный мотив Венеции. Фрагмент Карпаччо гениален, но вообще-то Карпаччо – великий художник, от гениальности стоящий несколько в стороне. Мир, им сотворённый, всегда преисполнен очарования тончайшего и иногда – поразительной глубины, но он суховат, и многофигурные сцены Карпаччо, та же «Жизнь святой Урсулы», производят впечатление подробной инвентарной описи, несколько схожей с поэзией средневековых менестрелей, когда они начинают перечислять красоты своих красавиц. В принципе, Карпаччо очень туристичен, прекрасно, конечно же, туристичен, но два юноши в лодочке – нечто из ряда вон выходящее даже у этого большого художника. Пережить внутренний смысл Карпаччиева фрагмента – значит ощутить Венецию. Те несколько туристических дней общения с городом, что сейчас выпадают на долю очень многих, этому переживанию чуть ли не противопоказаны. Фильм, из которого пришла песенка, был очень туристическим, и в нём никакой укачивающей неуловимости не было, но меня спасло появление открытки издательства «Изобразительное искусство», сыгравшей роль феи Сирени над колыбелью моей Венеции, предсказав её пробуждение тогда, когда она – моя Венеция – об этом ничего и не знала.
Так же, как и я ничего не знал, даже не знал о том, что юноши – лишь фрагмент. Как «Жизнь святой Урсулы» в целом выглядит, я даже и не подозревал, и о том, что когда-либо окажусь в Венеции, и не мечтал. Как-то не приходило в голову, что можно сесть в некий транспорт, в своей реальности не имеющий ничего общего с мечтательной утлостью лодочки, качающей двух юношей, поехать в Венецию – обратите внимание на страшное противоречие грубости звукосочетания «еха» с мечтательной прозрачностью «вене» – и очутиться в этом городе – обратите внимание на глуповатость «очу». Венеция оставалась этаким невидимым городом Итало Кальвино, книгу которого, конечно же, я тогда ещё не читал, и моё время не особо торопилось придать ей большую зримость, чем та, коей обладают кальвиновские Дзора, Дзирма и Земруда. Даже когда я решил, что буду итальянским искусством заниматься – а это произошло довольно рано, – и даже когда я итальянским искусством занялся, что произошло чуть позже, Венеции это реальности не прибавило, так же как и не прибавило мне уверенности, что я когда-либо в этом городе побываю. Вокруг меня, как вокруг кинотеатра «Знание», первую мне встречу с Венецией подарившего, царил декабрь социализма. Моё знание было погружено в декабрь социализма и им же ограничено и закавычено, так как тогда книжки о Венеции были редкостью, на русском языке была единственная куцая «Венеция» из серии «Города и музеи мира» 1970 года, никто ни Муратова, ни «Камней Венеции» Рёскина переиздавать не собирался. В семнадцать я прочёл Пруста, и «чтобы оживить их в себе, мне стоило только произнести имена: Бальбек, Венеция, Флоренция, звуки которых мало-помалу впитали в себя всё желание, внушенное мне соответственными местами» стало казаться мне моим уделом. Произноси звук про себя и будь этим доволен, в Венеции ты всё равно никогда не окажешься – «невыездной», как это определял социализм, царящий вокруг «Знания». Муратова я прочёл много позже, мне старое издание, большую тогда редкость, дала одна пожилая знакомая. Потом, когда я начал работать в библиотеке Эрмитажа, я нашёл множество фотографий Венеции, множество книг о Венеции и с Венецией, а также рассмотрел в подробностях «Жизнь святой Урсулы» и обнаружил свою чёрную лодочку в «Прибытии английских послов», трудно находимую, где-то совсем сбоку.
Венеция была для меня только именем из «По направлению к Свану. Часть третья. Имена стран: Имя», и, согласно прустовскому совету, я усиленно занимался тем, чтобы в именах итальянских городов внутри меня сосредоточилось внушенное ими восхищение. Я хотел, чтобы эти названия навсегда впитались в моё сознание и чтобы представление, какое составилось у меня об этих городах, заменило бы моё стремление к тем краям: а что мне ещё оставалось делать? Должен признаться, что Венеция, столь поразившая меня 31 декабря 1970 года, потом была оттеснена Флоренцией на второй план моей жизни, и именно в имени Флоренция – опять цитирую Пруста – «не находя … места для элементов, составляющих обыкновенно города, я принужден был породить на свет некий сверхъестественный город путем оплодотворения определёнными весенними запахами того, что, по моим представлениям, было сущностью гения» Понтормо – поставлю имя этого, моего самого любимого художника, на место прустовского Джотто. Венеция, однако, именно благодаря чёрной лодочке Карпаччо, всё время качалась в моём мозгу, как перья страуса склонённые.
В реальности я свою лодочку обрёл много позже. Когда я впервые оказался в Венеции, мне уже был тридцать один год. Я первый раз был в Италии и первый раз за границей и оказался в ней по приглашению моих друзей Данило Паризио и Марики Морелли, с которыми познакомился в Петербурге, где Данило оформлял как дизайнер и архитектор выставку современного итальянского искусства. Они пригласили меня вместе с Дуней Смирновой, на которой я тогда был женат, из личной симпатии, а также в знак уважения моих исключительных – так им казалось – знаний итальянского искусства. Данило с Марикой часто мне говорили, что их поражало, что эти знания существуют вне моего реального пребывания в Италии, и они взяли на себя благородную задачу первыми моё «знание» Италии раскавычить, устроив нам с Дуней потрясающую месячную поездку, включавшую и Рим, и Флоренцию, и Венецию, и Неаполь. Потрясающую во всех смыслах, так как теперь, смутно припоминая отели, в которых они нас селили, и рестораны, что мы посещали, я понимаю, каких это денег стоило, хотя тогда для меня, из социализма вышедшего, этакого contadino sofisticato, «утончённого поселянина», как меня Данило называл, всё, что стоило больше ста долларов, было столь нереальным, что как бы и не существовало. Ко всей роскоши, которой была моя первая встреча с Италией обставлена – это ещё нужно учесть, что скакнул я в неё прямо из голого социализма, – я относился весьма простодушно, как к обстоятельству, естественно сопутствующему Италии.
Итальянский комфорт и итальянская элегантность быта воспринимались мною как природное явление: ну, цветет лимон, и апельсин златой как жар горит под зеленью густой, что тут странного? – так и быть до́лжно, простодушие меня в некотором роде предохраняло от шока и комплекса Стендаля. Прилетели мы первым делом в Рим, и я был Римом оглушён, как жертвенные баран или говяда ударом дубины промеж рогов перед закланием. Потом всю поездку я себя как говяда и чувствовал, то есть обалдевшим и мало что соображающим, поэтому масса различных переживаний и ощущений моей первой встречи с Италией спуталась в ворох пёстрых ниток, разобрать который никакой рефлексии не по силам. Всё слилось в какой-то ком, бесформенный и смутный, но в него как будто воткнуты острые осколки зеркала – так блестят в моей памяти особо режущие моменты, заснятые гиппокампом, то есть той частью лимбической системы моего головного мозга, что формирует эмоции, консолидирует память и обеспечивает переход памяти кратковременной в память долговременную, со всей чёткостью хорошей документальной съёмки. Режущие в буквальном смысле, потому что, когда я, роясь в ворохе воспоминаний, снова натыкаюсь на них, я вижу, как на коже моих пальцев выступают маленькие капельки крови – именно к таким воспоминаниям относится и мой первый въезд в Венецию.
Я вместе с Дуней прилетел в Венецию, куда меня Данило с Марикой и привезли на самолёте из Рима. Я вывалился из вполне современного венецианского Марко Поло и уткнулся в воду, тут же, около аэропорта, плещущую, что поразило меня своей странностью. Никакую «живопись в качающейся раме», как Пастернаку, венецианская вода мне не напомнила, ведь удар промеж рогов начисто лишил меня способности к рефлексии, и я послушно, как жертвенное мясо, шёл за своими поводырями, тут же усадившими меня в водное такси: свойственная говядам телячье-баранья тупость, что во мне была, вовсе не метафора, а достаточно точное определение моего тогдашнего состояния. Панораму города, из Марко Поло видную, я, во всяком случае, осознать не успел и её не помню, хотя она наверняка была прекрасна, так как был конец марта, вечер после очень ясного весеннего дня и начало заката. Венецию слегка обволакивала дымка наступающих сумерек. Водное такси с мерным шумом мотора понесло меня в сверхъестественный город, появившийся на свет путем оплодотворения моей детской мечты о том городе, что я увидел в декабрьском ленинградском кинотеатре, некой определенностью знаний, полученных позже, – вроде как я должен сказать именно так. Так и не так, потому что все знания в тот момент из моей головы выскочили, и голова была не то чтобы пуста, но набита влажным туманом, просачивающимся в неё сквозь костный каркас моего черепа, ставший удивительно тонким и мягким. Туман лез в меня прямо из окружающего, постепенно темнеющего венецианского воздуха, и я даже про свой декабрьский фильм не вспоминал, не было никакого «вот оно, наконец», я смотрел вокруг себя взором, мыслью не замутнённым, и всё, что представлялось моему взгляду, никак не было связано со сформированными во мне представлениями. Я действительно всё видел в первый раз, наперекор всем «Именам стран: Имя», про которые думал не больше, чем любой баран, ведомый на убой, и как и откуда я подъехал к Венеции, не помню. Помню только Канале Гранде, Canale Grande, Большой Канал, на котором вроде как внезапно очутился, волшебным образом. Венеция обступила меня со всех сторон, я сижу на корме, и из глаз непроизвольно катятся и катятся слёзы.
Теперь, когда я вспоминаю об этом моём первом физическом контакте с Венецией, то чувствую странное раздвоение: это, конечно, я сижу на корме катера, таращусь на Венецию, как на новые ворота, и реву бараньими слезами, крупными и молчаливыми, но и всё тот же я, как будто со стороны, вижу здорового тридцатилетнего бугая, сидящего на корме катера и ревущего как баран. Причём это происходит одновременно, подобно тому, как в изображении житий на старых картинах можно видеть святую Екатерину, стоящую на коленях перед палачом и покорно подставившую ему выю с видом довольно безразличным и даже, можно сказать, бессмысленным, и тут же, в небесах, та же святая Екатерина, слегка склонив голову вниз, с интересом, вполне осмысленным и оживлённым, смотрит на себя, муку принимающую, – и, собственно, есть ещё третий я, видящий этих двоих на некой картине, представляющей Венецию, и в данный момент пытающийся её описать. Вроде как такого растроения личности у меня никогда в жизни больше не случалось, в Венеции всё зыбко, двойники тройниками оказываются.
Ревел же я на корме катера так, как никогда больше в жизни. «Ревел» – неправильное слово, так как оно предполагает некий звук, я же делал это беззвучно. Не потому что окружающих стеснялся, хотя и поэтому тоже, а потому что слёзы, не являясь выражением некоего душевного переживания, были просто следствием конденсации набившегося в мой череп тумана, то есть, подобно бараньим слезам, проявлением чистой физиологии, – и текли они обильно и непроизвольно. В принципе, всё, что плыло передо мной, я уже видел в фильме «Смерть в Венеции», ибо путь мой досконально совпадал с длинной сценой в фильме, когда Ашенбах возвращается с вокзала после своего столь счастливо провалившегося бегства от судьбы и, сидя на корме почти в точности такого же катера, как и тот, что привёз меня, счастливой улыбкой приветствует красоту Венеции и красоту своей будущей смерти.
Сцена эта, Висконти отточенная до бриллиантового блеска, – парадигма всех въездов в Венецию и парадигма Канале Гранде, так что, её отсмотрев и её отрефлексировав, можно всё пережить без всяких затрат на водное такси и, вроде как Пруст и советовал, в Венецию даже и не ездить. «Вроде как», потому что тогда, на корме катера, никакого Висконти и никакой «Смерти в Венеции» в моём мозгу и не стояло, и сейчас мне кажется, что только после того, как я увидел Венецию, физиологически пережил свою встречу с ней, произошедшую вне – и даже в некотором роде помимо – моего сознания, мне и стал внятен смысл, вложенный в эту сцену проезда Ашенбаха по Канале Гранде. Зато теперь я уж конечно без Ашенбаха на Канале Гранде и взглянуть не могу. Тем не менее факт: с Ашенбахом я проехался по Венеции задолго до того, как оказался на Канале Гранде с Дуней и своими итальянскими друзьями. Это моё преждевременное знакомство не помешало мне рыдать дурацкими слезами потерянной невинности, впервые – да впервые, хотя я вроде как с Ашенбахом по Канале Гранде уже ездил – вырулив на Канале Гранде. Да, я уверен, что смог понять «Смерть в Венеции» только после того, как в Венеции побывал, смотря на неё бараньими глазами, в которых не было и следа «Смерти в Венеции», но рыдал бы я на Канале Гранде без Ашенбаха, без кинотеатра «Знание» и без Карпаччиевой лодочки из «Изобразительного искусства»? Дуня, например, не рыдала, а только смотрела на меня с сочувственным удивлением, слезам моим вполне сопереживая и принимая их к сведению без всякого осуждения, но не пытаясь их, так сказать, разделить, что было бы смешно и ложно: предположим, она бы уселась рядом, взяла бы меня за руку и тоже принялась беззвучно слезами течь, как луком намазанная, – то-то была бы картинка! Я думаю, что это тут же бы мои глаза высушило, а заодно и лишило бы меня одного из сладчайших переживаний – моих бараньих слёз при первой встрече с Канале Гранде, что Дуня чутко понимала и не пыталась влезть между мной и Венецией. Ну и так что всё же случилось первым: моя поездка с Ашенбахом или моя поездка с Дуней? Как путаешься во времени в Венеции!
Так же, как и в её географии. В этом удивительном городе всё время всё меняется. Вам кажется, что какую-то из венецианских площадей, Кампо Санто Стефано например, вы изучили досконально, до мельчайших подробностей, уже пообедать там успели и в многочисленных её кафе посидели не раз, а вот вдруг, выйдя на неё неожиданно, из какого-то нового проулка, вы видите совершенно другой вид, другую, я бы сказал, ведуту, veduta – лучше использовать это итальянское слово, теперь полноправно вошедшее во все языки, в том числе и в русский, как термин, обозначающий именно городской, архитектурный, вид, хотя изначально «ведута» значит просто то, что предстает вашему зрению в данный момент, – и вы Кампо Санто Стефано не узнаёте и чувствуете себя совершенно растерянным. Вам кажется, что вы заблудились, потому что ожидали, что всё вокруг будет знакомо, а оказались чёрт знает где – как будто вас в ночи джинны куда-то перенесли. Так бывает во время путешествий, когда, проснувшись внезапно в гостинице или в чужом доме, вы не сразу можете сообразить, где находитесь. Всё чужое; стены, потолок, мебель как будто убегают от вас, всё вокруг рассыпается, вы потеряны и никак не можете сообразить, где вы, что вы, кто вы, сознанию требуется время и определённое усилие, чтобы поставить кружащие предметы на свои места, создав некий ряд узнаваемости, следуя которому постепенно возвращаешь себе осознание своего местоположения в мире, и, соответственно, самого себя. Причём в тот момент, когда предметы, застигнутые врасплох вашим пробуждением, собираются в некий смысл, то вы не то чтобы видите, но ощущаете, как они двигаются, даже переговариваются, спеша занять те места и сыграть те роли, что им отводите вы в своём сознании. Сам момент их торопливой суеты всегда оказывается пропущен, потому что как только сознание возвращается, то оказывается, что всё вокруг уже выстроилось в узнаваемость самую невинную, потолок в гостинице невозмутимо утверждает, что он просто потолок, и всё, не двигался он и ничего не шептал, но некое смутное воспоминание о спешке всей этой неодушевлённости, на которой вы её поймали в момент пробуждения, доказывает, что предметы обладают своим собственным бытием вне вас, так что стоит вам от них отвернуться, как они занимаются чем-то вам неведомым, живут жизнью, которая навсегда останется для вас тайной. Покорный их вид, однако, демонстрирует прямую зависимость их бытия от вас, он свидетельствует, что вещи вас боятся, боятся, что вы догадаетесь, чем они на самом деле занимаются в ваше отсутствие. В Венеции сознание находится в вечном пробуждении, ведь всё вокруг усиленно старается вас обмануть, и оказывается, что Кампо Санто Стефано, столь вроде привычное, на самом-то деле без вас совершенно другое. Всё по отдельности вроде как уже давно вам известно: вход в церковь, памятник Манину, дома, ресторанные столики, вынесенные на улицу, витрина магазина, весьма примечательная, с голыми манекенами-уродами, дядьками со старыми телами байкеров-качков, обряженными в трусы со стразами и шапки дожей, – но сейчас, когда вы вышли на Кампо с непривычной для вас стороны, всё предстает в другом ракурсе, складывается в ведуту, совершенно вам незнакомую, причём, в отличие от предметов в вашей комнате, послушно становящихся на свои, предопределённые им вашим сознанием места, стоит только вашему сознанию на них шикнуть, венецианская ведута принять узнаваемый вид совсем не торопится, заставляя вас привыкать к совсем новому виду Кампо Санто Стефано и её церкви, домов и дядек в витринах. Венеция вгоняет каждого посетителя в сомнамбулическое состояние, вы как будто вечно пробуждаетесь – то есть всё время спите и не спите одновременно: укачивающая зыбкость, неустойчивое равновесие и скользящая неуловимость. Юноши в лодочке, чьих лиц нам с вами никогда не увидеть, эта странная неопределённость моего приземления то ли на Набережной Плотов, то ли на Набережной Неисцелимых и бесконечное расслоение личности, напрямую зависящее от бесконечности отражений, наполняющих город: раздвоение, растроение и расчетверение, постоянно преследующее в Венеции и не раз описанное различными гениями, – это я стараюсь подойти к своей реальной встрече с чёрной качающейся лодочкой Карпаччо в «Жизни святой Урсулы». В Венеции дойти до чего-то, до чего хочешь дойти, очень сложно, и часто оказываешься совсем не там, где предполагаешь.
Впрочем, рано или поздно в Венеции всё равно всё находишь. Нашёл я и свою лодочку, но пока я к встрече с ней только направляюсь, сижу на корме и реву как баран, и дворцы Канале Гранде плывут мимо меня очень медленно, но в то же время и очень быстро, потому что я и оглянуться не успел, как оказался перед входом в гостиницу в районе Ридотто, отдельного, со ступенями, спускающимися к воде, как в Венеции полагается. Такие входы теперь уже случаются очень редко, только в дорогих гостиницах. Совсем даже и не удивившись этому роскошеству, ибо по наивности я всё принимал как должное: лимон цветёт, – я уже оказываюсь в небольшом номере, набитом антиквариатом, и первая встреча с Венецией уже отходит в прошлое, и вот я уже из Венеции успел уехать, и приехать в неё снова, и побывать в Венеции много раз. Стоит ли говорить, что венецианские дворцы промчались как вешние воды, и теперь я сижу перед компьютером и набиваю текст о первом физическом контакте с Венецией, мелькнувшей мне двадцать четыре года тому назад, – но вот ведь парадокс: дворцы Канале Гранде ползут мимо меня очень медленно, всё продолжают ползти, я их продолжаю рассматривать, вот уж двадцать четыре года как, причём сейчас, когда я уже почти каждый дворец досконально знаю, так как за это время успел путеводитель о Венеции написать и опубликовать, я вижу их всё равно так же, как я увидел их тогда, в первый раз, по-бараньи, некие общие силуэты, сливающиеся в единство чего-то нерасчленённо прекрасного, безымянного, из которого взгляд выхватывает лишь какие-то детали: цветной орнамент, пышный вход, столбики с привязанными го́ндолами, скудно освещённый сумеречный интерьер какого-то огромного зала, в котором можно различить полупогашенную люстру, книжные полки, картины – следы жилья и жизни, настоящего быта во всей тупой незамутнённости звучания этого слова – «быт», – вроде как к Венеции совсем неприложимого, поэтому окно старого дворца, приоткрывающее возможность существования современной повседневности в этой сказке, оказывается самой фантастичной деталью всей картины. Быстро мчась на водном такси, я в то же время передвигаюсь достаточно медленно, чтобы у меня осталось время в окно залезть, рассмотреть и запомнить все детали интерьера, и я буду помнить их всю жизнь. Ни дворец Вендрамин, ни Ка’ д’Оро, ни даже Каза ди Дезде́мона я не запомнил, так что и сейчас в этом моём воспоминании они маячат общими силуэтами, зато я отчётливо запомнил дворец Сальвиати, самое уродливое здание на всём Канале Гранде, приобретённое владетелями стекольных заводов в ХХ веке и ими же украшенное препохабнейше яркими и весёленькими картинками, восславляющими величие ренессансной Венеции и кажущимися девятнадцативековым историзмом, хотя на самом деле они сделаны в 1924 году. Окно неведомого дворца – никогда в жизни не определю точно, что же это за дворец был, – и яркие картинки стекольных королей господствуют в моём первом воспоминании о реальной Венеции, поэтому теперь, когда я натыкаюсь взглядом на дворец Сальвиати, то у меня это сооружение вызывает приступ умилённости, ибо впрямую связано со счастьем бараньих слёз, хотя его декор и выглядит на Канале Гранде столь же дурацки, как мавзолей Витторио Эммануэле на панораме Рима, и мне решительно не нравится.
Водное такси жужжало, звук мотора подчёркивал внутреннюю тишину дворцов Канале Гранде, а в ушах моих звучала песенка – звучала совершенно беззвучно, так как, повторяю, я, таращась на Канале Гранде, всё забыл, всё своё декабрьское «знание». Забытая, песенка тем не менее в подсознании урчала образом скорее зрительным, чем звуковым, потому что мне никуда не деться от рыжей певички, что мне угодно принимать за Монику Витти, хотя, быть может, никакого отношения эта рыжая к Монике и не имеет, да и вообще она вылитая «Не промахнись, Ассунта!», но мне очень хочется, чтобы исполнительницу моей песенки облагородила предполагаемая связь с интеллектуальной дивой из «Ночи», красавицей с «Сомнамбулами» Германа Броха (писателя, которого даже не всякая русская интеллектуалка открывала) в руках. Да и сомнамбулы мне нужны, они для Венеции характерны, и те три дня в Венеции – а их было всего три – я провёл в состоянии полного сомнамбулизма.
Три дня в Венеции, столь важные в моей жизни, никак не оформились в какую-либо законченность: всё спуталось и сбилось. Конец марта, какая-то на удивление хорошая погода, поэтому в Венеции, как ни странно, теплее, чем в Риме, туристы в шортах, панорама залива с тремя палладиевскими куполами на горизонте, вид на город с колокольни Сан Джорджо Маджоре, оглушающий размах парадных залов дворца Дожей. Мост Вздохов и фэшн-съёмка на одном горбатом мостике с очень красивой моделью, с юрким фотографом, скачущим вокруг неё, как воробей в весенней луже, и проходящей мимо, не обращающей ни малейшего внимания на это столь экзотичное для меня зрелище, публикой. Очень всего много, всё блекло пёстро, всё находится в постоянном движении, всё звучит – много изысканности и много кича. Лавки Риальто. Блюдца с собором Сан Марко, каким-то специально отвратительно рельефным, да ещё и украшенным невыносимыми блёстками. Майки с гондольерами, венские вальсы, несущиеся из кафе Квадри и кафе Флориан, маски со стразами и перьями – всё это прёт в глаза и в уши: мельтешение и переизбыток визуальной информации. Думаю, что у многих первое впечатление от Венеции такое же, у многих оно и остаётся единственным, так что собор Сан Марко слепляется с рельефом на блюдечке так, что разделить их уж и невозможно, и… – я не вижу в этом ничего плохого. Как-то, одним летним днём, я у Финляндского вокзала был заворожён видом женщины, полной, немолодой, очень простой и очень симпатичной – симпатичность прямо-таки изливалась из неё. На голове у неё был сооружён тюрбан из цветастого платка, и она деловито опекала выводок малолеток, – совсем не старая бабушка, бабуленька, а заодно опекала и выводок сумок на колёсиках, которые ей приходилось переволакивать через ступени, чтобы потом раздать малолеткам, дабы они, используя свои малолетские силёнки, катили сумки по ровной поверхности. Во всех её движениях, многочисленных и сложных, не было ни малейшего намёка на злобную агрессивность, что столь свойственна обладателям сумок на колёсах наших пригородных вокзалов. Трудности она преодолевала с похвальной лёгкостью, и на ней была юбка, очень простая и несколько выцветшая, усеянная соборами Сан Марко, гондольерами и дворцами Дожей. Соборы, гондольеры и дворцы повторялись на голубом фоне, как наваждение, рисунок был примитивен и накатан на ткань очень просто, – в соборах, гондольерах и дворцах было что-то такое очень ситцевое. Они были прекрасны. Эта юбка – самая красивая юбка в мире.
Всё, что связано с Венецией, всегда очень красиво. Венеция – самый красивый город в мире, от этого устаёшь, и это очень раздражает. Красота всё время грозит превратиться в рельеф на блюдечке и была бы вовсе невыносимой, если бы не зыбкость и неустойчивость, что наполняют город, заставляя его красоту всё время балансировать на грани изысканности и кича, – неустойчивость и зыбкость Венеции и сделали столь завораживающим ситцевый рисунок с гондольерами на юбке около Финляндского. Неуловимость – своего рода защита Венеции, поэтому до сих пор у меня не поднимается рука выбросить ужасающую жестяную коробку из-под когда-то подаренных моей маме одним моим приятелем конфет с огромной панорамой Рива дельи Скьявони, сделанной с одной из картин Каналетто, которой, для пущей привлекательности, придана выпуклость, так что колонны на Пьяцетте, Догана, дворец Дожей слегка вспучены, как будто буквы для слепых, а каналеттовской палитре, и без того развесёлой, сообщена оглушительная жестяная яркость. Коробка – прямое доказательство блоковского «красота страшна», и сквозь эту очень страшную красоту, сквозь сбивчивость моего первого Венеции посещения – а оно, в принципе, недалеко ушло от картинки на коробке – я наконец пробираюсь в Галлерие делл’Аккадемиа, нахожу «Жизнь святой Урсулы» и оказываюсь нос к носу – точнее, нос к заду – со своим детским фантазмом, двумя юношами в красных штанах и в чёрной лодочке.
Разыскал. С неким даже трудом, потому что, даже и видя уже не раз «Жизнь святой Урсулы» на репродукциях и помня где там, среди английских послов, своих юношей надо разыскивать, я не сразу различил их в карпаччиевской пестроте и карпаччиевском разнообразии. Нашёл. Успокоился. Посмотрел и отошёл. Вот и всё. Прожит огромный кусок моей жизни с Венецией, законченный Карпаччо, – когда в Галлерие делл’Аккадемиа я юношей обрёл, я это почувствовал, но не осознал, как осознаю сейчас, да и Галлерие высыпали на меня Карпаччо, Беллини, Джорджоне и Тициана в таких количествах, что мне было просто очень тяжело. Я понял, что закончилось нечто важное, и – in my beginning is my end, «в моём начале мой конец», – как закончилось, так и началось: и вот, только я нос от ягодиц в красных рейтузах оторвал, как – между тем прошло лет двадцать – уже нахожу себя сидящим напротив дворца с верблюдом в районе Каннареджо и размышляю над будущей книгой о Венеции, над первой, вступительной, главой. Начинать писать всегда трудно, и, после мук, мне пришла в голову идея, что вступление должно быть посвящено именно звуку Венеции. Именно в этот момент, в Каннареджо, звук Венеции мне вдруг и стал особенно внятен.
Жара. Летняя Венеция переполнена, но около дворца с верблюдом никого нет, и так как «район малопривлекателен для туристов, за исключением вокзала и двух оживлённых улиц в южной части», как сообщает нам один из путеводителей – то все на этих двух улицах Каннареджо и толкутся. В Венеции туристическая толпа, особым разумом не располагающая, как и каждая толпа, совсем дуреет – город её на это провоцирует. Тихо, только чуть канал плещет, и тут вдруг до меня доносится трещотка сумки на колёсиках. Я сразу же осознаю, что главный венецианский звук – это треск сумок-троллей, которые бесконечно тащатся по Венеции в любом месте, в любое время. Троллей катят все: ординарное туристическое мясо в шортах, сногсшибательные гламурные девахи, очкастые профессора, негры, торгующие «версачами» на венецианских мостах, немцы и русские, итальянцы и японцы, старые и младые, – всё, что двигается, тащит за собой в Венеции троллей по крайней мере два раза – в день приезда и день отъезда, – и эти два раза каждого сливаются в гул троллей, в симфонию троллей, так как это – удвоенное количество всемирных посещений Венеции, а Венеция – один из самых посещаемых городов в мире. В Венеции каждый обречён на троллей, никуда от него не деться, ибо в этом городе нет ни одной машины и так или иначе до пристани ты должен дойти, сколь бы избалованным комфортом ты бы ни был, и только единицы – только те, кого речное такси привозит и отвозит прямо с пристаней отелей типа Бауэр или Даниэли, – могут этого избежать; и вот, вся орава туристов, что ежедневно приезжает и уезжает, тянет по камням Венеции, The Stones of Venice, – неровным, заметьте – свои trolley, также известные как two wheeler, stack truck, dolly, trolley truck, sack barrow, sack truck или bag barrow: так, сак, трак, бак, стак, тррррр… Трещат по ступеням мостов, по плитам и в соттопортего, крытых переходах, которых полно в Венеции и которые тарахтение усиливают, как рупоры; долли-тролли-трак везде и всегда, звук колёсиков стал более характерен для Венеции, чем трещание вивальдиевской «Осени» из Quattro stagioni, которой Венеция набита, ибо «Четыре сезона» – главная приманка многочисленных концертов в многочисленных церквах, и из репродукторов в работающих днём многочисленных кассах обязательно льётся именно «Осень», так что для меня звук Вивальдиева концерта намертво сплетён с трещоткой троллей и – читатель, конечно же, заметил мою привычку всё закольцовывать – с самой красивой в мире юбкой и её сумками на колёсиках. Особенно режут троллей венецианскую тишину ночью, когда запоздалый турист, пытаясь найти гостиницу в венецианском лабиринте, мечется по утихшим улочкам, как душа некрещёного младенца во тьме Лимба, потому что ничто так не трудно сделать, как найти что-то в Венеции, следуя указанному адресу.
Режет тишину. Тишина… Первая находка звука, столь меня привлёкшая, блеснувшая как нечто «похожее на мысль», как сказано в пушкинском «Романе в письмах», тут же потухла, потому что никакие ни троллей определяют звучание Венеции, главный звук Венеции – тишина. Соображение на первый взгляд кажущееся даже и парадоксальным. Во всяком случае, до того, как стих вдали навязчивый звук троллей, именно этого, тащимого какой-то удивительной красоткой мимо меня, сидящего напротив дворца с верблюдом, оно не приходило в голову, так как с первой же встречи с Венецией я был этим городом оглушён, и, начиная с первого своего въезда на Канале Гранде, с навязчиво застрявшего в голове зуда мотора, шумы и звуки меня в Венеции всё время сопровождали, их было очень много всегда, разнообразнейших. Я, усевшись перед дворцом с верблюдом, был занят тяжёлой работой, пытаясь из шумов и звучаний выделить некий главный звук. Тут-то красотка со своей сумкой – очень, надо сказать, элегантной – и подоспела. Сумку проволокла и пропала, и вдруг снова стало очень тихо, причём тишина подчёркивалась плеском воды, ибо была не абсолютна, ведь абсолютная тишина – это же небытие, но тишина была именно слышна, и плеск воды оттенял звук тишины, а где-то уже зарождалось тарахтение нового троллей, тащимого пока кем-то невидимым, но, пойманная мною, тишина уже была различима, она слышалась теперь громче, чем звук накатывающегося троллей, и я понял, что уловил главный звук Венеции, он теперь всегда будет со мной, я его даже на Пьяцца Сан Марко услышу, сквозь пошлость венских вальсов и гудение разноязычной толпы.
Обусловлена венецианская тишина одним простейшим обстоятельством: Венеция, кажется, единственный город на земле, в котором нет машин. Нет мотоциклов, велосипедов, нет даже лошадей и телег – только тележки. Тишина звучит везде и всегда, просто она слышится то слабее, то сильнее, – и это та тишина, что так удачно изображена (ибо она не только слышится, но и видится в Венеции) во фрагменте Карпаччо. Поймав звук тишины в тот жаркий летний день, я потом много раз удостоверялся, что прав: главный звук Венеции – тишина. Тишина разбухшей апельсиновой корки, плывущей по по-ноябрьски зелёной воде канала. Чудная тишина.
Как-то раз, будучи не в Венеции, а в районе Тревизо, но прилетев в Марко Поло и оттуда же улетая, я провёл в аэропорту битых четыре часа, дожидаясь всё откладываемой посадки. Венеция, видная в окна, была залита солнечным светом, был очень яркий и ясный день, и город маняще раздражал: вот, я должен торчать, как прикованный, в проклятом Марко Поло и быть несчастным, а Венеции, такой красивой и такой безразличной, до меня нет никакого дела. За огромными стёклами аэропорта она была, и в то же время её как бы и не было – затрёпанная венецианская истина. Наконец я оказался в самолёте, который, набирая высоту, стал кружить над городом, и город предстал передо мной весь, как будто специально на водяное блюдо выложен. В солнечном свете Венеция виделась очень чётко, очень прочерчено, так, как она выглядит на карте Якопо Барбари, созданной около 1500 года, красивейшей карте в мире, на которой Венеция, показанная с высоты птичьего полёта, детально прорисована, каждый домик очерчен отдельно, каждая колокольня с подкупающей точностью, но в то же время карта эта не просто карта, а некое мифологическое повествование, ибо в заливе, прямо напротив церкви Сан Джорджо Маджоре, уселся, оседлав большую рыбину, Нептун и, задрав голову, переговаривается с повисшим над Венецией Меркурием. Совпадение очертаний Венеции, видимой из моего самолёта, с той Венецией, что нарисована Якопо Барбари и что сейчас открывает экспозицию Музео Коррер, о древней Венеции повествующую, поразительно, и это сразу же заставило меня почувствовать себя Меркурием, над Венецией повисшим. Венеция лежала внизу такая мирная, такая маленькая, такая беззащитная, почти игрушечная, и она становилась всё меньше и меньше, удалялась и уж исчезла, как вдруг, почти уже и пропав, она оформилась в некий шар, и, вместо того, чтобы остаться в прошлом, она вырвалась, понеслась вслед за самолётом, настигла его, разбила вдрызг стёкла иллюминатора, позволявшие мне умильно и отстранённо её рассматривать, чувствуя себя в полной безопасности, настигла меня и шарахнула прямо в лоб, как мяч, что въехал мне между глаз на Кампо Сан Стин, когда я как-то, выйдя из церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари, наслаждался видом совсем маленьких школьников, развивших бешеную футбольную пляску вокруг украшающего центр площади старого колодца, и этим своим ударом ещё раз доказала, что она, Венеция, есть, есть на все сто процентов, в самой что ни на есть физической ощутимости, что сделалась мне столь внятна при приземлении на Фондамента дельи Инкурабили.
Церковь И Джезуити
Каннареджо
Глава вторая Иов
Начало Венеции. – Сан Джоббе. – Иов и Манон. – Любители дайвинга и квадрига Сан Марко. – Савольдо и его Natività. – Флорентийскость и венецианскость: grandezza, grazia и poesie. – Младенец итальянский и Младенец нидерландский. – Суггестия. – О святости Иова. – Иудеи в Венеции. – Три Гетто. – Кампо ди Гетто Нуово. – О выразительности и «Еврейском кладбище» Якоба ван Рейсдала. – «Венецианский купец». – Аль Пачино и Данила Козловский. – Mori и мореи
Так уж случилось, что последнее время, когда я приезжаю в Венецию откуда-нибудь, с тем чтобы в тот же день уехать, а не в Венеции жить, то, в отличие от толпы, направляющейся прямиком к Пьяцца сан Марко, Piazza San Marco, Площади Святого Марка, я сворачиваю налево и, обогнув церковь ди Санта Мария ди Назарет, chiesa di Santa Maria di Nazareth, оказываюсь в не слишком манящих новостройках. Здесь практически никогда никого нет, и, поплутав несколько минут, ибо до сих пор путь не помню, но точно знаю, какое направление надо держать, я оказываюсь на набережной Канале ди Каннареджо, Canale di Cannaregio, Канала Каннареджо, где-то в районе Фондамента Саворньян, Fondamenta Savorgnan. Здесь тоже есть народ, но, взглянув назад, по направлению к Понте делле Гулье, Ponte delle Guglie, Мосту Обелисков, вы тут же оцените уединённость Каннареджо, ибо гуща толпы, валящей через мост по Страда Нова, Strada Nova, Новой Улице, к центру, поистине устрашающа. Когда в ней находишься, то это ощущаешь не так остро. Издалека же становится ясно, какая всё же Венеция стерва: играя роль изысканной чаровницы, она, столь вроде как штучная, умеет бедного туриста совсем мозгов лишить и втолкнуть в Панургово стадо, прямо как Цирцея какая-нибудь. Турист в стаде болтается, страдая, как цирцеины жертвы, и, если он обладает хоть какой-то претензией на самостоятельное мнение, Венецию клянёт почём зря. Если же подобной претензией он не обладает, то всё и хорошо: Сан Марко повидали, на колокольню влезли, сушёных помидоров на рынке Риальто прикупили. Что ещё человеку надо?
Церковь ди Санта Мария ди Назарет
Бросив взгляд назад, как Эней на тени, давящие друг друга на брегах Леты у ладьи Харона, на толпу, прущую по Понте делле Гулье, я иду вперёд и, достигнув небольшого канала, впадающего в Каннареджо, сворачиваю налево. Сразу же оказываюсь на небольшой площади, Кампо Сан Джоббе, Campo San Giobbe, Площади Святого Иова. Здесь тихо и практически никого нет: с одной стороны небольшой канал, с другой – строгий портал церкви ди Сан Джоббе, chiesa di San Giobbe, Святого Иова. Фасад её прост, как правда: четыре пилястра и два прямоугольника окон, симметрично расставленных над расположенным в центре прямоугольником входа. Пропорции напоминают о готическом происхождении церкви, основанной в 1378 году, ибо фасад худ, как средневековые Адамы: то, что называется «все рёбра пересчитать можно», и длинные и тощие пилястры выглядят как те самые рёбра. На готику только худоба и намекает, так как церковь строилась столетие, окна и вход совсем не готичны, да и вообще-то архитектура по-баухаузовски скупа, за исключением узкой мраморной оторочки портала с полукруглым рельефом, представляющим голого Иова, взывающего к небесам, и святого Франциска Ассизского, пришедшего его утешить на гноище вместо жены. Вверху рельефа вырезано лучащееся солнце. Мрамор портала – работа Пьетро Ломбардо, чуть ли не главного скульптора и архитектора Венеции кватроченто, он наряден и скромен, как кончики белого кружевного воротничка, слегка выглядывающие из под коричневой монашеской робы, и кружево это – единственный знак Ренессанса, отмечающий фасад церкви Сан Джоббе, в путеводителях обычно именующейся «ренессансной».
Тихо всё, тишина подчёркивается лёгким плеском воды в канале, и весь ансамбль этой небольшой площади – а это именно ансамбль, хотя никто Кампо Сан Джоббе как некое единство не мыслил, просто так получилось, – замечателен. Прямо напротив входа в церковь – ступени небольшого спуска к воде, также утилитарного, когда-то предназначенного для давно уже не причаливающих сюда лодок, и замыкается площадь входом во дворик-сад, со всех сторон окружённый стенами и обычно открытый. Нет в нём ничего особенного, несколько чахлых кустов, трава и красные кирпичи, но тишина и отстранённость, граничащая с заброшенностью, придают ему прелесть, что свойственна унылой поэзии талантливых и одиноких женщин вроде Марселины Деборд-Вальмор: «идите, друг мой, боль моя, вас больше не увижу я! Но имя ваше без труда при мне заменит вас в разлуке». Элегия, да и только, и дворик-садик похож на саму Марселину со знаменитой фотографии Надара, умную и грустную старушку в митенках, со взглядом, повествующим «о многие знания и многие печали».
Элегия Сан Джоббе для меня – начало Венеции. У Венеции бесконечное множество начал: Акройд свою последнюю книгу о Венеции начал с пустынного побережья, на котором город ещё только предполагает возникнуть, песка и тростника, для Томаса Манна Венеция начинается с сонного путешествия в ладье Харона, для Муратова – с картины Беллини «Озёрная Мадонна». Собственно говоря, и для меня Венеция начинается с гондольеров Карпаччо, о чём я уже и рассказал, но Карпаччо, точнее – советская открытка, фрагмент Карпаччо воспроизводящая, для меня не просто начало Венеции, а Uranfang, начало всех начал. Uranfang входом служить не может: а для меня Кампо Сан Джоббе – вход в Венецию.
В Венеции с географическими определениями очень всё запутанно, на примере совпадения-отторжения Фондамента дельи Инкурабили и Фондамента делле Дзаттере я уже пытался разъяснить венецианские сложности: вопрос о том, где начинается Венеция, впрямую определён этими сложностями. Но я свой путь в Венеции начинаю именно с Сан Джоббе; я уже сказал, что сейчас я пришёл на неё прямо с поезда, но это даже и не важно. Дело в том, что когда путь по Венеции рисуется мне в моих мыслях, то я, начиная его, тут же оказываюсь перед фасадом церкви Сан Джоббе, сижу на бортике спуска к воде, пялюсь на скромнейшую решётку ворот дворика-садика, «закрытого сада», hortus conclusus, и думаю о вечности – ибо о чём, как не о ней, ещё в таком обрамлении думать? Происходит это подобно тому, как в современных блокбастерах вроде «Миссия невыполнима» для указания на моментальность перемещения героя используется приём спутниковой карты: сначала показывается панорама города, к вашим глазам приближающаяся с быстротой мысли, вы окидываете её взглядом, и, оглянуться не успев, вы уже вместе с Томом Крузом стоите где-то на вершине Джомолунгмы или перед собором Нотр-Дам, хотя на самом-то деле находитесь в своей квартире перед телевизором, и начинается действие, в которое Том Круз вас втягивает. В пространстве, что Том Круз (или герой Тома Круза, всё равно) с наивной упёртостью считает реальностью, вы, захваченные, хотя и не обманутые, его убеждённостью, вместе с ним отдаётесь действию; вот так же и я вас усаживаю рядом с собой на бортик спуска, и, оторвавшись от размышлений о вечности, навеваемых изумительным в своей ординарности окружением, рассказываю вам, почему Сан Джоббе для меня начало Венеции.
То есть в действие вовлекаю.
Что ж, с тем, что in my beginning is my end, «в моем начале мой конец» Элиота никто спорить не будет, и наблюдение Козьмы Пруткова, что «первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти», увы, справедливо. Кампо Сан Джоббе, начинающее Венецию в силу своей близости к вокзалу Санта Лючия, а также того факта, что оно лежит как бы с краю, в непосредственной близости моста, связывающего венецианские острова с остальной землёй, легко можно обозначить словом «начало», но в то же время площадь окутана особой атмосферой «конца», что определено её закрытостью, тем, что с одной стороны она замкнута фасадом церкви, с другой – оградой сада, с третьей – каналом, а с четвёртой – стеной довольно высокого современного дома безликой архитектуры, к которой мы сейчас повернулись спиной. Берег канала напротив площади ограничен стенами домов, не образующих между собой никакого прохода, и Кампо Сан Джоббе – конец в буквальном смысле, потому что с этой небольшой площади невозможно никуда выйти, есть только ложный выход в замкнутый сад, дворовые ворота монастыря слева закрыты, так же как закрыты ещё одни ворота, прямо перед самым нашим носом, сквозь решётку которых виден какой-то ещё один сад, совершенно запущенный, не сад, а свалка, и даже – типично магриттовская деталь Венеции – маленький мостик через канал, перекинутый к домам на другой стороне, тоже наглухо заперт на замок, висящий на решётке, путь по нему преграждающей.
Ощущение замкнутости и конечности определяет настроение этого места. Кампо Сан Джоббе шепчет элиотовские строчки «и время ветру трясти расхлябанное окно и панель, за которой бегает полевая мышь, и трясти лохмотья шпалеры с безмолвным девизом. В моем начале мой конец»: запущенность того, что некогда было большим садом, почти всегда закрытая церковь, мост, который перейти невозможно, ибо он никуда не ведёт, всё – «лохмотья шпалеры с безмолвным девизом». На Кампо Сан Джоббе всегда тихо и главный девиз этого безмолвия запущенности, «В моем начале мой конец», кажется начертанным на мраморном рельефе с голым Иовом. Вид этого места как нельзя более точно соответствует библейской легенде, и вот, мы тоже, как Иов со святым Франциском на рельефе, сидим с вами друг напротив друга и болтаем. Солнце также светит, жара и тишина. Мы, быть может, даже сандалии сняли, рискнув ноги спустить в воду канала, и я рассказываю вам о несчастиях Венеции – церковь Сан Джоббе очень к этому располагает, – и с рассказа о несчастиях, «Ибо погибли с земли память твоя», я Венецию и начну.
Церковь ди Сан Джоббе
В церковь Сан Джоббе не так уж легко попасть. Делать это надо или ранним утром и вечером – когда идёт служба, или днём, когда Сан Джоббе короткие три часа, всего с десяти до часу дня, работает как музей, входя в число четырнадцати платных венецианских церквей-музеев, служащих сразу и Богу, и мамоне в виде итальянского Министерства культуры, туризма и спорта (в Италии это всё объединено в одном флаконе). Внутри церковь обширна и ренессансна, даже по-флорентийски ренессансна, что в Венеции редкость. Потолок одной из капелл украшен майоликами Луки делла Роббиа, давно ставшими расхожими знаками флорентийскости, производство которых было поставлено на поток и заполонило музеи Европы и Америки, но в Венеции редкими; но эти детали лишь частность. Главное то, что структура интерьера Сан Джоббе подчинена ритму строгого и светлого спокойствия, разумного, сдержанного, но в то же время головокружительно элегантного. Формула этого ритма была найдена Брунеллески в Капелле Пацци, которая чистейшей прелести чистейший образец. Капелла Пацци и формула прекрасного, из неё извлечённая, определили особую красоту ренессансной Тосканы, так что если начинаешь размышлять о том, что же всё же под Ренессансом подразумевать, то приходишь к выводу, что только то, что случилось в Тоскане, потому что в остальной Италии, не говоря уж об остальном мире, всегда найдётся множество примесей, рождающих законное «но», тут же мешающее венецианский или миланский ренессансы Ренессансом признать. Ритм внутреннего пространства Сан Джоббе прямо-таки подчинён флорентийской формуле, в капеллах, сводах, в архитектурных деталях есть особый флорентийский шик, но и какая-то пустынность. Внутри церковь Сан Джоббе шикарна, именно шикарна, я нарочито использую это сомнительное словечко, но есть в её интерьере нечто, что вторит чудной заброшенности площади, ощущению «конца», и интерьер Сан Джоббе как-то сразу подозрителен. Пустынность его не раскованная элегантность Капеллы Пацци с её минимализмом, а некая вынужденная пустота, даже – опустошённость, и даже – запущенность. Алтарные картины совсем даже и не хороши для столь прекрасной архитектуры, и горькое это несходство вас душит, как воздух сиротства.
Иовисто всё как-то.
Таблички в капеллах, услужливо понатыканные мамоной-министерством, тут же горечь сиротства разъясняют, рассказывая печальную историю о том, как Наполеон в 1810 году упразднил францисканский монастырь, которому принадлежал весь комплекс Сан Джоббе, как многие мраморы и картины из церкви были вывезены, а в 1815 году, когда после Венского конгресса Венеция перешла к Австрии, картины из Сан Джоббе, хотя и были возвращены в Венецию, в церковь не вернулись, но были перемещены в Галлерие делл’Аккадемиа, где и находятся по сей день, причём среди них два таких шедевра, как «Пала ди Сан Джоббе», Pala di San Giobbe, «Алтарь святого Иова», Джованни Беллини с Мадонной на троне в окружении святых, и «Принесение во храм» Витторе Карпаччо, – двух шедевров было бы достаточно, чтобы сделать церковь одной из самых посещаемых в Венеции, в то время как сейчас в церкви в самый разгар туристического сезона от силы соберётся штук пять туристов, а в не сезон так она и вообще пуста.
Я не люблю перед пустым местом распространяться о том, что здесь когда-то было: порок многих любителей краеведения. С детства меня, как уроженца Ленинграда и жителя Петербурга, genius loci наделяет склонностью к краеведению, и я с ней борюсь, считая врождённым пороком. Ведь если хочешь рассказать о том, как было, то и пиши что-нибудь вроде «Потерянная Венеция» или «Венеция Ренессанса во времена Ренессанса», я же пишу о той Венеции, что, разбив вдрызг стекло моего иллюминатора, мне в лоб заехала. Сан Джоббе, однако, как раз то место, где Венеция – «Ибо погибли с земли память твоя» – предстаёт sola, perduta, abbandonata, одинокой, потерянной, покинутой, ну вылитой Манон Леско на американском берегу. Она такая именно здесь и сейчас. Связано это отнюдь не с видом интерьера, который, надо сказать, в отличном состоянии, прекрасно поддерживается заботой как Бога, то есть монахов, так и мамоны, то есть министерства, да и запущенность всего Кампо Сан Джоббе вылизана и отдраена как палуба роскошной яхты. Хорошо продуманная запущенность эта не то чтобы искусственна, она аутентична, но поддерживается столь искусно, что в этом видишь даже некоторую нарочитость, ибо всё, что вы видите в церкви и на кампо (здесь уж я объяснюсь в особом скобочном примечании: в Венеции историческая городская география выработала свои названия, отличные от общепринятых итальянских, и, в частности, площадь – piazza, пьяцца – в Венеции только одна, Пьяцца Сан Марко, Piazza San Marco, все остальные площади называются campo, «поле», хотя к «полям», как в случае Сан Джоббе, эти кампо не имеют ни малейшего отношения. Эта особенность, определённая теми же соображениями, что запрещали строить здания, за исключением церковных, выше дворца Дожей (опять же единственного palazzo, «дворца» в Венеции, остальные дворцы – только ca’, сокращение от casa, «дом»; о, скобки в скобках!), рождает большие трудности при переводах, а также в любом иноязычном разговоре о Венеции) всё составлено как будто специально так, чтобы соответствовать названию, Сан Джоббе, и образу Иова, то есть навести на размышления, что «Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки: тем более – в обитающих в храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются; не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Поэтому и весь комплекс Сан Джоббе, на первый взгляд имеющий отношение только к прошлому и ушедшей славе, являет нам самую что ни на есть современность, так что его можно воспринимать как актуальнейшую инсталляцию – или перформанс – на вечную тему Иова. «Храмина из брения», то есть из глины, а данная храмина из глины и есть, ибо из кирпичей построена, повествует нам, конечно, от том, как в веке четырнадцатом она была основана, как потом, в связи с популярностью святого Бернардина из Сиены, проповедующего францисканские идеалы и увлёкшего своими зажигательными речами могущественного Кристофано Моро, впоследствии даже дожем ставшего, церковь эта, находящаяся в беднейшем квартале Венеции, расцвела, превратилась в модное место, украсилась шедеврами Беллини и Карпаччо, так что для францисканских идеалов стала несколько даже и чересчур гламурна; затем, в веке восемнадцатом, пришла в упадок, потому что век Казановы ни на Карпаччо, ни даже на Беллини внимания не обращал, но во времена Наполеона любители изящного снова их заметили, так что этот тиран-освободитель решил Карпаччо и Беллини передать в музей, с церковью расправившись, а освободители-завоеватели австрийцы, бравирующие своим католицизмом, хотя здание монахам и вернули, картины, в силу полной заброшенности места, возвращать не стали, так что Сан Джоббе сидит в пепле и скоблит себя черепицей, – всё это так; но, будучи памятником «потерянной Венеции», Сан Джоббе так виртуозно себя этой самой черепицей скоблит, что это уже не история, а вполне осмысленный современный жест. Таблички с рассказами о мытарствах алтарных картин Карпаччо и Беллини, понатыканные в капеллах, теперь заполненных работами весьма относительного качества, оказываются не просто примером чиновничьей старательности, а частью артефакта, виртуозно повествующего о современном восприятии истории Иова, поэтому и я считаю себя вправе в данном случае обратить на «факт отсутствия» особое внимание, хотя, с моей точки зрения, формула «умерла так умерла», заимствованная из известного анекдота, всё время должна учитываться в описательном краеведении, дабы не сводить смысл бублика к одной лишь дырке, кою краеведческие описания, особенно петербуржские, часто напоминают как по форме, так и по содержанию.
В подтверждение моей догадки о том, что Сан Джоббе никакой не исторический памятник, а современный перфоманс, а заодно в подтверждение моей уверенности в том, что это место in my beginning is my end Венеции, передо мной однажды было разыграно следующее представление. В один из июльских дней, выйдя из прохлады церкви, даже в июле совершенно пустой, я уселся на своём любимом спуске, чтобы с приятностью поразмышлять на заданную святым Иовом тему: «погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек», и был удивлён присутствием четырёх молодцов, выгружавших из причалившей к спуску лодки (значит, лодки сюда всё же причаливают!) какое-то водолазное снаряжение. Сами они были обряжены в резиновые костюмы для подводного плавания, и это было очень неожиданно, так что я от «погибни день» отвлёкся, переключившись на гадания о том, в какой же интересно воде они полоскались, ибо в воду Рио Сан Джоббе, омывающую Кампо Сан Джоббе, в здравом уме никто не полезет. Из какой-нибудь дальней лагуны, наверное, приехали, решил я, – судя по всему, это были аборигены, никакие не туристы, все – несколько в возрасте, отнюдь не молодые люди, с хорошими простонародными фигурами и столь же простонародными, прекрасными голосами. Они негромко переговаривались со свойственной итальянским, а в особенности – венецианским, мужским голосам гортанной мужественной мягкостью; думаю, этот особый итальянский тембр хорошо знаком всем, кто в Италии хоть как-то к его звучанию прислушивался. Там, где звучат подобные интонации, и рождаются упоительно мужественные контратеноры, вроде Франко Фаджоли, который, хотя и родом из Аргентины, в жилах своих наверняка имеет немалую примесь крови обладателей именно этого, специфического для Италии тембра, – и я невольно стал звуком беседы наслаждаться, не вникая в смысл, подобно тому, как я не вникаю в смысл пения Арсаче в исполнении Фаджоли в опере «Артасесе», столь блистательно представленной на сцене театра в Нанси.
Вдруг среди этой, повседневной и ничего не значащей беседы, мимо меня скользящей и никак своим смыслом меня не задевающей, моё ухо натыкается на следующее: «…ну, понимаешь, как Наполеон, из Венеции коней утащивший». Вплетение в обыденный разговор исторического культурного факта, не то чтобы слишком эзотерического, но совершенно неожиданного при разборке подводного снаряжения, так меня поражает, что рот у меня непроизвольно раскрывается, как пасть Щелкунчика, и сигарета из него падает прямо в воду канала. Поразился же я не бравым венецианским ребятам, столь запросто оперирующим культурной ассоциативностью, но тому, как ловко устроитель перфоманса Сан Джоббе ввинтил в моё раздумье над «погибни день» упоминание о бронзовых конях, оказавшееся как нельзя к месту, несмотря на всю его незамысловатость – а точнее, благодаря ей, – ведь история квадриги, символа Венеции, господствующей над Пьяцца Сан Марко, на время украденной Наполеоном, повествует не только об обидах Республики, лишившейся независимости и ограбленной, но и о свойственной Республике вороватости, ибо в свою очередь была утащена ею из Константинополя, причём преподлейшим образом. Венеция, предстающая на Кампо Сан Джоббе sola, perduta, abbandonata, как Манон Леско на американском берегу, как Манон, сама в этом и виновата, так как вообще-то более хитрой воровки и динамщицы сыскать в истории человечества довольно трудно. Её, Венеции, поведение по отношению всё к тому же Константинополю, из-за неё в общем-то в Стамбул превратившегося, большое преступление, и то, что Карпаччо с Беллини оказались в Галлерие делл’Аккадемиа, ещё не самое жестокое наказание за этот проступок. Да и коней вернули, хорошеньким всегда везёт, – подумал я, продолжая ассоциацию с Манон из оперы Пуччини, встал и отправился к Понте ди Тре Арки, Ponte di Tre Archi, Мосту Трёх Арок, самому, пожалуй, красивому после Риальто мосту Венеции, чтобы, перейдя его и вернувшись несколько назад по набережной Каннареджо, пройти в Гетто, Ghetto, зловещее и манящее.
Среди картин, оставшихся после Наполеона заполнять опустевшие стены церкви Сан Джоббе, не то чтобы увлекательно интересных, одна выделяется настолько, что уже её было бы достаточно, чтобы не жалеть три евро, требуемые мамоной, за вход в святое место. Это картина Джованни Джироламо Савольдо «Рождество», Natività, повешенная украшать алтарь совсем отдельной от основного церковного пространства капеллы, причём так удачно, что вся капелла делается похожей на прекрасно организованную выставку одной картины. Замечательного художника Савольдо я не раз упоминал в разговоре о Брешии, так как он родился в этом городе и к его имени прибавляют «да Брешия». С Брешией и ломбардскими традициями его живопись теснейшим образом связана: Савольдо обладает особым брешианским чувством формы, и его искусству, как и культуре этого города, свойственно сочетание стремления к строгой и тяжеловесной, доходящей до неуклюжести, добродетели с любовью к очень добротной роскоши. Однако, родившись приблизительно в начале 1480-х, он в Брешии, судя по всему, провёл времени немного, уехал в Парму, а в 1508 году оказался во Флоренции, где сохранились документы, удостоверяющие, что он там становится членом цеха живописцев. Ничего больше о его жизни во Флоренции неизвестно, но один уже факт пребывания в этом городе – если Савольдо вошёл в официальные списки флорентийских pittori, то это было именно «пребыванием», а не просто посещением – говорит о многом: Флоренция на тот момент была «культурной столицей мира», причём это не преувеличение, а факт. Именно в это время во Флоренции было создано и выставлено два произведения, роль которых для того, что историей искусства зовётся, огромна. Никогда нигде больше в мире не будет одновременно бок о бок висеть два столь грандиозных творения современного искусства. Это «Битва при Ангиари» Леонардо и «Битва при Кашине» Микеланджело. Из этих двух произведений произросла maniera grande Высокого Возрождения, а вслед за ней – маньеризм; как только картоны были выставлены, то все молодые художники на них просто помешались. Те, кто мог, сидел дни и ночи, перерисовывая гениальные динамические группы и контрапосты Леонардо и Микеланджело, а кто не мог увидеть их воочию, ловил малейшее о них упоминание, ждал зарисовок, гравюр, чтобы в свою очередь зарисовать, впитать, использовать и разнести дальше, в сотнях и тысячах вариаций. Савольдо имел возможность (и вряд ли он ею не воспользовался) увидеть эти картоны вживую, так как они в 1508 году ещё были целы. Короче, молодость Савольдо (когда он приехал во Флоренцию, ему было лет двадцать пять – тридцать) прошла в самой гуще художественной жизни, и, когда он приехал в Венецию где-то около 1540 года, он должен был, наверное, почувствовать себя так же, как приехавший в Нью-Йорк в годы, скажем, 1930-е, европейский художник, проведший несколько лет в Париже. В его произведениях, отличающихся высочайшим качеством – проходных произведений у него немного, – чувствуется не только знание maniera grande, но и способность очень своеобразно, по-ломбардски, maniera grande переосмыслить и выдать результат просто удивительный. Особым успехом он, судя по всему, при жизни не пользовался, Вазари о Савольдо практически ничего не знает и ничего не говорит. Теперь же Савольдо – гордость Брешии и прочно вошёл в число крупнейших брешианских художников, но среди венецианцев – а к венецианской школе он принадлежит даже в большей степени, чем к брешианской – Савольдо начинает второй ряд с конца, будучи в рейтингах популярности поставлен ниже не только Тинторетто, Веронезе и Лотто, которому он, уступая в оригинальности, талантом, в общем-то, равен, но даже и Якопо Бассано.
Картина «Рождество» в церкви ди Сан Джоббе – первоклассный образец живописи Савольдо. Она изображает в одно и то же время и Иосифа с Богоматерью, поклоняющихся только что появившемуся на свет Младенцу, и пастухов, пришедших приветствовать Спасителя. Пейзаж вокруг хижины, давшей приют Святому Семейству, погружён в сгущающиеся сумерки: ночные сцены Савольдо особенно удавались, он чуть ли не первый стал изображать ночь во всей её привлекательной таинственности, используя тревожную красоту эффектов ночного освещения, и считается прямым предтечей Караваджо, на которого явно оказал влияние. Картина датируется где-то 1540 годом, то есть «Рождество» – одно из первых произведений, созданных Савольдо в Венеции, и, являясь своего рода tour de force, она должна была продемонстрировать способности мастера. В «Рождестве» Савольдо явил Венеции понимание флорентийской «величественности», grandezza. Словечко grandezza вошло в лексикон художников именно в связи с картонами Микеланджело и Леонардо, оттеснив словечко grazia, «изящество», со времён Альберти считавшееся главным в определении достоинств живописи, на второй план. Объяснить, что такое grandezza, сложно, но важно для понимания итальянского искусства: очень сильно упрощая, можно сказать, что grandezza – это отказ от внешней привлекательности в пользу внутренней сосредоточенности. С точки зрения grandezza «Битва при Кашине» Микеланджело, сосредоточившегося на абстрактном переживании пластики человеческого тела, произведение гораздо более во всех отношениях продвинутое, чем «Битва при Ангиари» Леонардо, всё ещё слишком много внимания уделяющего рассказу. Grandezza Савольдо ощутима в точно рассчитанной композиционной уравновешенности его фигур, очень крупных и очень пластичных, в желании высказываться открыто и свободно, с лапидарной ясностью, не мельтешить. Чего только стоит по-брешиански серая, простая, украшенная лишь двумя щербинами, каменная плита, на которую облокотился Иосиф и которая служит фоном для фигурки Святого Младенца: помещённая в центре картины, она настраивает лад этого произведения, его суровую красоту, – и Савольдо должен был оказаться в венецианском мейнстриме, ибо Венеция о grandezza несомненно слышала и её желала. Однако grandezza Венеции была чужда. Венецианская живопись концентрировалась на именно ей свойственной внутренней неуловимой многозначности, создавая сцены, получившие название poesie, «поэзи́е», с обязательным ударением на «и» и во множественном числе, в наиболее совершенном виде явленной в искусстве Джорджоне. После смерти Джорджоне, в картинах его бесчисленных последователей, поэзи́е стали превращаться в ловкий приём, всё более и более девальвирующийся. Тициан, бывший лет примерно на пять моложе Савольдо, давно уже это почувствовал, и в своей «Ассунте» из базилики Санта Мария Глориоза деи Фрари явил пример венецианского понимания grandezza, от флорентийского сильно отличающийся, – так что Савольдо как раз со своим флорентийским опытом вовремя подоспел. Но глубокая оригинальность трактовки Савольдо новомодной grandezza, как часто случается у художников слишком одарённых, мало кем была оценена. Флорентийскую моду он воспринял не поверхностно ловко, как многие флорентийские маньеристы, тот же Вазари, имевший чуть позже бешеный успех в Венеции, но переосмыслил согласно своему строгому брешианскому опыту, превратив её в нечто совсем уж необычное. Ординарной публике то, что хотел сказать Савольдо, было невнятно, так что его искусство оказалось гораздо менее востребованным, чем искусство мастеров более заурядных и в силу этого более понятных. «Рождество» из Сан Джоббе должно было казаться обывательскому венецианскому вкусу – а именно этот вкус всегда диктует правила – слишком тяжеловесным и обыденным, то есть, попросту говоря, некрасивым, и единственным достоинством, которое признавали за Савольдо – и, кстати, многие историки искусства и сейчас, совершенно не осознавая, что вторят венецианской обывательщине XVI века, делают то же самое, – было его умение изображать ночную атмосферу и вечереющие пейзажи. Чёрт с ними, с обывателями, но признанием величия «Рождества» Савольдо стало то, что великая картина Караваджо, его «Поклонение пастухов» из Музео Национале в Мессине, вторит, пусть и не прямо, пониманию grandezza Савольдо. Это заметили, и история искусств тем самым, через Караваджо, самого популярного сейчас художника Италии в мире, Савольдо реабилитировала. Меня же в Natività Савольдо притягивает Младенец, лежащий на по-брешиански холодно написанной белой пелёнке, очень беззащитный, голый, находящийся вне всего происходящего в картине и в то же время являющийся центром всего. Своей неземной отстранённостью Младенец из Сан Джоббе напоминает мне другого Младенца, худую, трогательную и величественную голенькую куколку из «Алтаря Портинари» Гуго ван дер Гуса из Уффици. Младенец Гуго ван дер Гуса, лежащий прямо на каменных декабрьских плитах, застланных только исходящим от Него сиянием, прямо в центре образовавшегося вокруг священного безмолвия, заставляющего всех, и силы небесные, и силы земные, несколько отступить в почтительном поклонении перед беззащитностью новорождённого, – самый великий Младенец во всей мировой живописи. «Алтарь Портинари» был заказан для Флоренции, во Флоренции находился, и Флоренция, несмотря на всю для неё, Флоренции, инакость искусства Гуго ван дер Гуса, «Алтарём Портинари» восхищалась, так что Савольдо, проведший во Флоренции столько времени, несомненно его видел. Утверждение о созвучии «Алтаря Портинари» и алтаря Сан Джоббе звучит как некий парадокс, – и я дарю его размышляющему читателю. Кстати, жена у Савольдо была фламандка, Marija fijamenga de Tilandrija, это мы знаем из документов.
Мурыжить столь долго читателя перед картиной Савольдо и на Кампо Сан Джоббе вообще меня заставляют не только исключительные качества того и другого, и даже не то, что в них для меня содержится beginning is my end Венеции, а то, что это место и эта картина – а картина Савольдо с её отстранённостью, закрытостью и поэзией строжайшей простоты очень джоббиста, очень «Разве у Тебя плотские очи, и Ты смотришь, как смотрит человек?» – с их закрытостью и насыщенностью идеально моделируют то, что в философствующем литературоведении считается архетипом и получило специальное название, «Иов-ситуация». Вот эта Иов-ситуация, очень важная для понимания Венеции, и держит меня столь долго перед Сан Джоббе, ибо Сёрен Кьеркегор сказал, что Книга Иова содержательней философии Гегеля, подразумевая под этим крайнюю суггестивность этого литературного произведения (ибо, замечу в скобках, сравнение с Гегелем подразумевает литературность, тем самым священность за скобки вынося). Суггестия – это воздействие на разум и воображение человека посредством ассоциаций, укоренённых в подсознании, и слово это я лично не слишком люблю, так как с юности помню защиту одной диссертации, на которой рецензент сказал о диссертанте, что «суггестивность» прилипла к кончику его пера. Диссертация была о ван Гоге, конечно же, и с тех пор суггестивность мне кажется к чему-то прилипшей, хотя, увы, без этого понятия в Венеции трудно обойтись. Замкнутость и отрешённость Кампо Сан Джоббе венецианскую суггестию в себе выкристаллизовывает, как Книга Иова выкристаллизовывает мудрость человечества, и к тому же после встречи с «человеком из земли Уц, который был знаменитее всех сынов Востока», куда же идти, как не в Гетто? – хотя сама церковь никакого отношения к Гетто не имеет.
Почему Иов святой, если он не был христианином? – этим вопросом в невежестве своём я не раз задавался и специально полез за разъяснениями. Оказалось, что в христианстве, как католическом, так и ортодоксальном, понятие святости не связано с обязательным воцерковлением и поэтому святыми считаются и Адам, и Ева. Впрочем, церкви святым иудеям всё же не слишком часты, а в Венеции их полно: святой Иов, святой Иеремия, святой Захария – и это выдаёт некое особое отношение Венеции с народом Израиля. Действительно, печальное слово «гетто» венецианского происхождения, в Венеции оно родилось, и происходит от Ghetto Nuovo, Новая Литейная, как назывался островок, выделенный венецианским Сенатом для концентрации там евреев, которых в Венеции было великое множество. Событие это датируют предельно точно, 29 марта 1516 года, когда Сенат издал указ, обязывающий всех евреев селиться только в установленных пределах: тяжёлые последствия этого начинания нам известны, так как вскоре вся Европа подхватила венецианскую инициативу. Дата неслучайна, ибо именно в этом году закончилась цепь войн Камбрейской лиги, и Венеция, ранее старавшаяся держаться от папского престола подальше и даже открыто с папами воевавшая, стала всё более и более сближаться с Ватиканом. Сближение в конце концов привело к созданию Лега Санта, Lega Santa, Святой Лиги, объединившей Ватикан, Испанию Филиппа II и республику Венецию в борьбе с турками; борьба с турецким нашествием, не на шутку угрожавшим Европе XVI века, дело хорошее, и увенчала Святая Лига свою деятельность событием весьма достославным, битвой при Лепанто. Победа при Лепанто турок остановила и стала самой что ни на есть великой венецианской победой во всей истории республики, за неё вся Европа должна сказать Венеции спасибо, но Венеция, до того такая независимая и свободная, теперь оказалась в стане консерваторов такого пошиба, что их впору мракобесами назвать. 29 марта 1516 года стало одним из шагов на пути этого сближения, так как указ о создании Гетто (которое ещё в гетто не превратилось) был вызван желанием угодить испанцам, евреев ненавидевшим, и Ватикану, плясавшему под испанскую дудку. В Венеции вообще всегда было много иудеев, так как республика относилась к ним лояльнее, чем другие христианские государства. В конце XV века, после принятия Гранадского эдикта 1492 года, предписавшего насильственное изгнание под страхом смертной казни всех иудеев из Испании, подписанного королём Фердинандом Арагонским, а инспирированного королевой, Изабеллой Кастильской, получившими за свои богоугодные дела подобного рода прозвище Католических и бывших самыми настоящими фашистами, то есть после исторического начала европейского Холокоста, в Венецию хлынула масса испанских евреев, образованных, способных и богатых. Возвращаясь к святости Сан Джоббе, я хочу указать, что Венеция испытывала давнее почтение к иудейской мудрости и к культуре иудаизма, испанские изгнанники усилили еврейское влияние в республике, испанцы и папа потребовали с этим разобраться, и Венеция вынужденно пошла на некий компромисс, затем обернувшийся преступлением против человечества.
Кампо Гетто Нуово
Вот в общих чертах те исторические предпосылки, что привели к появлению венецианского Гетто, сначала теснившегося в границах островка Гетто Нуово, но затем разросшегося, включившего в себя Гетто Веккио, Ghetto Vecchio, Старое Гетто, которое оказалось – опять же парадокс венецианского времени – моложе Гетто Нуово (ибо при создании Гетто Веккио это всё ещё была Старая Литейная, отданная евреям вслед за новой, а не гетто), и Гетто Новиссимо, Ghetto Novissimo, Новейшего Гетто, созданного в 1633 году и с Литейными уже не имевшего ничего общего, ибо Гетто в гетто превратилось. Естественными границами трёх островов было очерчено строго предписанное место поселения евреев в Венеции, острова были отделены от остальной Венеции цепями, преграждающими путь по мостам, и решётками, закрывающими ворота в Гетто после определённого часа. До наступления темноты вход и выход из Гетто ничем не ограничивался, и условия для проживания евреев в Венеции были не самыми мрачными в Европе. Иудейская община блюла свою отгороженность от остального мира даже строже, чем власть республики, сама не выпускала своих сынов и дочерей за пределы Гетто, и население Гетто росло и росло, как за счёт рождаемости, ибо еврейские женщины плодовиты, так и за счёт приезжих. Места же в Венеции было немного, и то, что уже в XVI веке на трёх небольших островках сконцентрировалось более пяти тысяч человек, привело к тому, что дома в Гетто полезли вверх, достигая восьми этажей, что для Венеции, да и вообще для Европы, было в диковинку. Эти дома, возникшие в XVI–XVII веках, называют «венецианскими небоскрёбами», они сохранились до сих пор, и венецианское Гетто и сегодня одно из оригинальнейших мест в Венеции, обладающее своим особым, плотным, тяжёлым и мрачным очарованием. В Венеции, городе и без того двойственном и зыбком – экзотичном, одним словом, Гетто было экзотикой в экзотике, местом пугающим и пленительным, чуждым, опасным, красочным; там царила смесь роскоши и нищеты. Многие современники описывают еврейские небоскрёбы, из окон которых высовывались красивые еврейки, чьи уши, руки, волосы и шеи отягчал избыток золотых украшений, но золото золотом, а существование внутри этих небоскрёбов, лишённых удобств и перенаселённых, как тюрьмы моего отечества, настолько, что членам одного семейства приходилось чередовать время сна, ибо всем улечься в одно и то же время просто места не хватало, было невыносимым. Гетто манило венецианцев и путешественников, прогулка по Гетто была специальным развлечением светской Венеции, и о значении этого странного места в мифологии Венеции очень хорошо написал в своей книге Питер Акройд, к которому я читателя и отсылаю.
Наполеон, поддерживая свой имидж либерала-реформатора (которым он не был, но имидж оформил настолько удачно, что все евгении онегины считали своим долгом, дабы выказать свой либерализм, водрузить на этажерку чугунную куклу рядом с портретиком Байрона), венецианское Гетто после аннексии республики в 1797 году упразднил. Шаг, несомненно, прогрессивный. Либералы, в том числе и молодые либеральные евреи, в воздух чепчики бросали, консерваторы, в том числе и иудейские, шипели. Еврейская община была консервативна и совсем не рада Наполеонову новшеству, но молодёжь было не сдержать, Гетто быстро опустело, и хотя австрийцы, пришедшие к власти в Венеции после Венского конгресса, его восстановили на недолгое время, снова упечь всех евреев в гетто (теперь уже гетто, не Гетто) не смогли.
В дальнейшем Гетто перестало быть еврейским районом, оно заселилось пришлым населением, и шестнадцативековые небоскрёбы были приведены в соответствие требованиям норм современной гигиены. Сейчас венецианское Гетто заново обживается еврейской общиной, там находится несколько синагог, еврейских школ и еврейских магазинов, выглядящих так же ново, как Монумент жертвам Холокоста. Но мрачные небоскрёбы стоят, и особое чувство возникает на подходе к Гетто в узких проходах, различных калле (специальное венецианское название для улочек-переулков) и соттопортего («проход», так называются переулки, но крытые, как бы прорубленные в толще зданий), ответвляющихся от Рио Терра Сан Леонардо, Rio Terra San Leonardo, и Рио Терра Форсетти, Rio Terra Forsetti, двух широких улиц, ведущих от вокзала к Пьяцца Сан Марко, по которым и валит основная толпа туристов. Толпе до Гетто нет никакого дела. Обе улицы образованы как раз на месте каналов, когда-то острова Гетто от Венеции отделявших, о чём свидетельствуют их имена, включающие словосочетание «рио терра». «Рио», – как в Венеции называются все каналы, кроме Канале Гранде и Каннареджо, ибо только два этих – настоящие каналы, остальные же недоканалы, рио, – и совмещение «рио» с «терра», «землёй», можно перевести как «земляной канал», то есть канал, засыпанный землёй. На сухопутных теперь улицах Рио Терра Сан Леонардо и Рио Терра Форсетти царит стандартный туристический гвалт, но они до сих пор как будто отрезают Гетто от мира, потому что в узких проходах отбегающих от них, в тёмных калле, calle, переулках – настороженная тишина. В силу резкости звукового перепада, молчание калле гипнотизирует. Пройдя лабиринт экс-еврейских улочек и перейдя теперь уж не перегороженный цепями мост через сохранившийся канал, Рио ди Гетто Нуово, Rio di Ghetto Nuovo, отделяющий островок Гетто Веккио от островка Гетто Нуово (помните, что Веккио моложе Нуово), оказываешься на Кампо ди Гетто Нуово, Campo di Ghetto Nuovo, довольно большой площади, лицом к лицу с небоскрёбами времён маньеризма, то чувство трагического умиротворения охватывает тебя и «Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки» мреет в воздухе.
Трагичность библейской суггестии.
Самое суггестивное место на земле – Иерусалим, точнее – его Старый город. Еврейские кварталы всего мира сохраняют связь с Иерусалимом, и в них уровень суггестии повышается на много градусов – это чувствуется даже там, где гетто исчезли: в Праге, в Амстердаме, в Варшаве. Даже то, что осталось, выражается столь весомо, что вид пражского Старого еврейского кладбища пробьёт самую бесчувственную скотину; недаром один из величайших мировых пейзажей, написанный Якобом ван Рейсдалом, носит название «Еврейское кладбище», хотя изображённое им кладбище отнюдь не еврейское, судя по развалинам готического собора, маячащим несколько поодаль. Название исторически прилипло в силу особой выразительности рейсдаловской картины, которая посуггестивней любого пейзажа ван Гога будет, и этой же суггестией наполнено венецианское Гетто, сейчас, кажется, оставшееся наиболее полно сохранившимся гетто в мире, ибо даже в Иерусалиме еврейская часть старого города до основания разрушена и отстроена вновь уже в 60-е годы.
Вместе со словами Книги Иова в Гетто мреет и величественный монолог Шейлока: «Разве у еврея нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? … Если нас уколоть – разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать – разве мы не смеемся? Если нас отравить – разве мы не умираем?» Шейлок – трагический герой, вовлечённый в архетип Иов-ситуации, и о «Венецианском купце» не вспомнить в Гетто невозможно. Само Гетто прямо в пьесе не упоминается (лишь косвенно, мы знаем, что Шейлок с дочерью Джессикой живут в особо охраняемом месте, из которого Джессика бежит), да и Шекспир, если он был Шекспиром, а не каким-то там лордом, в Венеции никогда не был. Чувствуется ли это? Я бы сказал, что нет, не чувствуется, но был ли, не был, не важно, в этой гениальной пьесе есть очень точное ощущение венецианской карнавальной декоративной пустоты, что вертит всеми персонажами, за исключением грандиозного Шейлока. Антонио со своим идиотским антисемитизмом и тупым противостоянием банковской системе вызывает весьма относительную симпатию лишь старческими платоническими вздыханиями по молодому и ничтожному жиголо Бассанио. Порция – расчетливая стерва, желающая заполучить мужа, которым можно будет управлять как марионеткой, и настырно этого добивающаяся, Джессика с Лоренцо – парочка мелких мошенников, так же как и Порциева Нерисса, суд в Венеции – несправедлив и безрассуден, и безрассудна вся эта история, кружащаяся в пёстром вихре, так что мне кажется, что все, кроме Шейлока, выряжены в тряпки Миссони, и ни у кого, опять же за исключением Шейлока, ничего, кроме тряпок Миссони, в голове нет. Шейлок же, великий и трагичный Иов, несправедливо обобранный, ибо все аргументы Порции на суде – полная чушь с точки зрения любого юридического кодекса, преданный и оболганный любимой дочерью (и в кого же уродилась такая вертихвостка?), вызывает восхищение. Причём только Шейлок во всей этой пустой венецианской компании занят делом. Остальные проживают не нажитые ими деньги, Антонио только по Бассанио вздыхает да ждёт прибыли от своих кораблей, сам палец о палец не ударяя, Бассанио охотится за приданым, Порция тратит на смазливого бездаря доставшиеся от папаши деньги, Лоренцо с Джессикой вообще воруют, и Шейлок, произнеся передо мной на Кампо ди Гетто Нуово свой монолог, удаляется, обнищавший, как Иов, и столь же величественный, чтобы опять всё с нуля начать, и вскоре, как и Иов, всё себе вернуть с помощью Бога и своей работоспособности и возвратиться Ротшильдом, дабы показать всей этой компашке хихикающих победительниц-победителей кузькину мать. Монолог на Кампо ди Гетто Нуово мой Шейлок произносит так же, как Аль Пачино в фильме Майкла Рэдфорда «Венецианский купец», – гениально (Бассанио же в моей версии должен играть Данила Козловский, у него хорошо выходит и Лоренцаччо, и Духless), и всё это столь пропитано суггестией, что я больше уже не хочу утомлять читателя венецианско-иудейским величием в падении, а пойду дальше, в глубь Каннареджо, перейду Рио делла Мизерикордиа, Rio della Misericordia, Канал Милосердия, и Рио делла Сенса, Rio della Sensa, Канал Вознесения, чтобы по Фондамента деи Мори, Fondamenta dei Mori, Набережной Мореев, добраться до любимейшего места в Венеции, совершенно меня завораживающего, до Кампо деи Мори, Campo dei Mori, Площади Мореев – именно так, Площадь Мореев, то есть греков, происходящих с Пелопоннеса, и должно переводиться это название, а никак не Площадь Мавров, как это повсеместно в России делается.
Глава третья Сага о потерянном носе
Нос. – Благочестивая вдова и три кровососа. – Искупление Риобы. – Ария майора Ковалёва. – Ка’ Мастелли о дель Камелло. – Джульетта и Ренессанс. – Верблюжатник и его тысяча вторая ночь. – Фата Моргана. – Страх кастрации. – L’Amour des trois oranges. – Кампо делл’Аббациа. – Казино дельи Спирити. – Художественный любовный треугольник. – Чиветта. – Санта Мария ди Назарет и chierichietto
Отовсюду выскакивал преназойливый нос.
Носы протекали во множестве: нос орлиный и нос петушиный; утиный нос, курий; и так далее, далее…; нос был свернутый набок; и нос был вовсе не свернутый: зеленоватый, зеленый, бледный, белый и красный.
Андрей Белый. ПетербургНос сбежал. Носится где-то в городе уже не первое столетие, шуршит в соттопортего, скачет по ступеням спусков, ныряет в воду и быстро, как водяная крыса, разрезает зелень венецианских каналов, высоко задрав ноздри, чтобы вода не попала, оставляя за собой след из двух расходящихся волн, совсем слабеньких, на морщинки похожих. Нос быстро карабкается по водосточным трубам, трусит по карнизам, перебегает с крыши на крышу и, иногда перепрыгивая узкие проулки, забирается на фронтоны церквей. Там, устроившись на голове какого-нибудь мраморного святого, очень глупо выглядящего с Носом на голове, он греется на солнышке и отдыхает, всего несколько секунд, чтобы его никто не успел заметить, и снова семенит дальше, шмыгает мимо туристов, пугающихся и принимающих его за крысу. Разглядеть, что это Нос, никто не успевает. Разглядели Нос в Венеции пока только два человека, Гоголь и я.
Риоба
Нос прыгнул в Рио делла Сенса, когда точно – неизвестно; некоторые считают, что в начале XIX века, но, может быть, и на несколько столетий раньше. Принадлежит же он Сеньору Риобе, Il Sior Rioba, Иль Сьор Риоба, – так прозвали венецианцы Антонио Риобу Мастелли, одного из членов очень богатого купеческого семейства, приехавшего в 1113 году в Венецию из Мореи, как именовался Пелопоннес в Венецианской республике. Мастелли в Венеции поселились и вскоре приобрели колоссальное влияние; им принадлежал целый квартал в Каннареджо, частью которого являлось Кампо деи Мори, в их честь и названное. Из всего семейства наиболее известны Антонио Риоба, так же как и его два брата, Санди и Альфани, благодаря следующей истории. Три этих брата были большими мастерами «обманов, слез, молений и проклятий», этакие три Скупых рыцаря. Когда они жили, опять же мне (да и никому, кажется, в мире) точно неизвестно, где-то в веке тринадцатом-четырнадцатом, но были большими душегубами. Однажды принесла одна вдова Риобе дублон старинный, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шёл дождь, и перестал, и вновь пошёл, притворщица не трогалась; Риоба мог бы её прогнать, но что-то тут шептало, что мужнин долг она всё ж принесла и не захочет завтра быть в тюрьме, – Риоба дублон тот получил и был вдовою проклят. Вдова была очень богобоязненна, с колен поднялась и пошла к вечерней мессе в соседнюю церковь Мадонна делл’Орто, chiesa della Madonna dell’Orto, церковь Огородной Мадонны, снова на колени опустилась и вознесла молитву святой Марии Магдалине. Услышав рассказанную вдовой историю, Магдалина, вне себя от возмущения, побежала к Пречистой Деве, поделилась, и Дева тут же обо всём доложила Господу Нашему. Возмездие себя ждать не заставило, и вот вам результат: трое Мастелли обратились в каменные статуи и встали рядком в нишах дома, им же и принадлежавшего. Дом выходит фасадом на Кампо деи Мори и называется Ка’ Мастелли, Ca’ Mastelli, Домом Мастелли. Трёх наказанных Мастелли и сегодня можно видеть на прежних местах; позже к ним присоединился ещё один. Одни считают его четвёртым Мастелли, другие – слугой братьев. Бог Риобу продолжал наказывать, и, в довершение всех Риобиных несчастий, у него ещё и нос убежал. О том, как это случилось, я расскажу чуть позже, но все Риобу знают с налепленной ему на лицо очень грубой железякой, форма которой столетиями не меняется. Риоба походит на страдальца после пластической операции, а также напоминает несчастного майора Ковалёва, каким его обычно представляют режиссёры оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича.
Кампьелло Сант’Анжело
Четвёртая фигура на Кампо деи Мори стоит несколько поодаль, не на площади, а на Фондамента деи Мори, идущей вдоль Рио делла Сенса. Не имея прямого отношения к семейству Мастелли, эта статуя от трёх Морейцев сильно отличается по стилю, и она явно уже изображает какого-то азиата, турка или мавра, судя по тюрбану и несколько исламизированному одеянию, хотя в трёх Мастелли ничего особо ориентального нет. Четвёртый из Mori поставленный несколько позже, находится в какой-то связи не с Ка’ Мастелли, а с домом Тинторетто, расположенным уже не на Кампо, а как раз на набережной. Предположение, что это слуга трёх братьев, заодно с ними окаменевший, мне кажется чересчур жестоким. Зачем Господу слугу наказывать? Я больше люблю другой вариант легенды.
Даже без Морейцев острый треугольник Кампо деи Мори, обнесённый обыкновенными, но венецианскими, домами и с древним колодцем в центре, давно закрытым, как и все венецианские колодцы, очень хорош, но четыре скульптуры придают площади совсем уж непередаваемый аромат. Пленительные бредни книги Марко Поло, сказок Карло Гоцци и романа Итало Кальвино – всё тут, и я от этой площади дурею, так что каждый раз, оказываясь в Венеции, стараюсь до неё добежать. На Кампо деи Мори я в общей сложности провёл немало часов, и даже остерию Л’Орто деи Мори, L’Orto dei Mori, «Огород Мореев», посетил. Остерию не буду ни ругать, ни хвалить, но я всегда приятно поражаюсь, насколько редок турист в этом месте в Венеции.
Однажды я около двух часов на Кампо деи Мори проторчал и отметил – я специально за этим наблюдал, хотя и был занят другими делами, – что за всё это время по площади прошло, дай-то Бог, с десяток человек, притом что был день самого что ни на есть высокого сезона и на Сан Марко в это же время было не протолкнуться. На каменных Мастелли никто даже и не взглянул, все пёрли в церковь Мадонна делл’Орто смотреть украденного из неё Беллини, – туристическая переполненность Венеции относительна, как и всё в этом городе. Нельзя сказать при этом, что Кампо деи Мори неизвестно: прекрасные скульптуры и их история уже достаточный повод, чтобы площадью заинтересоваться, но Кампо деи Мори ещё к тому же прославилось в Венеции тем, что именно вокруг Риобы, под Риобой, над Риобой и на Риобе венецианцы с незапамятных времён вывешивали различные листовки с руганью на правительство, на частных лиц, да и вообще на кого и на что угодно. Началось это в незапамятные времена, но продолжается до сих пор, хотя теперь венецианцы мало чем возмущаются. Риоба был связан с подпольем, отважно работал даже во времена Муссолини и оккупации Северной Италии Гитлером, чем, надеюсь, вину перед вдовой с дублонами хоть отчасти искупил. Венеция его очень любит, но в 2010 году он стал жертвой варварства: ему отпилили голову. В городе поднялась нешуточная волна возмущения, и венецианцы везде, где только можно: в прессе, интернете, – пообещали с подлецами расправиться помимо полиции. Подлецы, испугавшись, выбросили голову в канал, тем самым повторяя поступок цирюльника Ивана Яковлевича, спустившего нос майора Ковалёва в Неву с Исакиевского моста. Иван Яковлевич, правда, в отличие от подлецов, ни в чём не был повинен. Голова в канале была обнаружена и снова к Риобе приставлена, безносая, как полагается.
Окаменевший скупец-кровосос с века шестнадцатого стал воплощением свободы слова, и играл в Венеции ту же роль, что в Риме играл Пасквино, Pasquino, как народ прозвал древнеримский торс, стоящий недалеко от Пьяцца Навона, известный тем, что от него и произошёл термин «пасквиль», ит. pasquillo, пасквилло, теперь разошедшийся по всему миру. Риоба был городским сплетником, довольно гнусным, не без некоторой, правда, подкупающей оппозиционности к власти, но во время аннексии Венеции Австрийской империей его деятельность очистилась от пасквильной желтизны, и он, начавший вовсю крыть австрийцев, отныне стал олицетворять утраченные венецианские свободы. Произнести «Говорит Риоба», Rioba parla, было что-то вроде как сказать при Брежневе «говорит Радио “Свобода”». На гребне итальянской ненависти к австриякам Риоба обрёл общеитальянское значение, о нём узнали в Милане, Флоренции и Риме, и мог ли Гоголь с ним не встретиться? Что ж, Гоголь мог Риобу и не знать, но Риоба Гоголя знает, и в те два часа, что я на Кампо деи Мори болтался, я отчётливо расслышал, как Риоба выводит не слишком сильным, но чистым баритоном душераздирающую арию майора Ковалёва: «Боже мой, Боже мой, за что такое несчастье! Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше, а без носа человек чёрт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, просто возьми и выброси за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или я сам был причиною, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть, невероятно, чтобы пропал нос, никаким образом невероятно. Это или во сне снится или просто грезится… Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытирают после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил её… Экой пасквильный вид!»
И рыдания оркестра, невесть откуда на Кампо деи Мори взявшегося.
Текст арии, как вы видите, чуть ли не буквально совпадает с текстом повести Гоголя, поэтому слова, которыми Риоба закончил свой музыкальный вой, «экой пасквильный вид!», поразили меня в самое сердце. Конечно, пасквильный! – Гоголь слов на ветер не бросает, и тут же я увидел то, что и Гоголь наверняка в Венеции видел, а именно: мимо меня, волоча за собой сумку на колёсиках, троллей, прошествовал Нос. Нос был длинноног, облачён в короткую юбку, чёрные мокасины и выглядел потрясающе. «Как подойти к ней? – думал я. – По всему, по ногам, по мокасинам видно, что она покруче статского советника». Я даже привстал, готовый за Нос устремиться, но, пока я думал, Нос уже была далеко. «Да и чёрт с ним, а что я сделаю? Не возвращать же нос Риобе, всё равно ему его приставить не удастся, пусть страдает и поёт», – решил я и снова опустился на парапет спуска, vis-a-vis дворца с верблюдом, которым я и любовался, размышляя над звуком Венеции.
Дворец этот, Ка’ Мастелли о дель Камелло, Ca’ Mastelli o del Cammello, Дом Мастелли или Верблюда (в отличие от просто Ка’ Мастелли на площади), также принадлежал морейскому семейству. Вход в него ведёт с Кампо деи Мори, но фасад выходит на Рио Мадонна делл’Орто, Rio Madonna dell’Orto, Канал Огородной Мадонны. Сегодняшний вид здания относят к XV веку, и в общих чертах это правильно, хотя мало что так неправильно, как этот дворец, даже в Венеции. Наверняка ещё до XV века на его месте был какой-то другой Ка’, и нечто от средневековья – хотя всё кватроченто в Венеции очень готично, Рёскин это правильно отметил – сквозит в облике Дома Верблюда, колоннада которого во втором этаже (первом по-итальянски) очень ренессансна и легка, чуть ли не по-флорентийски, а колоннада в третьем (втором по-итальянски), так же как и обрамления боковых окон, готична и тяжеловесна, напоминает о пышности дворца Дожей. Несообразность: ренессансен нижний этаж, естественно воспринимающийся как построенный раньше, а готичен верхний, должный быть более поздним. К тому же верхний по размерам намного больше нижнего, что всегда в архитектуре необычно, и в данном случае кажется, что готика ренессанс придавила – и на таких несоответствиях, на полной асимметрии, и строится очарование архитектуры этого дворца, чудесного венецианского каприччо. Два фрагмента вмонтированы в антаблемент второго этажа: круглый рельеф, патера, очень византийский и архаичный, хотя и относящийся к XII–XIV векам, с вырезанным на нём павлином соседствует с тондо из красного веронского камня, относящегося к XV веку. Византинизм патеры рассказывает о чём-то совсем древнем, о временах Четвёртого крестового похода, то есть о «времени около 1200 года», когда Константинополь был с подачи Венеции разграблен, семейство Мастелли очень поднялось, развернулось и принялось вовсю из вдов дублоны выдавливать, а веронское тондо говорит о Ренессансе и о Джульетте, какой её изобразили Дзеффирелли с Нуриевым, о боттичеллиево-кватрочентистской героине с судьбой прекрасной и трагичной.
В Италии каждый балкон норовит рассказать о Джульетте. Вообще-то «Новонайденная история двух благородных влюблённых и их печальной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео делла Скала», написанная вичентинцем Луиджи да Порто, первым придумавшим Джульетту Капулетти и Ромео Монтекки в самом начале XVI века (Шекспир у да Порто их и позаимствовал), ясно говорит, что Джульетта была средневековой девушкой из жестокой хроники времён душегубца делла Скала, то есть жила «около 1300 года», когда этот тиран Вероной правил. Шекспировская Джульетта тоже никогда не была боттичеллиевой и кватрочентистской, так как была красавицей времён королевы Елизаветы I, то есть «около 1600 года», очень искусно набеленной и нарумяненной, ибо красавица была юношей, как в елизаветинском театре полагалось, так что ренессансная Джульетта, вдохновлявшая Дзеффирелли с Нуриевым, такая же фальшивка, как и пресловутый её балкон в Вероне. Стиль Дома Верблюда тоже фикция: на том же этаже, что и византийский павлин с веронским тондо, в угол здания вмонтирован настоящий мраморный древнеримский круглый алтарь, ставший пилястрой одного из боковых окон, но асимметричной, как бы раздутой флюсом, ибо вторая пилястра нормальна, скромна и изящна. Экстравагантно и диспропорционально, архитектурная нелепость, но алтарь поставлен замечательно, так что наилегчайшее очарование гирлянд, вырезанных неким античным мастером, наверное, рабом и греком, не пропадает, но даже умело акцентируется. Античный фрагмент, относящийся к самому началу нашей эры, вмонтированный в фасад Дома Верблюда, – часть венецианского каприччо, прихотливого и непринуждённого, но он же и часть очень сложного повествования, прямо-таки культурологического трактата о венецианском Ренессансе, да и Ренессансе вообще, еретически провозглашающего, что Ренессанс и есть каприччо.
В церкви Сан Джоббе я уже говорил о том, что как только начнёшь рассуждать на тему, что такое Ренессанс, то тут же и начинаешь путаться, ибо кто, что и как возрождал никому непонятно, прежде всего самим возрождавшим, и путаница кроется в самой идее Возрождения, абсолютно абсурдной, ибо никогда ничего возродить нельзя. Можно только родить, поэтому Возрождение, то есть Ренессанс, есть лишь умозрительная идея, практикой поддерживающаяся весьма относительно (участь всех идей), и фасад Дома Верблюдов именно об этом и рассказывает. Ренессанс, который претендовал на подлинность «античного духа» с той же настойчивостью, с какой Дзеффирелли и Нуриев претендуют на подлинность «ренессансного духа», имел к античности примерно то же отношение, что постановки обоих имеют к Шекспиру. Никакой Ренессанс эпохой, «которая нуждалась в титанах и которая породила титанов» не был, несмотря на всё красноречие Якоба Буркхарта и следующего за ним Фридриха Энгельса, а был результатом некой интеллектуальной игры, стоящей в ряду других интеллектуальных игр, что человеческому разуму свойственно вести. Ренессанс интеллигибелен и умозрителен, он – идейная (часто трактуемая как идеологическая) фикция, то есть – иллюзия, то есть – обман. Все ренессансоведы, собирающиеся на свои семинары и конференции рассуждать о том, что есть Ренессанс и ренессансный гуманизм, не более чем ловкие мошенники, тратящие деньги спонсоров и налогоплательщиков, но в этом они следуют традиции, ренессансными гуманистами утверждённой: ловко мошенничать и тратить деньги спонсоров и налогоплательщиков на интеллигибельность. Следование традициям ренессансных гуманистов, дармоедствующих при дворах вполне средневековых тиранов, и есть предназначение современных ренессансоведов, но оно же и их оправдание, потому что без традиции этой, которая гуманизм и есть, чем бы стало человечество? Сборищем пещерных людоедов.
Об этом обо всём рассказывает Дом Верблюда, очень увлекательно, Буркхарта переплёвывая. Далее, углубившись в искусствоведение, Дом Верблюда, своей столь уродливо-прекрасно поставленной пилястрой-алтарём сообщив о том, что и стиль Ренессанса интеллигибелен и фиктивен, на этом не останавливается и выступает ещё хлеще, ко всему вышесказанному прибавляя, что и само понятие «стиль», до сих пор никак никем не определённое, интеллигибельно и фиктивно, так что все теоретизирующие историки искусств та же шайка-лейка, что ренессансоведы. Но и на этом Дом Верблюда не успокаивается и, наклонившись к самому моему уху, высказывает мысль столь сложную, что, если бы не её тонкость, я бы воспринял её как личное оскорбление. Дом Верблюда говорит мне: «Вот ты, такой из себя умный, обвиняешь Дзеффирелли с Нуриевым в некой фальши. Но какие у тебя права на подлинность? Вот, посмотри, как я сыграл с алтарём – Дзеффирелли с Нуриевым делают то же самое в меру своих способностей, твои, кстати, превосходящих. В сущности своей и тот и другой ренессансен. На каком основании ты, вместе с различными критиками, можешь судить, что к Шекспиру имеет отношение, а что нет? Ты бы не рассуждал, как критики, а делал что-нибудь» – и тут же, поняв, что он меня расстраивает, Дом Верблюда бросает всякую культурологию и, чтоб меня утешить, принимается за самое увлекательное, за сказку о верблюде. Рассказывается она неровно вмонтированным прямо в стену дворца и давшим ему название горельефом с изображением человечка в чалме, обернувшегося с какими-то словами к гигантскому, совершенно фантастичному верблюду с тюком на спине столь огромным, что он закрывает верблюжий горб, и горельеф этот красноречивей всех византийских павлинов и веронских красных камней.
Когда, каким образом и зачем горельеф очутился на стене дворца, никому не известно. Часть ли он чего-нибудь или это самостоятельное произведение? Привезён ли откуда-то или создан специально для Мастелли? Что значит изображение верблюда: намёк на историю, социум или это некая аллегория? Рельеф очень хорошего качества и близок к работам ломбардца Бамбайи, творца гробницы Гастона де Фуа в Кастелло Сфорцеско. Время и венецианские туманы, истончившие мрамор, придают этому рельефу ещё больше прелести и таинственности: верблюд, Восток, Аравия. Не собираясь вдаваться в теоретическое искусствоведение, Дом Верблюда просто указал мне на то, как сочетается ориентализм горельефа с явно арабскими пропорциями первого этажа, pianterreno, «земляного этажа». Вестибюль-лоджия с резными арками и со ступенями, уходящими в воду, к которым причаливали лодки, – прямо Альгамбра. Востоком веет и от составленных в узкий фриз, обегающий цоколь дворца, мраморных рельефов с различными византийско-арабскими листочками-цветочками, привезёнными, видно, братьями Мастелли из Мореи или из Леванта. Всё говорит о халифах и Гарун-аль-Рашиде – верблюд и его поводырь пришли от них, так же как и одна очень старая, видно, относящаяся ко времени основания дома, мусульманско-индийская деталь: непонятно для чего предназначенная ниша-оконце в самом углу цоколя, имеющая очертания купола мечети и обрамлённая розоватым камнем – Марко Поло и Шёлковый путь. Восточные детали Дома Верблюда, уведя меня от гносеологических отвлечённостей, сложились в некую сказку, тысяча вторую ночь. Вот она.
…Во времена, давно минувшие, где-то на Востоке, в Бахрейне, Кувейте или Катаре, жил юноша, прекрасный сын прекрасных родителей, и всё у него было, и жемчуга, и динары, и сады, полные роз, и красный феррари, и сам он был подобен розе. Была у него и любовь, он любил девушку, которой не было подобных по красоте, прелести, блеску и совершенству и стройности стана. Она была в пять пядей ростом, подруга счастья, и обе половины её лба походили на молодую луну в месяц шаабан; брови её – прыжок гепарда, а глаза – бег газелей. Щёки её походили на анемоны, а рот – на печать Сулеймана; зубы её были точно нанизанные жемчужины, а пупок вмещал унцию орехового масла. Её стан был тоньше, чем тело изнурённого любовью и недужного от скрытых страстей, а бёдра были тяжелей куч песку, и, обратясь лицом, она прельщала красотой своей, а обратясь спиной, убивала расставанием. Но луноликая, солнцу равная, похитив того, кто её видел, прелестью своей красоты и влагой своей улыбки, метала острые стрелы своего сарказма, так как была остра умом и красноречива в словах. Её щеки розовели, и строен был её рост и стан, но чванилась она и в серебряном, и в сафлоровом, и в сандаловом, что на розовом, шитом золотом, и любовь юноши была безответной. Доведённый до ручки её поведением, юноша решил уехать в далёкие края, где всё чужое, что помогает забыть и свои горести, и самого себя, и уехал в Венецию, напоследок сказав девушке, что если она когда-либо передумает, то сможет найти его в доме с верблюдом.
Пока что это единственное внятное объяснение появления верблюда на Ка’ Мастелли, и оно более-менее известно, но Дом Верблюда рассказал и то, что никому другому не рассказывал. Юноша в Венеции, где всё было чужим, страдал и плакал первое время. Но потом отвлёкся, дела, что шли прекрасно, и венецианки-куртизанки утёрли его слёзы, но главным утешителем стало время, что сглаживает наше сердце, как море камни. Сердце юноши стало обкатанным и твёрдым, да и юноша юношей быть перестал, и на розах его щёк появился мускус тёмный, вскоре ставший камфарой. В далёком Бахрейне, Кувейте или Катаре у девушки из-за её характера личная жизнь не сложилась, а она тоже не молодела, так что если раньше, когда бёдра говорили ей «сядь», то стан говорил «встань», то теперь стан безмолвствовал, и, обратясь спиной, она расставанием не убивала, а напоминала корму нефтяного танкера. Поняв, что ничего ей уж не светит, кроме одиночества и менопаузы, девушка собрала манатки и отправилась в Венецию. И вот, не без труда разыскав Дом Верблюда, ибо мой путеводитель ещё не был напечатан, она стоит на том же самом месте, на котором я сижу, и шлёт страстные вздохи окнам, закрытым жалюзи, в Италии, кстати, называемым la tenda veneziana, «венецианская занавесь». За занавесью же прячется весьма возмужавший юноша, которому многочисленные разведённые им домочадцы доложили, что какая-то жирная старуха восточного вида уж давно торчит на противоположном берегу канала. Возмужавший юноша, приподняв планки la tenda veneziana, глядит сквозь них недоуменно – и что же видит? Он узнал моментально, и ужаснулся и молчал, и вдруг заплакал, закричал: «Возможно ль? Ах, ты ли? Где твоя краса и чванство в сандаловом, что на розовом, шитом золотом?», и обомлел от ужаса, зажмуря очи. Старуха же не уходила, и всё стояла, и посылала влюблённые ахи к закрытым жалюзи, и сильно возмужавший юноша не отваживался выходить из дома и всё смотрел сквозь планки на старуху, и, глядя на то, что осталось от той, что когда-то дала ему любовь узнать душой с её небесною отрадой, с её мучительной тоской, он вдруг почувствовал, что испита чаша его жизни и нет смысла далее тянуть лямку, раз ожидание – а оно составляло смысл его жизни – закончилось, причём самым что ни на есть поганым образом. Он почувствовал, как члены его наливаются тяжестью, он не может уж пошевелить ни рукой ни ногой, и, короче говоря, он превратился в четвёртого И Мори на площади, как раз в того самого, что в тюрбане и стоит ближе к дому Тинторетто. Старуха же, уже в Аравии поднаторевшая во всяких науках и премудростях, превратилась в злобную Фата Моргану и теперь шляется по Венеции. Как раз именно она, поскользнувшись, упала во время маскарада при дворе короля Треф в «Любви к трём апельсинам», и вид толстой старухи, растянувшейся на земле с задранной юбкой, был столь уморителен, что рассмешил принца Тарталью, смеяться вроде как и не способного. Фата Моргана прокляла принца, он стал мучаться страстью к трём оранжевым шарам, и это ещё не самое дурное, что она сделала. Она любит досадить, мужчинам особенно, хотя и женщин не жалует, и она вовсю допекала Карло Гоцци, в книге «Бесполезные воспоминания» (о, какая это божественная книга!) сетующего на её преследования: «Если бы я хотел рассказать все промахи и неприятности, которым меня подвергали злые духи, не то что часто, но в каждую минуту моей жизни, я мог бы составить толстый том». Думаю, что и вам в Венеции эта старуха не раз много чего неприятного подкидывала, она беспрестанно по городу елозит, выискивая очередную жертву. Мне она в Венеции досаждала частенько, однажды даже раздавила в сумке грушу, взятую с собой с завтрака в гостинице: груша лежала рядом с наиценнейшим для меня старым путеводителем и измазала его до полного безобразия, а старуха радовалась моему горю. Но я к старухе привык, и она мне даже симпатична.
Говорят также, что именно она Риобу и носа лишила. Всех четверых И Мори старуха, понятное дело, ненавидела, поэтому и устроила так, что нос от Риобы сбежал. Почему не у того, что в чалме? – Фата Моргана сослепу в ночи Риобу со своим аравийцем перепутала (Риоба гораздо заметнее). Объяснять фрейдистский подтекст этого жеста нет смысла, на примере повести Гоголя все сексуальные фрустрации, связанные с пропажей носа, хорошо растолкованы научной литературой, и месть влюблённой женщины уместна и ясна. Прибывшая из Бахрейна, Кувейта или Катара несчастная, сексуально озабоченная старуха, ставшая Фата Морганой, забрала в свои руки венецианский эротизм и управляет им с помощью комплекса кастрации. Именно Фата Моргана ассоциирует запретные желания, коими Венеция полна, со страхом потери носа, приобретающей значение наказания; ведь страх потери носа-пениса становится источником комплекса страха кастрации, любимого комплекса психоаналитиков. Безносый Риоба – одна из первых жертв, но за ним последовали другие, и о весьма своеобразном венецианском ощущении секса, который вроде как есть, но как бы его и нет, весьма доходчиво рассказал Тициано Скарпа. Впрочем, и до него об этом говорили многие. Фигура Казановы, главного венецианского жеребца, вроде как подобным утверждениям противоречит, но вглядитесь в известный профиль Казановы: ну ведь нос носом! Роскошь и импозантность, свойственные этому авантюристу, но как бы ему и не принадлежащие, не напоминают ли они о блеске носа майора Ковалёва во время встречи с хозяином в Казанском соборе? В мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником, замшевых панталонах, при боку шпага и шляпа с плюмажем – чем не Казанова? В том, что Фата Моргана Казановой управляла, нет никаких сомнений, Histoire de ma vie тому подтверждение в двенадцати томах, – ведь Фата Моргана управляет всеми беглыми венецианскими носами, творя из них обольстительные иллюзии. Поэтому и миф о куртизанках Венеции, столь красочно расписанный в литературе, не только не противоречит утверждению иллюзорности венецианского секса, но только подтверждает его, показывая, что венецианский секс есть мираж, фата-моргана. Посмотрите на венецианок Паоло Веронезе, Джованни Кариани, Бонифацио деи Питати, Париса Бордоне, посмотрите, как они вываливаются из своих декольте, такие гладкие, пухлые, невозмутимые и бессмысленные. У них, конечно, на лице не носы, а носики, но само куртизаничье тело – да это ж всё тот же нос. Фата Моргана ими управляет. Они, сами будучи носами, носы у мужчин отнимают. Та Нос, что прошла мимо меня на своих длинных ногах, волоча за собой троллей, была опекаема Фата Морганой, и Фата Моргана же подчинила себе трещание троллей, что катят по Венеции; трески эти – её злые духи, подвергавшие Гоцци промахам и неприятностям, её тролли. Любовь к трём апельсинам, внушённая принцу Тарталье Фатой Морганой, является квинтэссенцией иллюзорного венецианского эротизма, и Фата Моргана принцу в апельсины подсунула, конечно же, носы, потому что принцессы, из апельсинов выскочившие, были не чем иным, как носами. Принц Тарталья, Фата Морганой возненавиденный, по её повелению остался с носом из апельсина и был обречён жить с ним до самой своей смерти. Как и многие другие венецианцы.
Тот же Гоцци с носом остался, и его неудачный роман с Теодорой Риччи был романом с носом. Духи, описанные Гоцци, роятся вокруг Кампо деи Мори и Дома Верблюда, как и во всём Каннареджо, где они чувствуют себя посвободней, чем в других районах Венеции, так как им туристы на ноги не наступают. Когда я иду по набережной вдоль Рио Мадонна делл’Орто, Фондамента Гаспаро Контарини, Fondamenta Gasparo Contarini, которая обычно не по-венециански пуста, вдоль длинного фасада дворца Контарини дель Дзаффо, Ca’Contarini del Zaffo, желтоватого, а летом, в полдень, ярко, до оранжевости, залитого солнцем, я вижу принца Тарталью и Труффальдино, измученных, обливающихся потом, волочащих за собой сетку с тремя громадными оранжевыми апельсинами, как это я видел в постановке оперы Сергея Прокофьева L’Amour des trois oranges в Лионском театре. Здесь, на этих набережных, почти никого нет, одни Тарталья с Труффальдино тащатся под бьющие по нервам оранжевые звуки, и музыка этой, почему-то считающейся оптимистичной, оперы сопровождает меня всю дорогу, пока, через Корте Веккиа, Corte Vecchia, Старый Переулок, и по Фондамента делл’Аббациа, Fondamenta dell’Abbazia, Набережной Аббатства, я пробираюсь на Кампо делл’Аббациа, Campo dell’Abbazia, Площадь Аббатства, и, там усевшись, вытаскиваю свои три апельсина.
Мне кажется, что «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева – лучшая венецианская опера, что существует на земле. Более венецианская, чем оперы Верди, «Двое Фоскари» и «Отелло», которые гремят, как роскошные дворцы на Канале Гранде, но которые какие-то миланско-мандзониевские, поэтому даже и авенецианские. Я не слишком чувствую венецианскость и опер Вивальди, во всяком случае тех, что я видел и слышал, так как и в «Неистовом Роланде», и в «Геркулесе на Термодонте» всё время выходит на первый план что-то общебарочное и общеитальянское, и уж тем более ничего специфически венецианского я не чувствую в моей любимой «Коронации Поппеи» Клаудио Монтеверди, хотя впервые – что важно! – эта опера была представлена именно в Венеции. Вполне возможно, что моё предпочтение «Любви к трём апельсинам» обусловлено не венецианскостью этой оперы, а её венецианщиной, ибо она, кроме того, что творение Прокофьева, также и творение доктора Дапертутто, то есть Всеволода Мейерхольда, и её чикагская премьера на французском языке в 1921 году – последний всплеск угара петербургской венецианщины Серебряного века, до которой в Петрограде уже никому не было дела. Меня, само собою, бередит в опере Прокофьева мирискусническое одурение от Венеции, дистиллированное авангардизмом Мейерхольда и Прокофьева, и оно мою Венецию и определяет – а как же ещё? Я на это обречён, и недаром из Гоцциева апельсина вышла моя бомжиха в Воронихинском садике перед Казанским собором и заставила меня усесться за «Образы Италии XXI». Бомжиха в футболке с надписью Italy is cool мною управляет, она моя Фата Моргана, и в этом моя беда, но и моё счастье. А у кого Венеция чище? У венецианцев, что ли? Прочтя «Венеция – это рыба», я бы этого не сказал, и очень меня книга Скарпы успокоила, потому что я, только получив её, испугался. Произошло это, когда я свою книгу задумывал, и заставило вздрогнуть: вдруг прочту нечто, Венецию исчерпывающее, и что же мне делать? Но начал читать и дрожать перестал: слава Богу, нет, нельзя Венецию исчерпать, можно только множить. Всё очень остроумно и хорошо, но никакая Венеция не рыба, это просто для Скарпы Венеция – это рыба, а на самом деле Венеция – любовь к трём апельсинам.
Кампо делл’Аббациа
Для меня, конечно: апельсины и моя любовь к ним выплывают из детства, из времени, соседнего с декабрьским «Знанием», потому что тогда апельсины были чуть ли не единственными доступными зимой фруктами, этаким полудефицитом, и апельсины прочно ассоциировались с детскими праздниками, главным образом зимними. Круглые яркие шары обязательно были в наборах, что дарили на детских ёлках, и хотя не всегда они были вкусны и даже оранжевы – часто они бывали бледно-жёлтого цвета, цвета стен дворца Контарини дель Дзаффо, если убрать с них солнце: у жёлтых апельсинов кожа была тонкая, плохо чистилась, и сами апельсины были сухие, со множеством плёнок и косточек. Какие бы они ни были на вкус, апельсинам всё равно была свойственна яркость, совершенно отсутствовавшая в декабрьском Ленинграде, поэтому любовь Тартальи, совершенно абсурдная и смешная, с точки зрения итальянца, – по-русски это было бы что-то вроде любви к трём огурцам или трём картошкам, – мне очень близка и понятна. Я в апельсины был влюблён, ибо они каникулы значили, а то, что через апельсины я и в Италию был влюблён, я тогда ещё не осознавал, осознал только сейчас, поэтому и уселся на Кампо делл’Аббациа свои апельсины чистить.
Нет более подходящего места на земле для чистки апельсинов, чем эта площадь. Сюда редкий турист залетает, а если и залетит, то по ошибке. Нечего туристу здесь делать, но что за чудо Кампо делл’Аббациа! Древний колодец с рельефом, прямо-таки позднероманским, готический фасад Скуола Веккиа делла Мизерикордиа, Scuola Vecchia della Misericordia, по-венециански готический, с двумя легкими башенками по сторонам фронтона, состоящего из череды округлостей, что придаёт архитектуре нечто мусульманское, и грубовато-барочный фасад церкви делл’Аббациа делла Мизерикордиа, chiesa dell’Abbazia della Misericordia, церкви Аббатства Милосердия, в середине XVII века украшенный премило неуклюжими скульптурами работы Клементе Моли, который не поскупился на младенцев – на фасаде их множество, – очень толстых и печальных, напоминающих о голицынском барокко. Чудный контраст средневековья и барокко, и площадь вымощена замечательными терракотовыми плитами, а в боковую стену церкви, чуть поодаль от барочного входа, вмонтирован отлично сохранившийся рельеф с Богородицей Орантой, прекрасный и византийский, как павлин на Доме Верблюда, и датируемый тем же, что и павлин, XIV веком: всё разноязыко, стройно и замечательно. Чудесней же всего полная запущенность Кампо делл’Аббациа, по сравнению с которым Кампо Сан Джоббе так просто Лас-Вегас.
С двух сторон Кампо делл’Аббациа ограничена стенами, а с двух – водами каналов, так что это даже как бы и не площадь, а двор, в который можно попасть или через деревянный Понте делл’Аббациа, Ponte делл’Аббациа, Мост Аббатства, или через крытую узкую галерею с готическими колонками, очень живописную, также имеющую имя собственное, Соттопортего делл’Аббациа, Sottoportego делл’Аббациа, и являющуюся частью Фондамента делл’Аббациа. Аббатство и церковь, некогда процветавшие, закрыты, дверь церкви наглухо заколочена досками, но, устроившись здесь со своими апельсинами, я вовсе не хочу утомляться рассказами об упадках и расцветах Аббациа делла Мизерикордиа и снова выслушивать что-то про Иов-ситуацию. В этом месте, совсем уж от всего изолированном, та Венеция, о которой пишут Джон Рёскин, Ипполит Тэн и Томас Манн вслед за ними, то есть Венеция заброшенная, ободранная и бедная, внятна как мало где. Если хочется понять гениев девятнадцативекового гуманизма, стоит сюда заглянуть – ведь мы уже давно Венецию воспринимаем как жирный туристический город, каковым она сейчас на самом деле и стала. Но сейчас Бог с ней, с этой Венецией: мне заброшенность Кампо делл’Аббациа дорога тем, что площадь эта, находящаяся на берегу Канале делла Мизерикордиа, Canale della Misericordia, Канала Милосердия (не путать с Рио делла Мизерикордиа), входящим в широкий бассейн Сакка делла Мизерикордиа, Sacca della Misericordia, Залив Милосердия, даёт возможность увидеть Кази́но дельи Спирити (кази́но, то есть дом, домик, ни в коем случае не казино́), Casino degli Spiriti, Домик Привидений. Поэтому я здесь сижу и чищу апельсины.
Увидеть Казино дельи Спирити, сидя на Кампо делл’Аббациа, можно в общем-то только мысленным взором, ибо найти его трудно, подход к нему закрыт со всех сторон, так как здание, являясь частью огромного комплекса дворца Контарини даль Дзаффо, Contarini dal Zaffo, давно уже превращённого в закрытое учреждение, расположено на его внутренней территории. Архитектура Домика Привидений, который по размерам сойдёт за вполне приличный дворец в три этажа, выглядит просто и непритязательно. За три столетия, что прошли со времени его основания, примерно определяющегося концом XV века, он был строен-перестроен так, что здание сегодня точно датировать невозможно: может быть, век девятнадцатый, а может и шестнадцатый. Впрочем, не архитектура главное достоинство Казино дельи Спирити, а его местоположение, его история и то, как это здание выглядит с вод лагуны – именно с них его только и можно более менее рассмотреть, – когда вечер, зима, туман, на конструкциях, сооружённых из брёвен, изъеденных водой, служащих в Венеции фарватерными знаками, мерцают огни фонарей, и всё становится зыбким и невнятным. Именно тогда рассказы о чертовщине Казино дельи Спирити становятся особо впечатляющими – общая невнятность их проясняет, как это в Венеции часто и бывает, и рассказы эти, реющие над внешне простоватым зданием, столь же увлекательны, как и некоторые венецианские страницы Histoire de ma vie.
Дом этот, конечно же, прибежище Фата Морганы. С Кампо делл’Аббациа увидеть Казино невозможно, но если, обогнув церковь, пройти вперёд до самого упора, до самой воды Сакка делла Мизерикордиа, то кое-что и разглядишь; на Казино можно полюбоваться и с Фондамента Нуове, Fondamenta Nuove, Новой Набережной, заканчивающейся точно vis-a-vis Казино дельи Спирити. Я столь подробно объясняю все возможные варианты встречи с Казино дельи Спирити, потому что мне кажется, что узнав о нём, каждому захочется личной встречи, хотя проще простого посмотреть на него в интернете; захватывающая же его история начинается как раз около 1500 года, когда Казино был выстроен и на тот простецкий трёхэтажный дворец, каким мы его видим сейчас, нисколько не походил. Он был загородным домом семейства Контарини, одного из самых могущественных в Венеции, принадлежавшего к двенадцати знатнейшим, получившим звание famiglie apostoliche, «апостолических семейств», что звучит несколько кощунственно – к кощунствам Венеция до своего вступления в Святую Лигу была, как уже говорилось, склонна. Уединённый домик на берегу залива – а Каннареджо при Контарини считался районом чуть ли не загородным, зелёным и привольным, так что дворцы там дачами служили, – был предназначен для того, для чего уединённые домики бывают предназначены, но Контарини заодно устраивали на своей даче сходки, на которых толпились интеллектуалы не обязательно из апостолических семейств, но и безродные. Бывал там и художник Джорджоне, весьма известный не только своим искусством, но также и своей пригожестью, светскостью, умением музицировать, приятным голосом и любвеобилием, которое было воистину безмерно. Женщины к нему липли, и, что самое главное, он женщин очень любил. Я хочу подчеркнуть то, что Джорджоне относился к тому довольно редкому типу мужчин, которые именно «женщин любят», причём «женщин вообще», а не любят одну конкретную женщину или только те удовольствия, что может женщина мужчине доставить, хотя и к удовольствиям склонны и восприимчивы; к тому же типу относится и Казанова, и именно в этом, а не во внешности или жеребцовых достоинствах и кроется секрет успеха обоих, ибо женщинам черта эта очень симпатична. Самые недалёкие дамы определяют свою симпатию к подобному типу мужчин дурацким «он меня понимает», хотя ни о каком понимании тут речи не идёт, а есть только сочувствие, густо замешанное на чувственности, а не на чувстве.
Джорджоне, то есть Жоржик (его имя Zorzione есть уменьшительное от венецианского Zorzo, Giorgio), просто не мог не трахнуться, как только случай представлялся. Случаи представлялись постоянно, и Джорджоне постоянно ими пользовался, тем более что этот провинциал из Кастельфранко был молод, силён и свеж. Куртизанку Чечилию, которой он, возможно, и был бы верен, если бы она этого хотела и если бы случаи не представлялись, он любил больше всех остальных женщиной. Чечилия послужила моделью эрмитажной Юдифи, которая as cruel as beautiful, «столь же жестока, как и красива»: это английское определение, обычно сопровождающее рекламные листки с изображениями дюжих и ражих красоток с хлыстом в руке в лондонских телефонных будках, очень подходит Чечилии-Юдифи. Возлюбленная Джорджоне была к тому же расчетлива: близость с великим художником ей льстила, но и только. Это определяло их своеобразную и свободную связь, имиджево полезную для обоих. У Джорджоне, к которому его обаяние тянуло не только женщин, но и мужчин, был друг Луцо, художник талантливый, но не больше. Луцо, бывший несколько младше Джорджоне, его обожал, причём до такой степени, что заобожал, с невероятной силой, и Чечилию. Чечилии в этом мальчике, ничем не выдающемся, кроме своей юности, вообще не было надобности, разве что время провести. Она играла Луцо безжалостно, любовная история развивалась, превратилась в истерику, путалась, путалась и запуталась до последней степени. Луцо не мог успокоиться, умолял, ныл, угрожал и бесился, и вот, после очередной разборки с Джорджоне и Чечилией, юноша повесился. Произошло это в загородном доме Контарини, пока ещё не ставшем Домиком Привидений, куда вслед за художником и его возлюбленной, приехавшими с несколькими представителями богемно-светской ренессансной Венеции провести там один из карнавальных уик-эндов, притащился и Луцо. Повесился прямо в доме, ночью. Вставшие поутру Джорджоне с Чечилией обнаружили висящее в зале пьянтеррено, первого этажа, тело несчастного. Лет же Луцо было двадцать два, прямо как «глупому мальчику» Всеволоду Князеву.
Казино дельи Спирити
История наделала много шума, а через несколько лет Джорджоне и Чечилия, будучи оба чуть старше тридцати, умирают от чумы, причём молва утверждает, что Джорджоне осознанно пошёл на контакт с уже явно заражённой Чечилией, так что его смерть может считаться до некоторой степени самоубийством, на которое его толкнуло чувство вины, душу глодавшей, ибо тело Луцо, стоило лишь глаза закрыть, билось как колокол. Так это было или не так, никто не знает, никаких документальных подтверждений существования Луцо (да и Чечилии) нет, но факт остаётся фактом – с этого времени в загородном домике на берегу Сакка делла Мизерикордиа стало твориться нечто: шепоты и шорохи полнили его ночами, слышались шаги и невнятные моленья, ничем не объяснимое свечение вдруг вспыхивало в окнах и казалось, что сам туман над водами Сакка делла Мизерикордиа колеблется от тихих рыданий.
Тогда-то Казино Контарини и стал Домиком Привидений, потому что духи Джорджоне, Чечилии и Луцо каждый карнавал возвращаются и продолжают свою разборку. Наличие приведений от этого места отталкивало, но также к нему и тянуло, и много ещё всяких историй с Казино дельи Спирити случилось в XVII и XVIII веках, когда он был и притоном, и игорным домом, и убежищем беглых монахинь, и приютом контрабандистов. Самая же страшная история произошла где-то во времена Рёскина и Тэна, когда дом был, как и вся эта часть Венеции, совсем уж заброшен и непонятно кому принадлежал. В это время город полнился слухами о пропаже и возможном убийстве Линды Чиветты, Linda Civetta, Линды Совы, дамы в то время в Венеции известной, проститутки и контрабандистки. По-русски кличка Сова тут же рисует нам страшную грымзу, что совершенно неправильно, так как это в наших лесах совы страшны, громадны и ушасты, не совы, а филины, в Италии же совы премиленькие, и есть даже итальянское выражение essere una civetta, «быть совой», что значит быть очень кокетливой. Чиветта была далеко не красавица, но в ней «было много породы… порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, то есть порода, а не Юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос много значит» – Чиветта полностью соответствовала лермонтовскому описанию контрабандистки из «Тамани». В городе, несмотря на уголовную деятельность Чиветты, её любили, поэтому венецианская полиция делом занялась весьма активно и кое-кого даже арестовала, но ничего не добилась, потому что даже труп не был обнаружен. Куда делась? Уехала в Беллуно…
Достаточное количество времени спустя, чтобы о пропаже Линды подзабыть, но не забыть напрочь, стая венецианских мальчишек купалась в Сакка делла Мизерикордиа прямо напротив Казино. В воде ребята заметили какой-то чемодан, весь покрытый крабами и каракатицами и, решив, что там какие-нибудь ценности, с большим трудом вытащили его на берег, открыли и завопили благим матом, так как там лежала Чиветта (как потом установили), аккуратно разрезанная на части, обескровленная и раздутая. Страсть-то особая в том состояла, что отдельно от всего лежал аккуратно отрезанный нос Чиветты, причём, образом самым что ни на есть мистериозным, он сохранился прекрасно, в отличие от других частей тела, изрядно подпорченных водой, временем и крабами, и когда карабинеры, вызванные не разбежавшимися мальчишками, а людьми совсем уж посторонними, склонились над чемоданом и один из них, видом породистого носа Чиветты прямо-таки заворожённый, протянул было к нему руку, нос, заставив всех застыть в изумлённом ужасе, вскочил, юрко, как крыска, скользнул между рук и ног карабинера и засеменил к воде. Несколько задержавшись на берегу и не без издевки вполоборота посмотрев на обезумевших от страха блюстителей порядка, нос прыгнул в Сакка делла Мизерикордиа и поплыл, быстро-быстро, оставляя за собой след из двух расходящихся волн, совсем слабеньких, на морщинки похожих. С тех пор ни один венецианец в воды Сакка делла Мизерикордиа ни ногой.
Какова роль во всём этом оскорблённой старухи Фата Морганы, судите сами. «Страсти, как и преступлению, нестерпима благополучная упорядоченность будней, она не может не радоваться всем признакам распада узаконенного порядка, любому отклонению от нормы, ибо смутно надеется извлечь выгоду из смятения окружающего мира» – так Томас Манн сказал в «Смерти в Венеции», и город, именно этот город, Венеция, ему был необходим для того, чтобы о страсти высказаться. Манн продолжил уже то, что было сказано другим немцем, Альбрехтом Дюрером. В гравюре, иллюстрирующей слова Апокалипсиса о жене, сидящей «на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами», Дюрер сделал Вавилонскую Блудницу венецианкой, то есть Венецией, ибо женщина эта – город великий, сидящий на водах больших: над царями земли он властен. Дюреровская элегантная красавица на семиглавом драконе есть «тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным»; она же и Фата Моргана, в том нет сомнений, кто ж будет это отрицать. Повесть Манна, обрисовывая предчувствие гибели Европы накануне мировой катастрофы, есть вариация жанра апокалиптической литературы. Чуть про Апокалипсис заговорят, венецианская Фата Моргана тут как тут, чует гибель и власть зверя. Она наказала Ашенбаха (и было за что), заставив его испытывать «безотчетное удовлетворение от событий на грязных уличках Венеции, которые так тщательно замалчивались, от этой недоброй тайны, сливавшейся с его собственной сокровенной тайной» – то есть, если это сформулировать несколько по-другому, наделила его чувством прекрасного, которое есть любовь к трём апельсинам, она же – любовь к Венеции.
Закончив чистить апельсины, я с полным безразличием посмотрел на трёх выскочивших из апельсинов принцесс, тут же, на Кампо делл’Аббациа, дух испустивших. Умерли так умерли, и, повернув назад к вокзалу, я вернулся к началу Каннареджо, к церкви ди Санта Мария ди Назарет, о дельи Скальци, chiesa di Santa Maria di Nazareth, o chiesa degli Scalzi, Святой Марии Назаретской, или церкви Босоногих. Церковь, находящаяся в двух шагах от вокзала чуть ли не самом толпливом месте города, опять же может считаться одним из начал Венеции. Не потому, что все приезжающие в Венецию на поезде первой встречают именно её, и даже не из-за пышности фасада, выдуманного Бальдассаре Лонгеной, автором великого венецианского мифа, базилики Санта Мария делла Салуте, Santa Maria della Salute, и поэтому a priori прекрасного. Не из-за её интерьера, пропитанного великолепием, риторичностью и помпой: мраморные ангелы в алтаре, витые пестрые колонны, росписи, серый мрамор стен – церковь Босоногих очень точно отражает сущность Венецианской республики поры заката и может считаться её символом, служа наглядным пособием утверждения, что in my beginning is my end, весьма важным для Венеции, но даже не это для меня важно. Небольшая и совсем, быть может, никчёмная деталь делает церковь ди Санта Мария ди Назарет для меня началом Венеции – фигурка мальчика в одеянии служки, chierichietto, протягивающего каждому входящему кружку с надписью amici dei lebbrosi, «друзья прокаженных».
Мне на этого мальчика, сделанного то ли из папье-маше, то ли из фанеры где-то в первой половине прошлого века и стоящего у самого входа в церковь, указал фотограф Роберто Базиле несколько лет назад. Я как раз был в Венеции, и был февраль, и не было никаких неотложных дел у меня, а лишь чистое намерение в Венеции помыслить над Венецией, поэтому в качестве чтения я притащил с собой «Смерть в Венеции». Снова перечитывая Томаса Манна, я обратил внимание, насколько гениальная трактовка Висконти откорректировала смысл повести: в первую очередь это касается фон Ашенбаха. У тридцатисемилетнего Манна он воплощает девятнадцативековый, очень бюргерский и очень германский гуманизм, и Манн к Ашенбаху относится так, как он к гуманизму такого рода относился: с уважением, смешанным с критичностью чуть ли не убийственной. Привязавшись к своему герою, Манн тем не менее наделяет его чертами, что были ему самому антипатичны, так что Ашенбах у него выходит, в общем-то, человеком малоприятным. Висконти же делает из Ашенбаха лирического героя, и если у Манна вместе с Ашенбахом гибнет старая культура, то у Висконти гибнет культура вообще, что с возрастом связано, ибо Висконти при создании фильма было шестьдесят пять, и он был гораздо старше даже манновского Ашенбаха – в этом возрасте свойственно своё одряхление воспринимать как гибель цивилизации. Интенсивное перечитывание «Смерти в Венеции» слилось со знакомством с chierichietto, я осознал, что мальчик – муляж-двойник Тадзио. Chierichietto замаячил в моей Венеции, и вот уж я стал гоняться за ним, прямо как Ашенбах за Тадзио, подстерегая его на мостах, в переулках, на набережных. Мальчик этот, именно в силу своей слабости и бездарности, образ выдающийся и поразительный. В нём воплотилась картонная и буффонная сексуальность Венеции, и умильное выражение его смазливого личика, чего-то выпрашивающего, чего-то для коробочки с надписью amici dei lebbrosi, может служить знаком отношения к Венеции, которую уже давно все, тот же Томас Манн, похотливо и слюняво тискают, приговаривая «гнилая, прокаженная, погибающая, обреченная» и получая огромное удовольствие от презрения к предмету восхищения, что всегда так распаляет сладострастие.
«Смерть в Венеции», как ни крути, все ж лучшее, что про Венецию когда-либо было написано, и постыдное блаженство беготни за призраком, что столь мучительно прекрасно изображено Томасом Манном, въелось в венецианские набережные и делает их столь скользкими и опасными. Моя беготня за картонным chierichietto становилась всё более ирреальной, всё более напоминала гоголевско-шостаковичевскую погоню майора Ковалёва за своим носом, и тут я и понял, что и Тадзио был не чем иным, как сбежавшим носом, и недаром сцена в цирюльне так важна и для Манна, и для Висконти: «В пудермантеле, откинувшись на спинку кресла под умелыми руками говорливого цирюльника, он измученным взглядом смотрел на свое отражение в зеркале.
– Седой, – с перекошенным ртом проговорил он».
Надо как-нибудь сходить в венецианскую парикмахерскую.
Церковь ди Сант’Альвизе
Глава четвёртая Свадьба Тициана
Сестиери. – Тростники, ветерки и Доломитовые Альпы. – Выразительность маргиналий. – Дом Тинторетто и Дом Тициана. – «Венецианский бал», фламандская Венеция. – Церковь ди Мадонна делл‘Орто. – Чудо Девы, умилиаты и C.R.S.G.A. – «Введение Марии во храм» Тинторетто. – Иосиф Бродский в поисках пропавшего Беллини. – Нежная Эффи и Satan conduit le bal! – Кампо ди Сант’Альвизе. – Ludovico di Tolosa. – Епископ Агдский, благочестие старых аристократок и шедевры Тьеполо
Каннареджо в оглавлении своей книги я поставил первым из районов не случайно. В Венеции шесть районов, называющихся сестиере, sestiere, «шестинами»: Каннареджо, Сан Поло, Сан Марко, Дорсодуро, Санта Кроче и Кастелло. Образованы они во времена незапамятные, с незапамятных времён и хранят свои границы, историей не изменяемые. Каждый из сестиере имеет своего genius loci, каждый самостоятелен до независимости, и продолжает самостоятельность оберегать так же, как свои границы и свою нумерацию домов, которая в Венеции самая запутанная в мире. Каждый дом нумеруется согласно району, поэтому некоторые знаки четырёхзначны (в Кастелло, самом обширном, дело доходит до 7000). История, однако, даже в Венеции двигалась, хотя никогда не бесилась, да и резвилась редко, разве что в XVI веке, когда новостройки сильно изменили облик города, да совсем чуть-чуть при Наполеоне. Дома пропадали, возникали, вместе с ними исчезали и появлялись номера, но прежняя система оставалась нетронутой, поэтому адрес может звучать как Фондамента Сан Себастьяно 2021, причём этот 2021 стоит между Фондамента Сан Себастьяно 24 и Фондамента Сан Себастьяно 876 – сумасшедший дом. Найти в Венеции по адресному номеру что-либо невозможно, поэтому необходимы пояснения в духе средневековья, примерно такие: налево с моста Кулаков после харчевни с вывеской «Три пескаря». Сестиере Каннареджо, простирающийся на северо-запад Венеции, всегда для неё был пригородом-загородом, занимая положение несколько маргинальное, что-то вроде Васильевского острова для Петербурга и Сокольников для Москвы. Сокольники, да и Васильевский, уже давно так обросли новостройками, что уж центральнее их быть некуда. Вспомните, однако, что ещё в XV веке Сокольники были заповедной рощей для царских охот, и никаких улиц там не было; в XVIII веке, когда Сокольники стали частью города, они оставались безлюдными и как бы «загородными», находясь вне города-ограды. На Васильевском же всегда царил особый загородный дух, читайте «Петербург» Белого. Да и сейчас особость, появившаяся в результате обособленности, ещё еле-еле теплится вокруг Сокольнического парка и на Васильевском. В Каннареджо же появился вокзал, поэтому часть сестиере, по которой пролегает путь от вокзала к центру, чуть ли не самая многолюдная в городе, но остальной Каннареджо, так как Венеции физически расти некуда, особость хранит – этот сестиере как был маргиналией, так ею и остался.
Происхождение названия «Каннареджо» темно и неясно, толкований ему множество. В одном документе, датированном 1410 годом, объясняется, что Каннареджо так назван потому, что место это было пустынно, болотисто и поросло тростником, canna, – мне это утверждение представляется одним из самых убедительных. Предположение, что это усечённая форма Canal Regio, Королевский Канал, как якобы именовался изначально Канале ди Каннареджо, звучит сомнительно (откуда бы взяться монархическим топонимиям в республиканской Венеции?), а также не слишком удачна попытка произвести название района от латинского canaliculi, «маленькие каналы», которыми это место изобиловало. Наличие тростниковых зарослей, canneti, некогда эти места густо покрывавших, кажется всё объясняющим и почему-то мне очень внятно – я всё время canneti в Каннареджо ощущаю, хотя от них давно уж и следа не осталось, разве что за решёткой, преграждающей вход в сад-свалку на Сан Джоббе. В Каннареджо есть, по сравнению с остальной Венецией, очень густой, очень всем набитой, некая разреженность поросшей тростником низины. Она чувствуется даже в планировке, относительно простой и понятной, то есть лишённой оглушающей путаницы лабиринта остальной Венеции. Район перерезан четырьмя каналами, собственно Канале ди Каннареджо, этаким вице-каналом при Канале Гранде, широком и относительно прямом, и тремя другими, поуже, называемыми рио, каждый из которых, представляя прямую и долгую линию, открывает взгляду ясную непрерывную перспективу, в остальных районах города из-за извилистости рио и улиц практически немыслимую. На эти перспективы как бы нанизана большая часть района, и это облегчает ориентацию в Каннареджо, что отличает его от остальной Венеции, ибо в Венеции ориентироваться, то есть выбрать систему координат, которые бы определяли конкретное местоположение, невозможно. В принципе, в Венеции нет ничего «конкретного», поэтому можно или знать путь, или бессмысленно метаться, крутя перед собой карту, как мартышка очки, на что многие туристы и обречены.
Канале ди Каннареджо и три главных рио этого района окаймлены достаточно широкими и почти непрерывающимися набережными, фондаменте, чья походка на удивление для Венеции спокойна, нетороплива. Рио делла Сенса непривычно для Венеции длинен, как и два других рио, параллельных ему, – они длинны настолько, что порезаны на куски, каждый из которых имеет своё имя, как и набережные, вдоль них идущие; долгие перспективы набережных перебиваются заворотами-поворотами, площадями-кампо со стоящими на них дворцами или церквами, также для Венеции непривычно просторными. Кампо в Каннареджо воспринимаются как паузы, спокойные и нечастые, как разумный отдых. Уже около Кампо деи Мори чувствуется близость лагуны, и Каннареджо даже в самый жаркий летний день продувается ветерками с севера, с Доломитовых Альп, маячащих вдали, на противоположном берегу лагуны. Горы лучше всего видны именно из района Каннареджо, так как их не заслоняют другие острова, и вид маячащих вдалеке вершин, частенько даже и снегом покрытых, а также постоянная свежесть сквозняков вносят в Каннареджо нечто альпийское, придавая этому сестиере некий привкус если и не горной, то предгорной курортности, что для Венеции уж совсем неожиданно. Для меня очарование Каннареджо связано с произведением совсем даже и не венецианским, а, как и опера «Три апельсина», относящимся к венецианщине, но венецианщине самого высокого полёта – с гравюрой Хендрика Голциуса по рисунку Дирка Барентсена «Венецианский бал».
Маргиналии выразительнее мейнстримов настолько, насколько индивидуальное выразительнее общепринятого – это-то и побуждает меня начать Венецию с Каннареджо. Сама Венеция – маргиналия. Маргиналия Италии, Европы, Запада, католицизма, христианства, цивилизации, и, как маргиналия, она как раз Италию, Европу, Запад, католицизм, христианство и цивилизацию поясняет ярче всего. Об этом написана «Смерть в Венеции». Сан Джоббе – ярчайший пример выразительности маргиналий, и в предыдущих главах я осознанно читателя таскал именно по маргиналиям, по окраинам, знакомя его с национальными меньшинствами и призраками, с экзотикой и эротизмом, так как считаю, что венецианскость Венеции через них доходит лучше всего. Та часть Каннареджо, где мы пока бродили, – окраина, за исключением Санта Мария ди Назарет, куда мы спускались повидать chierichietto, и сейчас, снова вернувшись к Рио Мадонна делл’Орто, мы опять на окраине Венеции. Здесь качались тростники, земля была топкой и держала лишь утлые рыбацкие хижины: приют убогого чухонца, одним словом, – но в XVI веке здесь полюбили селиться аристократы и художники. Контарини сначала завели себе здесь дачу – Казино дельи Спирити, а затем уже и большой дом отгрохали, Ка’ Контарини дель Дзаффо. Сады зацвели.
К Контарини подтянулось хорошее общество, к хорошему обществу – творческая интеллигенция, и в Каннареджо находятся и каза ди Тициано, casa di Tiziano, дом Тициана, и каза ди Тинторетто, casa di Tintoretto, дом Тинторетто. Каза деи Гварди, casa dei Guardi, дом Гварди (с артиклем множественного числа, их, братьев, сыновей и племянников, всё – художники, было полно), кстати, тоже в Каннареджо, но дома Тициана и Гварди строены-перестроены и довольно заурядны, а дом Тинторетто имеет вид вполне подлинный, хотя он, конечно, тоже слегка переделан. Дом пятнадцативековый – то есть Тинторетто его не строил, а купил уже готовым, и как-то, когда на него смотришь, верится, что в этом доме Тинторетто жил, хотя, не знай вы этого заранее, вряд ли бы вы его с Тинторетто связали. К дому Тинторетто прильнул владелец Дома Верблюда, очень постаревший юноша, четвёртый из Мори, стоящий несколько в стороне от братьев Мастелли. Голова этой скульптуры увенчана огромным тяжелейшим тюрбаном, рот открыт и выражение страдальческое (свою старуху сквозь la tenda veneziana увидел). Из-за огромности тюрбана фигура кажется тщедушней, чем она есть на самом деле, черты влюблённого и разлюбившего сглажены временем, настолько, что носа как бы и нет, хотя он безносым не считается (или нос украден Фата Морганой?). Какого времени эта загадочная скульптура, неизвестно, но создана она значительно позже трёх Мастелли, может, даже в начале чинквеченто. Возможно, её специально сюда Тинторетто поставил? Вид восточного страдальца как-то связывается с Тинторетто, который очень любил добавить в свои композиции для пущей выразительности экзотических турок в шелках и замысловатых тюрбанах. С Тинторетто связывается и благородная подлинность кирпичной кладки первых этажей, обнажённая слезшей штукатуркой, поэтому, хотя ничего тинтореттовского в готической лоджии и украшенных готическими колонками окнах пьяно нобиле, piano nobile, «благородного этажа» (в данном случае – третьего) вроде как и нет, я всегда почтительно застываю перед домом Тинторетто, пытаясь вслушаться в звучание чинквеченто. Мне это удаётся, и однажды, проторчав около него довольно долго, я отслушал телевизионную трансляцию футбольного матча, комментировавшуюся двумя голосами: звонким, мальчишеским и детским, и низким, мужским, приятным, как и большинство итальянских голосов, и ласковым, как бывает обычно, когда итальянцы с детьми разговаривают. Чудесное чинквеченто – эта бытовуха, некое нутро домашней жизни, скрытое готической лоджией, но мною подслушанное, вдруг сделала дом Тинторетто особенно подлинным и близким, как это не сделала бы, наверное, никакая реконструкция, пытавшаяся снова вернуть ему подлинный вид обиталища великого художника и превратить этот дом в музей.
Дом Тициана также недалеко, хотя найти его довольно трудно, так как он находится в гуще переулков за Рио деи Джезуити, Rio dei Gesuiti, Канала Иезуитов, и узкое Кампо дель Тициано, Campo del Tiziano, на которой он стоит (имея адрес Кампо дель Тициано 5182), не на каждой карте отмечено. Искать я его никому не предлагаю, так в нём ничего особенного нет, кроме того, что именно сейчас, в данную минуту, дом Тициана продаётся, и за 1 950 000 евро (что за это в Москве купишь?) предлагается сад ок. 150 кв. м, две жилые комнаты с видом на сад, две ванные комнаты, три спальни, большая кухня-столовая общей площадью около 160 кв. м, а также чердак 88 кв. м с возможностью постройки террасы на крыше. Всё это осенено волшебным словосочетанием casa di Tiziano, и не делает ли эта бытовуха Тициана особенно подлинным и близким? Возможно, скажу я, хотя без той уверенности, что была во мне во время прослушивания футбольного матча около casa di Tintoretto. Меня можно заподозрить в том, что я беру взятки с торговцев недвижимостью за рекламу, что действительности не соответствует, потому что факт продажи меня привлёк только в связи с тем, что, как я уже сказал, для меня является воплощением Каннареджо, с гравюрой «Венецианский бал».
Произведение это первый раз я увидел, когда, будучи молод и резов, старательно изучал собрание эрмитажной гравюры, причём не только итальянской, но и разной другой, вроде как ко мне непосредственного отношения и не имеющей. Дело это – изучать эрмитажное собрание гравюр – непростое из-за их количества (около 600 000), пыльное и увлекательное. В поисках того – не знаю чего я наткнулся на старый нидерландский альбом века, наверное, семнадцатого, самого его конца, – подобные альбомы обладают особым, присущим старым гравюрным альбомам, ароматом. Данный альбом, в переплёте совсем простом и стильном, без особой переплётнической изощрённости, просто узкий золотой ромб на фоне потёртого коричневого сафьяна, сшит из больших листов бумаги ласкающе подлинной на ощупь, цвета элегантно выцветших джинсов, и содержит набор гравюр, составленных в некоем осмысленном беспорядке: тут тебе и четыре сезона, и пять чувств, и библейские сцены, и мифология, – и никакой истории искусств. Видно, коллекционера, альбом создававшего, история искусств нисколько не волновала. В искусстве гравюры его волновало нечто совсем другое, и, может быть, это другое гораздо более ценно в искусстве, чем история искусств, – мы, искусствоведы, историей искусств занимающиеся, чем дальше, тем более понимание этого другого утрачиваем, заменяя его каталогами, примечаниями и многочисленными никому не нужными ссылками. Мы, музейные хранители, по определению обречены на существование опарышей, и кишим в отхожих местах человеческого духа, коими музеи являются; то есть мы, как опарыши, слепы, и ко всему, кроме питающего нас продукта, глухи (бездарны и глупы, и иначе и быть не может, ведь кто ж, обладая разумом, будет заниматься такой фикцией, как история искусства? – это мне Дом Верблюда объяснил) и ползать обречены. Превращаются в мух и летать учатся, жужжа, лишь немногие из нас. Но и опарыши переживать умеют, и, когда я раскрыл альбом на страницах, на которых, сложенный вдвое, так как он очень большого формата, был наклеен «Венецианский бал», и развернул эту гравюру, до того, честно признаться, мне неизвестную, на меня вдруг пахнуло свежим сквозняком, что прорывается с лагуны в Каннареджо, и снег на вершинах Доломитовых Альп блеснул на солнце, и зашуршали тростниковые заросли.
«Венецианский бал» – это изображение открытой дворцовой террасы, на которой собралось элегантное венецианское общество, услаждающее себя беседой, флиртом, музыкой, прохладительными напитками и закусками. Deluxe Cocktail Party XVI века, одним словом, да простится мне этот парикмахерский термин. Однако весь цимес «Венецианского бала» даже не в том, что это произведение создаёт иллюзию непосредственного наблюдения за венецианской современностью чинквеченто – это большая редкость, так как подобные сцены, почти жанр, для живописи Венеции этого времени не слишком характерны, – а в раскрытом на заднем плане пейзаже, прямо-таки распахнутом перед зрителем. Ширь лагуны, спокойная водная равнина, подступившая прямо к террасе, и на ней – точки фарватерных знаков, брёвна, чуть ли не такие же, как и сейчас, и по глади воды рассыпаны гондолы и парусники, и череда островков, на каждом из которых – замок, и вереница башен, тающих вдали. Замки обнесены стенами, из-за стен виднеются купы деревьев, и манит всё, и шепчет, что блаженство так возможно, и с шёпотом отступает вдаль, и исчезает, так блаженства и не дав, но оставив послевкусие, воспоминание о том, что оно, блаженство, было где-то тут, рядом, и надо было только руку протянуть и погладить его, как кошку. Руку протянул, а кошка-то и исчезла – типично венецианское переживание, динамо, одним словом; в этом, чёрно-белом, конечно же, пейзаже, невозможная прельстительность Венеции так точно наблюдена и схвачена, как мало какой фотографии удаётся. Гладь лагуны смыкается с небом, и на стыке их – гряда волнистых гор, как будто неровным швом соединяющих собой две стихии, так что горы кажутся созданными наполовину из воздуха, наполовину из воды, ведь когда из Каннареджо глядишь на окаймляющие лагуну Доломитовы Альпы, то возникает ощущение, что они немного дрожат, как будто они – отражение в воде, мираж и наваждение. Голциусу удалось передать эту особую ауру (αὔρα, веяние) венецианской атмосферы, очень чувствующуюся в Каннареджо и наполняющую «Венецианский бал» трепетной свежестью, что резцовой гравюре, искусству виртуозному и суховатому, свойственно крайне редко.
Гравюра была создана Хендриком Голциусом, гениальным фламандцем, уехавшим из Фландрии в Голландию, в Харлем, будучи совсем юным, в девятнадцать лет. Вполне возможно, что переезд Голциуса на север был вызван причинами политическими, так как Голландия была в это время беднее, но свободнее. Как бы то ни было, Голциус остался в Харлеме и после провозглашения независимости Соединённых провинций, в силу этого став основоположником собственно голландской школы живописи – он, будучи интеллектуалом, был деятельным участником Харлемской Академии, с которой, можно сказать, голландская живопись и началась. Временем создания Академии гравюра примерно и датируется, то есть началом 1580-х годов, в то время как рисунок Дирка Барентсена, по которому Голциус доску награвировал, был сделан лет на двадцать раньше. Барентсен, в отличие от Голциуса, был уроженцем Голландии и на двадцать пять лет его старше, и был очень знаменит на своём севере. Приехавшим с юга Голциусом он воспринимался как мэтр (теперь-то Голциус гораздо более известен), и гравюра молодого художника демонстрировала всяческое мэтру уважение. К тому же Барентсен провёл долгое время в Италии, в частности – в Венеции, и был учеником, помощником и даже другом самого Тициана, что для Харлема конца XVI века было всё равно как… ну, предположим, как в современной Москве быть помощником и другом Висконти. Что послужило причиной создания рисунка Барентсена, неизвестно, но, скорее всего, он был сделан именно в Венеции.
Мост Риальто
Голландия в середине XVI века была страной маргинальной. «Венецианский бал» замечателен тем, что Барентсен, как маргинал, венецианскую жизнь чувствует с пронзительностью большей, чем сами венецианцы. Он, северянин и уроженец готического, туманного и промозглого Амстердама, стараясь приблизиться к венецианскому, то есть к южному, средиземноморскому и пластичному, чувству формы, ничего не имитирует и не обезьянничает. Добавив свой нидерландский острый взгляд, столь точно подмечающий в жизни индивидуальное и сиюминутное, Барентсен создаёт композицию, посвящённую Венеции, идея которой венецианцу бы в голову не пришла. Венеция не просто город, а глобальный и универсальный миф. Венеция многообразна, у каждой культуры Венеция своя, и у каждого народа Венеция своя. «Венецианский бал» – замечательное творение, играющее в становлении нидерландской Италии примерно ту же роль, какую рисунок Александра Иванова «Октябрьский праздник в Риме», с которым, кстати, «Венецианский бал» очень схож, играет в становлении Италии русской. Барентсен создал рисунок на основе непосредственных впечатлений, в то время как Голциус, гравируя этот рисунок, в Италии и в Венеции ещё не был – он отправится за Альпы лишь лет десять спустя, и, проведя в Италии порядочное время, станет величайшим из итальянствующих голландцев, коих было множество, и будет восхищать своих современников, а также меня и Питера Гринуэя, создавшего фильм «Голциус и Пеликанья компания». Северную болезнь, названную Гёте Die Italiensehnsucht, «тоской по Италии», Голциус почувствовал ещё до путешествия, и, ощутив важность идеи нидерландской Венеции, Барентсеном столь замечательно сформулированной, он выбрал для воспроизведения именно «Венецианский бал», а не что-либо другое среди всех Барентсеновых работ.
Гравюра, пример Die Italiensehnsucht, была очень популярна, судя по многочисленности дошедших до нас копий. Её наверняка знали и Рубенс, и Рембрандт, два гения, для которых образ нидерландской Италии, ими отточенный и отшлифованный, был очень важен. Рубенс с Рембрандтом представляют нам уже не нидерландскую Италию, а Италию фламандскую и Италию голландскую – голландская Италия определит Италию российскую. Петровское время на Италию станет смотреть через голландские линзы, и есть что-то в «Венецианском бале» роднящее его с Летним садом, с петровской Италией. Связь эта, то настроение печальной роскоши торжества, что присутствует в гравюре и в лучших фотографиях Летнего сада, сохранялась вплоть до недавнего времени, до переделки Летнего сада в парк культуры и отдыха имени В. В. Путина.
Эта гравюра Голциуса считается большой редкостью (аукционная стоимость от 25 до 30 тыс. евро), она в Эрмитаже имеется в единственном экземпляре и только в описанном мною альбоме, в основное собрание гравюр Голциуса не вошла и опубликована не была. Когда я впервые на неё наткнулся, то был почти что в положении Голциуса, гравировавшего рисунок Барентсена до свой итальянской поездки. В Венеции я побывал тогда только один раз, провёл в ней три безумных поверхностных дня, и Каннареджо знал лишь приблизительно. Тем не менее панорама, глянувшая на меня с блёкло-голубых страниц альбома, тут же заставила меня вспомнить о виде на лагуну с Фондамента Нуове, так как на гравюре почти точно он и отображён, с Доломитовыми Альпами и островом Сан Микеле вдали, тогда, в XVI веке, ещё не ставшим кладбищем; только на гравюре, как это чаще всего и бывает, всё представлено в зеркальном отражении. Некое созвучие петербургскому духу и петровским ассамблеям меня поразило, гравюра стала одной из моих любимейших, и я специально отложил её для так и не состоявшейся выставки европейского маньеризма, а заодно – и в своей памяти.
Теперь в Венеции, в Каннареджо, «Венецианский бал» всё время меня сопровождает. Въедаясь в историю гравюры, я узнал, что необычность сюжета всегда в ней привлекала. Было высказано предположение, что рисунок Барентсена как-то связан с торжествами по случаю прибытия в Венецию Генриха III. Любимец маменьки, королевы Франции Екатерины Медичи, Генрих, будучи лишь третьим сыном и герцогом Анжуйским, на престол своего отечества имел мало шансов, поэтому согласился стать королём Польши. Он был умён, склонен к новшествам, в юности, несмотря на маменьку, не чурался протестантизма и ввёл в моду среди мужчин двойные серьги с большими каплеобразными жемчужинами. Современники про него говорили, что он был бы хорошим правителем, если бы родился в хорошем веке, говорили также о его «дамской деликатности» и прозвали «принц Содома». Дикость Польши галльскую элегантность Генриха просто терзала, он мечтал оттуда выбраться, и мама Екатерина над этим деятельно работала – в мае 1574 года, отравленный матерью, умирает его старший брат король Карл IX (самый старший, Франциск II, процарствовал всего год, умер от внезапно открывшегося свища в ухе, опять-таки обеспеченного ему маменькой, как утверждают многие). Генриха провозглашают французским королём, присвоив ему № III, и для того, чтобы воссесть на подготовленный маменькой престол, ему приходится из Польши буквально бежать, так как поляки Генриха хоть и не любили, но и отпускать не хотели.
История бегства короля Генриха просто замечательна, но от погони оторвавшись, он, следуя материнскому совету, едет во Францию не коротким путём, через Германию, а длинным – через Австрию и Италию, чтобы избежать владений немецких протестантских князей, так как юношеское увлечение протестантизмом из него к этому времени выветрилось. Генрих III, на тот момент король и Франции, и Польши, въезжает в Венецию, куда маменька на путевые расходы пересылает ему сто тысяч дукатов (или сто пятьдесят тысяч экю, или сто тысяч ливров, источники сообщают разные сведения, но всё равно очевидно, что сумма по тем временам была просто неимоверной). Любящий широту Генрих всё пускает на свои венецианские торжества и устраивает в Венеции такое разгуляево, какого Венеция не видела ни до, ни после Генриха. Венеция как город модный старалась соответствовать королевскому расточительству, и венецианские патриции на банкеты Генриха отвечали своими банкетами, не менее роскошными. Всю неделю Венецию трясёт, так что человеческая память семь венецианских дней Генриха III превратила в миф, до сих пор живой. Во многих местах Венеции гид не преминет упомянуть о том, что они связаны с пребыванием в городе Генриха III, забыв, правда, объяснить, чем уж таким это пребывание замечательно. Тьеполо изобразил приём Генриха III на вилле Контарини на одной из своих картин, чья композиция отдалённо напоминает «Венецианский бал». Тьеполо был не единственным, кто обращался к этому сюжету, я же, благодаря Голциусу и Барентсену, о пышности Генриха вспоминаю в Каннареджо (вроде как вилла Контарини, Тьеполо изображённая весьма условно, в Каннареджо и находилась), хотя француз гулял по большей части во дворцах на Канале Гранде, как о том нам услужливо сообщают все гиды.
Связь рисунка Барентсена с праздниками Генриха III очень интересна, но абсурдна, так как Барентсена в 1574 году в Венеции уже не было. Он покинул Венецию где-то в начале 1560-х, и его активное общение с Тицианом падает на 50-е годы, и именно этими годами рисунок и склонны сейчас все датировать. Без датировки понятно, что Барентсеново cocktail party слишком скромно для короля, и возникла новая гипотеза, косвенно подкреплённая тем, что в старых источниках гравюру иногда почему-то называли «Свадьба Тициана». Эта гипотеза не менее увлекательна, чем отпавшая. Было высказано предположение, что рисунок изображает помолвку дочери Тициана, и в группе из четырёх мужчин на первом плане слева, в лице повернувшегося к зрителю в фас мужчине в небольшой круглой шапочке, разглядели портрет художника, а в разговаривающем с Тицианом господине в высокой шляпе – Дирка Барентсена. Невеста, то есть дочь Тициана, Лавиния, – это девушка справа, единственная с распущенными, как невесте полагалось, волосами; женихом же должен быть гордый мужчина со шпагой в руке в самом центре композиции. Свадьба Тициановой дочери была событием не столь широкого размаха, как праздники Генриха, но во все светские хроники тоже вошла. Дочь – красавица, жених – мы знаем его имя, Корнелио Сарчинелли – молодец из благородных бергамасков, и свадьбу любимой дочери Тициан отгрохал замечательную, в памяти веков оставшуюся. За дочерью он дал 1400 дукатов (в сто раз меньше того, что Генрих за неделю в Венеции истратил, но всё равно порядочно), и знаменитое жемчужное ожерелье, что принадлежало её покойной матери и украшает шею знаменитой «Девушки с блюдом фруктов» из Берлинской картинной галереи, считающейся портретом Лавинии.
Столь крутой поворот в трактовке данного произведения, превративший его из лукуллова веселья Генриха в тициановскую пристойность, является примером изумительной версатильности искусствоведения, но и не только. В «Венецианском бале» сформулирована завораживающая мифологема венецианскости, что явлена и в мифах о празднествах Генриха, и в легендах о свадьбе дочери Тициана. Голциус венецианскость подчеркнул, подписав под своей гравюрой на латыни следующее: «Вот один из свадебных обрядов Антенора в манере, принятой у патрициев венецианского Сената: многолюдный праздник, церемониальные факелы, торжественная процессия по городу и более всего облачения дам, затканные золотом и лучащиеся драгоценными камнями, как не было ни видано, ни знаемо ни в одной стране. Теперь это может увидеть и восхититься этим весь мир» – то есть Голциус ссылкой на мифического Антенора ясно нам указывает на то, что своё произведение как венецианскую мифологему он и создавал. На Антенора, троянца, переселившегося после падения Трои на Адриатику и возглавившего племя венетов, венецианцы как раз в XVI веке любили ссылаться как на основателя города, дабы иметь в генезисе Грецию: красочная деталь – могила Антенора находится в Падуе, она реально существует до сих пор.
Искусствоведы, не обладающие широтой мышления Голциуса, столь блестяще рисунок Барентсена отынтерпретировавшего, успокоиться не могут и довольно сбивчиво ищут реалии. Вроде как безрезультатно: та же девушка из Берлина не совсем Лавиния, да и жемчужины в её ожерелье мелковаты, такие жемчужины Генрих в ухо вставить бы побрезговал. На шее невесты с рисунка Барентсена, кстати, лежит тяжёлое и дорогущее жемчужное ожерелье, не чета изображённому Тицианом, но вряд ли это может рассматриваться как доказательство – и к чёрту все доказательства, я лучше возвращусь к дому Тициана за 1 950 000 евро. Мысленно быстро снеся толкотню домов, здесь понастроенных за последние триста-четыреста лет, я вдруг прозрею, и от дома Тициана, выставленного на продажу, мне откроется вид, соответствующий тому, что Барентсен на своём рисунке изобразил, – и это меня поразит, ведь рисунок прекрасен тем же, чем и история Антенора, которого не было, но гробница которого существует. Сюжет «Венецианского бала» может трактоваться как угодно: он может быть и оргией принца Содома, и свадьбой Тициана, причём одновременно. Вспомнишь «Венецианский бал» в ординарности современного Кампо ди Тициано или в пыльной повседневности моего гравюрного бытия в Петербурге, как ординарность и повседневность тут же стыдливо исчезнут, и Каннареджо, столь застроенный и забитый вокруг Дома Тициана, очистится, раздвинется, вид на лагуну распахнётся, лёгкий бриз с горного берега мозги защекочет, и появится вереница разодетых дам в жемчугах, кавалеров в чулках, подвязанных под коленами бантами, и с гордыми гульфиками, бородатых сенаторов в долгополых кафтанах, отороченных мехом и чем-то похожих на бухарские халаты, и – тут бы ещё и маленькую собачку подпустить – вот и собачка, лежит на первом плане, прямо как сфинкс какой-нибудь. Всё зашевелилось, все куда-то собираются. Вместе с новобрачными и их именитыми гостями засуетилась целая толпа масок и музыкантов, без которых в Венеции никакие торжества не обходятся – у Барентсена с Голциусом они и изображены. Пёстрая, галдящая, шумящая стая оттеняет венецианское величие и достоинство своей суматошностью, ибо всякая торжественность в Венеции маскарадна, то есть двойственна и двусмысленна. Дамы и кавалеры, музыканты и маски, жених с невестой и маленькая собачка – все направляются к причалу, рассаживаются в лодки, большие, многовёсельные, с несколькими гребцами, широкие и удобные, густо застланные восточными коврами, и медленно плывут по лагуне чинным кортежем, к пристани, ведущей к церкви ди Мадонна делл’Орто, где произойдёт венчание и куда и я уже давно направляюсь, но из-за нидерландской гравюры всё никак дойти не могу.
Сейчас можно сделать то же самое, что и венецианская свадьба, – пройти к причалу Фондаменте Нуове и, сев на вапоретто, отправиться к причалу Мадонна делл’Орто, проехав одну остановку по лагуне, как раз мимо Казино дельи Спирити. Подход с причала к церкви лишён прелести, что во время свадьбы Тициана была, так как Каннареджо всё же, несмотря на все мои хвалы его фондаментам с их перспективами, застроился. О том, что это было по-другому, говорят теперь лишь названия: Мадонна делл’Орто, Мадонна Огородная, а также церковь Санта Мария ин Валь Ведере, chiesa Santa Maria in Val Vedere, церковь Святой Марии в Зелёной Долине, как некогда называлась церковь делл’Аббациа делла Мизерикордиа, так как она стояла на острове Валь Ведере, Val Vedere, Зелёная Долина, зовущемся так из-за того, что он весь покрыт был зеленью, ну абсолютно весь, хотя зелень теперь на Кампо делл’Аббациа очень трудно себе представить. Также как не представишь и огороды вокруг церкви Мадонны делл’Орто – огород, orto, подразумевает не современное значение «небольшой участок земли, предназначенный преимущественно для выращивания овощей», а значение старое, когда огородом назывался огороженный сад, hortus conclusus, полный цветов, – которых здесь было множество. Сады принадлежали церкви, но и не только ей, и свадебный кортеж плыл на своих покрытых коврами лодках мимо увитых вьющимися розами оград, вам же, если вы выйдете на причале Мадонна делл’Орто, чтобы попасть на Фондамента делл’Орто и по ней дойти до Кампо Мадонна делл’Орто, одной из самых пленительных площадей Венеции, придётся протискиваться к церкви через узкие калле, calle, улочки, между совсем неинтересных домов, построенных в прошлом веке.
Церковь ди Санта Мария делл’Орто
Пленительной – именно так. В Венеции есть campi величественнее, пышнее, интереснее, насыщеннее, но той пленительности невесты, от «не» и «ведать», то есть некой неизведанной, но в то же время и суженой, судьбой предназначенной, какая есть в этой площади, нет больше нигде. Именно поэтому к церкви ди Мадонна делл’Орто я предпочитаю не подъезжать на вапоретто, а подходить со стороны Кампо деи Мори, от которой до церкви – два шага (вот мы их и сделали), стоит только мост перейти – и площадь приветствует вас своим лёгким дыханием. Так, я думаю, к ней Лавиния с Корнелио подходили, ибо их гребцы везли, повернув с лагуны на Рио дельи Дзеккини, Rio degli Zecchini, Канал Цехинов на Рио Мадонна делл’Орто, ведущему прямо к площади. На Кампо Мадонна делл’Орто, не слишком большом, с трёх сторон ограниченном стенами, уже толпится публика; невесте помогают выйти из лодки, что сделать ей, в её парчах и жемчугах не просто, но вот наконец справились, невеста на берегу, стоит, пока на ней платье и вуали оправляют, – ну, всё в порядке, она по ковровой дорожке, протянутой через всю площадь, от входа до воды, к церкви плывёт, как лебедь, толпа пока ещё не орёт, только шушукается, а маски и музыканты, прибывшие вслед, остались у воды и пока примолкли. Затем идут Тициан с Аретино, идут Спада с Сансовино, идут сенаторы и художники, а также их конкубины и наложники, идут банкиры и поэты, у тех и других в голове одни сметы, а также идёт мокрая от слёз курица, не то смеется, не то хмурится. Вся венецианская роскошь чинквеченто проходит перед нами и исчезает в дверях церкви ди Мадонна делл’Орто, украшенных чуть ли не лучшим порталом в мире. Роскошь свадьбы Тициана чужда пленительной простоте ансамбля площади, в которой есть нечто не то чтобы не венецианское, а «над» и «сверх» венецианское, потому что Кампо Мадонна делл’Орто есть остановка и маргиналия, причём не только остановка и маргиналия Венеции, но остановка и маргиналия мирового духа, ни больше ни меньше.
Бродский, которому как поэту явлена целостность, в отличие от простых смертных, довольствующихся частностями, сказал: «Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Madonna dell’Orto», – и этим довольно точно раскрыл особый смысл Кампо Мадонна делл’Орто. Центром площади является портал, созданный венецианским скульптором и архитектором по имени Бартоломео Бон в конце XV века, своей строгой изысканностью всё и определяющий: ажурная дарохранительница, увенчанная фигурой святого Христофора с Младенцем на плече и стоящими по бокам на двух высоких постаментах фигурами Девы Марии и Архангела Гавриила. Христофор и Дева – работа Николо ди Джованни Фьорентино, Гавриил – Антонио Риццо. Они относятся к концу XV века, в нишах же фриза стоят двенадцать скульптур апостолов, сделанных мастерами из семейства далле Мазенье, работавших в XIV веке, а пять готических беседочек, похожих на табернакли, венчающих крышу, занимают добродетели, изваянные в XVII веке. Во всяких умных книгах написано, что фасад церкви – пример готики кватроченто, но как в искусствоведческих категориях определить стиль этой архитектуры? В очередной раз убеждаешься в бесполезности искусствоведческого анализа, потому что оксюморон «ренессансная готика», столь вроде к фасаду церкви, да и ко всему Кампо Мадонна делл’Орто подходящий, ничего не говорит – в этой площади, в этой церкви и в этом портале есть нечто, что поверх всех стилей роднит это место Венеции с Ферапонтовым монастырём, с его утешительной свежестью. Божья тишь и Божья благодать, воздух мягок и свеж, лагуна, как озеро, недвижно спокойна, спит утренний туман, и как будто скрип вёдер у колодца слышен. Все вопросы и стрессы, поиски и метания отходят вдаль, истаивая, как ночные призраки, и у портала церкви ди делл’Орто, как и у входа в северный монастырь, возникает ощущение, что вырвался из чада жизни и нет больше земных проблем. Душа и разум очищаются как после усиленного витаминного курса.
В церкви, в капелле Сан Мауро, стоит изваяние, подарившее церкви имя: Дева качает на колене Младенца. Эта работа Джованни де Санти, мало кому известного скульптора, предназначалась совсем другой церкви и заказчикам по каким-то причинам не понравилась. Скульптура осталась у Джованни, и он, не зная, куда её деть, поставил Деву Марию в своём саду-огороде, orto. Через некоторое время соседи по ночам стали замечать свет, исходящий от Девы, по Венеции зашуршало шушуканье, и вот уж паломники повадились в огород ходить и днём и ночью, и слава Девы росла, и в конце концов сам епископ на статую обратил внимание, предложив Джованни передать её какой-нибудь церкви. Джованни выбрал братьев умилиатов, владевших церковью Святого Христофора – тогда именно так, Сан Кристофоро, называлась церковь ди Мадонна делл’Орто. 18 июня 1377 года умилиаты статую в церковь торжественно внесли, и теперь Дева излучала сияние ночью здесь, в алтаре, что способствовало вящей славе этого места. Ради Мадонны Огородной церковь на ночь не закрывалась, и в любой час можно было к алтарю припасть, чтобы сиянием освежиться, ибо «ночь – самое вероятное время душевных мук», что заметил всё тот же Бродский, об этой легенде, очевидно, не знавший, так как целиком цитата звучит: «Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Madonna dell’Orto – не столько потому, что ночь – самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной “Мадонна с Младенцем” Беллини».
Мадонна Джованни де Санти хороша простой грубоватой подлинностью деревенского благочестья, сквозь которое смутно пробивается лукавая улыбка придворной готики, именуемой «пламенеющей», а также – «сладчайшей». Впрочем, популярность чудотворных образов ни в коем случае не находится в прямой связи с их качеством, скорее наоборот, и Мадонна делл’Орто, как теперь именовали творение де Санти, разнесла славу обители умилиатов не только по Венеции, но и по всему Венето, и стала столь знаменита, что вскоре и церковь Сан Кристофоро специальным декретом была переименована в церковь ди Мадонна делл’Орто. Орден умилиатов, появившийся в Ломбардии в XII веке, всегда находился в оппозиции к Ватикану, так как проповедовал что-то вроде христианского коммунизма и по духу был реформаторским. В 1462 году Сенат выставил умилиатов из церкви ди Мадонна делл’Орто, но умилиатов сменила организация лишь чуть менее радикальных воззрений, орден Каноников Устава Святого Георгия в Алге, Canonici Regolari di San Giorgio in Alga, Каноничи Реголари ди Сан Джорджо ин Алга, сокращённо C.R.S.G.A. Орден этот в истории Венеции занимает важное место: он был чисто венецианским и зародился в стенах покинутого монахами бенедектинского монастыря на острове Алга, заселённого, в результате самого настоящего сквоттинга, молодыми монахами, принадлежавшими к самым аристократическим венецианским семействам, в 1350 году. Они были конечно же интеллектуалами, поэтому приняли устав самого интеллектуального отца церкви, святого Августина, причём в некой особой форме – отсюда и название ордена. В силу молодости они были также и оппозиционны, и некоторые венецианские умилиаты перешли в C.R.S.G.A., принявшего их с распростёртыми объятиями. В начале XV века орден расцвёл, приобрёл влияние, и один из его членов, Габриэле Кондульмер, стал папой под именем Евгения IV, но вскоре левые по духу братья ватиканский официоз стали раздражать. Умилиаты были запрещены специальным папским декретом ещё в 1571 году, а Каноничи Реголари протянули на сто лет дольше: папский указ прекратил их существование в 1668 году. Венеция, несмотря на все симпатии к родному ордену, тогда уже Ватикану противиться не могла, братья C.R.S.G.A. покинули церковь ди Мадонна делл’Орто, и ночное сияние Девы исчезло, как будто и не было. Церковь заполучили цистерцианцы, а теперь церковь принадлежит отцам-джузеппинцам, членам Конгрегации Святого Иосифа, Congregazione di San Giuseppe, Конгреционе ди Сан Джузеппе, сокращённо C.S.I., основанной в XIX веке и на сегодняшний день довольно деятельной католической организации. Дева не светится.
Несмотря на изгнание умилиатов, у их наследника, ордена Каноников, свет вокруг Мадонны делл’Орто ещё теплился, и ореол не то чтобы диссидентства, но некой левизны над этим местом продолжал сиять и в XVI веке. Поэтому я сюда и свадьбу Тициана привёз. Где ж художнику дочь венчать, как не в богемной церкви ди Мадонна делл’Орто, тем более что богемность её, в силу аристократичности членов C.R.S.G.A., вполне официозна? Но, приведя сюда Тициана с Аретино и с мокрой курицей, я понимаю, что именно тициановское венчание в данном месте гипотетично в силу того, что для церкви этой, как раз в те самые 1550-е, когда Лавиния замуж выходила, а Барентсен свой рисунок рисовал, работал художник, бывший Тицианов ученик, ставший Тициану соперником и чуть ли не врагом – Якопо Тинторетто. Якопо Тинторетто и жил неподалёку, и именно от его дома я направлялся к Кампо Мадонна делл’Орто, только плутать начал, повернув к дому Тициана. Тициану сам император Карл V кисть подавал, и он был воплощённое величие и официозность. Тинторетто же, художнику к оппозиции испытывавшему большую тягу, церковь ди Мадонна делл’Орто обязана тем, что в ней, внутри, сияние, вокруг Огородной Мадонны де Санти стараниями церковных бюрократов потушенное, зажглось вокруг другого произведения, картины, изображающей Богоматерь не взрослой женщиной, а маленькой девочкой.
Девочка смело шагает по крутым округлым ступеням лестницы куда-то вверх, в облачное тревожное небо, туда, где на фоне облаков, торжественный и разодетый, окружённый свитой, похожий на жреца из дорогой постановки «Набукко», стоит бородатый дяденька в двурогом венце. Дяденька развёл руками в изумлении при виде девочкиной смелости и как будто хочет девочку обнять, и душу вашу тоже, – это я картину «Введение Марии во храм» Тинторетто описываю, как раз в церкви ди Мадонна делл’Орто и находящуюся. Сияние над головой девочки делает её похожей на свечу, она горит и молится, искупительная свечка, и при взгляде на неё кошмары покидают душу, давящий, безжалостный страх отпускает свои когти, и обезболивающее умиротворение, как живая вода, вливает силы в ваше измученное тело. Не всё человеческое ещё исчезло из мира, и, может, где-то, среди всего этого красного ужаса, каким наша жизнь является, есть надежда, мерцающая, как сияние вокруг головы девочки с картины Тинторетто.
А где же Беллини, Бродским обещанный? – спросит меня читатель. А Беллини свистнули 1 марта 1993 года. Кто-то ночью залез в церковь, и всё, нет Беллини, одна дырка в пустой раме, а рядом, на алтаре, над которым рама висит, – фотография утерянной картины: инсталляция. На этот артефакт туристы пялятся чаще и с большим почтением, чем на картины Тинторетто, которых в церкви ди Мадонна делл’Орто множество, и прекраснейших. Видимо, пялиться на то, что стащено интереснее, чем на искусство, ведь инсталляция с дыркой и фоткой – детектив и story, она прямо, доходчиво и всем говорит о самом интересном, что в искусстве есть, – о его стоимости, так что уже два детектива о пропавшем Беллини написано, потому что Беллини – тренд. Так даже коктейль называется. Маленькая девочка мало кому что говорит, и Бродский искал в церкви ди Мадонна делл’Орто Беллини, потому что именно Беллини – кстати, Беллини был высококачественный, но более ничем и не выдающийся – ему важнее, чем Тинторетто. Интеллигентский вкус 60-х кватроченто выделяет, а чинквеченто несколько презирает, чем резко отличается от вкуса Рёскина и Тэна, ездивших в церковь ди Мадонна делл’Орто специально ради Тинторетто, но близок современному.
Рёскин с Тэном ввели моду на это место среди интеллектуалов, а до них оно было заброшенной окраиной, поэтому свой путь к Кампо Мадонна делл’Орто Рёскин с Тэном описывали как путешествие туда, куда Макар телят не гонял. Слова Бродского: «Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от пятки Младенца. Этот дюйм – даже гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть высшая форма эротики. Но собор был закрыт…» добавили к славе Мадонны делл’Орто Беллини, создав церкви репутацию среди интеллектуалов русских, хотя поэт картины Беллини перепутал, имея в голове, когда это писал, совсем другую Мадонну Беллини, ибо Мадонна украденная, дюйм отделяющий любовь от эротики, перешла, взяв Младенца за задницу всей пятернёй левой руки столь решительно, что Младенец воззрился на неё в некотором даже и удивлении, прямо рот открыл.
Ошибки поэтов столь же значимы, сколь и их прозрения. Чудесно то, что Бродский церковь ди Мадонна делл’Орто отметил на карте русского культурного сознания, потому что именно его фразу и Беллини все и обсуждают на интеллектуальных сайтах, касающихся этой церкви (а их, как ни странно, довольно много), Тинторетто же вспомнил один Андрей Тургенев, он же – Вячеслав Курицын. Честь и хвала Тургеневу-Курицыну за то, что Тинторетто вспомнил, тем более что, кроме замечательных картин, которых в церкви целых шесть, Тинторетто там ещё и похоронен – то есть художник был тесно связан с церковью ди Мадонна делл’Орто и с C.R.S.G.A. Задавшись перед Домом Тинторетто вопросом, что же такого тинтореттовского можно найти в готической лоджии, я должен был вспомнить о церкви ди Мадонна делл’Орто и о её готическом фасаде, не подвергшемся переделкам ни в веке шестнадцатом, ни в семнадцатом, так как благочестие C.R.S.G.A. отрицало новомодные роскошества, придерживаясь заветов строгой старины. «Готичность» Тинторетто родственна той трактовке готики, какую предлагает современность, от фильма Кена Рассела «Готика» до уличных сегодняшних «готов» с синими губами: то есть как нечто тревожно-страшное. Отрицая внешнюю пышность, орден Каноников Устава Святого Георгия также был готичен (готику фасада поэтому и сохранил), и в авангардисте Тинторетто обрёл родственную душу, заказав ему целую серию картин, которые все ужасающе прекрасны. Наиболее примечательны два огромных (14 м 50 см в высоту и 5 м 80 см в ширину) висящих друг напротив друга полотна «Страшный суд» и «Поклонение Золотому тельцу». Сама идея срифмовать два этих сюжета просто-таки экстравагантна, а Тинторетто сделал это столь грандиозно, что Эффи Грей, нежная супруга Джона Рёскина, которую великий эстет в церковь ди Мадонна делл’Орто затащил, «Страшного суда» испугалась и в ужасе из церкви бежала. Об этом сохранились многочисленные свидетельства, причём вдогонку путающейся в юбках Эффи неслось:
Et Satan conduit le bal! Et Satan conduit le bal! —страшная ария Мефистофеля из «готичной» оперы Гуно. Ария слышалась ей, быть может, даже и по-русски, как непонятное «Сатана там правит бал» в исполнении группы «Агата Кристи», что, согласитесь, уж совсем невыносимо страшно. Не столь удивителен тот факт, что Эффи услышала Le veau d’or est toujours debout… в русском варианте «На земле весь род людской чтит один кумир священный» роковых свердловчан, а не Шаляпина, сколь удивительно то, что она вообще это услышала в 1848 году, так как опера, поставленная в 1859-м, тогда ещё даже и не была написана.
Эффи, кстати, убежала не только из церкви ди Мадонна делл’Орто, но и от Рёскина и стала миссис Джон Эверетт Миллес, так что её внешность мы хорошо знаем по картинам этого прерафаэлита. Со свойственной женщинам чуткостью, она своим бегством гораздо красочней описала «Страшный суд» и «Поклонение Золотому тельцу», чем это сделал её тогда ещё муж, так как Et Satan conduit le bal! очень даже под сводами церкви ди Мадонна делл’Орто гремит, и даже возникла легенда, абсолютно ни на чём не основанная, что в фигурах четырёх евреев, несущих на плечах Золотого тельца, Тинторетто изобразил сам себя, а также Тициана, Джорджоне и Веронезе – чем-то таким особенным изображение хотелось отметить. Евреи Тинторетто на евреев ни капельки не похожи, но ещё меньше они похожи на перечисленных художников, и гениальная рифмовка «Страшного суда» и «Поклонения Золотому тельцу» не загадка, а зримое воплощение тех проповедей, некоего варианта савонаролианской критики существующих порядков, что некогда звучали с кафедры Огородной Мадонны. Проповедники C. R.S.G.A. обещали людям разных каст и стран, «что в умилении сердечном прославляя истукан… пляшут в круге бесконечном окружая пьедестал, окружая пьедестал!» то, что Тинторетто на противоположной «Поклонению Золотому тельцу» стене и показал, то есть геенну огненную и вечные муки.
Страсть к обличению должна противоречить идее удаления от мира, но савонаролы различного толка склонны их объединять, готовя из этой смеси зажигательные бомбы, с помощью которых они пытаются старый мир разрушить, чтобы построить новый. Сами они по большей части заканчивают костром, новый мир не строят, но зато им часто удаётся завлечь натуры одарённые, восприимчивые и страстные – художников, таких как Боттичелли и Тинторетто. Боттичелли, судя по всему, был гораздо более искренним, чем Тинторетто (Савонарола, правда, и был гораздо более радикальным, чем аристократы из C.R.S.G.A.), и в Тинторетто, при всей его гениальности, есть некоторая склонность к бутафорской напыщенности, что отличала красноречие благородных савонарол из C.R.S.G.A. от их феррарского собрата. Тинторетто конечно же художник очень дионисийский, прямо Вагнер в трактовке Ницше, но дионисийство его, столь вроде бы демократически противоположное аристократическому аполлонизму, ведёт Тинторетто, как и Вагнера, к опасной пропасти – именно савонаролианская ненависть мир в пропасть и толкает, – и только гениальность его и спасает, хотя Вагнера даже и гениальность не спасла.
Всё сказанное о «Страшном суде» и «Поклонении Золотому тельцу» вроде бы должно противоречить «церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь», то есть чувству умилённости, с которого я начал описание Кампо Мадонна делл’Орто, но, как и многое в мире, дионисийское савонаролианство этих произведений находится в некой противоречивой гармонии с утешительной свежестью места обитания Огородной Мадонны и с маленькой девочкой из «Введения Марии во храм» того же Тинторетто. Точнее, маленькая девочка примиряет то и другое, объединяя и благословляя мир своим решительным благочестием – Тинторетто же объединяет готическую духовность с ренессансной телесностью, и результат получается столь замечательным, что искусствоведы никак его классифицировать не могут: то ли поздний Ренессанс, то ли маньеризм. Я тоже не буду ничего классифицировать, замечу лишь в конце концов, что роскошная свадьба Тициана не столь уж и чужда маргинальному духу Кампо Мадонна делл’Орто, и, покинув наконец эту площадь, я, весьма извилистым путём, так как с Фондамента Мадонна делл’Орто на соседнюю набережную, Фондамента деи Риформати, Fondamenta dei Riformati, мне никак не перейти по причине отсутствия моста через Рио дельи Дзеккини, направлюсь к другому памятнику венецианского благочестия, к церкви ди Сант’Альвизе, chiesa di Sant’Alvise, святого Альвизе, как венецианцы величают святого Людовика Тулузского, Ludovico di Tolosa, в миру – принца Анжуйского, на Кампо ди Сант’Альвизе, Campo di Sant’Alvise, находящейся.
Лудовико д’Анжиó, Ludovico d’Angiò, или Лудовико ди Толоза, венецианским диалектом превращённый в Альвизе, родился не в Провансе, как это утверждают французы, а на юге Италии, в провинции Салерно, в местечке Ночера Инфериоре, в котором находится Кастелло ди Парко, Castello di Parco, Парковый Замок, одна из резиденций неаполитанских королей. Величественные развалины нормандских башен Кастелло ди Парко, венчающие высокий холм, до сих пор царят над Ночерой, и происхождение Лудовико было столь же величественным, как и эти развалины, – он был сыном Карла II, короля Неаполя, прозванного Хромым, и Марии Венгерской. Принадлежа к французской династии, правящей Южной Италией, в юношестве Лудовико был вовлечён в события, известные публике по большей части по опере Верди «Сицилийская вечерня», I vespri siciliani, то есть в восстание сицилийцев против французов в 1282 году. Опера рассказывает о Сицилийской вечерне очень оперно, то есть, как всякое искусство, безбожно врёт, но сейчас не об этом речь, тем более что в 1282 году Лудовико было восемь лет, а впутан в события он был шесть лет спустя, в 1288-м, когда его отец, взятый в плен королём Педро III Арагонским в ходе войны, Сицилийской вечерней спровоцированной, и томившийся в Испании, был освобождён в обмен на отказ от прав на Сицилию и доставки в Испанию трёх его сыновей. Лудовико вместе с двумя другими принцами (всего у Карла Хромого было шесть сыновей, так что трое пленников – всего лишь половина) стал заложником или, как это ещё называется, аманатом, гарантируя своей жизнью выполнение Карлом Хромым обязательств перед Арагонским королевством. Лудовико в четырнадцать лет оказался в Барселоне; ему, второму сыну, дабы в корне пресечь соперничество со старшим братом, была уготована церковная карьера, как это полагалось в семьях владетельной аристократии. В Барселоне он, воспитанник францисканцев, службу церкви и начал, причём очень круто, с поста архиепископа Лионского, ни больше ни меньше. Сан был присвоен ему по достижении совершеннолетия и исключительно по праву рождения, так как утвердивший его в этом звании папа Целестин V был возведён на престол Карлом Хромым. Имел ли Лудовико права на этот пост? Он, будучи испанским пленником, исполнял свои обязанности очень издалека, но был юношей милым, воспитанным, красивым, старательным, благочестивым etc., – искупали ли его личные духовные достоинства факт его физического отсутствия? Интересный вопрос католической церковной бюрократии, и мне, именно в силу столь номинально-блистательного начала его церковной карьеры, Лудовико рисуется подобным епископу Агдскому, молодому красавцу, застигнутому Жюльеном Сорелем в Стендалевом «Красном и чёрном» театрально репетирующим перед зеркалом свою проповедь: «Мне тут должны принести митру. Ее так скверно упаковали в Париже, что вся парча наверху страшно измялась. Прямо не знаю, на что это будет похоже, – грустно добавил молодой епископ. – И подумайте только, меня еще заставляют дожидаться!» О, измятая парча! Она так подходит к образу нежного и несколько жеманного щёголя, каким святого Альвизе чаще всего итальянские художники и изображали.
В 1295 году умирает старший брат Лудовико, Карл Мартелл, что совпадает с годом освобождения из плена, – факт получения Лудовико сана лионского архиепископа говорит о том, что плен отнюдь не был заточением. Лудовико становится наследником престола, и здесь юный неженка проявляет характер (или отсутствие оного?), отправившись в Рим к сменившему Целестина папе Бонифацию VIII и передав все права на престол в пользу своего брата Роберта Анжуйского, мотивируя своё самоустранение тем, что он уже принял постриг, является францисканцем и от монашеского сана отказываться не собирается. В Лионе Лудовико так и не побывал, зато папа Бонифаций в 1296 году делает его епископом Тулузским, что является большим повышением, так как Тулузская епархия тогда была самой большой во Франции, и, кажется, в Европе (впоследствии она была разделена на пять). В его назначении сыграло свою роль то, что его дядя, Альфонс де Пуатье, был последним графом Тулузским, и после его смерти, так как он не оставил наследников, обширнейшие земли графств Пуатье и Тулузы перешли короне. Присоединение произошло недавно, оппозиция Парижу на юге была сильна, и на Лудовико, троюродного брата французского короля Филиппа IV Красивого, возлагалась труднейшая задача примирения противоречий – то есть повышение было делом политическим. К тому же земли Тулузского епископства были напичканы альбигойской ересью, на юге Франции ещё не до конца уничтоженной. Высокое назначение Лудовико осложнялось ужасающими отношениями папы Бонифация с французским королём, молодой епископ должен был как-то сглаживать и это, так что сан епископа Тулузского был более чем обременительной ношей для молодого человека двадцати двух лет. Получен пост был – факты свидетельствуют в пользу именно такого заключения – не в силу уникальной решительности характера, которой требовала должность, а в силу семейных связей. Вроде бы у Лудовико вдобавок ко всему был туберкулёз – болезнь интеллектуалов, если верить «Волшебной горе».
Лудовико и сам это понимал, поэтому не раз пытался от назначения отказаться. Летописцы рассказывают, что свои обязанности Лудовико, несмотря на слабое здоровье, исполнял очень хорошо, о себе забывал, думал лишь об обездоленных, сирых и убогих и никакой жестокостью по отношению к провансальским еретикам себя не запятнал. Впрочем, испортить свою репутацию он бы и не успел, так как епископствовал недолго. Получив сан в декабре 1296 года в Риме, он, достигнув Тулузы в феврале, пробыл там всего две-три недели, потому что отправился в Каталонию на свадьбу своей сестры Бьянки и короля Арагона, Хайме II, прозванного Справедливым, – попытка примирить Арагон и Анжуйскую династию была важным политическим шагом. На обратном пути Лудовико заехал в Рим, где встречался с папой, пытаясь в очередной раз убедить его снять с него епископские обязанности, но получил отказ. Будучи вообще здоровья слабого, тягот пути и нервной перегрузки он не выдержал и скончался в возрасте двадцати трёх лет в городе Бриньоле, что в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, в августе 1297 года. Когда Лудовико успевал заботиться о сирых и обездоленных, как летописцы это расписывают, решайте сами, но нескольким нищим помыть ноги он успел, это точно. Из-за мытья ног, наверное, могила его в соборе города Тулузы, где Лудовико был похоронен первоначально, стала излучать особое благоухание, даже и в благоухающем Провансе удивительное. Вот тут-то и началось: дух его по ночам стал являться верующим, всё больше благородным дамам среднего возраста, и давать ценнейшие советы, в том числе по поводу их здоровья, а также здоровья их детей и внуков. Лудовико прослыл защитником всех измождённых болезнями, и к его могиле стали приносить больных рахитом младенцев, тут же выздоравливавших. Погребение Лудовико стало столь знаменитым, что через некоторое время тело было эксгумировано, и все убедились в нетленности святых останков, в том числе и нетленности мозга святого, производившего впечатление совсем живого, чуть ли не пульсировавшего, к вящему удивлённому восхищению всех верующих, сиё лицезревших. Эксгумация была произведена для подтверждения его статуса святого, данного ему довольно скоро, в 1307 году, папой Климентом V, но как святой он пользовался популярностью в Италии, Испании и Венгрии, а не во Франции. Арагонская династия Лудовико очень чтила, заполучила его останки и перевезла их в Валенсию в 1423 году, где они покоятся и поныне. Когда в валенсийском соборе происходила публичная демонстрация новоприобретённых святых мощей, то чудеса множились, и несчётное количество мавров и иудеев Валенсии при виде столь свежего мозга обратилось в христианство, превратившись в морисков, то есть в выкрестов. Мозг, правда, украли и до сих пор не нашли, а морисков из Испании изгнали и до сих пор не вернули.
Мне нежный святой юноша симпатичен (мне, правда, как Жюльену Сорелю, очень нравится и красавец епископ Агдский), но нельзя всё же не увидеть, что его культ, так же как и его карьера, дело рук аристократических родственников. Поклонение Лудовико ди Толоза никогда не было народным, и кажется, что оно выпестовано в среде благочестивых и неглупых ханжей-аристократок, столь же безупречных, сколь и развратных, этаких маркиз де Мертей в старости, – именно они создают карьеры нежных юношей. Кампо и церковь ди Сант’Альвизе пропитаны духом этого благочестия: холёные и увядшие руки в кружевных митенках, перебирающие чётки и лепестки сушёных роз. Стойкий запах провинциального аристократического французского католицизма, хорошо знакомый по Стендалю и Бальзаку, исходит от по-провансальски готического фасада церкви, совсем не изменившегося с того времени, как Лудовико, он же – Альвизе, юный и прекрасный, в парче и кружевах, явился некой ночью 1383 года благородной венецианской патрицианке Антонии Верньер и посоветовал ей (я уверен, что повелеть он не мог) воздвигнуть на окраине города церковь и женскую обитель, в которой впоследствии Антония и закончила свои дни. Благоухание увядшего благочестия усиливается, когда входишь в церковь и видишь прекрасно сохранившиеся деревянные хоры, предназначенные для монахинь, сегодня в итальянских церквах очень редкие, называемые barco, «корабль», и кованые решётки, монахинь от мира ограждавшие. Потолок церкви украшает архитектурная перспектива, приписываемая малоизвестному театральному декоратору Антонио Торри, выразительная и грубая, с по-оперному синим небом, расчерченному витыми колоннами: оформление музыкальной драмы «Сант’Алессио» Стефано Ланди, этой замечательной постановки для контртеноров, – вот сейчас, в арочный просвет заверченных Торри колонн Филипп Жарусски просунется и запищит нечто божественно упоительное: Филипп Жарусски престарелым маркизам де Мертей, как и Альвизе, с которым он внешне схож, тоже очень нравится. Всё чудесно подобрано, но лучше всего – три картины Джованни Батиста Тьеполо, три изображения страстей Христовых, «Бичевание», «Коронование терновым венцом» и «Шествие на Голгофу», написанные им где-то около 1740 года и кажущиеся последними великими полотнами католицизма. В этих трёх картинах, совершенно замечательных, чувствуется, как вера превращается в религиозность и, покидая искусство, обрекает его на то, чтобы или деградировать в кич, обслуживающий культ, или стать символико-исторической картиной, наподобие великого «Явления Христа народу» Иванова. Но сцены Тьеполо, озарённые золотистым светом заката католицизма, прекрасны, как россиниевская Petite Messe solennelle, Маленькая торжественная месса. Смятая парча, о, смятая парча Кампо ди Сант’Альвизе!
Понте Кьодо
Глава пятая Ужин с Лоренцаччо
Мост Гвоздя. – Семейство Дзен. – Понятие Scuola. – Crociferi. – Четвёртый крестовый поход. – История и разграбление Константинополя, все «против». – Смерть Берогота и разграбление Константинополя, все «за». – Пальма Джоване в Ораторио деи Крочифери. – Анаклет II. – Венеция и иезуиты. – Церковь И Джезуити. – Будуар фельдмаршальши из «Кавалера Розы». – Тицианово аутодафе. – Про светское общество Венеции 1540-х. – Ужин стейками святого Лаврентия. – Игроки в морру
Кампо ди Сант’Альвизе – последняя остановка на магистралях Каннареджиевых рио, как и причал Сант’Альвизе – одна из конечных остановок вапоретто. Можно, пройдя столь же невыразительные, как и у церкви Мадонна делл’Орто, двадцативековые новостройки, сменившие сады, здесь когда-то цветшие, опять сесть на вапоретто и достигнуть того места, куда я сейчас направляюсь, церкви ди Санта Мария Ассунта, детта И Джезуити, chiesa di Santa Maria Assunta, detta I Gesuiti, церкви Вознесения Девы Марии, прозванной Иезуитской, в пять минут. Можно же пойти длинным путём, и, вернувшись на прямые линии набережных Рио делла Сенса, дойти до того места, где Канале ди Мезирекордия как бы разделяется на два рукава, каждый из которых – особое рио, и, попав в паутину многочисленных мостиков, немного поблуждать. Найти наконец нужный, Понте делла Раккетта, Ponte della Racchetta, и через Соттопортего деи Прети, Sottoportego dei Preti, Проход Священников, попасть на Калле Раккетта, Calle Racchetta. Там уж по прямой доходишь до Фондамента Сан Катерина, Fondamenta San Caterina, – именно её я и ищу, так как далее путь к И Джезуити не по-венециански прост.
Переходя канал по оживлённейшему Понте делла Раккетта, забитому людьми, я всегда останавливаюсь и любуюсь на мостик via-a-vis, бездействующий и всегда пустой, потому что по нему никуда не пройти. Мостик этот был, так сказать, «частным» мостом, он вёл лишь к дверям дома и по нему никуда, кроме как в этот дом, попасть невозможно. Старая дверь дома наглухо забита, мостик – чистая декорация, зато хорош, как будто с картины Гварди сошёл. Мостик – один из немногих, полностью сохранившихся безо всяких добавлений, мостиков Венеции XVIII века, он без ограды и без парапета. Вход на него ступенчатый, крутой и лёгкий, и троллей по нему втащить – задача труднейшая, сложно с троллей вкатиться в картину Гварди. С одной-то стороны вход на мостик – он даже имеет имя собственное и называется Понте Кьодо, Ponte Chiodo, Мост Гвоздь (не di Chiodo, Мост Гвоздя, а именно Мост Гвоздь; почему, я не знаю) – открыт, и мне конечно, в картину Гварди страшно залезть захотелось, и как-то я на мостик взошёл и постоял на его середине, одинокий, как Наполеон на острове Елена. Вид был у меня дурацкий, и мне казалось, что весь люд, снующий по Понте делла Раккетта, на меня уставился. Стоя на Понте Кьодо, я испытал то же чувство, что своим рассказом пытался мне передать один шапочный российский знакомый, вполне на вид ординарно симпатичный буржуазный мачо, с которым мы как-то оказались рядом во время перелёта в Амстердам. Мы сошлись с ним в любви к Амстердаму, и он выдал мне чудную историю, рассказав, что в амстердамском Де Валлене он всегда испытывал столь непреодолимое желание оказаться в витрине, залитой красным светом, на всеобщем обозрении, что однажды договорился с проституткой, за определённую мзду разрешившей ему посидеть полчаса на её рабочем месте. Сначала она никак не могла понять, что от неё хотят, но потом, позвонив куда-то, согласилась, слегка надбавив цену.
– Ну, и?.. – я неподдельно оживился.
– Ну и ничего… посидел, встал и ушёл, до сих пор доволен, – ответил он мне, и вот то же самое чувство довольства я испытывал, когда сходил с Моста Гвоздя, чтобы отправиться на Фондамента Сан Катерина, после того как проторчал на нём некоторое время на виду у публики, толкущейся напротив.
С Фондамента Сан Катерина я перехожу на Фондамента Дзен, Fondamenta Zen. Никакого отношения к буддизму эта набережная не имеет, а называется так потому, что вдоль неё тянутся фасады трёх роскошных дворцов патрицианской фамилии Дзен, или Дзено, Zeno, как, исправляя венецианский выговор, её произносит остальная Италия. Фамилию Дзен носили многие адмиралы и другие влиятельные люди, но прославили её три брата, Карло, Антонио и Николó, жившие во второй половине XIV века. Старший, Карло, был победителем битвы при Кьодже 1380 года, решившей генуэзско-венецианскую войну в пользу Венеции, а Антонио и Николó знамениты своими авантюрными северными путешествиями в районе Фарерских островов и Гренландии, а также тем, что вроде бы они Америку на сто лет раньше Колумба открыли, когда в 1390-е годы достигли полуострова Лабрадор. Известно это стало в 1558 году, когда один из потомков путешественников, их внучатый-перевнучатый племянник, тоже Николó, карту, ими во время путешествия созданную, разыскал на чердаке одного из дворцов Дзен и опубликовал вместе с письмами своих прапрапрадядей. Из публикации явствовало, что братья Дзен всё Атлантическое побережье Канады излазали и изобразили с точностью просто удивительной, но, увы, большинство учёных публикацию считают фальшивкой, хотя карта получила известность и даже имя собственное, так что все историки открытия Америки в курсе вопроса «карты Дзено».
Хотя Америку братья Дзен и не открыли и вся затеянная младшим Николó история была не более чем пиаровская акция, нацеленная на прославление Венеции и унижение Генуи, родины Колумба, семейство Дзен росло и ширилось, и один за другим отгрохало себе дворцы в уже ставшем модным Каннареджо. Дворцы построены в XV–XVI веках, строили их многие, одним из архитекторов был великий Себастьяно Серлио, чердаки дворцов были набиты сундуками, полными старинных карт, а фасады расписаны Скьявоне и Тинторетто, но сегодня ничего от этого не осталось, чердаки пусты, а фрески стёрты. Фондамента Дзен меня интересует не из-за дворцов Дзен, а из-за того, что по ней можно дойти до Кампо деи Джезуити, Campo dei Gesuiti, Площади Иезуитов, на которой находится Скуола деи Крочифери, Scuola dei Crociferi, – и, как же это перевести на русский?
«Школа Крестоносцев» – дословный перевод звучит завлекательно и совершенно неверно. Во-первых – Scuola, «Школа». В русском, да и в других языках, в том же итальянском, это слово означает некое учреждение, в котором кто-то кого-то обучает, подразумевая тем самым ограничение воли обучаемых волей обучающих, пусть даже и на добровольных началах в так называемых «свободных школах». Происходит этот термин от латинского слова schola, что означает диспут и учёное собеседование, и у всех нас, у меня в том числе, школа ассоциируется с чем-то обязательным, куда насильно отправляют и откуда уйти можно, но лишь «сбежав». Так уж у школ получилось, и этим они отличаются от университетов и институтов, в которых подобная обязаловка отсутствует. Давайте признаемся честно – школа есть насилие над правами несовершеннолетних. Никто их согласия на посещение школы не спрашивает, и этот произвол есть прямое доказательство невозможности создать общество равноправия: детей всегда будут заставлять учиться, тем самым нарушая их права на нежелание в школу идти. Но венецианское понятие Scuola (именно так, не scuola, а с прописной буквы) латинскую schola игнорирует, а обращается к действительным истокам происхождения этого слова, к греческому σχολή, что означает досуг и свободное времяпрепровождение. Греческое σχολή относится к процессу, определяющемуся не соотношением «учитель – ученик», так или иначе подразумевающим принуждение, что обычно у нас зовётся обучением, а паритетным соотношением сторон: σχολή – свободный обмен знаниями взрослых людей в свободное от работы время.
В Древней Греции σχολή, scholē, «схоле», предназначалась не для детей: в ней не было психологического и физического угнетения несовершеннолетних взрослыми, что свойственно любой, самой демократичной школе мира. Древние греки детей σχολή не насиловали, предпочитая их насиловать другими способами, на что они мастера были: о насилии уточняю, потому что не хочу присоединятся к хору славящих пресловутую свободу древних Афин и Спарты, которая есть выдумка, фикция и словесная иллюзия, причём не очень чистоплотная, если учесть, что свободные общества Эллады опирались на рабовладение.
Венецианская Scuola – это светское сообщество-организация, объединяющее определённую группу жителей (не обязательно граждан, это могли быть и представители диаспоры, не получившие полноправного гражданства) в некое братство, имеющее свой собственный статус, свои права и свои обязанности перед государством, а также собственные интересы и свою собственную линию поведения политического, социального и даже культурного. Объединение происходило по принципу принадлежности к профессии, к району проживания, к социальному статусу, но решающим всё же было некое сродство душ, и венецианская Scuola есть нечто среднее между средневековым цехом, английским закрытым клубом и современным негосударственным союзом – то есть нечто очень оригинальное, специфически венецианское и в истории Венеции многое определяющее. Первые Скуолы появились в XI веке, их количество росло, доходило до 400, и Сенат, то есть центральная власть, на них и опирался, и с ними боролся в одно и то же время. Скуолы были добровольно сформированными ассоциациями в результате проявления воли свободных граждан. Они старались добиться независимости от государственной власти, ограничив её вмешательство и противодействуя попыткам регламентации со стороны Сената. Короче, венецианские Скуолы определяли общественные отношения вне рамок властно-государственных структур, но в рамках государства как такового, и в этом смысле были шагом на пути создания развитого гражданского общества, которое является важнейшей предпосылкой построения правового государства. Были, да сплыли, потому что Наполеон после оккупации Венеции упразднил Скуолы вместе с республикой.
Каждая Скуола обладала своим зданием, в котором были залы для собраний, молитв и отдыха, библиотеки и различные другие помещения, соответствующие важности и влиятельности Скуолы, ибо все они делились на два разряда: Скуоле Гранди, Scuole Grandi, Большие Скуолы, и Скуоле Минори, Scuole Minori, Скуолы Малые. Малые могли быть больше Больших, но в Scuole Grandi заправляли патрицианские семьи, а Scuole Minori – средний класс. Каждая Скуола имела свой устав, «мариегола», mariegola, от латинского matricula, «запись», также именуемый Материнским Правилом. Некоторые мариеголы дошли до нас и представляют собой роскошные манускрипты, украшенные миниатюрами. По ним, этим канцелярским по сути своей документам, можно судить о том, какую огромную роль в деятельности Скуол играла эстетика как таковая. Как феномен эстетический Скуолы и вошли в историю, потому что они, имея внушительные и совершенно независимые от государства финансовые средства, на протяжении всего существования Венецианской республики были важными заказчиками художников, архитекторов, скульпторов и других мастеров, чуть ли не более важными, чем Сенат. Скуолы щеголяли одна перед другой величием своего декора, но Наполеон, лишив Венецию свободы и упразднив институт Скуол, большинство зданий, им принадлежащих, национализировал. Картины, книги, утварь и мебель частью передал в музеи, а частью разграбил и пустил на антикварный рынок.
Несколько Скуол всё же сохранились почти нетронутыми, и, более того, некоторые из них после крушения Наполеоновской империи возродились как общественные организации и существуют по сей день, хотя сегодня их роль в Венеции – лишь бледный отблеск того значения, что Скуолы имели во времена своего расцвета. Каждая из сохранившихся Скуол – великий музей, они обязательны для посещения и упоминаются в каждом путеводителе, хотя значение термина «Скуола» везде объясняется лишь приблизительно. Это естественно: историей Скуол никто нигде и никогда глубоко не занимался и пока не существует ни одного исследования, посвящённого их роли в жизни Венецианской республики. Все пишущие о Венеции объясняют термин «скуола» невнятно, как нечто среднее между религиозным братством и благотворительной организацией. Почему? Может быть потому, что тема эта слишком опасна, так как неудача Скуол, этого шага на пути создания развитого гражданского общества и предпосылки построения правового государства, является доказательством невозможности построения правового государства в принципе. И что тогда делать, если раскрутят и осмыслят эту историческую неудачу конкретного феномена западной цивилизации? Как будет выглядеть европейская демократия и что будет с её ценностями? История Венеции – опаснейшая тема, и Скуолами занимается лишь история искусств, а она, будучи дура дурой, смотрит на них как на собрание картин, да и только. Все, кто о Скуолах от историков искусств знают, думают – ну школа да школа, почему бы и нет? Я от некоторых вполне образованных людей слышал мнение, что в Скуолах учили детей и юношество.
Во-вторых, Crociferi, «Крестоносцы». Слово crocifero, означая «несущий крест», абсолютно точно соответствует русскому «крестоносцу», но как раз крестоносцы по-итальянски называются crociati, то есть «крестом отмеченные». Венецианские Crociferi крестоносцами, то есть воинами, не были, но были гражданской организацией, делу крестоносцев помогающей. Изначально Crociferi появились в Святой земле, где-то сразу после Первого крестового похода, в начале XII века, и назывались красиво и длинно Орденом воинов-крестоносцев с красной звездой на синем поле, Ordine militare dei crociferi con stella rossa in campo blu, или, короче, вифлеемиты, Betlemitani. В дальнейшем вифлеемитов разведётся множество, но никто из них не будет иметь отношения к крестоносцам с красной звездой. История самого Ordine militare dei crociferi очень смутна, известно только, что он уже в XII веке Святую землю покинул и попал в руки венецианцев, использовавших эту организацию, ими полностью контролируемую, в своих интересах. Венецианцы Гроб Господень и Святую землю чтили, но и только, и в сферу их интересов христианские святыни входили косвенно, ибо венецианцы более всего были озабочены своей гегемонией в Восточном Средиземноморье и Шёлковым путём. Шёлк и пряности – это нефть Старого времени, и многие считают, что именно любовь к шёлку и пряностям, а не любовь Гробу Господню, спровоцировала аферу Крестовых походов. Не папа римский, а ушлые итальянские республики, Генуя, Венеция и Пиза, используя мощную машину пропаганды – христианскую церковь, – заставили тупых и ничего не соображающих заальпийских рыцарей служить пробивным тараном своих ближневосточных интересов. История венецианских Crociferi подтверждает именно эту версию, потому что орден, узурпированный венецианцами, особенно отличился в самом ужасающем из Крестовых походов, Четвёртом, вызвавшем неодобрение самого папы и считающемся позором католицизма.
Четвёртый крестовый поход был инициирован Иннокентием III, чуть ли не самым молодым папой в истории Ватикана. Он вступил на престол в возрасте 36 лет в 1198 году и, брызжа энергией, призвал католиков к новому Крестовому походу, который должен был стать реваншем за неудачи в Третьем, когда рыцарями был потерян Иерусалим. Папа надеялся завоевать популярность, но Европа на его воззвание откликнулась вяло, так как была занята своими делами. Отклик нашёлся только в сердцах французских рыцарей, ибо у французов образовался излишек младших детей благородных фамилий, которым заняться, кроме грабежа, было решительно нечем. Возглавил их пьемонтец Бонифаций, маркиз Монферрата. Он был четвёртым сыном в семье, в юности вёл жизнь средневекового плейбоя, ни на что особенно не годного, и болтался вдали от родного Монферрата, то в Лигурии, то в Савойе, пока, неожиданно для самого себя, не стал маркизом Монферратским, потому что его отец и старшие братья вдруг и разом отдали Богу душу. Произошло это около 1190 года. Бонифаций стал владетельным князем, но маркизат, доставшийся ему, был нищим лоскутом земли, зажатым между владениями сильных городских коммун. Маркизы Монферрата, не в силах прокормиться доходами со своих владений и слишком ленивые, чтобы как-то их улучшать, своих подданных оставляли на произвол судьбы, а сами издавна подвизались при различных владыках как наёмники. Бонифаций, став маркизом, продолжал обслуживать императора Генриха VI Гогенштауфена, участвуя в его экспедициях, от Монферрата далёких, и в 1201 году, призванный возглавить Четвёртый крестовый поход, он на это тут же согласился, ибо более радужной перспективы для себя не видел. Вокруг него собрались такие же авантюристы, как и он сам, только помельче.
Фондамента Орсеоло
Никаких реальных средств у Бонифация не было, но в его распоряжении была банда, и не малая – где-то около 10 тысяч человек, – молодых и отчаянных головорезов. С этой бандой маркиз оказался в Венеции летом 1202 года, потому что Венеция обещала за 85 000 серебряных марок перевезти Бонифация и его воинство в Святую землю морским, самым кратким, путём. Деньги должен был собрать христианский мир, но мир не торопился, у крестоносцев было меньше половины требуемой суммы, а венецианцы верить христианам в долг не собирались. Ситуация для Венеции была щекотливая, так как в городе оказалась взрывоопасная масса воинов Христовых, злобных, нищих и голодных, но довольно молодых, достаточно сильных и ещё к тому же вооружённых. Девяностолетний слепец дож Энрико Дандоло, один из хитрейших правителей в мире, видно, заранее всё продумал. Во всяком случае, венецианцы, руководимые им, благоразумно поместили Бонифациевых рыцарей на острове Лидо, в разумной дали от города. Лидо в то время отнюдь не был курортом, как сейчас, а был пустынной безводной песчаной косой с редкими деревьями, и лагерь рыцарей, устроенный для них венецианцами, был очень похож на лагеря для интернированных. Рыцари полностью зависели от подвоза воды и продуктов, и, будучи отделены от берега заливом, не могли никого ни пограбить, ни изнасиловать, как это в христианском воинстве было принято. Как Бонифацию удалось позволить завлечь себя в подобную ловушку, это проблема его глупости и следствие хитроумия Дандоло, но в ситуации он оказался ужасающей. Венецианцы с Дандоло явно всё рассчитали, потому что никакой поход в Святую землю им не был нужен – они как раз наладили с арабами сносные торговые отношения и портить их новой бессмысленной войной не собирались. Крестоносцы изначально предполагали высадиться в Египте и оттуда начать борьбу с неверными, что уж венецианцам совсем не нравилось, потому что как раз с Египтом у Венеции в это время всё было прекрасно. Доведя своими проволочками крестоносцев до ручки, венецианцы получили то, что хотели, – Бонифаций превратился в главаря наёмников, на всё готовых, и, после некоторых переговоров с Дандоло, он соглашается в качестве платы пособить Венеции в захвате христианского и католического хорватского города Зары (Задара), давнего соперника Венеции.
В ноябре 1202 года с помощью банды Бонифация венецианцы Зару захватили и разграбили жесточайшим образом, покончив с её независимостью и соперничеством. Даже в среде крестоносцев нашлись те, кто возражал против подобного, ни с чем не сообразного, поведения, и кое-кто (немногие) покинул Бонифация. Теперь, казалось бы, крестоносцы расплатились, и венецианцы должны были прямёхонько их переправить в Египет для того, чтобы те могли отдать свои жизни за святое дело. У Дандоло, однако, появился план гораздо более тонкий. В то время как крестоносцы зимовали на Адриатическом побережье на завоёванных ими для Венеции территориях, подальше от самой Венеции, но полностью под её контролем, Бонифаций отправился в гости к своему двоюродному брату Филиппу Швабскому, которого хорошо знал по службе дому Гогенштауфенов. Филипп был женат на византийской царевне Ирине, дочери императора Исаака II Ангела, низвергнутого собственным братом, воцарившимся на константинопольском престоле под именем Алексея III. Исаак был ослеплён и брошен в темницу, но сына его, своего племянника и тёзку, Алексей III упустил, тот смог сбежать, добрался до своей сестры и теперь болтался, хныча о своей участи, при Швабском дворе. Историки гадают о том, был ли визит главы крестоносцев в Швабию спланирован или случаен – в случае случайности надо признать, что Бонифаций был настолько безмозглым, что мог без всякой задней мысли, совершенно ни о чём не задумываясь, отправиться у кузена погостить, бросив вверенное ему Святое воинство перебиваться в зимнем лагере. Бонифаций, быть может, и был без мозгов, но Дандоло определённо мозги имел, и весной 1203 года царевич Алексей прибывает в сопровождении Бонифация в стан крестоносцев. Появление обойдённого престолонаследника дало венецианцам, уже взявшим крестоносцев в свои руки, возможность облечь в форму законности свой откровенно агрессорский план установления контроля над Константинополем, обосновав его понятием права – восстановлением законности в Византии. Из своих зимних лагерей на Адриатике крестоносцы отправились не в Египет, а в Грецию, и в июне 1203 года подплыли к бухте Золотой Рог.
Царевич Алексей, хотя и был законным наследником, но был безответствен, неумён, слаб и нерешителен – то есть был мальчишкой (ему в это время было двадцать) никчёмным. Он сулил крестоносцам и венецианцам золотые горы, причём договорился до того, что обещал православную церковь подчинить Риму; чем-то он напоминает своего тёзку, несчастного сына Петра I. Благодаря интервенции он, однако, на родину вернулся победителем, хотя и не без некоторых трудностей: византийцы приветствовать законного владыку не собирались, и развязалась гражданская война. Она продолжалась и тогда, когда 1 августа 1203 года освобождённому из темницы слепому Исааку был возвращён титул императора Византийской империи, а его сын был объявлен соправителем под именем Алексея IV.
Свергнутый Алексей III бежал в Адрианополь, прихватив с собой казну, поэтому, для того чтобы заплатить крестоносцам и венецианцам, на чьих мечах покоилась его власть, Алексей IV приказал изъять из церквей утварь, переплавляя золотые и серебряные ризы константинопольских икон. Подобные меры отнюдь не способствовали его популярности. В Константинополе царила анархия, город перенёс несколько пожаров, и в тот момент, когда новый император отправился с основными силами крестоносцев штурмовать Адрианополь, в столице поднялось восстание, направленное против интервентов. Это уже была третья сила в гражданской войне, национальная и народная, но, как всякая народная сила, стихийная и неорганизованная. Крестоносцы и венецианцы снова были изгнаны, народ уже выступал и против Алексея III, и против Алексея IV, и выдвинулся новый Алексей, Алексей Дука, принадлежавший к высшей знати и бывший даже родственником правящего дома. Дука обоих Ангелов, Исаака и Алексея, заключил в тюрьму и скоро с ними разделался, отца отравив, а сына удавив в феврале 1204 года, и короновался сам, провозгласив себя императором под именем Алексей V. Восстание обернулось дворцовым переворотом, а внутридинастическая борьба никогда не имеет особой популярности. Народность улетучилась, и венецианцы с крестоносцами, пользуясь неразберихой и неспособностью византийцев объединиться, снова атаковали Константинополь, который, так же как и мы с вами, в Алексеях уже запутался и их возненавидел. Город немного посопротивлялся, но в апреле 1204 года крестоносцы в него ворвались, сторонники Алексея Дука были разбиты, и сам он бежал. Город был предан огню и мечу. Грабили его и венецианцы, и крестоносцы, и чернь, и великий Константинополь, Царьград, был унижен, опозорен, обесчещен и раздавлен.
Разграбление Константинополя ужаснуло даже папу Иннокентия III, всю кашу заварившего, ибо он понял, что это преступление против человечества нанесло христианству непоправимый ущерб. Во-первых, от этого злодеяния папскому престолу и католицизму было не отмыться никакими буллами и инвективами, поэтому его просто замалчивали и продолжают замалчивать, так как ни одного выдающегося исследования о Четвёртом крестовом походе нет, хотя о трёх, ему предшествующих, понаписаны тонны книг. Четвёртый крестовый поход полностью дискредитировал развязывание войн ради религиозных идей (в исторической перспективе это, быть может, единственная его положительная роль), обнажив реальные силы, манипулирующие тем, что именуют верой, хотя на поверку выходит, что это всего лишь культ. Дальнейшие Крестовые походы: Детский крестовый поход, поход против альбигойцев и походы Тевтонского ордена лишь множили доказательства крайней отвратительности идеи Церкви воинствующей, а также тех, кто имеет глупость на Крестовые походы ссылаться сегодня, рассуждая о ближневосточном конфликте.
Во-вторых, Четвёртый крестовый поход нанёс сокрушительный удар Византии, от которого она так и не оправилась. Направляемые венецианцами, головорезы Бонифация Монферратского расползлись по Пелопоннесу, поделив его на бандитские уделы. Ворох лоскутов, на который была изрезана Греция мечом крестоносцев, в истории гордо именуется Латинской империей. О Латинской империи мало что известно, кроме сообщений о бесконечных драках всех со всеми, да и какая история может быть у бандобъединений? Только хроника. Просуществовала Латинская империя тем не менее целых пятьдесят лет, пока византийцы не вернули себе Константинополь. Эти полстолетия – чёрная дыра, засосавшая Византию, обескровившая её, лишившая престижа, каким она пользовалась в мире до 1204 года, и обрекшая её на гибель, ибо Византия была неспособна уже сопротивляться туркам-сельджукам, которые были намного страшнее цивилизованных арабов. Прямая наследница античной Греции стала жертвой новых варварских племён, так что в конце концов Константинополь Стамбулом стал, а Святая София, Храм Премудрости Божией, – мечетью. Вместе с Византией обречено было и всё ближневосточное христианство, самое древнее и почтенное: сирийское, палестинское, египетское, а также и все Семь церквей Апокалипсиса – Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия, превращённые сегодня в туристические объекты в городах, в которых христианское население практически отсутствует.
В-третьих, усиление турков-сельджуков и их султанатов привело к появлению Османской империи, сожравшей и христианский, и арабский мир Ближнего Востока. Греция и Армения, два древних очага христианской цивилизации, остыли и теперь едва теплятся. Европа получила порабощение Балкан и балканские проблемы, а также трёхсотлетнюю угрозу мусульманского вторжения. Венеции достались триста лет изматывающих войн и потеря монополии в торговле с Востоком в результате перемещения торговых путей. С турками-то, в отличие от арабов, договориться было невозможно, и Великий шёлковый путь приказал долго жить. Это привело к истощению республики и утрате ею независимости; ну а современному миру достался весь ворох ближневосточной гадости, ставший результатом гибели арабской цивилизации. Всё это миру обеспечил слепой девяностолетний старик, Энрико Дандоло, в 1204 году, хитрейший правитель в истории человечества, столь умело построивший политическую интригу в интересах Венеции, орудуя дураком Бонифацием как тараном и используя беспутного Алексея как прикрытие. Как правильно заметил Бернард Шоу: «Старики – народ опасный: им нет дела до того, что может произойти с миром».
Можно привести ещё доводы и в-четвёртых, и в-пятых, и в-десятых, но я думаю, этого вполне достаточно для пути по Фондамента Дзен к Скуола деи Крочифери. Эти самые Крочифери, Crociferi, «Носители крестов», члены взятого Венецией под своё крыло Ordine militare dei crociferi, всё время кружили вокруг Четвёртого крестового похода, принимая деятельное участие в осуществлении планов старика Дандоло. Многие венецианцы стали членами ордена, и орден обеспечивал контроль Венеции над Латинской империей, а также над всеми её ближневосточными интересами. Крочифери вились и над распределением богатейшей добычи, награбленной в Константинополе. Благодаря их стараниям собор Святого Марка оказался набит сокровищами, а над площадью вознеслась греческая квадрига, Кони Святого Марка, Cavalli di San Marco, шедевр позднего эллинизма, утащенный венецианцами с Константинопольского ипподрома, теперь называемого площадь Султанахмет. Кони Святого Марка стали символом могущества и независимости Венецианской республики, но они же – свидетельство её преступлений; нет на земле проступка без отмщенья, сказали в один голос невинные, зарезанные во время ограбления Константинополя, смотря с небес на то, как Коней Святого Марка потащил к себе в Париж Наполеон, – поэтому я так и вздрогнул, услышав про Коней от полуголых аквалангистов на Кампо Сан Джоббе.
Кружа над добычей, Крочифери и себя не забывали. Многие венецианские семьи сколотили себе состояния именно во время грабежа Константинополя, и семейство Дзен с семейством Мастелли, давителями дукатов из вдов, были среди первых. В дальнейшем византийские владения для Венеции стали чем-то вроде Индии для англичан в XIX веке, туда отправлялись служить республике, а заодно и сколачивать состояние. Высасывая Византию, Венеция богатела и хорошела, но представим, какой Венеция была, когда Дандоло в ней планы разграбления Константинополя обдумывал. Нет ни фондамент, ни соттопортего, ни кампо, ни дворцов Большого Канала. Топкая грязь окружает сборище мазанок, кучкующихся вокруг нескольких каменных укреплений, домов знати, похожих на амбары, да нескольких романо-византийских церквей, чья простота граничит с убогостью. Вольно теперь рассказы о Четвёртом крестовом походе иллюстрировать гравюрами Гюстава Доре, изображающими, как Дандоло под величественными сводами собора Сан Марко благословляет одухотворённое рыцарство – наглый анахронизм, потому что и собора Сан Марко не было, а была небольшая церквушка, размером чуть превосходящая Покрова на Нерли. Не было ни дворца Дожей, ни Тюрем, ни Моста Вздохов, а на Пьяцца Сан Марко трава росла. Как грибы после дождя, дворцы и церкви полезут из почвы болотистых островков только после 1204 года, после дождя сокровищ, пролившихся на Венецию из разграбленной Византии. Распределение потоков этого дождя было отчасти в руках Крочифери, и семейство Дзен с орденом было столь тесно повязано, что один из представителей семейства, Раньер Дзен, и соорудил здание, называемое Ораторио деи Крочифери, Oratorio dei Crociferi, в котором Скуола деи Крочифери как раз помещалась.
Лагуна
Здание было возведено в XIII веке, в самое динамичное время Венеции, когда она, жируя на помощи святому делу Крестовых походов и укрепляясь на территории Византии, богатела, ширилась и наиболее активно строилась. К XIV веку, как раз ко времени бесславного конца Латинской империи, город обретёт очертания, практически соответствующие его современным границам, чтобы, в кватроченто достигнув расцвета, в XVI веке уже застыть и меняться совсем мало – за что Венеции большое спасибо. Фасад Ораторио деи Крочифери с XIII века остался неизменным, а площадь, образовавшаяся в XVI веке благодаря постройке нового дворца Дзен, замкнувшего пространство перед входом в Скуолу деи Крочифери, выглядит абсолютно так же, как она выглядит на картине Каналетто, даже четыре трубы на крыше Ораторио всё те же. Последние столетия отметили себя лишь посадкой нескольких деревьев и установкой скамеек – новшество единственное и довольно приятное. Усядешься на площади, как в картине Каналетто, и, вперившись взглядом в столь простую и столь прекрасную желтизну стены, вдруг осознаешь, как хороша эта венецианская желтизна, хороша настолько, что если смотреть только на неё одну, как на драгоценное произведение китайского искусства, то другой красоты уже не захочешь. Обнажится вся скудость и ненужность надуманных рассуждений об истории, ламентации о её несправедливости покажутся не стоящими сквозняка и солнечного света в Каннареджо, и я, впившись взглядом, как ребёнок в жёлтую бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную жёлтую стенку напротив, был готов простить Дандоло его безразличие к тому, что может произойти с миром. Как же мне описать эту желтизну, как слоями сухих слов наложить на бумагу что-то, подобное свету на этой жёлтой стенке, что-то, подобное залитым солнцем стенам Каналетто? Я почувствовал головокружение, и на одной чаше небесных весов мне представилась мировая история, а на другой – свет, заливающий венецианскую стену жёлтой краской. Я понял, что не могу променять первую на вторую, и, повторяя про себя: «Жёлтая стенка с навесом, небольшая часть жёлтой стены», я наконец рухнул на скамейку, но тут же перестал думать о том, что моя жизнь в опасности, и, снова придя в весёлое настроение, решил: «Это просто расстройство желудка, только и всего». Последовал новый удар, я сполз со скамьи на плиты площади, вокруг меня столпились какие-то туристы. Я был мёртв. «Мёртв весь? Кто мог бы ответить на этот вопрос? Опыты спиритов, так же как и религиозные догмы, не могут доказать, что душа после смерти остаётся жива. Единственно, что тут можно сказать, – это что всё протекает в нашей жизни, как будто мы в неё вошли с грузом обязательств, принятых нами на себя в предыдущей жизни; в условиях нашего существования на земле нам нет никакого смысла считать себя обязанными делать добро, быть деликатными, даже вежливыми, нет никакого смысла неверующему художнику считать себя обязанным двадцать раз переделывать часть картины, восхищение которой будет довольно-таки безразлично его телу, съеденному червями, так же как часть жёлтой стены, которую он писал во всеоружии техники и с точностью неведомого художника, известного под именем Вермера. Скорее можно предположить, что все эти обязательства, которые не были санкционированы в жизни настоящей, действительны в другом мире, основанном на доброте, на совести, на самопожертвовании, в мире, совершенно непохожем на этот, мире, который мы покидаем, чтобы родиться на земле, а затем, быть может, вернуться и снова начать жить под властью неизвестных законов, которым мы подчиняемся, потому что на нас начертал их знак неизвестно кто, законов, сближающих нас своей глубокой интеллектуальностью и невидимых только – всё ещё! – дуракам. Таким образом, мысль о том, что…» я «…умер не весь, заключает в себе известную долю вероятности» – это я смерть Бергота, наступившую подле «Вида Делфта» Вермера, лучшей картины города (именно так – картины города, а не лучшего городского вида, или изображения города, или даже портрета города) в мире, и Прустом описанную, вспомнил – объяснение несколько излишнее, так как всем и так понятно, почему на этой венецианской площади возникает «Вид Делфта» и смерть Бергота.
Что ж, спасибо за эту площадь ордену Крочифери, столь усердно помогавшему Даноло и связанным с ним новым венецианским разбогатеть на разграблении Византии. Семейство Дзен среди новых венецианских было одним из самых активных, и его представитель, Раньер Дзен, перед тем как стать дожем в 1253 году взявший орден под своё крыло, использовал «несущих крест» много для чего, в том числе и для того, чтобы его, Раньера, потомки были в состоянии построить три дворца на Фондамента Дзен. Штаб Крочифери, располагавшийся в Ораторио, с дворцом Дзен имел внутреннее сообщение, имеет и сейчас, и это красноречиво свидетельствует о том, что Скуола деи Крочифери, очень важная венецианская Скуола, то есть некий результат проявления воли свободных граждан, контролировалась очень конкретными гражданами, и, будучи негосударственным союзом, неплохо наживалась и помогала другим наживаться на санкционированном государством ограблении иностранных территорий. Вот вам и ячейка гражданского общества. С остальными Скуолами примерно то же самое получилось; быть может, их историю не изучают именно из-за того, что уж слишком явно при взгляде на их историю обнаруживается несвобода свободных граждан?
Как видите, я мёртв не весь оказался, тут же снова обличать принялся, но пора уж войти в само здание Ораторио. Сделать это непросто, потому что Скуола, хотя и считается музеем, открывается для посетителей только по предварительной договорённости, и посещение её стоит 60 евро; правда, народу может быть сколько угодно, хоть один человек, хоть пятьдесят. Стоит ли стараться её увидеть? Если вы уж всё в Венеции перевидали, но вам всё ещё хочется отпробовать дополнительных изысков венецианской подлинности чинквеченто, потому что в других местах вы уже её всю изъели, но, удовлетворив аппетит, вкуса не отбили, а даже его подзадорили, то, конечно, не думайте о 60 евро, а отправляйтесь договариваться о посещении Скуолы деи Крочифери. Вы увидите прекрасно сохранившийся памятник, чреду интерьеров, полных обветшавшей пышности – интерьер гораздо роскошней скромного фасада, – и у вас останется впечатление, что вы посетили венецианскую церемониальную галеру, севшую на мель и чудесным образом сохранившуюся до наших дней. Ощущение, очень точно передающее состояние Венеции в конце XVI – начале XVII века, ибо именно тогда могущественная республика, как огромный и величественный корабль, остановилась в лагуне, да там и застыла. То, что это остановка, видели все, но корабль был так богато оснащён, флаги развевались, пушки таращили жерла, матросы были на местах, а изобилие позолоченной резьбы сиянием так и слепило, что, хотя остановку и заметили, осознать, что эта остановка – мель и что кораблю никуда уже не двинуться из лагуны, могли очень немногие. Именно в это время интерьер Скуолы деи Крочифери был резко переделан и пышно украшен, и именно в это время Якопо Пальма иль Джоване, il Giovane, Младший, создал живописный цикл, украшающий стены Скуолы.
Якопо Пальма Младший как бы alter ego Тинторетто. Он очень талантлив, но плодовит прямо как крольчиха, и практически ни одна из венецианских церквей не обошлась без его картины. В музеях за пределами Венеции Пальмы Младшего также навалом, и в этом он с Тинторетто, также крайне быстро и легко писавшего, схож. Схож он и многим другим, а также тем, что оба они, и Тинторетто, и Пальма Джоване, вышли из мастерской Тициана. Однако Тинторетто был гениален, а Пальма Джоване – талантлив, и в силу этого Тициан Пальму любил, а Тинторетто терпеть не мог. Так бывает с величайшими людьми, и потомки частенько удивляются, почему гений пожилой гению молодому предпочитает посредственность – удивляясь этому, потомки забывают, что сами они любят тех, кого любят, а кого не любят – не любят, каким бы архиталантливым нелюбимый не был. Любовь Тициана обеспечила Пальме Джоване связь с официозом и довольно легко давшееся процветание, а Тинторетто обрекло на постоянную упорную борьбу за заказы и склонность к оппозиции. Что ж, в результате плодовитость Пальмы Джоване подчинила себе его талант, а гений Тинторетто его плодовитостью был только усилен – и после встречи с Тинторетто в церкви Мадонна делл’Орто увидеть Пальму Джоване в Скуоле деи Крочифери очень поучительно. Пальма создал сносный декоративный цикл, рассказывающий историю ордена, абсолютно фиктивную, и сделал это мастеровито и велеречиво, балансируя на грани халтурной конъюнктурщины: торопился, видать. Впрочем, это если приглядеться, а так – вполне декоративно, стены красит и естественно вписывается в образ застрявшей на мели церемониальной галеры.
Среди картин, испечённых Пальмой Джоване по заказу покровителей ордена Крочифери на придуманные ими фальсификаторские сюжеты, и среди которых подвиг Четвёртого крестового похода занимает внушительное место, меня заинтересовала одна, называющаяся «Папа Анаклет учреждает орден Крочифери». Имя Анаклета во всех упоминаниях об этой картине приводится без какого-либо номера, но ясно, что это может быть только Анаклет II, занимавший папский престол с 1130 по 1138 год и вошедший в историю как Антипапа. Вдаваться в подробности этой репетиции Великой схизмы XIV века я не буду, несмотря на всю их увлекательность, укажу лишь на то, что Анаклет, избрание которого было католической церковью объявлено незаконным, как Антипапа всячески поносился Ватиканом. В частности, католики любили указать на его еврейское происхождение: его деда, невероятно богатого иудея, крестил папа Лев IX.
Еврей на ватиканском троне гораздо круче, чем сын кенийца в кресле Белого дома, и католический мир такой крутизны не выдержал, сожрав Анаклета II, несмотря на поддержку римлян и сицилийских герцогов. Никакого Ordine militare dei crociferi con stella rossa in campo blu или Betlemitani он не учреждал, всё это выдумка венецианских политологов, но очень смачная. Неожиданное обращение к образу Антипапы, который на многих средневековых фресках горел в аду, красочно говорит о последней, отчаянной попытке венецианцев сопротивляться усиливающемуся влиянию Ватикана и Испании. Как раз на время создания цикла Пальмы Джоване, то есть на 1580–1590-е годы, падает главная пря между республикой и папским престолом касательно иезуитов, которых Венеция никак не соглашалась пускать в свои владения. Иезуиты были слишком мощной организацией, и борьба с ними была последней дракой венецианцев за свою свободу совести и воли. Значение ордена Крочифери, сыгравшего столь важную роль в деле утверждения влияния республики на Востоке, актуализировалось из-за войны с Османской империей, к появлению и процветанию которой Дандоло, обескровив Византию, приложил руку с помощью всё тех же Крочифери – вспомним Ирак и Саддама Хусейна, возведённого на престол западной демократией, – так как Венеции приходилось выбирать между свободой совести и воли и страхом угрозы турецкого нашествия, устоять перед которым Венеции было всё труднее и труднее. Республика уже в XVI веке обратилась к Ватикану и Испании, и тогда же впервые оформился её союз с главными силами Контрреформации – я об этом говорил, находясь в Гетто, которое появилось в Венеции не без участия папы и испанского королевского дома. Но турок при Лепанто остановили, и теперь Венецианская республика могла себе позволить от Ватикана и передохнуть. Иезуиты – это было уж слишком.
В вопросе об иезуитах венецианцы рогом упёрлись, потому что, после недолгого альянса с этой организацией, учреждённой в Венеции в 1535 году самим Игнацио Лойолой, город лично любившим и неоднократно в нём бывавшим, Сенат почувствовал, какую угрозу принципам республики иезуиты в себе несут. На протяжении всего конца XVI века отношения с Ватиканом всё ухудшались и ухудшались, так как Венеция в первую очередь из-за экономических причин не хотела быть пешкой в разнузданно-консервативной истерии папской Контрреформации. Папа Анаклет II, изображённый Пальмой Джоване, был небольшой булавочкой, воткнутой в задницу папскому престолу, и Венеция противостояла делу Контрреформации как могла. Скандалила, во всяком случае, и результатом серии судебных скандалов республики с одним из главных обскурантов, папой Павлом V, внёсшим Коперниково De Revolutionibus Orbium Coelestium, весьма убого по-русски звучащее как «О вращении небесных тел» (революция пропадает), в список запрещённых книг, стало изгнание иезуитов из Венеции в 1606 году. Венеция при всём вольнолюбии отнюдь не хотела прослыть антикатолической, и Крочифери в перепалке с Ватиканом играли большую роль. Это был орден, вскормленный Венецией своей грудью, но орден крестоносный, – тем самым Венеция как бы продолжала дело защиты христианства, столь удачно увенчавшееся разграблением Константинополя. Всё портило лишь одно: толку от ордена Крочифери в XVII веке, как и вообще от крестоносцев, увы, было как от Дон Кихота Ламанчского.
Венецианские правители всегда были умны и наверняка понимали, что их Крочифери – рыцари с бритвенными тазами на головах, но одно дело осознавать своё бессилие, а другое – с ним смириться. Пришлось, однако, и смириться, и в 1655 году папа Александр VII добивается запрещения ордена, а на следующий год – возвращения в Венецию иезуитов, которые получают в своё пользование земли и всё, что ордену деи Крочифери принадлежало, в том числе и церковь ди Санта Мария Ассунта, ранее бывшую деи Корчифери, а теперь ставшую детта И Джезуити, Иезуитской. Площадь тоже стала иезуитской, Кампо деи Джезуити. Впрочем, орден был запрещён, а Скуола осталась и сохранила своего Анаклета II. Зато была разрушена старая церковь, отстроена заново и в 1725–1730 годах не только украшенная пышнейшим мраморным фасадом работы Доменико Росси, архитектора с большими претензиями, но и роскошным интерьером, в котором оказалась часть художественных сокровищ, принадлежавших прежней церкви, – картины, монументальные надгробия, статуи. Другая часть пропала или была распылена, оставшееся же оказалось в новом и чуждом окружении. Церковь ди Санта Мария Ассунта детта И Джезуити красива, но её гордый вид чужд Каннареджо, он чересчур велеречив и помпезен. И Джезуити присуща какая-то римская грандиозность – место этого здания не здесь, а на Канале Гранде. Мне церковь И Джезуити нравится, я всем рекомендую её посетить, и в своём путеводителе я её уже воспел, хотя…
…заходишь в неё, и непроизвольное «ах» вырывается, потому что внутри всё настолько искусно искусственное, настолько finto – об этом итальянском слове, означающем искусственность именно искусную, а не просто фальшивую, я много говорил в своей книжке о Ломбардии, – что глаза из орбит лезут. Стены кажутся затянутыми драгоценным бархатом с зелёным узором, на самом деле это не ткань, а панно из наборных камней, и алтарь – сиамская пагода на витых (хочется сказать «кривых») колоннах, и потолок залеплен матовым золотом и стукковыми цветочными гирляндами, но более всего замечательна кафедра, представляющая собой некий балкон под балдахином, украшенным фестонами и двумя ниспадающими занавесями из тяжелейшей ткани, называемой в средневековье «дамасской», а теперь – брокатель, brocattello. Занавеси, превращающие проповедническую кафедру в шатёр Шамаханской царицы, раздвинуты не без кокетства, и, подоткнутая по бокам, чтобы не упасть на пол, ткань образует живописнейшие буфы-пуфы-аксельбант, в один из которых, со всевозможной непринуждённостью, торча не прямо, а несколько в сторону, на отлёт, столь небрежно и отточено, что эта деталь, некий декоративный жест, вызывает то же восхищение, что испытываешь перед элегантностью жестикуляции прирождённого аристократа, воткнуто Распятие, то есть Господь Наш Иисус, на Кресте страдающий. Вся эта матерчатая роскошь никакая не матерчатая, а сделана из камня, точнее – из множества камней, разноцветных мраморов, идеально подобранных и подогнанных, и что же, скажите на милость, можно было вещать с такой кафедры? Не обличать же, а, наверное, флиртовать с целым выводком дам в кринолинах. Интерьер церкви ди Санта Мария Ассунта, детта И Джезуити похож на декорацию к первому акту Der Rosenkavalier Рихарда Штрауса, на спальню фельдмаршальши, в которой разыгрывается бесконечно перверсивная интрига её романа с юным Октавианом, который на самом деле – женщина и меццо-сопрано и который переодет ею в горничную при сообщении о появлении её, фельдмаршальши, брата, и в таком виде – женщина-мужчина, переодетая из мужчины в женщину, но при этом продолжающая мужчиной быть, хотя на самом деле она женщина (сам чёрт не разберёт!) – брата соблазняющая (или соблазняющий?). Да и архитектура интерьера похожа на музыку Der Rosenkavalier, она – что-то среднее между вагнеровской оперой и штраусовской опереттой, и церковь ди Санта Мария Ассунта, детта И Джезуити очень венская, имперская, и я бы даже сказал «священноримскоимперская», в том смысле, в каком «священноримскоимперское» трактует полная тягучего обаяния бельэпошная опера Рихарда Штрауса, рассказывающая о приключениях Серебряной розы, одного из символов мёртвой Священной Римской империи, в галантном XVIII веке.
Я ещё мог бы завернуть сравнение интерьера со вкусом венских тортов, с чередованием слоёв бизе, крема и пропитанного горьковатым ликёром шоколадного бисквита, но уж хватит, скажу только, что в Вене эта церковь была бы замечательна, а тут, в Каннареджо, после вермеровской желтизны стены Ораторио, её фасад, развёрнутый в пространстве, для подобной перегруженной архитектуры слишком узком, что архитектор, конечно же, должен был учесть, неожиданен до нелепости – и именно поэтому на голове мраморной Девы Марии, увенчивающей собой фронтон церкви, прямо на её нимбе, лучистом, металлическом, несколько напоминающем оперную Серебряную розу, я всегда вижу Нос, усевшийся там отдыхать. Сидит себе, воплощение венецианского эротизма, ножки свесил, и уж за одним этим зрелищем можно было бы к церкви ди Санта Мария Ассунта детта И Джезуити отправиться, но в церкви есть то, что ни одной венской церкви и не снилось: картина Тициана «Мученичество святого Лаврентия».
Картина эта, как и всё лучшее, что в находится в церкви И Джезуити, принадлежала когда-то церкви Крочифери. Реконструкции исчезнувшей церкви посвящена целая диссертация, американская, конечно, автор которой, пытаясь воссоздать «значение роли Крочифери как архитекторов изощрённейшей программы декора (sophisticated decorative programme), что была осуществлена в ответ на последние художественные движения (to respond to the latest artistic trends)» – Господи ты Боже мой! и у нас же также пишут, как перевод с английского, – предупреждает во первых же строках, что сделать это невозможно из-за полного отсутствия документации о Скуоле деи Крочифери. Диссертация, написанная о том, о чём написать заведомо невозможно, тем не менее была успешно защищена, с чем я диссертанта и поздравляю, мне же эта ссылка нужна лишь как очередное подтверждение факта запутанности истории венецианских Скуол – архивы Крочифери явно были сознательно «изъяты», что для итальянцев, при их бюрократизме и любви к архивизации не то чтобы странно, а, наоборот, очень ясно свидетельствует о нежелании хранить память о данной организации. Шедевр Тициана висел не в первой слева при входе в церковь капелле, как сейчас, а во второй справа, в алтаре, специально воздвигнутым заказчиком картины Лоренцо Массоло.
Про Массоло ничего особенно не известно, кроме того, что он был богатым патрицием и крупным землевладельцем, а также мужем своей жены, Элизабетты, в девичестве Кверини. О жене мы знаем больше, так как она была племянницей патриарха Венеции Джироламо Кверини и подругой кардинала Пьетро Бембо, известнейшего писателя и личности столь яркой и светской (светский кардинал – оксюморон итальянского Ренессанса), что ему приписывают даже роман с Лукрецией Борджиа. Был ли роман или нет, неизвестно, но Бембо находился с Лукрецией в переписке и посвятил ей «Азоланские беседы»; знаком он был также и с Катериной Корнер, самой важной женщиной Венеции всех веков. Дружба с этим бонвиваном в кардинальской шляпе делала Элизабетту дамой того же круга, что и Лукреция Борджиа и Катерина Корнер – круга самого что ни на есть избранного. Бембо называл Элизабетту столь же красивой, сколь и мудрой, и у неё была ещё масса поклонников, в том числе и флорентинец Джованни делла Каза, изысканнейший интеллектуал и папский нунций в Венеции. Элизабетта в историю вошла благодаря родственным, дружеским и так далее связям с тремя этими мужчинами, а мужа увековечил заказ Тициану картины, посвящённой его святому эпониму. Тициан, правда, работал над «Мучением святого Лаврентия» так долго, что Лоренцо Массоло умер до её окончания. Почему Тициан так затянул с выполнением, мы точно не знаем, но первые упоминания о заказе относятся к 1547 году, когда, судя по свидетельствам, картина была почти готова, дело осталось только за её установлением в алтаре. Затем же мы узнаём, что в 1557 году – это как раз год смерти Лоренцо Массоло – картина не только не установлена, но ещё и не закончена. Далее отношения с Тицианом уже выясняет Элизабетта, хорошо с ним знакомая, так как художник уже выполнял для неё заказы до этого, а 1564 годом датируется упоминание картины в письме секретаря испанского посла в Венеции, Гарсии Эрнандеса, адресованного секретарю короля Филиппа II Антонио Пересу. В письме сообщается, что в одном из монастырей города находится замечательное произведение Тициана, посвящённое святому Лаврентию, «законченное много лет тому назад» – то есть к этому времени картина уже приобрела громкую славу. Особый интерес испанца к картине Тициана был вызван всё же не её живописными достоинствами, а сюжетом, потому что святой Лаврентий, диссидентский мученик, поджаренный на решётке за то, что отказался подчиниться кесарю, неожиданно – у светской власти святой особой популярностью не пользовался – оказался в центре внимания испанского правительства. Дело в том, что 10 августа 1557 года, как раз в день святого Лаврентия, испанские войска разбили французов в Пикардии в битве при Сен Кантене, в силу чего король Филипп решил, что на небесах именно Лаврентий особо благоволит испанской короне. Король задумал воздвигнуть монастырь в его честь, а заодно и дворец, с монастырём связанный: так возникла идея строительства Эскориала, архитектурного комплекса, размерами превосходящего какую-либо из существовавших на то время августейших резиденций. В плане Эскориал, олицетворение могущества католической Испании и испанского королевского дома, напоминал решётку – мученический атрибут святого Лаврентия. Первый камень будущей королевской резиденции был заложен в 1563 году, и секретарь испанского посольства, зная, что святой Лаврентий в топе, был уверен, что его сообщение заинтересует короля; король заинтересовался и заказал Тициану повторение «Мученичества святого Лаврентия» для своего нового дворца в 1567 году. Для короля Тициан выполнил заказ без лишних проволочек, и картина, шедевр позднего Тициана, поразительная ночная сцена, ещё более экстравагантная, чем венецианский вариант, до сих пор висит в Эскориале.
Вкратце это всё, что достоверно известно из прямых обстоятельств, связанных с созданием величайшей, пожалуй, ночной сцены в истории изобразительного искусства. Как мы видим, уже в 1564 году шедевр Тициана приобрёл мировую известность, а затем слава его только росла. Просвещённые люди специально ездили в этот по тем временам отдалённый уголок Каннареджо, чтобы картину посмотреть, и иезуиты, заполучившие работу от упразднённых Крочифери, картину не упускали. Она оставалась на месте и после запрещения ордена иезуитов папским бреве 1773 года, когда церковь перешла к венецианскому патриархату, но в 1797 году реформатор Наполеон, грабя Венецию, увёз «Мученичество святого Лаврентия» в Париж. Там картина, подвергшись очень халтурной французской реставрации, проболталось до падения Наполеоновской империи, и лишь в 1815 году была возвращена на место австрийцами, специально профинансировавшими ещё одну грубую реставрацию. С тех пор «Мученичество святого Лаврентия» капеллу в церкви И Джезуити практически не покидала, вызывая восхищение всех, кто в искусстве хоть что-то понимает, пока наконец, уже в нашем тысячелетии, банк Альба, чьим покровителем, как и Филиппа II, является святой Лаврентий, не профинансировал её реставрацию, которая заняла несколько лет, съела кучу денег и разрекламирована в прессе крутейшим образом, прямо как последний сингл Леди Гага. Сейчас отреставрированным «Мученичеством святого Лаврентия» принято восхищаться, но давайте не будем забывать, что своими реставрациями живописи Тициана восхищались и французы, и австрийцы – посмотрим, что потомки скажут.
В точности неизвестно, как выглядела капелла, где висело «Мученичество святого Лаврентия», когда церковь ди Санта Мария Ассунта принадлежала ордену Крочифери. Сейчас же в насквозь иезуитской роскоши современного интерьера эта сцена звучит так, как будто в декорациях спальни фельдмаршальши из штраусовского Der Rosenkavalier вдруг зазвучали звуки сцены аутодафе из «Дона Карлоса» Верди. Я уже выложил всю позитивную информацию о «Мученичестве святого Лаврентия», ничего особо в картине не объясняющую. Далее идут одни спекуляции, и я, не стараясь их повторять, укажу лишь на косвенные обстоятельства, связанные с этой ночной сценой. Сам факт заказа Лоренцо Массоло картины на сюжет истории его святого тёзки выглядит вполне нейтрально, но сопровождается следующими событиями. Сын Массоло и Элизабетты, Пьетро, в 1538 году, в возрасте восемнадцати лет (по одним источникам, по другим – в возрасте двадцати), был изгнан из Венеции из-за обвинения в убийстве своей жены, Кьяры Тьеполо. Убийство было таинственно и необъяснимо, но, судя по всему, Пьетро мучили угрызения совести, ибо он тут же, после изгнания, постригся в монахи в монастыре Сан Бенедетто около Мантуи, приняв имя брата Лоренцо, причём не во имя отца своего, а во имя страданий юного мученика, которому было столько же лет, сколько и Пьетро Массоло во время пострига. Уйдя в монастырь, Пьетро, однако, с мирской жизнью расстался не то чтобы окончательно, так как он вошёл в историю итальянской литературы, написав несколько книжек стихов, в том числе и Sonetti morali di M. Pietro Massolo, gentilhuomo venetiano, hora Don Lorenzo, monaco cassinese, «Назидательные сонеты монсеньора Пьетро Массоло, венецианского дворянина, теперь Дона Лоренцо, монаха кассинского» (кассинского – бенедектинского, от Монте Кассино, главной обители этого ордена), вышедшие в свет в 1557 году. С семьёй Дон Лоренцо поддерживал тесные отношения, причём также дружил с обоими поклонниками мамаши, как с Бембо, так и с Джованни делла Каза. Кстати, шекспировского учёного монаха из окрестностей Мантуи, обвенчавшего Ромео и Джульетту, также звали брат Лоренцо.
Каковы были отношения Элизабетты со воздыхателями, мы не знаем. Ещё меньше мы знаем об отношении к Элизабеттиным воздыхателям её мужа, но, судя по всему, ситуация была комильфо и ни малейшим скандалом не пахла. Оба, и Бембо, и делла Каза, были светскими людьми, облечёнными высоким духовным саном: у Бембо наличествовала очень светская официальная любовница, принёсшая ему трёх детей, а делла Каза, судя по портретам, до нас дошедшим, был мужчина о-го-го, особенно – на портрете Якопо Понтормо, сейчас находящемуся в Вашингтонской Национальной галерее, на котором делла Каза предстаёт знатным флорентийским интеллектуалом, умным, мужественным и утончённым, – такими умели быть только флорентинцы, да и то лишь короткое время. Делла Каза написал книгу «Галатео, или О нравах», этакое пособие по правилам хорошего тона, а также несколько томиков весьма изощрённых стихов, считающихся образцом лирики маньеризма. Вдобавок к этим достоинствам делла Каза был интеллектуальным мракобесом (ещё один, как и «светский кардинал», ренессансный оксюморон – впрочем, не только ренессансный), так как именно он был составителем индекса запрещённых книг, а также представителем инквизиции в Венеции. Кстати, в портрете Понтормо это мракобесие как-то ощущается. Догадываешься об этом, правда, лишь когда узнаёшь об обстоятельствах биографии Джованни делла Каза: в изображении гениального флорентийского художника проступает нечто роднящее автора «Галатео» с типами, подобными Эзре Паунду, Кнуту Гамсуну и Луиджи Пиранделло, некая дьявольщина ума, разъедающая человечность. Именно эта, присущая опять же всё тем же флорентинцам, дьявольщина, очень часто именуемая «макиавеллизмом», побудила Джованни делла Каза связаться с Лоренцаччо, убийцей герцога Алессандро Медичи, скрывавшимся в Венеции. История Лоренцаччо, или Лоренцо ди Пьерфранческо де’Медичи, – одна из самых красочных новелл итальянского чинквеченто. Лоренцаччо был чуть ли не самым прельстительным и жутким персонажем времени маньеризма, и ему посвящено прекрасное произведение, драма Альфреда де Мюссе, его мифологизировавшая. В Венеции, где он провёл много лет и где в конце концов был убит, с Лоренцаччо многое связано.
Джованни делла Каза помог Лоренцаччо бежать из Флоренции и организовал его приём в Венеции, за что потом впал в немилость и даже был лишён кардинальской шапки. Всё это было итогом партийной флорентийской борьбы, Венеция же, всегда с Флоренцией соперничавшая, издавна была чуть ли не главным прибежищем всех флорентийских эмигрантов. Венецианцы флорентийских диссидентов всегда холили и лелеяли. Лоренцаччо появился в Венеции в 1544 году и в основном там и жил, хотя из Венеции часто уезжал, то в Стамбул, то во Францию, так как, при нервозной неуравновешенности, макиавеллизма в нём было хоть отбавляй, и он играл по-крупному, вовлекая в свою орбиту и турецкого султана, и французскую королеву, и мог ли этот пестуемый делла Казой флорентийский обаяшка быть незнакомым с достойнейшим семейством Массоло и с Элизабеттой, гордостью Венеции, столь же красивой, сколь и мудрой? Лоренцаччо было тогда тридцать с небольшим, он был молод, ярок, обаятелен и образован – он и литераторствовал, как и все они, и вообще был просто подарок в качестве светского знакомого. Могла ли умная и прекрасная Элизабетта, принадлежавшая – ну пусть и только через Бембо – к кругу, хранившему память о Лукреции Борджиа, скончавшейся в 1519 году, устоять перед искушением устроить изысканный ужин, на котором были бы и делла Каза, и Бембо, и Лоренцаччо, и она, вся такая божественная, и ну там… муж, предположим, почему бы и нет?
Обаятельный флорентийский диссидент не мог быть незнаком с семейством Массоло. В 1548 году Лоренцаччо был зарезан на Кампо Сан Поло, Campo San Polo, перед домом своей любовницы. Это было самой обсуждаемой новостью Венеции, так что решайте сами, случайно ли Лоренцо Массоло вдруг в это время приходит в голову заказать картину о своём эпониме, а заодно и эпониме его сына-монаха и только что зарезанного флорентинца, в судьбе которого венецианцы принимали самое что ни на есть деятельное участие. Сам Лоренцо Массоло в 1548 году умирать ещё не собирается, это не поминальная картина, как часто представляют, просто так вышло, что она оказалась посмертной, ибо то, что на картину десять лет ушло, объясняется проволочками Тициана, отправившегося к императору Карлу V и всё никак не находившего времени закончить «Мученичество святого Лаврения».
Может быть всё и случайно. Может, никакого ужина и не было. Но, согласитесь, могла бы получиться очень ловкая пьеса в духе Стоппарда под названием «Ужин с Лоренцаччо», где действующими персонажами были бы все упомянутые плюс Тициан с Аретино как приглашённые интеллектуалы происхождения не аристократического, но простонародного. Я уже вижу и стилистику постановки: гринуэеевская, с костюмами обманьеристиченного Жан-Поля Готье из «Повар, вор, его жена и её любовник» – хотя куда дальше Готье маньеристичничать. Готовы и декорации – копия «Мученичества святого Лаврентия», занимающая весь задник, как Пуссен в «Горьких слезах Петры фон Кант» Райнера Фассбиндера. Можно её прямо у банка Альба взять, у него была отличная фотокопия «Мученичества» в натуральную величину (500×280 см), заменявшая картину в церкви во время реставрации – всё равно теперь она банку не нужна, валяется где-то. Заодно можно у банка Альба и денег на реализацию проекта попросить. Лоренцаччо у нас есть, это, конечно же, Данила Козловский, он и банкам нравится, и музам. С остальными персонажами сложнее, но, договорившись о том, что ужин наш лишь драматургия, можно в качестве второго женского персонажа (двух женщин в пьесе будет вполне достаточно) ввести Лукрецию Борджиа, причём надо найти актрису с внешностью Эдиты Груберовой из «Лукреции Борджиа» Доницетти в постановке Баварской оперы, что сложно, но возможно. Главное, вырядить её также, в черное платье с каким-то бисерно мерцающим хомутиком-висюлькой и в длинноволосый седой парик, и чтобы она, где-то в кульминации пьесы, парик снимала, как Эдита Груберова, когда оперная Лукреция объявляет Дженнаро, что он – Борджиа, над сценой мерцает неоновое объявление ORGIA, образовавшееся из-за того, что Дженнаро букву B отодрал, и под париком оказывается стриженая крашеная рыжая укладка. Парик всё сделает, всю пьесу, хотя проблема остаётся: кого же на роль делла Каза брать? Никиту Михалкова, что ли?
Церковь И Джезуити
Вы думаете я треплюсь? Ошибаетесь. Я говорю очень серьёзно и продуманно: уверен, что подобная пьеса стала бы лучшей трактовкой картины Тициана, потому что вся масса искусствоведческой литературы, что про «Мученичество» понаписана, ни на что, кроме как служить материалом для ресёчеров, нанятых на деньги банка Альба, чтобы подготовить материал для подобной пьесы, не годится. Очень продуманно, а не с бухты-барахты, я обращаюсь как к источнику вдохновения к «Повару, вору», ибо сказал святой Лаврентий своим мучителям: «Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте моё тело!» – и именно этот момент Тициан и изображает, тем самым явно нас к некоему кровожадному ужину в ночи отсылая. Собрание элегантных и монструозных интеллектуалов, жрущее стейки имени святого Лаврентия с особого гриля, объяснило бы пугающую притягательность тициановской сцены, где восхищение перед античностью смешано с её проклятием, а обличение жестокости слито с наслаждением ею. Объяснило бы тему Рима, воплощение власти и красоты, в «Мученичестве святого Лаврентия» заявленную и возникшую у Тициана из-за того, что он эту картину сразу после римской поездки, переполненный впечатлениями от новомодного микеланджеловского искусства, и написал. Объяснило бы и позу Лаврентия, столь странно на гриле скорчившегося, потому что его фигура дословно повторяет позу «Галата в падении», римскую копию эллинистической скульптуры, находившейся тогда в собрании Гримани в Венеции. Объяснило бы, почему на пьедестал вознесена богиня Веста, самая добродетельная римская богиня, а не какой-нибудь Марс, Юпитер или Аполлон – в образе Весты изображали мудрую красавицу Элизабетту, и на медали Данезе Каттанео, эту даму увековечившей, начертано ELISABETTAE QUIRINAE, Элизабете Квиринальнской (римская коннотация и в то же время намёк на девичью фамилию, Кверини), чтобы тем самым подчеркнуть её матронистость; да и гордостью профиля на этой медали – о внешности Элизабетты мы можем судить только по ней – она очень напоминает богиню с картины Тициана. Запутанный образ добродетельной жестокости, явленный Вестой, объяснила бы история с братом Лоренцо и таинственным убийством невестки – добродетель семейства Массоло как-то густо замешана на преступлении и на раскаянии. Даже выбор Тицианом ночи, мне кажется, это объяснило бы лучше, чем то соображение, что в темноте поджаривание человека выглядит эффектнее, чем на свету, и, уж конечно, после «Ужина с Лоренцаччо» стало бы ясно, чем таким приглянулась эта картина Филиппу II, сделавшему Тицианов шедевр неотъемлемой частью Эскориала и своего собственного мифа, «чёрной легенды», la leyenda negra, окутывающего его фигуру, Эскориал и Испанию. Ведь не так уж художники и не виноваты в судьбе своих произведений, как любят утверждать гуманисты, рассуждая о Ницше и Вагнере, и присутствие на «Ужине с Лоренцаччо» двух неразлучных друзей, Тициана с Аретино, объяснило бы, почему на «Мученичестве святого Лаврентия» лежит отблеск костров аутодафе.
Меня гипнотизирует жест поднятой руки святого Лаврентия, сделавший центром картины открытую ладонь и растопыренные пальцы. Теперь, когда картина перемещена в первую слева при входе капеллу, жест устремлён вовне, за пределы церковных стен, к лагуне, обрывающей Каннареджо и Венецию, и обращён к острову Сан Микеле, венецианскому кладбищу, ставшему Островом Мёртвых. Конечно, этого Тициан никак не мог иметь в виду, ну и что? Однажды, проходя в новостройках, окруживших церковь Сант’Альвизе, я наткнулся на группу мальчишек, усевшихся на корточки прямо на мостовой в одном из новостроечных дворов и затеявших игру. Мальчики были явно автохтонно венецианскими, а игра их была та самая морра, идущая из античности тысячелетняя игра, построенная на выкидывании пальцев. Один из подростков взметнул руку, дублируя жест святого Лаврентия, и взметнувшиеся растопыренные пальцы и открытая ладонь, застыв под моим взглядом, как муха под смолой, стали для меня символом прощания с Каннареджо, великой венецианской маргиналией.
Скуола Гранде ди Сан Рокко
Сан Поло
Глава шестая Геркулес и Рокко
Дух Сан Поло. – Берег левый и берег правый. – Nicolotti и castellani, венецианские кулаки. – Сердце Венеции. – Венецианская Систина. – Про лису и зеркала. – Бураттино. – Франческо Пьянта. – Может ли талант быть зауряден? – О Доктрине и Истине. – «Геркулес на Термодонте». – Рокко, дитя Монпелье. – Чума в Средиземноморье. – Делон, Марсель и порнозвезда. – Тинторетто Сартра
В Каннареджо можно гулять и размышлять. В Сан Поло – только двигаться. Есть ли возможность размышлять в Сан Поло? Возможность на то и возможность, чтобы существовать как возможность, но если в Каннареджо, пропитанном меланхолией, кроме как размышлениями просто нечем другим заняться, в Сан Поло возможность размышления надо заполучить, а потом ещё и исхитриться, где бы найти момент и место для её реализации. Расположенный на южном берегу Канале Гранде, район Сан Поло, sestiere San Polo, – самый маленький из сестиери Венеции, и он же – самый динамичный. Когда-то это было нечто вроде венецианского Сити, и дух Сан Поло определялся рынком Риальто, который совсем не был той современной туристической толкучкой, торгующей сушёными помидорами и креветками, что мы видим сейчас, а был мировым центром, чем-то вроде современной гонконговской биржи. В конторах вокруг Риальто заключались крупные международные сделки, определялся курс валют, составлялись финансовые договоры и делались займы, влиявшие на европейскую политику.
Скуола Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста
Как я уже сказал, Сан Поло находится на южном берегу Канале Гранде, и именно этот берег считается в Венеции правым, так как «правость» или «левость» берега всех городов, расположенных вокруг рек, определяется течением, поэтому в Москве, как и в Венеции, южный берег – правый, а в Париже и Петербурге – левый. Меня семантика «правости» и «левости» берегов давно занимает; заявлена она более всего в Париже, где понятие Rive gauche, Левый берег (уже с заглавной буквы), в XX веке из определения географического превратилось в определение культурологическое, обозначая стиль поведения и стиль мышления, сомкнувшись с общим понятием «левизны». «Левое» издревле, со времён античности, означало нечто девиантное, уклоняющееся от нормы. В Париже левизна географическая слилась с левизной всякого другого рода (благодаря Латинскому кварталу и Красному маю 1968 года даже и с политической), но в Петербурге, например, левый берег гораздо более правый – официозный и аристократичный; это, кстати, очень точно подметил москвич Андрей Белый в «Петербурге», лучшем романе об этом городе. В Москве же, хотя левый берег Москвы с точки зрения Парижа правый, потому что он – север, северный берег, благодаря Замоскворечью, окутывает аура левизны со времён, описанных в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». В антиномии берегов нет ничего особо загадочного: она определяется наличием правительственной резиденции. В Париже то, что Лувр находится на правом берегу, сыграло большую роль, чем все сартры с симонами де бувуар с их сидением в кафе «Ла Куполь», а в Петербурге «правизну» левого берега определил Зимний дворец, на нём находящийся, так что даже то, что главные легендарные городские тюрьмы, Петропавловка и Кресты, были построены на правом, ничего не изменило. В Москве Кремль на правом берегу, а в Венеции Палаццо Дукале, Palazzo Ducale, – введу-ка я наконец итальянский вариант имени дворца, что дословно переводится как «Герцогский Дворец», а для того, чтобы это был дворец Дожей, как в России принято и как я его и кликал, он бы должен был по-итальянски называться Палаццо Догале, Palazzo Dogale, – как и Пьомби, I Piombi, Свинчатки, также называемые Приджони Веккие, Prigioni Vecchie, Старые Тюрьмы, два здания, воплощающие власть и официальность, находятся на левом берегу. В силу этого сестиери, расположенные на правом берегу, находились в такой же оппозиции дожу, в какой купец Калашников был в оппозиции Ивану Грозному, и население левого берега, называвшее себя «николотти», nicolotti, в честь церкви ди Сан Николó деи Мендиколи, chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, Святого Николы Голытьбы (странное слово Mendicoli, вошедшее в название церкви, производят от mendici, что значит «голь»), очень часто дралось на кулачных боях, подобных московским, с «кастеллани», castellani, как именовали себя жители самого большого и населённого района левобережной Венеции, Кастелло, Castello, что значит «Замок», и звучит очень аристократично.
Разделение Венеции на аристократический левый и демократический правый берега не было столь уж географически безусловным. К партии «кастеллани» принадлежали жители Кастелло, Сан Марко, San Marco, и Дорсодуро, Dorsoduro, лежащего на правом берегу, а в партию «николотти», кроме Сан Поло и Санта Кроче, Santa Croce, входил Каннареджо, сестиере левого берега. Подобное разделение Венеции на две зоны сложилось исторически. Изначально одна часть города носила имя Кастеллани (Кастелло, Сан Марко и Дорсодуро), а другая – Каннаруоли, Cannaruoli (Сан Поло, Санта Кроче и Каннареджо), но уже в начале XIV века к Каннаруоли примкнули пять контрад (contrada, нечто вроде квартала вокруг церкви, приход) Дорсодуро, в том числе и тот, в котором церковь Николы Голытьбы и находилась. В принципе, это была большая и самая населённая часть Дорсодуро, и именно дорсодурцы из контрады Сан Николó деи Мендиколи и дали левобережное по сути своей название всей партии, «николотти». У кастеллани остался только хвост Дорсодуро, где жили преимущественно престарелые разорившиеся нобили, из которых бойцов не сделаешь. За весь левый берег отдувались рабочие Арсенале, Arsenale, расположенного в Кастелло, мужики крепкие. Именно, «арсеналотти», arsenalotti, арсенальцы, вокруг Арсенала и живущие, и были главной кулачной силой кастеллани, ибо население сестиере Сан Марко, самого фешенебельного района, было прямо населением Миллионной улицы, а какие ж жители Миллионной на кулаках будут драться? Арсеналотти тяжело приходилось, так как голытьба берега правого, всё по большей части лодочники да рыбаки, были дюжи и драчливы. Главные битвы происходили на Понте деи Пуньи, Ponte dei Pugni, Мосту Кулаков, что в Дорсодуро, и на нём кастеллани с николотти мутузили друг друга почём зря вплоть до XIX века. Мост Понте деи Пуньи существует и в Каннареджо, но он гораздо менее заметный и несравнимо менее знаменитый, чем правобережный, ибо население сестиере Каннареджо, как и население Сан Марко, в кулачных боях отличалось как-то не особо, там всё аристократы да художники жили, к кулачной доблести неспособные.
Итак, венецианское Заканалье (Каннаруоли) было демократично a priori. Левому берегу и Палаццо Дукале оно кулаком грозило. Учтите, что мост через Канале Гранде был тогда только один, да и он, Понте ди Риальто, Ponte di Rialto, Мост Риальто, в современном его виде возник только в 1591 году. До того мост был деревянным, часто горел и рушился, и чувство разделённости двух берегов переживалось гораздо острее. Торговля и драка, два очень динамичных занятия, были в крови санпольцев, и динамизм присущ Сан Поло и сегодня. Сан Поло – центр Венеции, в нём слышно биение её пульса, и это постоянное ощущение ритмичных толчкообразных движений, что Сан Поло пронизывает, определено сейчас не только тем, что здесь находится рынок и что через Сан Поло пролегает самый короткий путь к вокзалу и все приезжающие-уезжающие через Сан Поло свои троллей тащат, а тем, что в Сан Поло находится сердце Венеции, Скуола Гранде ди Сан Рокко, Scuola Grande di San Rocco.
Про Скуолы я уже сказал всё, что мог. Теперь же мы подошли к главной сейчас венецианской Скуоле, и наиболее знаменитой. Во время существования Венецианской республики она, однако, была лишь одной из самых главных – Скуола Гранде ди Сан Марко, Scuola Grande di San Marco, расположенная в районе Кастелло и бывшая в XVI веке главной соперницей Скуола Гранде ди Сан Рокко, была не менее пышной и разукрашенной, но более древней. От неё теперь мало что осталось, Скуола Гранде ди Сан Рокко победила в веках. Эта довольно молодая Скуола, она была образована всего лишь в 1478 году, в то время как другие Скуолы вели своё происхождение с XIII века. Левобережная Скуола Сан Марко была основана в 1261 году, чем гордилась, смотрела на правобережную Скуолу Сан Рокко сверху вниз, а та в ответ ей кулак показывала. Мировую известность, которой Скуола Гранде ди Сан Рокко сейчас пользуется, ей принёс живописный цикл Якопо Тинторетто, заказанный художнику сто лет спустя после основания Скуолы. Серия картин Тинторетто, написанная для Скуолы Сан Рокко, стала самым величественным и грандиозным живописным циклом (все произведения, украшающие интерьер Скуолы, не фрески, а холст и масло) на земле, и Скуола Сан Рокко получила прозвище «венецианская Систина», что, как вы понимаете, не просто метафорическая фиоритура, но важное заявление. Сикстинская капелла, кроме того, что она местонахождение величайших произведений изобразительного искусства – фресок Микеланджело, – она ещё и центр католического мира, то есть и сердце искусства, и сердце католицизма. Определение «венецианская», поставленное перед Систиной, тут же определяет некую вторичность, на которую Скуола Гранде ди Сан Рокко обречена (никто не будет уточнять – «римская» Систина, ибо Систина только одна и только в Риме), но в то же время и возлагает на неё огромную ответственность – быть второй и в истории искусств, и в католицизме также. Конечно, в Скуоле Гранде ди Сан Рокко, как и в Сикстинской капелле, искусство над культом возобладало, являя нам пример того, как христианская религиозность, то есть совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в Спасителя, оказалась растворённой в поклонении искусству, сегодня в Европе заменившему религию в отношении человека с миром духа.
Уж и в Систину никто не ходит поклоняться Богу, а уж тем более в Скуолу Сан Рокко. Предопределено это было самим творцом: Тинторетто был просто одержим искусством Микеланджело, «идеей Микеланджело», а «идея Микеланджело» не совсем «идея Бога». Одержимость Тинторетто в залах Скуолы Гранде ди Сан Рокко видна каждому, хоть немного историю искусства знающему, и доказательством помешательства на Микеланджело служат многочисленные и замечательные дошедшие до нас зарисовки Тинторетто с известных ему микеланджеловских произведений. Одержимость, obsession, так и прёт на зрителя со стен Скуолы, придавая этому месту особую энергетику соперничества, столь характерную для Венеции вообще, и для сестиери Сан Поло с его кулачной задиристостью, в частности. Мы, однако, знаем, что обсессия – это синдром, представляющий собой периодически непроизвольно возникающие у человека навязчивые нежелательные мысли, и в великом произведении Тинторетто несколько настораживает ясно ощутимая нервозность, почти истеричность, обусловленная тем, что он как будто бы и понимает, что он обречён быть вторым, но смириться с этим никак не может, – и это единственное «но», которое держишь в своей пасти, погружаясь в волны величия шедевральной живописи Тинторетто.
Кампо Сан Поло
Погружение – это довольно точное слово, передающее то, что испытываешь, входя с залитого солнцем Кампо Сан Рокко в кажущийся тёмным зал первого этажа Скуолы. Затем поднимаешься на второй, в Сала Супериоре, Sala Superiore, Верхнюю Залу, снизу доверху закрытую картинами, и там, для того чтобы рассмотреть композиции потолка, посетителям выдают зеркала. Подобно тому, как лиса, желая избавиться от блох, держит в своих зубах кусочек коры, погружаясь в воду, ты держишь зеркало с Тинторетто на нём; лиса, взяв кору в зубы, идёт к воде, и входит в неё – но только задом и очень медленно, как и мы с вами, когда рассматриваем Тинторетто. У лисы блохи начинают перебираться с зада на спину, со спины на голову, на нос, но, погружаясь всё глубже и глубже, лисица заставляет блох перебраться на кору, и отпускает её, и выходит из воды как новенькая, без единой блохи, – так же и мы, рассматривая Тинторетто, постепенно очищаемся от всякого наносного интеллектуализма, мысли, как блохи, перебираются на зеркальный кусочек с отражённым Тинторетто. В живописи Тинторетто есть особая текучесть, кажется, что его мир способен неограниченно меняться прямо у вас на глазах, сохраняя при этом свою объективную форму, и, заворожённый этой метаморфозой, понимаешь, что не имеет никакого значения зависимость Тинторетто от Микеланджело, соображения о том, кто первый, кто второй, кажутся мелочными и несущественными, и все «но» уплывают вместе с блохами-мыслишками прочь, как кусок коры, отпущенный зубами лисицы. Да, Скуола Гранде ди Сан Рокко – второй по смыслу и значению цикл в изобразительном искусстве всего мира, у которого есть лишь один соперник на это второе место – Станцы Рафаэля. Кроме Рафаэля у Тинторетто соперников нет, хотя есть фрески и картины более грандиозные, более глубокие, более совершенные – более гениальные, давайте так это определим, учитывая всю глупость словосочетания «более гениальный». Величие Венеции уже немыслимо без величия Тинторетто, именно он сделал Скуолу Гранде ди Сан Рокко сердцем города, бьющимся тревожно, страстно и мятежно.
Это то, что касается Скуолы в целом. Я хочу всё же обратиться не к Тинторетто, а к некоторой частности, к произведению удивительнейшему, которое в сердце Венеции, коим является Скуола Гранде ди Сан Рокко, служит трикуспидальным клапаном, valvula tricuspidalis, обеспечивающим циркуляцию крови. Произведение это, скульптура, вырезанная из тёмного коричневого дерева и изображающая худого и мускулистого человека, полуголого, но обёрнутого какими-то непонятными лентами-лоскутьями, как бы парит над главной залой Скуолы, Сала Супериоре, называемой также Сала Капитоларе, Sala Capitolare. Вроде как эта фигура очень заметна, возле неё обязательно останавливаются экскурсии, но, поскольку все заняты Тинторетто, то взгляды, да и память, скользят мимо этого деревянного человека; я сам заметил этого бураттину (burattino, деревянная кукла) не в первый и даже не на третий раз посещения Скуолы ди Сан Рокко. К тому же деревянный человек забился в очень узкий промежуток между двумя колоннами, обрамляющими два центральных окна, и тем самым как будто и выставился, и попытался спрятаться одновременно. Сам он тоже весь какой-то узкий, стиснутый и жёсткий; жестом безумца он закинул одну руку за голову, а другой, ухватив, как зеркало за ручку, диск и воздел его вверх. У диска – улыбающаяся рожица и хитрые глазки, собранные из разноцветной стеклянной массы. Они кажутся живыми, прямо-таки подмигивают. Судя по тому, что вокруг рожицы лучики змеятся, это солнце, похожее на те солнышки, какими полны детские сказки: рожица кругленькая, с носиком и щёчками, нахальная, как в детских сказках всегда с солнышком и бывает, а в данном случае ещё и какая-то ядовитая. У самого человека глаза тоже живые, не из дерева, а из стекла, с белыми белками и чёрными зрачками, что придаёт деревянному лицу оттенок натуралистичности, коей сама фигура полностью лишена. Взгляд странно живых глаз воткнут вниз и полон бешеного безумия. Вывернутая балетная поза деревянного человека, со ступнями, поставленными так, как будто он только что револьтад с двумя оборотами в воздухе выполнил или собирается выполнить, тоже безумна. Своим зеркалом-солнцем он трясёт над нашими головами, стараясь привлечь внимание и о чём-то предупредить, но публика, занятая тем, что потолок созерцает и перетаскивает блохи-мысли на кусочки зеркал в своих руках, на зеркало безумца внимания не обращает, хотя если этого деревянного полуголого безумца хоть раз увидишь, а не просто скользнёшь по нему глазами, то забыть его невозможно.
Безумец этот – Геркулес, скульптура работы Франческо Пьянты, прозванного иль Джоване, Младшим. Все путеводители укажут на него, но ничего не расскажут, потому что сказать нечего. О мастере Франческо Пьянта не то чтобы мало что известно, но известно как-то странно. Документов, связанных с ним, сохранилось чуть ли не больше, чем о других художниках, – известна дата его крещения и его завещание, с приложением списка всего его имущества, включая и книги из его библиотеки; опись – свидетельство драгоценное, мало кто из художников оставил нам возможность узнать названия почти всех предметов, что его окружали в течение жизни. Зато даты жизни и смерти Франческо Пьянты – тайна, и их определяют примерно, как «где-то между 1630 и 1690 годами», на основании крещения и завещания, которые не обязательно совпадали с рождением и смертью. Отец Франческо Пьянты также был резчиком по дереву, Франческо рано осиротел, учился у своих дядей, собратьев отца по ремеслу – от остального семейства Пьянта до нас дошли только имена. В своём ремесле Пьянта иль Джоване достиг известности достаточно рано, об этом мы можем судить по тому, что уже в конце 1650-х годов он получил важный заказ на исполнение работ по украшению деревянными резными панелями с различными фигурами Сала Капитоларе Скуолы ди Сан Рокко. Увы, только по этому, по факту заказа, мы о Пьянте и можем судить, так как никаких более ранних его работ до нас не дошло, неизвестны даже и упоминания о них. Работа в Скуоле ди Сан Рокко продолжалась до начала 1560-х годов, причём, как ни странно, каких-либо сообщений, с точностью определяющих сроки её начала и окончания, в архивах не сохранилось. Панели эти, вырезанные очень искусно, с подобающими месту и случаю декоративными кариатидами, ничем бы среди подобного рода произведений, кроме мастерства, особо не выделялись, если бы не были украшены, вдобавок к кариатидам, тринадцатью экстравагантнейшими изображениями добродетелей и пороков. Каждое изображение не просто аллегорическая фигура, но целый ребус, со множеством вырезанных из дерева сопутствующих предметов, складывающихся в замысловатые композиции, так что эти добродетели-пороки ещё вдобавок ко всему и натюрморты, и замечательный натюрморт представляет одно из боковых панно, помещённое напротив входа, – это целая резная деревянная библиотека, с чётко обозначенными названиями книг, которые можно прочесть на корешках. Круче, чем поп-арт Класа Ольденбурга. В дальнейшем к тринадцати фигурам прибавилась четырнадцатая, самая выделяющаяся и отдельно стоящая – фигура Геркулеса.
В сагрестии (ризнице) соседней церкви ди Санта Мария Глориоза деи Фрари, chiesa Santa Maria Gloriosa dei Frari, Святой Марии Славной во Братьях, хранятся большие настенные часы в деревянном каркасе, покрытом резьбой. Часы замечательны, покрыты множеством аллегорий-амуров, солнц, лун и скелетов, и кроме них до нас не дошло больше ни одной работы Пьянты, хотя, судя по документам, он вёл активную деятельность столяра-резчика-скульптора и создавал как скульптуры, так и мебель и другие предметы, а также занимался реставрацией. В церкви ди Сан Франческо делла Винья в районе Кастелло стояла деревянная скульптура Сан Джованни да Капистрано, подписанная по-латыни OPUS PLANTA FRANCISCO, которую все считают работой Франческо Пьянта и приводят в монографиях. Сама скульптура пропала где-то в 1960-е годы, кем-то была похищена тогда, когда за подобными вещами никто не следил, и известна только по очень чётким фотографиям. На них видно, что это продукция позднего барокко, обслуживающего религиозный культ, работа мастерская, но ничем не замечательная, заурядно качественная. На основании ничем не выдающейся скульптуры Сан Джованни ди Капистрано заключают, что и все остальные работы Пьянты были того же рода, резко отличаясь и от фигур в Сала Капитоларе Скуолы ди Сан Рокко, и от часов в сагрестии церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари, которые – необъяснимая удача и прорыв. Я, не возражая против прорыва, всё же не могу не заметить, что Сан Джованни ди Капистрано, более известный как Иоанн Капистран, был жутковатым францисканцем, которого папа Николай V отрядил для борьбы с гуситами в Чехию и Силезию в середине XV века. Там он прославился тем, что жёг евреев, подготавливая холокост (в одном Бреслау он сжёг 40 человек), и столь усердствовал, что в конце концов Иржи Подебрад, регент Богемии, его из своих владений выставил. Тогда, не успокоившись, он стал произносить зажигательные речи, собирая новый (Девятый) крестовый поход против турок. Поход организовать ему не удалось, но зато удалось собрать около 60 тысяч человек, которых он повёл в Венгрию, устраивая по пути погромы. В конце концов в 1456 году он их привёл к Белграду, осаждённому турками, и его банда, турками в основном и перебитая, способствовала тому, что Белград устоял, и турецкое нашествие, начавшееся на Европу после окончательного захвата Константинополя в 1453 году, было приостановлено чуть ли не на сто лет. Венгров и неудавшихся крестоносцев тут же после победы поразила чума, по воле Божией окончательно избавившая мир от новоявленных ревнителей Креста. Заодно жертвой чумы и воли Божьей пал и сам Иоанн Капистран. За свои заслуги он был канонизирован папой Александром VIII, но только в 1690 году. К 1690 году Франческо Пьянта, судя по всему, был уже или в могиле, или близок к ней, потому что мы знаем, что он долго болел, и когда и как он мог успеть вырезать заурядно-героическую фигуру этого изверга? Ведь должно было ещё пройти какое-то время между канонизацией в Риме и тем, чтобы попечителям венецианской церкви пришло в голову заказать скульптуру нового святого. В то, что эта заурядная поделка принадлежит руке Франческо Пьянты, мне не хочется верить, уж очень мало она вяжется с выдающимся Геркулесом. Я, конечно, очень хорошо знаю о беспринципности таланта, но всё же если талант может быть сопряжён с самым что ни на есть мракобесием, то с заурядностью он никак не сопрягается. У таланта могут быть только неудачи, а Сан Джованни ди Капистрано, якобы вырезанный Франческо Пьянтой, столь ординарен, что неудачей его назвать – значит ему польстить. Не хочу я, чтобы одна рука резала и великолепного Геркулеса, и католического мракобеса Капистрана.
Геркулес, творение Пьянты, не менее загадочен, чем его автор. В первую очередь неизвестно, Геркулес ли это. Самые старые источники, описывавшие Салу Капитоларе, называют его «колоссом с Солнцем в левой руке», а в XVIII веке его именовали Аполлоном. Геркулесом его обозвали уже современные учёные, на основании того, что если приглядеться, то можно различить, что правая рука деревянного человека ухватила за гриву львиную головку, какую-то неестественно маленькую, но, наверное, являющуюся намёком на шкуру Немейского льва, в которой этому герою свойственно было появляться. Не зная, что это Геркулес, принять его за античного героя трудно: иконографически Геркулес Пьянты резко отличается от всех известных нам Геркулесов. Мы знаем, что Геркулес, будучи лишь героем, то есть сыном смертной и бога, но достигший бессмертия и сам ставший богом, совмещал в себе человеческое происхождение с божественной судьбой и поэтому стал со времён Ренессанса самым популярным персонажем Олимпа. Геркулеса полюбили и художники, и правители, заставлявшие художников то изображать себя в виде Геркулесов, то изображать Геркулесов в своих свитах. Фигура Геркулеса стала символом власти, несмотря на то что, согласно древним мифам, у этого героя, сына верховного божества, происхождение всё ж таки было незаконное, и с официозом, воплощённым в плаксивом и коварном Эврисфее, у Геркулеса изначально были ужасные отношения. Затем уже Геркулес стал сам себе царём, но свои великие двенадцать подвигов он совершил тогда, когда власть его вовсю третировала и ни в грош не ставила – об этом правители забывали, но художники помнили и иногда создавали Геркулесов, отличающихся от общепринятых. Обычно же Геркулеса, воплощение силы, мужественности, разумности и величия, представляли в виде мощного, добродушного и несколько простоватого культуриста, чья обнажённость подчёркивалась небрежно накинутой на плечи шкурой льва, украшенной шедевром таксидермии, головой с разинутой пастью и огромными торчащими клыками, – этакая горжетка героя. Дубина, это оружие, подчёркивающее прямоту и чистосердечие героя, была столь же обязательна, как и львиная шкура. В 1546 году при раскопках терм Каракаллы в Риме была найдена статуя Геркулеса, которая теперь – самый знаменитый Геркулес в мире. По имени его обладателей, семейства герцогов Фарнезе, Геркулес был прозван Фарнезским, и с этого времени все остальные изображения героя так или иначе походят на эту скульптуру и на Арнольда Шварценеггера периода рассвета, только с бородой. После 1546 года любой художник, изображая этого героя, держал в голове Геркулеса Фарнезского, поэтому поджарые Геркулесы остались в кватроченто. Худоба и безбородость Геркулеса Пьянты поразительна.
Дубины у Геркулеса Пьянты нет, зато есть зеркало-солнце. Зеркало – чуть ли не самый многозначный символ мировой культуры, гораздо многозначнее дубины. Подобные зеркала на ручках держат всевозможные Истины, Правосудия, Доблести, Просвещения и т. д., но также и Тщеславия с Гордынями. Зеркало-солнце – особый случай, и в одной очень полезной книжке, в «Иконологии» Чезаре Рипы, полное название которой звучит как Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi, «Иконология, или Описание образов Мира, взятое из Древности, а также из других источников», есть изображение женщины, держащей в руке точно такое же зеркало-солнце. Над женщиной написано Dottrina, Доктрина, и изображение сопровождает текст, поясняющий, что так, в виде одетой женщины зрелых лет с солнышком на скипетре-ручке, должна быть представлена система воззрений, руководящим принципом которой является истина. Сама Истина, Verita, другая дама, от Доктрины отличающаяся, и она молода, прекрасна собой и совершенно голая. Истина держит солнышко не на ручке, а прямо-таки в раскрытой ладони, и в этом её отличие от Доктрины (читай – Идеологии), на истинность претендующей, но истиной не являющейся. К «Иконологии» Чезаре Рипы обращались, как мы к Википедии. Книга эта была в библиотеке Франческо Пьянты, пользовался он ею неоднократно и своеобразно, о чём свидетельствуют остальные скульптуры в Скуола Сан Рокко.
Церковь ди Санта Мария делла Салуте
Наделение Геркулеса атрибутом Доктрины достаточно неожиданно; пишущие об удивительной скульптуре из Сала Капитоларе могут только это констатировать, но объяснить никак не могут. Геркулес вроде бы никоим образом к приоритетным героям Скуолы Сан Рокко не принадлежал, он не был её символом или покровителем – во всяком случае, как уже говорилось, в ранних описаниях эта скульптура фигурирует как «колосс» или «Аполлон». С чего же это именно Геркулесу в Скуоле Сан Рокко дано право воплощать собою Доктрину? Да ещё в таком виде – обезумевшем, да и только, со сверлящим пол бешеным взглядом и изломанным телом?
Когда я смотрю на дикого Геркулеса, трясущего над моей головой своим солнцем, позаимствованным у Доктрины, добродетельной женщины зрелых лет, атрибутом, я вспоминаю событие современное, но к барочной Венеции имеющее прямое отношение. Это постановка на оперном фестивале в Сполето 2006 года «Геркулеса на Термодонте» Вивальди, осуществлённая режиссёром Джоном Паско. Сюжет оперы построен на мифе о девятом подвиге Геркулеса, когда он, опять же по приказанию Эврисфея, отправился добывать вместе с Тезеем пояс Ипполиты, царицы амазонок. Ехать пришлось далеко на север, к реке Термодонт (Фермодонт), впадавшей в Понт (Чёрное море) и протекавшей где-то в предгорьях Северного Кавказа. Амазонки к мужчинам относились как к спермобанку, и хорошо ещё, если после использования с миром отпускали, а не резали. Царство амазонок было воплощением матриархата, то есть неким пережитком чудовищной древности, таким же, как Лернейская гидра или Стимфалийские птицы, – Геркулес с Тезеем, с ними воюя, не только выполняли приказ Эврисфея, но ещё и прогрессу способствовали. Девятому подвигу Геркулеса и посвящена опера Вивальди, но так как в мифе не слишком много событий, то автор либретто, Антонио Сальви, разукрасил его, завязав между греками и амазонками множество романов, построенных на любви-ненависти. Получилось сложное и громоздкое повествование, превращённое Вивальди в красивое оперное действо, впервые представленное публике в 1723 году в римском театре Капраника. Так как в Риме женщинам выступать на сцене запрещалось, то в Вивальдиевой постановке кастраты исполняли и роль соратников Геркулеса, и роль амазонок, поэтому геркулесово-амазонные страсти-мордасти сплелись в столь изощрённую перверсивную story, что в современной России Вивальди с Сальви наверняка бы оштрафовали на кругленькую сумму за такое безобразие. Девятнадцатый викторианский век думал как современная Россия, поэтому оперу и не ставил, забыл, да и в двадцатом, за неимением кастратов, она долго не возобновлялась. Однако ближе к своему концу XX век, рехнувшись на барокко, барочной оперой вплотную занялся. Сначала кастратов меццо-сопрано запели, но к середине 80-х народились и контратеноры, причём во множестве и наипрекраснейшие. Оказалось, что орхиэктомия, то есть операция удаления яичек, вовсе не обязательна, главное – обучение. Мода на высокие мужские голоса перестала быть эпатажем, и Жарусски сделался нашим Фаринелли. Стремление к возрождению подлинности оказалось порождением духа времени. Режиссёры барочных опер, прикрываясь аутентичностью, изгаляются, как могут, историю Цезаря и Клеопатры представляют как оккупацию союзными войсками Ирака, а историю лонгобардской Роделинды – как мафиозную разборку. Теперь представления многих опер барокко кажутся гораздо более авангардными, чем «Лулу» Альбана Берга, чему барочные авторы, я думаю, рады, там, у себя на небесах сидючи. Вообще-то они, когда своих Цезарей и Роделинд писали, очень хотели быть актуальными.
К такого рода остросовременным событиям относится потрясающая сполетовская версия «Геркулеса на Термодонте» Джона Паско. Амазонок у Паско поют всё же женщины, но постановка тем не менее столь экстравагантна, что режиссёру пришлось перед оперой объяснять публике свой замысел, и объяснения его: мол, Геркулес был такой весь raw, сырой и дикий, что его raw и представлять надо, – выглядели как извинения. Дело в том, что Геркулес в постановке Паско выходит на сцену голый, ну абсолютно голый, абсолютно весь, без фиговых листков или каких-нибудь других стрингов, в одной лишь шкуре льва, которой он пользуется как горжеткой, прикрывающей разве что шею. Захари Стейнс, поющий партию Геркулеса у Паско, замечателен как своей фигурой, так и своим тенором (есть, конечно, теноры и намного лучше, но у всех у них фигура не та), и появление голого Геркулеса, несмотря на все предупреждения Паско, публику так ошеломило, что интернет запестрел признаниями очевидцев в том, что они после появления Захари-Геркулеса и слышать уже ничего не слышали, ибо были загипнотизированы видом члена Захари, весьма выразительного и размерами радикально отличающегося от размеров члена Геркулеса Фарнезского, по виду которого мы и привыкли судить о внешности античного супергероя. Отличается от Геркулеса Фарнезского и фигура Захари Стейнса, сухощавая и поджарая, вовсе не похожая на Шварценеггера в расцвете, но от этого не менее прекрасная и очень походящая – так же как и вся мимика и манера певца, подчёркнуто гротескные, – на Геркулеса Франческо Пьянты. У обоих даже шевелюры одинаковы и бороды нет.
Ни малейшего подозрения, что Паско хоть как-то соотносился с яростным Геркулесом из Салы Капитоларе, у меня нет. Однако так уж вышло, что, стараясь представить Геркулеса диким и необузданным зверем – он своих собственных детей погубил, Паско об этом в своём объяснении упоминает, – режиссёр тут же создаёт нечто похожее на то, что венецианским мастером до него было представлено. Есть ли в этом что-либо специфически венецианское? Ничего, кроме того, что и Пьянта, и Вивальди – венецианцы и что Геркулес Пьянты – трикуспидальный клапан Венеции, о чём Вивальди наверняка знал, хотя, быть может, так и не формулировал. Заворожённому головоломной виртуозностью арии Геркулеса, исполняющейся после того, как он решает, по просьбе Тезея, спасшегося из плена амазонок благодаря любви одной из них, не омрачать своей победы даже тенью жестокости, и, наконец, одевается, чтобы публика смогла выпустить воздух и начать слушать, ни на что не отвлекаясь, мне всё время представлялся Геркулес Пьянты, с его безумным взглядом и фигурой акробата. В арии беспрестанно повторяется слово crudeltà, «жестокость», и, хотя Геркулес у Вивальди поёт о своём предполагаемом великодушии, эта crudeltà, чьё звучание полно кинжальной колкости, режет в сознании образ, подобный тому, что вырезал из дерева Пьянта в Сале Капитоларе. И Пьянта, и Вивальди, и Паско подчёркивают в Геркулесе яростность и жестокость, делая из него не флегматичного культуриста, а мускулистого холерика. Геркулес Пьянты, машущий солнцем над головами патрициев в Скуоле Гранде ди Сан Рокко, определён пульсацией Сан Поло, сестиере кулачной демократичности. Мантия патриция и кулак народа – соединение подлинно венецианское: сравните с Геркулесом Фарнезе, своей шварценеггеровской мускулатурой просто предназначенного украшать лестницы дворцов державных аристократов. В Геркулесе Пьянты есть этакая патрицианская народность, что отнюдь не идентично народности патрициата – ни в коем случае.
При сравнении двух Геркулесов, деревянного, барочного венецианского, и живого, сполетовского, на барочность претендующего, как-то особо начинают интриговать ленты, опутывающие чресла деревянного Геркулеса. Ленты мешают и не дают мне углубить аналогию сходства Геркулеса Пьянты и Геркулеса Захари Стейнса, заодно подчеркнув радикальное отличие от Геркулеса Фарнезе, ввиду закрытости того, что можно было бы рассмотреть как argument primaire, решающий довод. Впрочем, я уверен, что у Пьянты, весьма глубоко интересовавшегося иконологией, непродуманных случайностей нет, поэтому я не хочу отделываться поверхностным соображением, что эти лоскутья, столь необычно пеленающие тело Геркулеса Пьянты, являются неким подобием фигового листка и цензурных стрингов, скрывающим argument primaire. Я уверен, что ткань на теле Геркулеса, разорванная в клочья, намекает на обстоятельства смерти героя, за которой последовало обожествление и бессмертие. Геркулес, доведённый до исступления муками, причиняемыми одеждой, которую его жена Деянира, желая вернуть себе угасающую любовь супруга, пропитала отравленной кровью коварного Несса, сжёг себя заживо на погребальном костре, ибо:
И свершив земное, роковое, Мощно сбросил всё людское Чрез огонь очистившийся бог. И, полету радуясь впервые, Устремился в выси голубые, Кинув долу груз земных тревог, —как об этой смерти пишет Фридрих Шиллер в стихотворении «Идеал и жизнь». Лоскуты – разодранная одежда, дар Деяниры, ставшая саваном героя. Солнце в руке Геркулеса – тот самый очистительный огонь, который помогает ему умереть, чтобы стать бессмертным. Нестерпимые муки, испытываемые Геркулесом прежде чем он «мощно сбросил всё людское», объясняют его дикую, болезненную яростность, что так поражает в этой скульптуре, одной из самых оригинальных трактовок образа Геркулеса в изобразительном искусстве.
Страдание и ярость. Живопись Тинторетто в Скуоле Сан Рокко действует также – в его цикле, в яростной попытке создать вторую Систину, есть что-то угрожающе исступлённое. Определяется это и духом Сан Поло, и пафосом молодой и оппозиционной официозу левого берега Скуолы Гранде ди Сан Рокко, и личностью самого Тинторетто, но объясняется также и обаянием, исходящим от образа святого, имя которого эта Скуола носит, святого Рокко или Роха, как чаще принято называть его в России, потому что по своему происхождению имя Roch французское, ибо Рокко родился во французском городе Монпелье, где его останки и находились, пока в 1485 году венецианцы их оттуда не стащили самым что ни на есть воровским образом.
Если Альвизе – святой благочестивых старух-аристократок, Лоренцо – интеллектуалов с нечистой совестью, то Рокко – подлинно народный святой. Святой достаточной новый (он родился между 1346 и 1350 годами) и молодой (умер между 1376 и 1379 годами, будучи чуть старше тридцати), Рокко получил огромную популярность в силу того, что был провозглашён защитником от чумы и холеры, двух самых страшных эпидемических болезней, а также защитником вообще всех заражённых. Он родился в дворянской семье, был долгожданным наследником очень пожилых родителей, отправивших его в блиставший в XIV веке университет Монпелье, но тут же и умерших. Родители оставили Рокко большое состояние, но он всё раздаёт и где-то в 1367 году, когда ему было около двадцати, отправляется паломником в Рим. В Италии Рокко оказался, когда «Царица грозная, Чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой; и к нам в окошко день и ночь стучит могильною лопатой…», но вопросом «Что делать нам? и чем помочь?» не задавался, а, уже знакомый с повадками Чумы по Монпелье, принялся делать и помогать, не теряя, подобно пушкинскому Священнику, время на обличения тех, кто, как и рассказчики новелл «Декамерона» Боккаччо, «заварив пиры да балы», восславил «царствие Чумы». Действие «Декамерона» примерно совпадает со временем пребывания Рокко в Италии. Молодой человек, в Рим направляясь, по пути задерживался в каждом городе и в каждой деревне, чтобы помочь заражённым, от которых все шарахались и оставляли их на произвол судьбы, тем самым эпидемию лишь усиливая. Многие, брошенные всеми близкими, были им утешены и ободрены в миг смерти, многие, благодаря вовремя оказанной помощи, смерти избежали. Он спасал младенцев, плачущих от голода на трупах своих матерей, и глупых, никому не нужных и отовсюду выгнанных старух, спасал бедных и даже богатых, спасал благочестивых монахов и последних преступников, ибо милосердие не должно быть избирательным; именно это, весьма политкорректное соображение, которым Рокко руководствовался, в будущем обеспечило ему популярность у народа.
Так, помогая заражённым, Рокко дошёл до Рима, поклонился святыням – он стал ещё и покровителем всех пилигримов, – был представлен папе, и отправился обратно в Монпелье. Когда он достиг Пьяченцы, опять разразилась чумная эпидемия, и Рокко на этот раз, выхаживая больных, заразился сам. Не желая никого подвергать риску, он уединился в лесном гроте, где бы умер от голода, если бы не собака, приносившая ему хлеб ежедневно. Собака принадлежала благородному сеньору по имени Готтардо Паластрелли, и хозяин однажды увидел, как его любимый пёсик стащил кусок со стола и куда-то направился. Желая наказать пса за воровство, Готтардо за ним устремился, и таким образом глубоко в лесу обнаружил Рокко в его гроте, сжалился над ним, отвёл в свой замок и выходил. Выздоровев, Рокко продолжил свой путь и оказался – тут исследователи (а Рокко персонаж исторический и достоверный, о его жизни написаны тонны не житий, а самых настоящих монографий) расходятся – то ли в северном Анже, то ли в родном Монпелье, то ли в ломбардской Вогере. Там, где он оказался, не важно где, шла война – а войны шли везде и постоянно, и Рокко приняли за вражеского соглядатая. Он был арестован, а так как имел вид угрожающий, ибо зарос бородой, был измождён и грязен, то никто его благородства не разглядел (при рассказах, утверждающих, что это произошло в Монпелье и Вогере, где у него была родня по матери-ломбардке, упоминается и неузнавание родственниками; в Анже, близком к Бретани, никаких родственников у Рокко не было), его засудили и бросили в темницу.
Во время допросов Рокко обвинениям не противоречил, лишь повторяя одно и то же: «я хуже, чем шпион», и никаким другим именем, кроме раба Божиего, называться не захотел. Власти, понятное дело, страшно раздражились, и, кроме тюремного заключения, он был подвергнут и всяким другим истязаниям, а затем забыт, пока вдруг, на городской площади, около колодца, а также в портале собора (Анже, Монпелье, Вогеры) не стали мистическим образом слышны голоса, утверждавшие, что в темнице томится невинный. Голоса становились всё более и более внятными, горожане смутились, а губернатор обеспокоился, поэтому назначил расследование, Рокко в темнице обнаружившее и оправдавшее, но поздно – он умирал или уже даже умер в возрасте тридцати двух лет, и его, утешавшего столь многих, никто утешить не пришёл, кроме слетевшего к нему ангела. Тинторетто, на стенах Скуолы изобразивший житие святого в серии картин, посвятил моменту, когда ангел слетает с небес посетить умирающего Рокко в тюрьме, огромную (3×6,7 м) композицию.
Где это произошло, не имеет значения, хотя Монпелье, Анжу и Вогера до сих пор спорят за право своих тюрем быть местом несправедливого заключения Рокко, но после смерти Рокко был узнан, реабилитирован, и останки его оказались в родном Монпелье – это точно. Пошли чудеса, много способствовавшие делу здравоохранения города во время следовавших одна за другой эпидемий, вести об этом облетели Европу, и поклонение Рокко приобрело массовый характер. В частности, перед останками Рокко был слышен шёпот ангельского голоса: «Тот, кто будет звать меня против чумы, будет освобождён от этой напасти». Рокко и сейчас популярен в наиболее католических странах земного шара, а именно: в Бразилии, в Испании, на юге Италии, в Хорватии и в Люксембурге. Популярен он стал и в Венеции, в то время страдавшей от эпидемий, в силу своих тесных связей с Ближним Востоком (читай в «Смерти в Венеции» довольно точное описание распространения холеры; с чумой было то же самое), и венецианцы в конце концов выкрали, так как жители Монпелье ни за что не соглашались их продать, останки святого и привезли в свой родной город. Члены Скуолы Сан Рокко, недавно основанной, приложили все усилия, дабы реликвию заполучить, они всей операцией в Монпелье по умыканию трупа и руководили, и упокоили труп в церкви ди Сан Рокко, chiesa di San Rocco, уже до этого воздвигнутой на той же площади, на которой Скуола и стоит, на Кампо Сан Рокко, Campo San Rocco. Святой Рокко стал вторым, после евангелиста Марка, святым Венеции. Праздник святого Рокко, 16 августа, город отмечал очень пышно, Кампо Сан Рокко специально украшался, и дож, во главе процессии всех высокопоставленных лиц Венеции, одетых в торжественные официальные одежды, направлялся в церковь ди Сан Рокко на специальную службу, посвящённую святому. День 16 августа Венеция продолжает отмечать и сейчас, и Кампо Сан Рокко всё ещё украшается, хотя дожа уж нет, а мэр Венеции вроде как на эту службу официально не ходит.
Калле Стретта
История Рокко напоминает сюжет фильма Питера Гринуэя «Дитя Макона», повествующий о чудесном рождении у престарелых родителей прелестного дитяти, в дальнейшем расчленённого церковью на части, проданные как реликвии. Местом действия Гринуэй выбирает юг Франции, место наибольшего почитания святого Рокко, где, как и в Южной Италии со средиземноморской Испанией, культ его отличался крайней экзальтацией. Ещё бы – чума нешуточное дело, и Рокко связывался с «чёрной смертью», что придавало его образу нечто особое, мрачное и роковое, и в русском языке в звучании имени «Рокко» есть некая особая привлекательность, связывающая его со словом «рок», означающим некое высшее предопределение человеческой судьбы, человеку ничего хорошего не сулящее. Впрочем, в остальных языках «Рокко» и «рок» не являются омонимами, но зато омонимируются с рок-н-роллом, с «качайся и катись», и это придаёт образу святого особый динамизм, выделяющий его из всего католического пантеона. Тинторетто, во всяком случае, рок-н-ролльность Рокко очень прочувствовал, и её углубил, так как композиции в Скуоле Сан Рокко – самый настоящий рок-н-ролл чинквеченто.
Мне, да и любому, кто с XX веком знаком, при входе в Скуолу Сан Рокко вспоминается фильм «Рокко и его братья», и тот Рокко, что был сотворён Лукино Висконти из совсем юного Алена Делона, которому затем не удалось сыграть (исключая «Леопарда») ничего, чтобы к Рокко из «Рокко и его братьев» хотя бы издали приближалось. О случайности имени и речи быть не может, у Висконти не было ничего случайного. От Дирка Богарта мы знаем, как он цеплялся к каждому хлястику во время съёмок «Смерти в Венеции», настаивая на том, чтобы хлястик был именно 1913 года, и никаких сомнений в том, что Висконти обдуманно дал своему герою имя Рокко, нет. Святой, каким был юный Рокко из Монпелье, взваливший на себя роль благородного страдальца, готового принять все грехи мира и в ответ на все обвинения твердивший, что он хуже любого шпиона и соглядатая, конечно, наиболее подходящий эпоним для итальянского и современного князя Мышкина, задуманного Висконти и сыгранного Делоном. Итальянец с французом сдобрили достоевщину средиземноморской сексуальностью, и получился прекрасный боксёр, наделённый глубиной «Идиота», чей образ сросся с именем Рокко намертво. Никак не перекликаясь своим звучанием в европейских языках со словом «рок», имя Рокко тем не менее стало роковым, и Делон, когда ещё пробовал что-то играть, это почувствовал; во всяком случае в гангстерском фильме Жака Дерэ «Борсалино» 1970 года, рассказывающим о марсельских разборках, где он сыграл главную роль, он именует себя Рок Сиффреди. Фильм не то чтобы шедевр, но полон портового очарования, коим Марсель был когда-то славен, и Рок Сиффреди – одна из немногих делоновских актёрских удач вне фильмов Висконти. Нам, русским, очарование этого города явлено в замечательной песенке «Марсель», которую я помню с детства и которая рисовала некий заманчивый образ заката Европы. Песенка начиналась: «Стою я раз на стрёме, держуся за карман», а далее повествовала о том, как представителя советской малины пытается совратить агент прогнившего Запада, голосом змея-искусителя выводящий:
Он говорил: «В Марселе Такие кабаки, Такие там бордели, Такие коньяки! Там девочки танцуют голые, А дамы – в соболях, Халдеи носят вина, А воры носят фрак!»Выбор романтического Марселя, а не Парижа или Лондона, для вербовщика гораздо более естественный, совпадает с мифологемой Марселя, слывшего городом опасным и соблазнительным – таким он уже давно не является. В Марселе почитание святого Рокко было не менее сильным, чем в Монпелье, и Рок Сиффреди, романтический гангстер французского film noir, добавил к имени Рокко, и без того связанном с «чёрной смертью», чёрного обаяния.
Как я уже говорил, Рокко – святой народа, и, набрав в интернете «Святой Рокко», вы первым же делом получите: «Вивасан Сан Рокко бальзам 50 мл, старинный целебный бальзам, который быстро и эффективно помогает при различных заболеваниях кожи, зуде, воспалении, аллергии, псориазе, дерматите, язвах, ожогах и пр., препятствует огрубению кожи, восстанавливает ее структуру, защищает от УФ-лучей. В основу бальзама легли целебные травы, которыми по преданию Святой Рокко лечил больных чумой, свирепствовавшей в Средние века в Европе. Сеть аптек «Не Болей» гарантирует качество»… Набрав же «Рокко», вы получите «рокко сиффреди смотреть онлайн», что будет касаться не героя Алена Делона, а знаменитейшей порнозвезды, родившейся в Ортоне, Абруццо, на юге Италии, как и Рокко из «Рокко и его братьев», и в родной Ортоне именовавшегося Рокко Тано – опять же таки косвенное свидетельство народности Рокко, ибо это имя, популярное на юге, в Северной Италии встречается не так уж часто.
Рокко Тано, назвавшись Рокко Сиффреди, взял себе псевдоним в честь героя «Борсалино». Об этом, быть может, и не стоило вспоминать, если бы не фильм Катрин Брейя Anatomie de l’enfer, «Анатомия ада», в нашем прокате шедший под названием «Порнократия». Фильм очень талантлив и неглуп, хотя был раскритикован по самые помидоры в Rotten Tomatoes, и Катрин Брейя, столь экстравагантно взяв Тано-Сиффреди на главную роль, показала, что он ещё и актёр, не хуже Делона. В Anatomie de l’enfer соитие трактуется как некое противостояние, что не так уж и избито и не так уж плоско, причём Катрин Брейя обставляет свою повесть об извечном притяжении-противоборстве пола столь шокирующее гламурно, что в этом есть какая-то дерзость отчаяния, наполняющая собой весь фильм. Действие происходит на средиземноморской вилле и только ночью, и марсельское море плещется поблизости, и во всей стилистике фильма есть нечто борсалиново-марсельское, доведённое до гротеска, и чёрные садо-мазо страдания Амиры Казар и Рокко Сиффреди погружены в черноту средиземноморской ночи, и ро́кковая чернуха имени Рокко доходит уж до такой степени, что впору детскую страшилку вспомнить, а также соотносящуюся со страшилкой песню группы «Ленинград»: «в чёрном-чёрном городе чёрными ночами неотложки чёрные с чёрными врачами едут и смеются, песенки поют».
Чума, да и только!
Что ж, Скуола Гранде ди Сан Рокко – царство гениальной чернухи. Живописный цикл Тинторетто, обеспечивший мировую славу Скуолы, очень точно соответствует чёрному обаянию, исходящему от имени Рокко, чумового героя. Тинторетто, подобно Микеланджело в Капелле Систина, развернул на стенах и потолках Скуолы повествование об истории человечества, начиная от времён Ветхого Завета и заканчивая недавней современностью, историей святого Рокко, и его повествование о человечестве особым оптимизмом не отличается. Так всегда бывает, как только о человеческой истории, пусть даже и священной, начнёшь повествовать, ибо в ней одно преступление следует за другим, если не «Медный змий», то «Голгофа». Мрачное величие Скуолы Сан Рокко и цикла Тинторетто подвигло Сартра на написание эссе Séquestré de Venise, «Венецианский узник», в котором Сартр противопоставляет Тинторетто Тициану, делая из него фигуру, подобную одному из Les Poètes maudits, «Проклятых поэтов». То, что написано Сартром, относится к самому интересному, что о Тинторетто было написано, хотя достоверности в том, что этот марксист с левого берега Сены напридумал о художнике из Скуолы на правом берегу Канале Гранде, нет никакой. Сартр делает из Тинторетто чуть ли не творческого люмпен-пролетария, бунтующего против устоявшихся порядков, хотя – вспомним дом Тинторетто – художник с окружающей его венецианской действительностью находился в консенсусе, а не противоборствовал ей. Оппозиционность Тинторетто была столь же безопасна для него, как и оппозиционность самого Сартра: не велик революционный риск в питии коктейлей с Симоной де Бувуар на Rive gauche, да в писании мрачных, но неплохо оплачиваемых филиппик против буржуазности. Левый Сартр был гордостью Франции, а оппозиционный Тинторетто – гордостью Венеции. Правительственных заказов у Тинторетто было полно, добывал он их мастерски и с помощью не одного только таланта. Как и в случае с Сартром, которого, конечно, можно ненавидеть как Борис Виан, обвиняя в попсовости, успешность Тинторетто, выдававшего километры в буквальном смысле этого слова живописи по заказу Совета Десяти, есть лишь обстоятельство его биографии, а не характеристика творчества. В живописном изобилии Скуолы Сан Рокко можно разглядеть некоторую излишнюю торопливость и даже подхалтуривание, но и они – гениальны, и гениальность Тинторетто заставляет зрителя с выданным ему зеркалом погружаться в очистительный и мрачный дух Венеции, подобно лисице, избавляющейся от блох, ибо Скуола Сан Рокко столь глубока и столь грандиозна, что вообще-то, приехав в Венецию на один день, вполне достаточно в Скуолу направиться и постараться её прочувствовать, так как, прочувствовав это удивительное место, уловив биение сердца Венеции, ничего более вроде как и не нужно – размах Скуолы Сан Рокко таков, что Венеция предстает в ней во всей своей всесторонней полноте, всеохватывающей, хотя и не исчерпывающей.
Глава седьмая Франциск и Орфей
Базилика ди Санта Мария Глориоза деи Фрари. – Францисканцы. – Об урбанистичности Венеции. – Дух, тело и консервированный горошек. – Madonna Poverta. – Мессиан, Либерманн, Помпиду. – Septum. – Потреблятство, святой Франциск на оперной премьере. – Прохлада Монтеверди. – Спасённый Орфей. – «Ассунта» Тициана. – Об относительности всякой абстракции. – Чернокожие в Венеции. – Кампо Сан Стин. – Моё личное вознесение
Заявление, что в Венеции можно ограничиться Скуолой Сан Рокко, принадлежит не только мне. Мой приятель, художник, когда мы с ним говорили о скульптурах Пьянты, о Тинторетто и замечательных фонарях, fanaloni, использовавшихся в XVIII веке для торжественных процессий, а теперь украшающих интерьер Сала Супериоре, и столь венецианских, что кажутся бутафорскими, хотя фонари стопроцентно подлинные, также сказал, что Скуола Сан Рокко так хороша, что вроде как ничего больше и не надо. Меня это резануло, как это часто бывает, когда свою же собственную мысль услышишь со стороны, потому что хорошо нам с ним, в Венеции уже побывавшим довольно, столь по-снобски изгаляться, но вообще-то, для того чтобы понять, что, Скуолу Сан Рокко посетив, можно всю Венецию прочувствовать и как бы и увидать, это надо не раз в Венецию съездить и много чего пережить и ощутить. Поэтому посещение соседней со Скуолой церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари, часто называемой просто Деи Фрари, Dei Frari, обязательно, и приятель во время разговора мне, кстати, заметил: «Можно ещё и во Фрари зайти, благо напротив; а можно и не заходить» – но это «не заходить» растёт из нашего с ним снобизма, и, вырвав снобизм с корнем, я чистосердечно признаюсь, что Санта Мария Глориоза деи Фрари, наряду с Скуолой Сан Рокко, собором Сан Марко и церковью Санти Джованни и Паоло, относится к тем местам Венеции, где нужно побывать в первую очередь, даже если у вас в Венеции всего один день. Пятым я бы добавил Палаццо Дукале, а вот Приджони, Тюрьмы, куда все так стремятся, я бы особо советовать и не стал – имея в Венеции мало времени, без них можно спокойно обойтись.
Кампо Санто Стефано
Церковь деи Фрари столь важна для Венеции, что русские путеводители часто её именуют собором, что неправильно. Происходит это из-за того, что церковь ди Санта Мария Глориоза деи Фрари у итальянцев называется не просто церковью, а базиликой, La Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Титул этот церковь получила, однако, недавно, всего лишь в 1926 году. Что он значит? Теперь Basilica – это почётное звание, даваемое папой великим церквям католического мира. Он отмечает их статус в иерархии церковной бюрократии, так как базилика имеет право и возможность непосредственно общаться с Ватиканом, что определяет важность данной церкви как в районе, в котором она находится, так и её особое положение во всём католическом мире. Полностью титул звучит Basilica Minore, Младшая Базилика, чтобы отличить младшие базилики, коих довольно по миру много (всего 1633), от четырёх Basilicae Maiores, Старших Базилик, которые все находятся в Риме и называются также Папскими Базиликами, Basiliche Papali, или Базиликами Понтифика (то есть верховного священнослужителя), Basiliche Pontificie. В Венеции базилик несколько, и это путает всех, кто интересуется венецианскими реалиями. Перед словом «базилика» испытываешь почтение, потому что кажется, что оно идёт откуда-то из Восточной Римской империи, связано с титулом басилевса, означающим монарха законного и наследственного, но на самом деле это просто ватиканские лычки, что стали раздаваться с конца XIX века. По преимуществу все Basilicae Minores мира получили свои звания в Новейшее время, но в Италии помимо четырёх римских существует несколько древних церквей, наделённых почётным титулом базилики со времён незапамятных, и в Венеции их четыре, причём две – не в самой Венеции, а в её окрестностях. Церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари к ним не принадлежит, и она, возникшая где-то в 1250 году, с точки зрения Венеции церковь относительно новая. Впрочем, в XIII веке была построена лишь небольшая церковь, о виде которой у нас даже никаких догадок нет. Новое здание церкви начали строить в 1340 году, закончили же лишь в XV веке. Тогда церковь и приобрела тот облик, что остался неизменным, так как последующие столетия её фасад не тронули.
С понятием новизны в Венеции всё не менее сложно, чем с Неисцелимыми и Плотами, с началом и концом, с правым и левым. Строгий фасад деи Фрари вроде как ни о какой новизне не говорит; наоборот, так как глаза туриста привыкли к фасадам более поздним, ренессансным и барочным, то готика этой архитектуры должна повествовать о седой старине. В то же время, если вы отрешитесь от всякого знания стилей, хронологии и всего того, что обычно подгоняют под определение «исторический процесс», который, как нас учили, есть поступательное развитие общества и который понятие весьма условное, то вид этой церкви, когда вы вырулите из плетения переулков Сан Поло на Кампо деи Фрари, Campo dei Frari, Площадь Братьев, поразит вас своей необычностью. Необычность – один из признаков авангардности, причём один из самых существенных, это мы знаем от кубистов с фовистами, а церковь деи Фрари с самого своего основания воплощала идею обновления. Идеи, в отличие от идеологий, не устаревают, поэтому Санта Мария Глориоза деи Фрари во времени оказывается гораздо ближе к капелле Роншан Ле Корбюзье, чем произведения архитекторов более поздних веков, – как кикладские скульптуры ближе к Пикассо, чем скульптуры Родена.
Ощущение новизны было заложено в фундамент этой церкви, ибо возникла она в самое динамичное для Венеции время, когда благодаря столь искусно провёрнутой стариком Дандоло афере с разграблением Константинополя в Венеции всё пришло в движение. В Венецию хлынули деньги, власть, успех, и кажется, что кровь в жилах венецианцев начинает двигаться быстрее, всё им удаётся, везде они поспевают. Город, ещё недавно бывший сборищем халуп на топкой трясине, растёт, растёт и строится. Рынок Риальто, определяющий важность Сан Поло, стремительно делает шаги к тому, чтобы стать мировым рынком и рынком мира, Арсенале в Кастелло превращается в индустриальное чудо, а Кампаниле ди Сан Марко, Campanile di San Marco, Колокольня Святого Марка, становится самой высокой (теперь уже нет) колокольней в Италии и чуть ли не в Европе – то есть самым высоким зданием, своего рода Эмпайр-стейт-билдинг. К XIV веку Венеция – настоящий средневековый Манхэттен, и даже когда сегодня бродишь по камням её улочек, то, со всех сторон зажатый каменными стенами, испытываешь некий шок урбанизации. Ни малейшего намёка на естественный ландшафт, всё трансформировано застройкой в нечто искусственное и очень сложное, запутанное. Даже сейчас в Венеции легко потеряться, и можно представить, какое впечатление город производил на приезжих пятьсот лет тому назад, такой каменный, замощённый и городской, такой отчуждённый – колокольни вздымаются, как небоскрёбы, и всё узко, и всего много, и пустырей нет, никаких просветов. К Венеции со средневековья прилип миф о деперсонализации, то есть расстройстве самовосприятия, когда собственные действия воспринимаются как бы со стороны и сопровождаются ощущением невозможности управлять ими; отсюда бесконечная чреда венецианских двойников, и отсюда – метания манновского и висконтиевского Ашенбаха. Колокольня церкви деи Фрари, полностью законченная к 1396 году, стала второй в городе по высоте после Кампаниле ди Сан Марко, то есть опять же одной из самых высоких в Европе, и она – воплощённое чудо венецианского строительного бума.
Церковь принадлежала ордену деи Фрати Минори, l’ordine dei Frati Minori, Младших Братьев, как называли себя францисканцы, отсюда и название – деи Фрари. Санта Мария Глориоза стала первой церковью в Венеции францисканского ордена, организации, основанной святым Франциском Ассизским, Francesco d’Assisi, и изначально находившейся в очень непростых отношениях с Ватиканом. Официальные представители Церкви деятельностью Франциска были недовольны, поэтому его даже специально вызывали в Ватикан для отчёта всё тому же папе Иннокентию III, который, как бы он от этого откреститься ни пытался, несёт ответственность за Четвёртый крестовый поход. Если вы помните, папа был молод и резок, шутки с ним были плохи, и Франциска ничего хорошего в Ватикане не ждало, но с помощью Бога, пославшего папе сон, в котором Иннокентий увидел, как Франциск плечом поддерживает Храм Божий, всё для францисканцев закончилось хорошо. Сон послужил рекламным роликом движения, папу убедил, и папа признал деятельность миноритов, «меньших братьев», законной. Франциск вернулся в Ассизи победителем. Впрочем, Иннокентий сделал это лишь устно, а полноправным монашеским орденом Фрати Минори стали только в 1223 году, незадолго до наступившей в 1226 году смерти Франциска, после появления буллы, выпущенной уже другим папой, Гонорием III, окончательно узаконившей францисканство.
Венецианская церковь, как мы видим, была заложена вскоре после признания ордена, она – первая из францисканских церквей в Венеции и одна из первых в Европе. Факт этот довольно значим, потому что святой Франциск сделал для Нового времени гораздо больше, чем все титаны Возрождения, вместе взятые, не говоря уж о том, что он сделал для человечества в целом. Во время «высокой», или «классической», готики, как называют XIII – начало XIV века, его фигура стала символом обновления духовной жизни. Основатель движения нищенских орденов, призывавший к простоте, к тому, чтобы «голым следовать за голым Христом», Франциск Ассизский тем не менее оказал колоссальное влияние на всю интеллектуальную жизнь Европы, оказывает и сейчас. Это один из самых замечательных людей мировой истории, о нём написали Честертон и Гессе, а фильмов выпущено о святом Франциске прорва, от Роберто Росселини до Лилиан Кавани, у которой в фильме «Франческо» святого сыграл Микки Рурк, три года спустя после своего успеха в «Девяти с половиной неделях». Как всё же католицизм эротичен! Шикарно, наверное, Рокко Сиффреди сыграл бы святого в фильме «Рокко», возьмись за такой Картин Брейя – увы, не могу о Рокко не вспомнить, так как только что из Скуолы его имени вышел.
Святой Франциск был реформатором не меньшим, чем Мартин Лютер, и гораздо более симпатичным. Религиозные терпимость и открытость, проповедуемые им, католицизм спасли и сохранили – принятие сегодняшним папой имени Франциска, в истории папства ставшего Первым, является признанием этого факта. Сила, излучаемая святым Франциском, ощутима и в деятельности ордена его имени, на протяжении всей своей истории ничем себя не запятнавшего, никаким савонаролианством, чем он выгодно отличается от большинства других католических орденов, от доминиканцев в первую очередь. Конечно, и среди францисканцев попадались типы, подобные уже упомянутому Иоанну Капистрану, но они немногочисленны и почти случайны. Святой Франциск был новатором, и фасад первой францисканской церкви в Венеции, несмотря на всю его суровую готическую сдержанность, излучает новизну.
Церковь И Фрари
Надо, однако, заметить, что святой Франциск духом своим Венеции чужд. Венеция никогда бы не стала провозглашать его своим покровителем. Дело тут даже не в обручении Франциска с бедностью и естественно вытекающей из этого факта антибуржуазности францисканцев, родственной антибуржуазности Бунюэля, в то время как Венецианская республика была оплотом le charme discret, пропитавшего всю её культуру. Дело и не в том (точнее, не только в том), что Франциск Ассизский проповедовал то, что грубо можно обозвать «духовным коммунизмом», учитывая, что в данном случае «коммунизм» не несёт никаких партийно-идеологических коннотаций, взваленных на него историей. Венеции идея «коммуны» была очень близка, но гражданственность венецианского менталитета не имела ничего общего со стремлением святого Франциска достичь блаженного единения духа, тела и окружающего мира, преодолев все социальные, национальные и – а это было самым важным и самым новаторским – религиозно-культовые рамки, ибо вера святого Франциска по сути своей всякую культовую узость отвергала. Венеция была слишком предана самой себе, и верность членов коммуны родному городу расценивалась как высшая добродетель. Венеция была слишком националистична и эгоистична для францисканства, но решающими всё же были не эти соображения, а то, что движение францисканцев было в первую очередь антиурбанистично. Венеция, средневековый Манхэттен, своей урбанистичностью так гордилась, настолько чувствовала свою избранность, что в крови её детей с рождения была растворена снобская преданность самому высокоцивилизованному городу мира, определявшая их жизни, – антиурбанистичность святого Франциска венецианцам была даже не столь враждебна, сколь просто чужда. Вы можете себе представить, чтобы сегодня кто-то, насквозь отравленный le charme discret de la bourgeoisie, то есть очарованием городской жизни, каким полон современный Манхэттен, и кому на Манхэттене в общем-то хорошо, кто не чувствует себя обделённым и несчастным – ну, кто-то из героинь (да и героев) Sex and the City – а они именно из le charme discret и вылезли, – стал бы францисканцем?
Вот и венецианцы также.
И всё же… Саманта, одна из главных героинь Sex and the City (произведения, как в своём романном варианте, так и в сериальном, отнюдь не бездарном), впрямую сталкивается со святым Франциском. Я, конечно же, имею в виду 49-ю серию, в которой Саманта не то чтобы решает соблазнить священника-францисканца, но чувствует к нему влечение, сходное с тем влечением, что издревле свойственно человечеству: влечение к блаженному единению духа, тела и мира, принимавшее разнообразнейшие формы, в том числе – форму мечты о золотом веке, то есть духовного коммунизма. Саманта, дитя the City, манхэттеновского урбанизма, телесное единение понимает очень примитивно, но и она при столкновении с францисканством чувствует некую духовную потребность, нашедшую выражение в покупке на рынке нескольких банок зелёного горошка, предназначенного для бедных, – по-моему, это вообще единственный акт отвлечённого человеколюбия, что был ею когда-либо совершён. Надо отдать должное создателям Sex and the City, разыгравшим эту новеллу довольно тонко и не соблазнившимся никакими возможными скабрёзностями и остроумностями в адрес последователей святого Франциска. Минорит принимает дар Саманты очень достойно, ничем её не оскорбив и никоим образом не выразив своего отвращения к сенсуальности, воплощением которой (а не сексуальности в данном случае) выступила Саманта, ибо святой Франциск сенсуальность не только не клеймил, но даже и прославлял. Следовательно, и к сексуальности как низшей форме сенсуальности святой Франциск относился без всякой злобы и не проклинал её, как Савонарола, ибо усердие в бичевании чужой сексуальной жизни тут же выдаёт интерес к ней и обнажает патологическую неудовлетворённость, что была свойственна и Савонароле, и доминиканцам, и вообще всем подражателям Савонаролы.
Венеция, как каждый мегаполис, ощущая чуждость, даже и враждебность в себе таящую, учения святого Франциска, испытывала к нему, подобно Саманте, влечение. В связи с церковью Мадонна делл’Орто я уже говорил об ордене C.R.S.G.A., Каноничи Реголари ди Сан Джорджо ин Алга, появившемся на свет в результате сквоттинга молодых венецианских аристократов-интеллектуалов. C.R.S.G.A. чем-то был схож с движением францисканцев, и, конечно, в любом мегаполисе (а менталитет Венеции в XIII–XIV веках был менталитетом мегаполиса) всегда появляется некое духовное брожение, направленное против le charme discret, хотя балом и правит la bourgeoisie, то есть герои Sex and the City.
В том же Манхэттене всё же нашёлся вполне достойный брат-францисканец, пусть даже более чем на эпизод в саге о городе, коей сериал Sex and the City является, и не претендующий. В Венеции также нашлось достаточное количество достойных людей, принявших идеи святого Франциска, а Самант, приносивших им банки зелёного горошка, было полно, и на эти банки зелёного горошка церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари и была выстроена. Грандиозная – Gloriosa – готическая церковь в самом центре Сан Поло, сестиере, склонного к новаторству, чуть ли не с экстремизмом граничащему, вознеслась как воплощение духовного обновления, и даже теперь, спустя шестьсот лет, это всё ещё чувствуется.
Вознеслась – и тут же застыла, потому что Санта Мария Глориоза деи Фрари превратилась в церковь статусную, холимую и лелеемую финансовой элитой как Сан Поло, так и всей Венеции. Быть похороненным в деи Фрари – это всё равно как в Москве на Новодевичьем упокоиться. Когда входишь под тёмные своды церкви из яркого венецианского дня и, минуя билетную кассу – днём деи Фрари принадлежит мамоне-министерству, плату за вход взимающему, – вступаешь в прохладный сумрак сакрального интерьера, то торжественная величественность, ничего вроде бы с Бедностью, невестой Франциска Ассизского, не имеющая, обступает тебя со всех сторон. Жития Франческо д’Ассизи рассказывают, что как-то раз, когда он, сын богатого купца, был совсем юн, блестящ и хорош собой, его весёлые друзья, плейбои средневекового Ассизи, обсуждая любовные приключения, обступили Франческо и, смеясь, спросили, девственник ли он? Франческо ответил, что его невеста – самая прекрасная в мире, и подошёл к женщине в лохмотьях, измождённой, грязной, которой все пренебрегали и на которую никто не обращал внимания. Подошёл и поцеловал её, и обручился с ней, и нарек её своей единственной возлюбленной. Это была Madonna Poverta, Госпожа Бедность, и эта история удивительно напоминает две русские любовные истории: швейцарский роман князя Мышкина с Марией и Федора Карамазова с Елизаветой Смердящей. Ну и что же, где же Madonna Poverta под сводами деи Фрари, ау?
Нет ответа, а вместо этого звучат торжественные звуки оперы Оливье Мессиана «Святой Франциск Ассизский. Францисканские сцены». Грандиозное – Glorioso – произведение это, законченное в 1983 году и в этом же году в Опера де Пари, Opéra de Paris, Парижской Опере, и представленное, есть некий гениальный парадокс. Свидетельство безусловной и бескорыстной преданности Мессиана католицизму, опера эта появилась в обстановке от бескорыстия далёкой. Оперу Мессиану заказал в 1975 году иудей Рольф Либерманн, прообраз героя фильма Фассбиндера «Лили Марлен», в бытность свою administrateur de l’Opéra, как называлась должность, специально для Либерманна изобретённая, ибо во Франции, стране достаточно националистической, многие были недовольны назначением на высокий пост интенданта главной национальной Оперы швейцарского еврея. Мессиан сначала отказался, но Либерманн устроил приглашение Мессиана на обед в Елисейском дворце, а также устроил и то, что в конце обеда президент Помпиду сказал Мессиану, что тот должен написать оперу для Парижской Оперы – Мессиан устоять не мог. Не слишком францисканская история, но, когда б вы знали, из какого сора… – и Мессиан создаёт сценическое священнодействие, великую духовную оперу, полную искренности и неподдельного благочестия. И вот представление, сосредоточенное на внутренней жизни и религиозно-нравственном совершенстве, а заканчивающееся Божественным Апофеозом, прозрением Высшего и Всевышнего, когда юпитеры заливают сцену невыносимо ярким светом, ибо Бог есть Свет, было разыграно под сводами Grand Opéra, в архитектуре Гарнье, среди малинового бархата и позолоты, архитектуры, прямо-таки созданной для обрамления жирной красоты Гуно и Оффенбаха, и:
а чё?.. ничаво… –
сказала Нана в антракте, поправляя шиншиля и взбивая чёлку перед зеркалами в фойе Гарнье. Впрочем, это могла быть и не обязательно Нана, а княгиня Бетси Тверская, «движением плеч опуская поднявшийся лиф платья, с тем чтобы, как следует, быть вполне голою, когда выйдет вперёд, к рампе, на свет газа и на все глаза». Бетси по сути сказала бы то же самое, может лишь с другим прононсом, и в представлении «Святого Франциска Ассизского. Францисканских сцен» на сцене Grand Opéra есть нечто неизбывно трагическое – трагедия авангардного мастодонта, преисполненного духовного консерватизма, коим опера Мессиана и является, издыхающего под любопытно-доброжелательными взглядами буржуазной публики. Я видел «Святого Франциска Ассизского» в Де Недерландзе Опера, De Nederlandse Opera, в Амстердаме, в отличной постановке, и великая модернистская литургия рыдала в утилитарности интерьера постмодернистской Де Стоперы, De Stopera, идеально вписывая в него действие, вдохновлённое джоттовскими росписями в Ассизи, и всё было замечательно и – очень буржуазно, несмотря на то что голландская буржуазия в сто раз менее буржуазна, чем буржуазия итальянская, и в тысячу раз менее буржуазна, чем буржуазия французская. Но где же во всём этом святой Франциск Ассизский?
Что ж, Франческо д’Ассизи сам был порождением ассизского le charme discret, и, возвращаясь из Grand Opéra в Венецию и в деи Фрари, я убеждаюсь, что лучшей сцены для постановки сценического священнодействия Мессиана, чем интерьер этой церкви, не найти. Не нужно тратить никаких денег на декорации (кстати, в «Святом Франциске Ассизском» дорогостоящие), потому что прекраснейшей декорацией будут монашеские хоры, в деи Фрари расположенные там, где им и полагалось – в середине нефа. Хоры уникальны. Подобные хоры делались только в монастырских церквах, коей Санта Мария Глориоза деи Фрари и является, и представляют собой как бы некое помещение в помещении. Церквей, сохранивших подобную конструкцию, в мире осталось немного, в Венеции Деи Фрари – единственная, но её хоры хороши не только своей подлинностью, но и тем, что они – шедевр. Прекрасны деревянные кресла и панели, находящиеся внутри хоров, но лучше всего – мраморная ширма-перегородка, или septum (так её именует средневековая латынь, в классическом варианте – saeptum), septo по-итальянски, отъединяющая хоры от всего остального пространства и украшенная мраморными рельефами. Septum разделяет интерьер церкви на две части и превращает в некое подобие театра, образуя театральный задник, схожий с декорацией театра Олимпико в Виченце. Мраморные рельефы septum’а представляют собой различных ветхозаветных персонажей, относящихся к Древу Иессея, то есть генеалогическому дереву Господа Нашего Иисуса Христа, но, что они представляют, в общем-то и не важно. Датируются мраморы septum’а примерно 1475 годом, автор их неизвестен, предполагается, что скорее всего это ломбардские мастера, а возможно, и заальпийские, но это тоже не важно. Не в деталях дело, а в том, что это необычно выглядящее сооружение, столь красиво перегораживающее величественный и, несомненно, готический интерьер деи Фрари, являет нам некое понятие «новизны», идущее вразрез с тем, что привычно талдычит не только история искусства, но и история вообще.
Ругаем ли мы средневековье, восхищаемся ли им, всё равно, – в головах подавляющего большинства засело убеждение, что «средневековое» значит «старое», а «ренессансное» значит «новое». Здесь же, в этом произведении искусства, в мраморе ажурной декорации septum’а, то, что мы обычно называем готикой, и то, что мы обычно называем ренессансом, слились столь плотно, неразрывно и естественно, что мраморная ширма, созданная для того, чтобы отделить священнодействие монастырской францисканской литургии от всего, даже от церковного пространства, тем самым подчеркнув отрешённость миноритов от мира, в то же время рождает и мысль о театральном представлении, занятии самом что ни на есть мирском. Что здесь новое, а что – старое? Как часть храма, модели царства Божиего на земле, septum наделён высшим смыслом, и он – символ ухода от мира. Идея, несомненно, средневековая и готическая; но, предназначенный отделять, он и соединяет – в мраморе рельефов septum’а ощутима телесность красоты, сенсуальность, прямо связывающая дух и бытие. Вот и опера Мессиана – произведение это создано при обстоятельствах столь духовно лимитированных и, я бы даже сказал, секвестрованных, что, казалось бы, от чистого помысла «голым следовать за голым Христом» в ней не осталось и следа, как и во всей нашей современности, а вот, поди ж ты – благодаря свободе, изначально францисканству присущей, пафос оперы естественно сливается с духом движения братьев миноритов: святой Франциск на малиновый бархат и позолоту Grand Opéra не обратил бы ни малейшего внимания, он бы на премьеру пришёл, и архитектура Гарнье никак не помешала бы ему творение Мессиана слушать и слышать. Не помешало бы ему даже знание того, что его оперное житие есть прямой правительственный заказ, исходящий от президента, потому что в самом францисканстве есть та открытость, что позволяет без всякой ненависти воспринять и принять и Нана, поправляющую шиншиля, и Елизавету Смердящую, и Бетси Тверскую с её старанием быть достаточно голой, и administrateur de l’Opéra, и даже президента, ибо все мы – творения Божии. Открытость францисканства и делает знак его отгороженности – septum – столь упоительно-привлекательным, чуть ли не прельстительным; именно в этой открытости, проповедуемой святым Франциском, и содержится новизна, определившая Возрождение в большей степени, чем интеллектуальный прорыв, что был совершён в начале кватроченто флорентинцами, сведшими Возрождение к возрождению античности, очень условной и придуманной. Франциск отверз Новое время в самой что ни на есть гуще готического средневековья, безо всяких ссылок на латинских авторов. В деятельности святого Франциска была огромная, всепоглощающая художественность, преобразившая религиозность – даже с точки зрения истории искусства, если не рассматривать её как механическую смену стилей, он ренессансен в большей степени, чем Рафаэль. Без идей святого Франциска никакого Ренессанса не было бы – в лучшем случае он свёлся бы к увлечению античностью, а античностью увлекались и до Ренессанса, но это так и осталось неким хобби тех или иных интеллектуалов, Фридриха II Гогенштауфена ли, или Петрарки. Обновление, что несло в себе францисканство, шло из недр средневекового сознания, и только та открытость души, что проповедовал святой Франциск, позволила красоте – в том числе и красоте античности – влиться в католицизм. Цикл фресок в Ассизи, долгое время ассоциировавшийся с именем Джотто и поэтому выдавшийся за Возрождение, на самом деле абсолютно средневеков и по духу, и по стилю – он гораздо более средневековый, чем готическая живопись. Однако средневековость не мешает тому, что цикл этот – самый настоящий авангард, он – воплощение духа новизны, внесённой в Европу святым Франциском, и в Венеции, конечно же, дух этот тут же обрёл своих адептов. Число их росло, они становились могущественными и влиятельными, и вскоре дух францисканства, лишившись молодёжно-коммунистического пафоса, превратился в нечто официально-торжественное, просто даже обязательное – в торжественную величественность фасада и интерьера самой знаменитой францисканской церкви Венеции. О том, что всё новое и радикальное обретает статус и, статус обретя, мертвеет, и рассказывает церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари.
Церковь ди Сан Джакометто
Святой Франциск заслуживает всяческого восхищения за его революционный прорыв, за то, что он сформировал Новое время и определил Новейшее, недаром последний папа взял имя Франческо I, ибо дух францисканства как нельзя более соответствует духу сегодняшнего Европейского Союза. Но святой Франциск за Новое время и ответственность несёт. Урбанистический le charme discret, коим полна Венеция, Манхэттен XIV века, предугадал и предопределил тот тупик, в котором оказались la bourgeoisie и буржуазное сознание, обнаружившие в конце XX века, что вожделенное «государство всеобщего благоденствия», построенное на идеях, в сущности своей францисканских, является не чем иным, как «обществом потребления». Венеция (да и Ассизи) заняли в современном мире то же место, что и курорт Сан-Тропе, ибо в системе ценностей, коей подчинено общество потребления, а точнее – «общество потреблятства», как с лёгкой руки переводчиков де Графа, Ванна и Нейлора мы теперь называемся, посещения Венеции и Сан-Тропе равно статусны. Сегодня все от потреблятства обалдели, и оно, перестав быть уделом привилегированного класса, проституировало все ценности, нормы, желания, интересы и вкусы – нелепая трагичность шедевра «католического авангарда», созданного Мессианом, – один из характерных примеров. Войдя в торжествующую красоту Санта Мария Глориоза деи Фрари, я, в ответ на вопрос, где же Madonna Poverta, услышал звук сопрано L’Ange, одного из персонажей оперы «Святой Франциск. Францисканские сцены», и увидел, как перед мраморным septum’ом несказанной красоты, призванным отделить монастырскую литургию от всего остального, актёры в сутанах, тенора и баритоны, всё – звёзды, разворачивают действо, величественно соединяющее мирское и сакральное, и septum, охранявший отрешённость монашеского богослужения, стал естественной декорацией оперы, чья премьера состоялась в Grand Opéra, среди позолоты и малинового бархата, живо помнящих канкан из «Орфея в аду» Оффенбаха. Septum превратился в заурядный театральный задник, если уж говорить прямо. Вокруг septum’а естественно образовалась сцена, на коей опера про духовное совершенство Франческо д’Ассизи и гремела, оркестр сидел несколько поодаль. Вокруг сцены, в сакральном церковном пространстве, были расставлены стулья, и знатные представители современного потреблядства, собранные на интеллектуальное священнодействие представления оперы Мессиана в интерьере деи Фрари, уселись на них как воплощения мирской суеты на порталах средневековых соборов, и глаза вылупили на зрелище того, как хор выводит финал и апофеоз: «Один свет Луны, другой свет Солнца, Аллилуйя! Одну славу имеют тела земные, но иная слава у небесных. Аллилуйя! Ибо одна звезда отличается светом от другой. Так и воскрешение из мёртвых. Аллилуйя! Аллилуйя! Из скорби, из немощи и позора: Он возрождает Силу, Славу и Радость!!!», и в это время всё исчезает, всё темнеет, и яркий свет заливает то место, где находится тело святого Франциска, лишь его одного выхватывая из тьмы. Яркость света возрастает, свет становится ослепительным, невыносимым, и падает занавес, и публика разражается аплодисментами, причём в первом ряду был виден сам святой Франциск Ассизский, сандалиями на босу ногу попирающий плиты веронского мрамора, коими пол церкви деи Фрари и вымощен.
Вы когда-нибудь снимали сандалии в жаркий день в итальянской церкви, чтобы прикоснуться босыми ногами к прохладным камням пола?
Если да, то вы знаете, какое это блаженство, если нет, то сделайте всё возможное, чтобы это блаженство ощутить. Веронские камни пола деи Фрари – это нечто совсем особенное даже среди итальянских камней, и блаженство, подобное прикосновению ласковой прохлады, я испытывал, когда сидел и слушал в деи Фрари «Орфея» Монтеверди – не Мессиана, нет, ибо «Святого Франциска. Францисканские сцены» я прозрел духовными очами, но, насколько я знаю, никто пока Мессиана в деи Фрари не поставил. «Орфей» же был реален, постановка была осуществлена Словенской Национальной Оперой при участии Музыкальной академии Любляны молодым режиссёром Детлефом Сёлтером и была приятна очам и слуху, и особенно подкупало то, что все исполнители были молоды и тоже приятны. Пастушки с пастушками в первом действии, обряженные в бежево-летние элегантные лохмотья, очень мило бегали босиком прямо по красно-белым веронским квадратам деи фрариевских полов, и наслаждение от Монтеверди в деи Фрари – septum служил естественной декорацией – слилось в моей душе с физиологическим переживанием прохлады веронского камня так, как будто душа моя была вспотевшей и нечистой ступнёй, а музыка Монтеверди – живительной чистотой цветного мрамора. Опера «Орфей» – гениальное нытьё о несчастной избранности поэта и о силе искусства, сплетающее печаль и красоту так, как septum сплетает готику с ренессансом. На самом деле искусство бессильно, ибо хоть оно и помогло Орфею в ад спуститься и даже Эвридику выторговать, всё ж он со своим искусством на бобах остался, Эвридику потерял и улёгся, довольно жалкий, прямо на мрамор пола деи Фрари, контртенорно рыдать о своих несчастьях. Классический миф рассказывает, что в конце концов Орфей был растерзан пьяными женщинами, недовольными его поэтической импотентностью, но Монтеверди посылает ему Аполлона, от вакханок избавляя. Версия оперы, поставленная в деи Фрари, включала тот вариант финала, в котором тенор-Аполлон являлся в золотом ореоле-солнце, означаемом золотистым огромным кругом, прикреплённом прямо к его спине, отчего Аполлон делался очень внушительным и забирал жидковатого контртенорового Орфея к себе со словами: «Иди Орфей, счастливый, насладиться небесной честью, иди туда, где бесконечно счастье, туда, где боли нет» – сравни со словами мессиановского святого Франциска про «из скорби, из немощи и позора». Делал бог это очень вовремя, так как к Орфею уже со всех сторон бежали вакханты и вакханки, ещё бы чуть-чуть, и певцу пришлось бы плохо, но он всё же успевает попасть в спасительные объятия Аполлона и из них, чувствуя себя в полной безопасности, поёт: «Но вот я вижу вражеское племя женщин, подруг нетрезвого бога. Не хочу видеть мерзостную картину, глаза её избегают, душа содрогается от омерзения» – и с этим исчезает, а вакханки и вакханты бесятся в заключительной moresca, мореске.
Золотой ореол вокруг Аполлона означал свет поэзии, искусства и бессмертия, и, смотря на это, я вдруг осознал, сколь схожи два оперных героя, Франциск с Орфеем, причём не только тем, что «Орфей» и «Святой Франциск», творения Монтеверди и Мессиана, представляют собой не оперы, но музыкальные драмы (мелодрамы, от греч. melos – «песня» и drama – «действие»), тем самым сближаясь во времени не только обращением Мессиана к средневековым мистериям, к которым Монтеверди был близок, а схожестью судеб их героев. Орфей также уходит из земной юдоли в свет, и он Аполлону поёт по сути то же, что святой Франциск у Мессиана поёт Всевышнему: «Господи! Господи! Музыка и поэзия привели меня к Тебе: образом, символом и недостатком Истины. Господи! Господи! Господи, освети меня Присутствием Твоим! Освободи меня, восхити меня, ослепи меня навсегда потоком Истины Твоей…» – как видите, готическо-ренессансный septum служит одинаково хорошим фоном истории как языческого персонажа, так и персонажа христианского, соединяя их так же, как он соединяет духовное с телесным.
Ни малейшего кощунства в постановке языческой трагедии в священной обители братьев миноритов не было, и всё было замечательно. Святого Франциска с его сандалиями на этом представлении я не разглядел, но, быть может, был невнимателен, потому что меня гипнотизировало то, что прямого отношения к постановке «Орфея» не имело: вид на «Ассунту», L’Assunta, «Вознесение Богоматери» Тициана сквозь арку septum’а.
Я впервые сквозь septum на картину смотрел, и мне вдруг с ясностью открылось, что Тициан, свой шедевр предназначая именно для этого, конкретного, места – для абсиды деи Фрари, – продумал и вид сквозь septum, служащий обрамлением картины, идеально вписанной в полукруг его мраморной арки. «Ассунта» становится как бы частью своеобразного иконостаса. Персонажи, представленные на рельефах, естественным образом сюжетно вписываются в рассказ о Вознесении матери Господа Нашего, Иисуса, представляя некую ветхозаветную прелюдию к Новому Завету. Все ответвления Древа Иессея – родня Марии, но связь повествовательная, земная и кровная, картины Тициана и готическо-ренессансного septum’а гораздо менее важна, чем связь абстрагированная, высшая и отвлечённая. «Ассунта» в своём соотношении с монашескими хорами, символизирующими отъединённость монашества от всего, даже от церковного пространства, раскрывает сущность францисканства. В динамике жестикулирующей толпы красивых грубых и мускулистых мужчин, потрясённых чудом, но ещё не вполне ему верящих, я увидел братьев Солнца, залитых светом столь ярчайшим, что он всё преображает вовне и внутри, и образ святого Франциска, сухотного ботаника, коим этот аскет предстаёт на картинах великого сиенца Сасетты и каким его, вслед за Сасеттой, живописцы и изображают, исчез, и Микки Рурк стал мне более внятен, причём даже не в фильме Лилиан Кавани, а в «Бойцовой рыбке» Копполы. Вот оно, венецианское францисканство николотти, машущих кулаками, воспринимающих высшую духовность – Деву Марию – как красную рыбку, нырнувшую в расплавленное солнечное золото, взмахнув напоследок раскинутыми в жесте византийской Оранты руками, как плавниками, и…
Кампо Сан Поло
…хватит врать, подумал я, потому что картина эта, при Наполеоне из деи Фрари вывезенная и размещённая в Галлерие делл’Аккадемиа в 1816 году, на место вернулась только в 1919-м, и как там было на самом деле, как соотносилась «Ассунта» с septum’ом, с алтарной частью, со ступенями, ведущими к алтарю и с самим алтарём, в точности неизвестно. Сейчас же, оперу Монтеверди созерцая больше, чем слушая, и потрясённый тем, как Аполлон-солнце прямо из золота картины, видной в просвет septum’а, вышел, – а «Ассунта» полна нестерпимо яркого света, подобного тому, что заливает финал «Святого Франциска. Францисканские сцены», – я и начал венецианское францисканство в «Ассунте» прозревать, соблазнившись абстрагированием, то есть тем видом умственной деятельности человека, что превращает объект рассмотрения – Das Ding, Вещь – в некий знак и через отвлечённую знаковость наделяет вещь значением, не являющимся природным и физическим свойством самой вещи. Может, на самом же деле «Ассунта» была через арку septum’а не видна, или видна не очень, или как-нибудь не так видна – кто ж знает?
Размышления об относительности абстрактных построений (с другой стороны, абстракции на то и абстракции, чтобы быть относительными) на тему францисканства и «Ассунты» пришли мне в голову не на представлении Монтеверди – во время Орфеева нытья меня уж больно вид на «Ассунту» заворожил, – а позже, когда я в день осенний, но яркий в деи Фрари зашёл, чтобы проверить свои впечатления, а заодно поразмышлять над тем, чем деи Фрари забита: над великими памятниками живописи и скульптуры, над Беллини и Донателло, а также над могилами людей великих – Тициана, Монтеверди, Кановы и не очень – всяких дожей и патрициев, чьи надгробия, конечно же, выглядят пышнее и занимательнее надгробий людей великих, – коих (произведений искусства и надгробий) в этой статусной церкви множество. Делал это я для тебя, читатель, и среди прочего меня занимал надгробный памятник дожу Джованни Пезаро, огромное и несколько нелепое сооружение, спроектированное для покойника венецианским архитектором Бальдассаре Лонгеной, автором Санта Мария делла Салуте.
В этой громоздкой конструкции, датируемой 1669 годом (то есть десятью годами позже смерти дожа – так долго могилы готовились, поэтому многие продумывали их заранее), чего только не наверчено, но меня больше всего влекли четыре дюжих негра, на плечах которых всё сооружение и покоится. Фигуры чернокожих красавцев в замысле Бальдассаре Лонгены (выполнены они немцем Мельхиором Бартелем) играют ту же роль, что должны были играть фигуры обнажённых, называемые «Рабами», в надгробии Юлия II Микеланджело, так до конца и не осуществлённом, – они всё держат на своих плечах. Слово «раб» само по себе отвратительно, и даже микеланджеловских «Рабов», Schiavi, чаще называют «Узниками», Prigioni; значение обнажённых в общей символике надгробия Юлия II свидетельствовало не об их рабском положении прислужников, а об их крайней важности как основе всего. Вазари утверждал, что обнажённые фигуры означают провинции, подчинённые папе Юлию, – самое примитивное объяснение; Кондиви писал, что это аллегории искусств, угасших со смертью папы. В дальнейшем интерпретаторов у «Рабов» было бесконечное множество, предлагались различные философские прочтения, часто друг другу противоречащие, но сходящиеся в одном – о Юлии II, как это казалось Вазари с Кондиви, эти статуи рассказывают гораздо меньше, чем о духовной внутренней жизни Микеланджело. Африканцы, отягчённые гробом дожа Пезаро, хотя не идут ни в какое сравнение с «Рабами», о Микеланджело всё же напоминают, и лёгкое указание на то, что микеланджеловские «Рабы» и не рабы вовсе, а исповедь творца, при взгляде на творение Лонгены-Бартеля заставляют думать не столько о рабстве и «Хижине дяди Тома», сколько о человеческой сути и «Отелло». То есть не о Гарриет Бичер-Стоу и социальном, а о Вильяме Шекспире и человеческом, потому что в шекспировской трагедии проблема рабства отсутствует начисто, а есть проблема расового различия. Шекспир, ни минуты не сомневающийся в том, что мавр – человек и полноправный член общества, гораздо современнее Бичер-Стоу с её несколько сопливеньким «чёрные тоже хорошие люди».
Другое дело, как Шекспир проблему расового различия решает. С одной стороны, из его трагедии можно сделать следующий вывод: не ходите, девки, за мавра замуж, ничего хорошего, вдруг проснёшься – шея набок и башка взъерошена. С другой же, когда Шекспир вкладывает в уста Отелло перед убийством Дездемоны слова: «Причина есть, причина есть, душа. Вам, звезды чистые, не назову, но есть причина», имея в виду то, что супружеская измена столь отвратительна, что как только целомудренные звезды услышат слова «супружеская измена», то тут же с неба скатятся, то он по большому счёту Отелло оправдывает. Поведение Дездемоны – виляние мальтийской болонки, и мозги у ней болоночьи, и если она в этот раз и не изменила, то рано или поздно это всё равно бы сделала – в пьесе красноречиво даётся это почувствовать, – так что, будучи уверен, что супружеская измена достойна наказания смертью, Отелло прав, что сделал это превентивно. Рано или поздно всё равно бы душить пришлось. Венецианская история реинкарнировалась в фильме Стенли Крамера «Угадай, кто придёт к обеду?», представляющем собой самый что ни на есть настоящий пролог шекспировской пьесы, – в фильме неожиданно, вернувшись с каникул, дочка приводит к обеду чёрного жениха, а заодно и его чёрных родителей, которые ещё в меньшем восторге от брака сына, чем родители белые, и начинаются разбирательства, несколько похожие на завывания посреди ночной Венеции отца Дездемоны, сенатора Брабанцио. Спенсер Трейси, играющий отца невесты, – вылитый Брабанцио, и на связь с Шекспиром указывают главные характеры: избалованная и взбалмошная белая из high class и простодушный и одарённый self made чёрный. Фильм заканчивается вроде как счастливо, но меня открытая отсылка Крамера к Шекспиру почему-то убеждает, что симпатяга Сидни Пуатье, играющий чёрного жениха, рано или поздно удавит Кэтрин Хотон, свою невесту, просто невыносимую дуру, тем или иным способом, и правильно сделает. Эффектные статуи могилы Пезаро тут же на Отелло навели, потому что столь животрепещущие сегодня проблемы двух главных меньшинств, евреев и чернокожих, гениально намеченные Шекспиром около 1600 года, истоком своим имеют Венецию, и это отнюдь не случайность, а венецианская закономерность, о Венеции много что нам сообщающая.
О чернокожих в Венеции рассказывают и две удивительные композиции, когда-то украшавшие Скуолу Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Святого Иоанна Богослова, а теперь находящиеся в Галлерие делл’Аккадемиа. Это – «Чудо реликвии Святого Креста, упавшего в канал Сан Лоренцо» Джентиле Беллини и «Чудо реликвии Святого Креста на мосту Риальто, или Исцеление одержимого» Витторе Карпаччо. Обе картины являются частью цикла, повествующего об истории важнейшего венецианского сокровища – части Креста Господня, хранившейся в этой Скуоле. Реликвия была подарена Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста в середине XIII века и была в Венеции почитаема, до тех пор, пока Наполеон Скуолу не закрыл. Тиран и кусок Креста куда-то засунул.
Кампо Сан Стин
Около 1500 года попечители Скуолы заказали различным венецианским художникам серию картин о чудесах, что успел сотворить обломок Креста в городе за сто с небольшим лет своего в нём пребывания, и вся серия замечательна, причём в первую очередь тем, что живописцы старые истории переместили в актуальную им обстановку Венеции около 1500 года, так что картины этой серии – чуть ли не первые достоверные городские ведуты во всей мировой живописи. Картины с историей реликвии Святого Креста чудесны, но вдобавок к живописным их достоинствам художники ещё и сотворили документальный фильм, повествующий с убедительностью не меньшей, а с художественностью гораздо большей, чем все документальные фильмы, когда-либо о Венеции снятые, о современной жизни родного им города. Венецианское очарование шестнадцативековой современности так и льётся на зрителя: чудесный трёхарочный мост неровной каменной кладки, фондамента, заполненная разноцветной толпой, открытые лоджии дворцов, ряды венецианских труб, ещё деревянный мост Риальто, и длинные прутья, торчащие из крыш с развешенным на них просушивающимся бельём. Среди толпы, заполняющей набережную канала в «Чудо реликвии Святого Креста, упавшего в канал Сан Лоренцо» Джентиле Беллини, как-то особо резко, прямо-таки противопоставленная толпе, выделена фигурка чернокожего человека, почти обнажённого, в одной белой набедренной повязке, в отличие от всех остальных, одетых. Чёрная фигурка, страшно одинокая, притягивает взгляд – в ней есть какая-то обречённость и отчуждённость, и вроде как это чёрный слуга-раб, подталкиваемый сзади хозяйкой, требующей, чтобы он прыгнул и спас реликвию, в канал упавшую, хотя реликвию уже выловил один из священников, нырнувших вслед за монстранцем с куском Креста. Падре уже выплыл и, держась на поверхности воды как сирена, то есть без помощи конечностей, зажал священный предмет в вытянутой руке, как штандарт с лозунгом. Чернокожий, включённый в венецианскую жизнь, приковывает внимание, и в композиции Джентиле Беллини его фигура создаёт вокруг себя напряжение, как будто за спиной этого африканца таится история гораздо более замысловатая, чем я рассказал; на самом деле так оно и есть – ведь за ним долгий путь в Венецию, ему чуждую, через турецких пиратов, рабский рынок или как-нибудь ещё, посложнее, и всё это, быть может, не менее занимательно, чем история арапа Ибрагима. В композиции Карпаччо «Чудо реликвии Святого Креста на мосту Риальто, или Исцеление одержимого», чернокожий также присутствует, и это – пышно разодетый гондольер в малиновом берете с пером, и в нём уж нет никакой отчуждённости, он кажется полностью включённым в венецианский социум: подобная естественность существования в Венеции представителя другой расы роднит жизнь города с жизнью современного мегаполиса чуть ли не больше, чем наличие Кампаниле ди Сан Марко – Эмпайр-стейт-билдинга. Нет никакой случайности в том, что Отелло – мавр именно венецианский, и величественная фигура чернокожего, превосходящая своим масштабом всех остальных действующих лиц пьесы, белокожее большинство, так же как Шейлок превосходит своих противников, большинство христианское, могла в это время вырисоваться только в Венеции, ибо это был самый продвинутый и самый свободный город в Европе в шекспировское время, и объяснение любви венецианцев к фигурам эфиопов объясняется не только склонностью к экзотике, но и особым значением, какое имели в Венеции представители других рас, так что та роль, что играют чернокожие гиганты в надгробии дожа Пезаро не сводится –
– продолжая размышлять о жизни Венеции между 1500-м, временем создания серии, и 1600-м, временем написания «Отелло», я вышел из сумрака деи Фрари на солнце, прошёл мимо ворот францисканского монастыря, основанного вроде как по воле самого святого Франциска, но разогнанного ещё при Наполеоне и превращённого в Аркивио ди Стато ди Венециа, Archivio di Stato di Venezia, Государственный Архив Венеции, перешёл Рио деи Фрари, Rio dei Frari, и Рио ди Сан Стин, Rio di San Stin, и попал на Кампо Сан Стин, Campo San Stin, Площадь Святого Стефана. Тут я и решил усесться, чтобы всё записать, потому что место это, ничем особым вроде как и не отмеченное, преисполнено венецианского le charme discret, и вроде как даёт возможность, в Сан Поло, как уже говорилось, весьма редкую, поразмышлять. Каменный колодец в центре площади, поставленный как раз около 1500 года, своими ступенями позволял рассесться и разложить свои записи, а полустёртые святые на рельефах колодца, в том числе и Сан Стефанино, San Stefanino, Святой Степанушка, венецианским диалектом превращённый в Стин, вливали в меня ощущение подлинности чинквеченто, что – ощущение подлинности – корреспондировало с мельтешащими вокруг меня, как вакханты в мореске, детьми лет так десяти-двенадцати, устроившими на Кампо Сан Стин футбольное поле. Дети, видно, после школы вышли, свалили ранцы и куртки вокруг колодца и вокруг меня, а сами давай бесноваться, сделав футбольными воротами какую-то древнюю нишу, образовавшуюся из замурованного входа, и поставив на ворота очкастую девочку. Детей сопровождали родители, терпеливо жавшиеся по сторонам матча, и детские вопли, оживлявшие старость площади, не только мне не мешали, но и помогали сосредоточиться на венецианской современности, столь жизненно явленной в картинах о чудесах реликвии Святого Креста, так что я, как герой какой-нибудь романтической повести, уж и внутрь картины Джентиле Беллини залез, и, там расположившись, благодаря своей отчуждённости от детского гвалта прямо-таки и физически одинокую отчуждённость чёрной фигуры прочувствовал, и продолжал:
к роли тех продавцов фальшивых дизайнерских сумок на подступах к Пьяцца Сан Марко, к какой она сведена сейчас, что говорит о том, что жизнь Венеции была гораздо более продвинутой в соотношении со всей остальной Европой, чем… –
– и тут мне в лоб врезался мяч с такой силой, что затылком я трахнулся о Святого Степанушку, – но нет, я не свалился и не сполз на ступени, как Ашенбах в фильме Висконти или Бергот в романе Пруста, а вдруг почувствовал лёгкость, почувствовал, как тело моё распрямляется, я приподымаюсь, объятый чувством блаженной невесомости, носки моих ног отрываются от ступеней колодца, и я возношусь вверх, и Кампо Сан Стин уже подо мной, сжалось и уменьшилось, я вижу его как на ладони, и вижу, как дети и их родители, вскинув руки и головы в недоумении, восторге и неверии, глядят то на меня, то на колодец, а я, взмыв ввысь, завис где-то на уровне Кампаниле деи Фрари, да там и остановился. Повисел немножко в солнечном сиянии, несколько секунд, и снова приземлился ровно на то же место. За те мгновения, что я там, в выси, парил, я объял взглядом и Сан Поло, и всю Венецию, и мне стало особо внятно всё венецианское францисканство, воплотившееся в «Ассунте», и многое другое, но родители, сбежавшиеся ко мне со всех углов Кампо Сан Стин, стали тут же собирать разбросанное вокруг меня барахло – мои мысли о францисканстве, и о Тициановой maniera grande, в «Ассунте» им воплощённой, и о расовых проблемах Венеции, и о сходстве авангардного монумента Кановы в деи Фрари с современным концептуализмом, и о сходстве Кабакова с Кановой – и торопливо в меня обратно запихивать, и очки мне на нос надевали, и что-то с меня сдували, и что-то всё время приговаривали, и видно было, что им очень хочется, чтобы я все свои абстрактные построения скорей бы собрал и с Кампо Сан Стин бы сгинул. Дети же стояли поодаль и с насторожённым любопытством на меня поглядывали. Собрал я всё и ушёл, а за моей спиной снова начался ор бушующего футбола.
Гоббо ди Риальто
Глава восьмая Часы Венеции
Вопрос Шейлока и Саланио. – Иль Гоббо ди Риальто. – Риальто и Лондонский Сити. – Patriarca di Grado. – Венеция между Римом Вторым и Третьим. – Генезис венецианскости. – Коллекционирование реликвий. – Кипрская проблема. – Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста. – Катерина Корнер. – Джентиле Беллини и Слиска: о правительственной мифологии. – Об отражениях. – Лоренцаччо и проблема Террафермы. – Эрберия Казановы. – Часы на фасаде Сан Джакометто
What news on the Rialto?
Что нового на Риальто? –
в «Венецианском купце» Шейлок задаёт этот вопрос в третьей сцене первого акта, и затем слово «Риальто» проходит через всю пьесу рефреном, ибо какой венецианский купец без Риальто? «Риальто», звук-то какой чудесный, венецианский донельзя, какой-то весь изысканно-пёстрый, как рисунок на тканях Фортуни и Миссони или звон венецианского стекла. Две единственные венецианские реалии в пьесе – это упоминание Риальто, а также имя Гоббо, данное Шекспиром одному из слуг Шейлока, и поразительным образом совпадающее с кличкой Иль Гоббо ди Риальто, Il Gobbo di Rialto, Риальтский Горбун. Кличка была дана замечательнейшему мраморному человечку, скорчившемуся на Кампо Сан Джакомо ди Риальто, Campo San Giacomo di Rialto, под гранитной кафедрой на площади, подножие которой Гоббо поддерживает. Поставлена кафедра на главной рыночной площади города была в 1541 году, с неё читали воззвания и приговоры и около неё выставляли на всеобщее обозрение преступников. Гоббо ди Риальто, творение скульптора Пьетро да Салó, стал в Венеции чем-то вроде позорного столба, и к тому же Гоббо, как и безносый Риоба, был местом для распространения пасквилей, которые на него наклеивали по ночам нарушители общественного спокойствия. В Шекспировом несчастном Ланчелоте Гоббо также есть что-то насмешливо-жалкое, как и в Гоббо ди Риальто. Упоминание Риальто и Гоббо делает весь колорит «Венецианского купца» венецианским, наверчивая вокруг Шейлока пустоголовую карнавальную карусель. В первой сцене третьего акта появляются два совершенно необязательных героя, два венецианских хлыща, Саланио и Саларино, важные в пьесе лишь своими зарифмованными итальянскими именами, и Саланио спрашивает у Саларино:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто? –
эхом вторя вопросу Шейлока. «Что нового на Риальто» крутит Венецией, и что же под этим «Риальто» имеется в виду? Ну, конечно же, не мост Риальто: «что нового на Риальто» – это «что нового на Уолл-стрит», то есть «что нового на Нью-Йоркской фондовой бирже» и «что нового в мире». Риальто – район Венеции с трудноопределимыми границами, не совпадающими с границами сестиери, потому что в район Риальто включается и часть Сан Поло, и часть Сан Марко. Какие именно? Это не очень-то понятно, так как у района Риальто нет, как и у района Уолл-стрит, административного статуса. У Риальто нет и никогда не было никакой целостности и самостоятельности, «Риальто» – это как бы понятие, изменявшееся в веках, вот почему как аналогию я выбрал Уолл-стрит, а не Лондонский Сити, хотя с последним исторически Риальто гораздо более схож. У Риальто никогда не было никакого «статус сити», каким обладал и продолжает обладать его лондонский аналог, хотя Риальто, как и Сити, – древний исторический центр города и очень этим гордится. Освящение церкви ди Сан Джакомо ди Риальто, chiesa di San Giacomo di Rialto, Святого Иакова Риальтского, случившееся 25 марта 421 года, считается днём рождения Венеции и Венецианской республики, так что Венеция Овен по знаку зодиака. Правда, Венеция уж давно свой день рождения праздновать перестала, потому что оказалось, что 421 год совершеннейший вымысел, церковь ди Сан Джакомо ди Риальто, в народе ласково именуемая Сан Джакометто, San Giacometto, Яшечкиной церковью, построена гораздо позже, и нет в ней ни одного камня, к V веку относящегося.
Возникновение Венеции смутно, и я не хочу впадать в пространные рассуждения на эту тему, их и так полно. Укажу лишь на то, что изначально Риальто (название производят от латинского rivus altus, «глубокий канал», а не в коем случае не от итальянского riva alta, «высокий берег», как это можно прочитать во многих путеводителях, высоких берегов на Риальто никогда не было) был самостоятельным селением, одним из нескольких на островах лагуны, затем объединившихся под именем Венеции. В генезисе Риальто то же, что и Лондонский Сити, то есть независимый город. Значение центра политического Риальто довольно рано утратил, с IX века уступив его району Сан Марко, но в 1097 году сюда, к церкви ди Сан Джакомо ди Риальто, был перенесён центральный рынок Венеции. Тут уж всё вокруг Сан Джакомо ди Риальто и закрутилось, и Риальто стал запястьем Венеции, то есть самым удобным местом для пульсовой диагностики состояния города. Риальто определял своеобразие Венеции, и, исследуя пульс Риальто, тут же можно было сказать, больна Венеция или здорова. Риальто влиял на всё, в том числе и на венецианскую религиозную жизнь, определяя своеобразие венецианского благочестия, остро балансировавшего между Римом и Константинополем, католицизмом и ортодоксией, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
Патриарха притащили!!! Это ещё что за новость? В 1107 году в районе Риальто возводится дворец Патриарка ди Градо, Patriarca di Grado, Патриарха Градского, куда сам патриарх и приезжает, сделав церковь ди Сан Сильвестро, chiesa di San Silvestro, главной патриархальной церковью Венеции. Церковь эта всё ещё существует, но, увы, строенная-перестроенная, так что сегодня её фасад – творение 1909 года. Смотря на Сан Сильвестро сейчас, о временах патриарха можно догадаться только по остатку византийской арки, которую трудно разыскать, но в XII веке Сан Сильвестро был одним из важнейших святилищ Венеции, придавая Риальто весомость.
Кто такой Patriarca di Grado? Это очень важная для Венеции тема, потому что Patriarca di Grado – наследник Аквилейского патриархата, своеобразного государственно-религиозного образования в горном районе на стыке Италии, Хорватии и Словении. Аквилейская церковь была автокефальной, то есть совершенно независимой. Аквилейский патриархат сформировался вокруг города Аквилеи, в античности бывшем вторым после Рима городом на Апеннинском полуострове. Аквилейский патриархат был обломком Византийской империи, устоявшим, в силу малой доступности его территорий, перед варварскими нашествиями и сохранившим византийский уклад, а также византийскую цивилизованность. В VI–VII веках, когда никакой Венеции и не было, а на островах лагуны было лишь несколько рыбачьих деревень, Аквилея, теперь весьма ординарный курортный городишко с замечательными развалинами, была городом роскошным и столичным, потому что сохраняла непосредственную связь со временами Римской и Византийской империй, когда была главным портом Адриатики. Первым патриархом Аквилеи провозгласил себя архиепископ Паулин (Павлин) I, который, чувствуя свою силу, разорвал отношения с Римом и объявил о полной своей самостоятельности (как вы помните, великая схизма между Римом и Константинополем ещё не началась, Аквилея шла в авангарде). Нашествия лангобардов Аквилею сильно разорили, но не уничтожили, и Аквилея, балансируя на противоречиях между Римом и Константинополем, с обоими примирилась и схизму закончила, самостоятельность тем не менее сохранив. Паулином I кафедра патриарха была перенесена в Градо – это как бы портовый район Аквилеи, в результате варварских разорений уцелевший и ставший самостоятельным городом – отсюда и Patriarca di Grado. К X веку Аквилейский патриархат и из-за лангобардов, и из-за общего запустения, наступившего после того, как Аквилея перестала играть роль главного порта Адриатики, пришёл в упадок, и патриарх согласился на предложение республики переехать в Венецию. Перенесение резиденции много значило, теперь Венеция чуть ли не Третьим Римом себя почувствовала. Её церковь если и не стала автокефальной, то в любой момент могла на это претендовать с помощью патриарха, так что наличие Patriarca di Grado уже в начале XII века определяет особое положение Венеции в католическом мире. Обратите внимание – перенесение кафедры происходит вскоре после Великой схизмы 1054 года, длящейся и до сегодняшнего дня. Венеция, заполучив Patriarca di Grado, тем самым объявляет себя наследницей Аквилейского патриархата, а заодно – и его независимости. Патриарх полностью в руках республики, но он в то же время является гарантом её независимости от Ватикана. Венеция патриарха католицизирует, а патриарх связывает Венецию с Константинополем; то и другое, и патриарх в Венеции, и её связь с Константинополем, Рим и Ватикан ужасно раздражают.
А венецианцам всё мало. Во время оккупации Константинополя дож Дандоло добивается от папы Иннокентия III утверждения ещё и должности Патриарха Латинского, занимаемой венецианцем и Венецией опять же контролируемой, – обязанностью патриарха было охранять интересы католиков в Латинской империи. Венецианцы, со свойственным им хитроумием, в случае слияния церквей готовили в лице Патриарха Латинского замену Его Божественному Всесвятейшеству Архиепископу Константинополя Нового Рима и Вселенскому Патриарху, а заодно – второе, после папы римского, лицо в объединённой церкви. То есть папского соперника. У них ничего не получилось, православные с католиками объединяться не захотели, византийцы вернули себе Константинополь в 1246 году, и патриарх латинский, утратив какую-либо реальную власть, перебрался в Венецию. Одним из Патриархов Латинских (кстати, должность эта просуществовала до 1964 года, когда была наконец Ватиканом упразднена) был Исидор, митрополит Киевский, личность грандиозная, и к Москве, в которой он подвергся аресту, имеющая прямое отношение. Вместе с Патриархом Латинским под контролем республики оказывается уж слишком много важных, независимых от Ватикана, церковных должностей. Наличие патриарха (и даже – патриархов) в Венеции делало её положение в католической иерархии особым, запутанным, но зато и гораздо более свободным, чем у остальных епархий. Венеция с переездом Patriarca di Grado добилась того, чего добивались императоры Священной Римской империи и французские короли, бесконечно скандалившие с папством, и из-за чего король Генрих VIII Тюдор, а потом и Мартин Лютер, вступят с Римом в прямую конфронтацию – свободы назначения главы своей церкви. Отсюда та задиристость в отношениях с Римом, что определяла дух Венеции до XVII века, так что иногда кажется, что Венеция Бога не боялась, что ошибочно, потому что венецианцы, спорящие с папами, были глубоко религиозны – венецианские церкви тому подтверждение.
Мост Риальто
Патриарха в Венеции назначал Сенат, а Рим только одобрял. Все манипуляции с патриархами проворачивались венецианским Сенатом в надежде обеспечить своему городу место если и не Третьего Рима, то по крайней мере Второго Константинополя – католического, разумеется. В принципе, это был далеко идущий план создания империи, замещающей Византию, соперницы Священной Римской империи. У немцев с Италией и Римом были очень непростые отношения, для Италии они были пришельцы из-за Альп, а Венеция всё же была латинской, то есть, как наследница, имела больше прав, чем германские варвары. Идея наследования Константинополю в Венеции многое определила, хотя она никогда не была озвучена так грубо, как это было сделано московскими царями, додумавшимися до такого намного позже, чем слепой дож Дандоло. У венецианского Сената, как и у императоров Священной Римской империи, отношения с Италией были непростые, ведь венецианцы, хоть они и были вроде как латинянами, но очень странными. Венеция, конечно, находилась по эту сторону Альп, но остальная Италия чувствовала, что венецианцы отличаются от всех других итальянцев – они унаследовали византийское хитроумие, изысканность и вероломство. Венецианская республика никогда не выступала открыто с имперскими лозунгами, а тихо плела свою всемирную паутину. Республика, старающаяся стать империей – парадокс, да и только, и парадоксальность изначально присуща Венеции, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
Константинополь разграбили, 1204-й. Наследование – переход имущества, а также всех прав, титулов и привилегий наследодателя к иному лицу, именующемуся наследником. Венеция с самого своего основания старалась изо всех сил стать преемницей Византии, и, как хитроумная и жадная наследница из романа Агаты Кристи, была озабочена как выбором способа отправить свою наследодательницу на тот свет, так и способом легализации своего правопреемства – эта озабоченность определяет историю средневековой Венеции. Поэтому в древних венецианских церквах – в соборе Сан Марко в первую очередь – так сильно чувствуется дух восточной, ортодоксальной церкви, чем-то роднящий венецианскую религиозную жизнь и религиозную жизнь русскую. Православная Русь-то тоже об этом же наследстве мечтала. Пограничное положение между Западной Римской империей и Восточной, а затем между германской Священной Римской империей, папством и Византией, то есть между католицизмом и православием, определили двойственность Венеции, которая вроде как часть Италии и Западной Европы, но постоянно ускользает и от той, и от другой – а тут ещё и миф города-острова, каналы, воды, топкость. Вот и особый венецианский характер, и отношение остального мира к венецианцам, которые совсем не итальянцы, не совсем европейцы, и даже не совсем католики. Венецианский характер изначально определил и отношение к Венеции как к городу особому в Европе, да и на всём земном шаре – генезис венецианской индивидуальности надо искать как раз в районе Риальто, в то время, когда Patriarca di Grado в Венецию переселился.
Константинопольский поход удался и вроде как наследодательницу укокошили. Что ж, время возрадоваться. Самое противное в истории человечества – то, что моменты военных побед совпадают с расцветом искусств. Как началось всё с победы при Саламине, послужившей расцвету Афин и приведшей к Периклову Золотому веку, так и пошло. Расцвет эллинизма при Александре Македонском, расцвет Римской империи при Августе, расцвет Карла Великого, Золотой век Испании, разрушившей древние цивилизации Америки, Золотой век Голландии, победившей Испанию, – и ведь больше ничего подобного в Голландии никогда не случилось, потому что у неё больше в истории ни одной победы не было, одна безмятежность! Обязательно кого-то победить и поработить надо – как Людовику XIV, так и Наполеону, а нам, для нашего отечественного Золотого века Александра и Николая Первых пришлось Наполеона победить, а заодно и декабристов. Вот ведь проклятое искусство – обязательно его надо унавоживать преступлениями против человечества. Ведь связан же впрямую расцвет послевоенной Нью-Йоркской школы с атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки, кто ж скажет, что нет? Может быть, сегодняшнее печальное угасание всего свидетельствует о том, что надвигается новая эпоха, когда победа ни над кем уж невозможна, и искусство, дитя убийцы-победы, благополучно сдохнет, превратившись в то, во что оно уж и превратилось, – в некий продукт институций, обслуживающих арт-рынок? Вот и Венеция расцвела, после того как с помощью воинов Христовых Византию ограбила, пол-Константинополя перерезала, три четверти сожгла, и теперь венецианцы на пепелище чувствуют себя полноправными хозяевами, распоряжаются, чем и как хотят, потому что генуэзцы – главные соперники – в пролёте, а у дубинушек-крестоносцев ума – как у солдатиков Урфина Джюса.
И потекло…
Второе по противности в человечестве – то, что ценности духовные всё время принимают вид ценностей материальных, так что в конце концов духовное с материальным спутываются, как холёная домашняя сучка с грязным уличным кобелем. Я имею в виду то, что там, где Уолл-стрит, там и Метрополитен-музей ищи, а где Лондонский Сити, там и Лондонская Национальная галерея – кто кобель, кто сучка, пусть решает сам читатель. Когда грабят мир, то со времени римских триумфов самая жирная составляющая награбленного – духовность, предстающая в виде материализованном – в виде священных предметов. В 1204 году духовность в первую очередь провидели в маринованных конечностях, занимавших место Мане и ван Гогов. В Венецию со времени разграбления Константинополя хлынули потоком христианские реликвии, утащенные из византийских церквей: о странная магия святынь! Вот, например, святой Стефан раздал всё церковное имущество сирым и убогим, за что был побит камнями, а теперь его пальцем торгуют как вещью мирской, имеющей земную, вполне весомую, стоимость. Палец в золото монстранца оправляют, и обладание им престижно – тщеславие же одним из смертных грехов является – и весьма прибыльно. Религиозная спекуляция заодно и процветанию искусства способствует – надо ж кому-то монстранцы делать. Чего только на Риальто не появлялось – рынок реликвий был своего рода арт-рынком средневековья. Обратите внимание: Константинополь, благодаря императорам, был забит великим эллинским наследием, но венецианцы из всего выбрали только Коней Сан Марко – примитивному сознанию нравятся изображения животных. Не взяли ни одной знаменитой античной скульптуры, которых в Константинополе ещё сохранялась масса, зато святых останков притащили кучу. Вокруг Риальто всё время крутились слухи о новых святынях, доставляемых из византийский владений, а то и прямо из Иерусалима. Крутились и детективные истории, с приобретением мощей связанные, да и сами святыни частенько покупались-перекупались, потому что всё свою цену имеет. Вот, например, чудная история времени Четвёртого крестового похода о том, как венецианцы завладели частью мощей Святителя Николая. Она очень хорошо отражает глубокую религиозность венецианцев, в которой им часто отказывают; слухи о чудесах мощей Святителя растекались на Риальто и впоследствии были подробно и благолепно пересказаны многими католическими и ортодоксальными писателями.
Мост Риальто
Разграбив Константинополь, венецианцы занялись и другими частями империи. Вместе с крестоносцами ворвались они в город Миры Ликийские, большой и славный со времён язычества. Христианство в Миры принёс апостол Павел, заехавший в этот город по пути в Рим, и затем Миры, благодаря тому, что архиепископом в них был Николай Угодник, в ней же упокоившийся и похороненный, стала одним из центров христианства, потому что могила Николая Угодника, прозванного также Святителем и Чудотворцем, полнила чудесами весь крещёный мир, и поклониться ей приезжали как с востока, так и с запада. В базилику Святителя Николая венецианцы первым делом и направились, но нашли там только четырёх священников-стражей, её охраняющих. Венецианцы знали, что лет за десять до того барийцы, их соперники, с помощью вооружённого вымогательства вывезли большую часть мощей, но также знали: что-то и осталось. Священники-стражи указали на разбитую барийцами раку и общее запустение, но венецианцы не поверили. Они по камешку разобрали саму гробницу и, ничего не найдя, вскрыли пол церкви и всё расковыряли, попутно пытая стражей. Несчастные вопили и клялись, что они ничего не знают, но благочестие венецианцев не давало им успокоиться, они снова искали и снова пытали, стражники снова вопили, и так продолжалось несколько суток, пока католический священник, бывший с венецианцами, всё ж не попросил это прекратить. Стражей отпустили, и тут один из них, от избытка благодарности, указал на мощи священномученика Феодора и Николы Патарского, дяди Святителя Николая. С худой овцы хоть шерсти клок, подумали венецианцы, грузя добычу на корабли и готовясь отплыть восвояси, как вдруг один неугомонный венецианский воин, всё продолжавший искать и в церкви задержавшийся, уж собравшись уходить, напоследок пырнул мечом стенку церковного придела – просто так, со злости – и тут же учуял чудесный аромат, распространившейся по осквернённой и разорённой церкви. Венецианцы снова бросили якоря, с кораблей сошли и устроили уже всем жителям Мир Ликийских допрос с пристрастием. Жители повопили и «вспомнили» о некоем помещении рядом с базиликой, где Святитель Николай устраивал особые службы. Ранее венецианцы на эту невзрачную постройку внимания не обращали, но теперь устремились туда и обнаружили небольшое здание в одну комнату с фреской, изображавшей Святителя Николая. Божественный аромат и икона подсказали венецианцам, что ещё не всё потеряно, они вернулись в церковь, отбросили уже разбитые плиты алтаря и начали копать в земле под плитами. Труд их не был напрасен, потому что под слоем земли они обнаружили другой пол, разбили и его и наконец наткнулись на греческую надпись: «Здесь почивает великий епископ Николай, славный своими чудесами на земле и на море» и обнаружили некий слиток из олова и каменной массы, внутри которого святые мощи и находились – так после благочестивого грабежа барийцев епископ Мир Ликийских упаковал то, что было Мирам оставлено. О счастье! Благоухание усилилось прямо до невыносимости, и здесь же произошло первое чудо при мощах святого Николая – пальмовая ветвь, привезенная Святителем из Иерусалима и положенная с ним во гробе (откуда она взялась? ума не приложу, но хронист утверждает, а все купцы Риальто прямо божатся, что так оно и было), дала побеги. Ветвь венецианцы тоже прихватили и, обрадованные чудом, позволившим им обрести желанное, даже всучили местному епископу сто монет в качестве компенсации за тот урон, что был нанесён церкви во время поисков – в чём в чём, а в щедрости и честности венецианцам не откажешь.
И как после этого можно не ненавидеть человечество?
Меня больше всего возмущает благоухание – вот скажите мне, зачем святому приспичило благоухать напоследок, когда венецианцы вроде как и успокоились? Вот что это за беспринципность? Ведь невиннейших служителей мучают, грабят ни в чём не повинный город, обездоливают его жителей, а святой, когда уж вроде всё закончилось, мирийцы могут вздохнуть спокойно и после отправки венецианских кораблей пойти и от чего-нибудь излечиться около его останков, принадлежащих городу по праву, всё ж таки кокетливо указывает: «а вот он, я», причём ещё и продолжает какие-то прятки. Предположим, что со свойственной святости мудростью Николай Святитель понимал, что в силу исторического развития Ликия рано или поздно станет мусульманской, Миры Ликийские в турецкий Демре превратятся, и поэтому решил таким способом эмигрировать на Запад. Тогда зачем так долго всех водить за нос и людей мучить, нельзя было сразу заблагоухать?
Увы, реликвии, сколь бы они ни были чудотворны, сколь бы ни исцеляли, слезо– и кровоточили, летали по воздуху, избавляли от яда и от демонов – во всех этих способностях реликвий я, кстати, нисколько не сомневаюсь, – всё же дело сугубо мирское. Венеция в результате византийский аферы оказалась обладательницей внушительной коллекцией христианских реликвий, второй по обширности и ценности после Рима в Европе и, кажется (встаёт вопрос об Иерусалиме), второй в мире, – говорить о безразличии венецианцев к религии по крайней мере странно. Сейчас даже РПЦ выпускает путеводители по венецианским ортодоксальным святыням, и православный туризм в Венецию набирает силу, хотя с Бари пока Венеция соперничать не может, потому что очень немногие знают, что малые кости Николай Святителя хранятся в аббатстве Сан Николó, abbazia di San Nicolò, что на Лидо, также называемом Сан Николетто, San Nicoletto, аббатством Святого Колечки. Специальная недавняя экспертиза установила факт их подлинности на основании того, что кости Бари и Лидо принадлежат одному и тому же скелету. Факт заполненности Венеции святыми мощами – а заполнялась Венеция ими именно в XII–XIII веках, во время своего динамичного становления, – свидетельствует об амбициях республики, открыто с Римом соперничающей. Отсюда и Patriarca di Grado, чья должность была в конце концов переделана в Patriarca di Venezia в 1451 году специальной буллой папы Николая V, в результате чего венецианский патриарх стал одним из пяти патриархов в католической иерархии. Остальные четыре – это сам папа, который помимо того, что он глава всей католической церкви, ещё также патриарх епископства (диоцеза) Римского, а также патриарх Лиссабона, патриарх Восточной Индии с резиденцией в Гоа и патриарх Иерусалима. Теперь в связи с этим вспомните о прозвище, данном Скуола Гранде ди Сан Рокко, «венецианская Систина», и станет ясно, сколь большой смысл вкладывается в это, кажущееся чисто искусствоведческим и подразумевающим только взаимоотношения Микеланджело и Тинторетто, определение. Заодно обратите внимание, как Венеция, использовавшая Константинополь в своём соперничестве с Римом, вплетается в интригу Рим – Константинополь – Москва, изо всех сил стараясь встрять между Римом Вторым и Римом Третьим – вот и ещё одна причина, объясняющая столь ясно чувствуемую, но неясно формулируемую связь венецианской религиозности с русской ортодоксальностью.
Новости о привезённых святынях, об успехах венецианцев в Византии и новых церковных назначениях кружились вокруг рынка Риальто, ставшего главным венецианским рынком в конце XI века, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
Кипрская проблема. О ней бурно заговорили в Риальто в XIV веке. О венецианский кипрский миф! Действие о мавре, венецианское донельзя, разворачивается не в Венеции, а на Кипре. Это мало кто замечает – практически все режиссёры действия постановок «Отелло» переносят в Венецию. В Венеции существует и Каза ди Дездемона, Casa di Desdemona, Дом Дездемоны, – так называется прелестный – иначе и не скажешь – небольшой дворец на Канале Гранде, Ка’ Контарини Фазан, Ca’ Contarini Fasan, который легенда связала с шекспировской пьесой на тех же основаниях, что и балкон в Вероне – с Джульеттой. То есть Каза ди Дездемона – вымысел и фикция, но многие думают, что Дездемона здесь родилась и была удавлена.
Кипр принадлежал Венеции не так уж и долго, менее ста лет, с 1489 по 1571 год, но он был самой большой и самой важной заморской колонией Венеции, своего рода венецианской Индией. Исторически должность Отелло в Венеции соответствует британской должности генерал-губернатора Индии – Шекспир, кстати, написал «Отелло», когда Кипр уже не был венецианским. Венецианцы пили кровь из своей колонии, как британцы из Индии, вплоть до потери острова, но, как британцы в Индии, официально владевшие ею чуть ли не ровно столько же, сколько Венеция Кипром, меньше ста лет, венецианцы появились на Кипре гораздо раньше. Перед установлением прямого контроля они, как британская Ост-Индская компания Индию, опутали Кипр сетью торговых и промышленных предприятий.
А что Кипр? На землю Кипра, как вы знаете, Афродита из пены вышла, и выбрала она эту курортно-офшорную зону не просто так, а потому что роскошь и изнеженность любила. Кипр же со времён Древней Греции своими роскошью и изнеженностью славился, упоминаниями кипрского вина, самого что ни на есть эксклюзивного продукта, кишит литература и античная, и ренессансная. Так было и во времена византийцев, и арабов, и крестоносцев, которым Кипр, купленный Ги де Лузиньяном, королём Иерусалимским, у рыцарей-тамплиеров, принадлежал с 1192 года. Турки, отняв Кипр у венецианцев в конце XVI века, привели остров в полную негодность, от которой он только последнее время (и то лишь в греческой своей части) начал избавляться. Упоминания о кипрском вине исчезли, как и само вино, – но при рыцарях Кипр всё ещё был столь же манящ и многообещающ, прямо как Индия.
Кипр был венецианской мечтой, и хотя при рыцарях венецианцам многое позволялось, всё ж иметь и арендовать – две разные вещи. Да ещё всё время приходилось терпеть острую конкуренцию, от генуэзцев, например, и всё время переплачивать взятки бесчисленным авантюристам, слетавшимся на Кипр со всех концов католического мира. Ведь Кипр, как и Родос, стал центром международного крестоносного движения, а оно состояло из младших отпрысков бедных, но благородных фамилий – публика самая отчаянная, непостоянная и алчная.
Где-то около 1369 года кипрская проблема обострилась на Риальто так, как обострилась она на Уолл-стрит и в Лондонском Сити в 2013-м. Я уже упоминал об обломке Креста Господня, принадлежавшем Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванжделиста. Преподнесён он был Скуоле в 1369 году Филиппом де Мезьером, ярким типом времён позднего рыцарства и времён пламенеющей готики, le gothique flamboyant. Родился Филипп в Пикардии, в семье бедной и благородной, и начал карьеру д’Артаньяна при миланском дворе Висконти, но вскоре отправился на Восток – деятельность крестоносца для молодого человека с амбициями, но без состояния, казалась самой перспективной. Для рыцаря он был образован просто блестяще, о чём мы можем судить по многочисленным, написанным им по-латыни литературным произведениям, и во время своих восточных приключений оказался занесённым на Кипр, где подружился с Пьером де Лузиньяном, сыном короля Кипра Гуго IV и праправнуком Ги де Лузиньяна. Гуго, с сыном всё время скандаливший, Филиппа де Мезьера с Кипра выжил. После смерти старого короля и воцарения Пьера под именем Петра I Кипрского, Гуго на остров вернулся и стал канцлером своего друга. Пётр I развил активнейшую деятельность по борьбе с сельджуками, и, будучи латинянином, старался для этой борьбы сплотить христианство восточное и западное – то есть латинян, христиан пришлых, с автохтонными христианами Малой Азии и Ближнего Востока, которых было множество. В борьбе с малоазийскими турками Лузиньян столь преуспел, что Армения, тогда ещё не та маленькая горная страна, какой она теперь стала, а огромная территория, простирающаяся от Кавказа до Средиземного моря и заселённая сторонниками независимой Апостольской церкви Армении, в большей степени склонными сотрудничать с католиками, чем ортодоксы, смотрела на него как на свою надежду, прямо как на Витязя в тигровой шкуре. В конце концов Пьера де Лузиньяна провозгласили королём Армении, и к тому же Лузиньяны, в своё время ставшие королями Иерусалимскими, теперь, после утраты христианами Божественного Града, номинально продолжали ими считаться – в соборе Фамагусты Пьер был коронован ещё и как король Иерусалима.
Тут и начинается история в стиле flamboyant. Кипрский король был столь активен и популярен, что венецианцы стали воспринимать его как соперника, а не как союзника – венецианцы стремились Кипр контролировать, и появление в Восточном Средиземноморье сильного христианского государства им было вовсе не нужно, не для того они Византию разрушали. Лузиньян к тому же носился с идеей возвращения Иерусалима, и всё это – рыцари острова Родос, чуть ли не лучшие солдаты того времени, очень преданные Лузиньяну, армяне, Лузиньяна обожающие, кипрская ватага, Лузиньяном отобранная и состоящая из разных д’артаньянов, рыцарей бедных и дон кихотов, сбежавшихся на Кипр, представляло внушительную силу. К тому же – покровительство авиньонского папства, благоволящего к французу Лузиньяну. Такой бэкграунд делал его планы по овладению Иерусалимом убедительными, что грозило кардинальными переменами всей восточносредиземноморской ситуации. Венеции нравиться это не могло, потому что справиться с королевством Лузиньяна так, как она справлялась с Латинской империей, уже не представлялось возможным – Пьер де Лузиньян был намного приличнее Бонифация Монферратского, да и побашковитей, а значит – самостоятельнее. У него ещё и Филипп де Мезьер имелся, который, кстати, в Венеции часто бывал, стараясь с республикой наладить отношения и добиться от неё поддержки планов Лузиньяна. Дар куска Креста Господня очень влиятельной Скуола Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста был одной из попыток воздействия на общественное мнение Венеции.
Дар был преподнесён в 1369 году, и в том же году Пётр I Кипрский оказывается зарезанным в своей постели тремя своими приближёнными, что происходит при прямом участии его братьев и жены, Элеоноры Арагонской. Не везёт рыцарям в семейной жизни, не от хорошей жизни они себе Прекрасную Даму выдумали! Брак Пьера де Лузиньяна был ужасен, Элеонора ему изменяла вовсю, как только он с острова отлучался, и ни в грош его не ставила. У него самого было полно любовниц – вроде как в объятиях одной из них он и был зарезан. Так, увы, неудачи в личной жизни мешают нам реализовать наши великие замыслы – о, если бы не родня! После смерти Петра I Кипр унаследовал его сын Пётр II по прозвищу Толстый, а мать Элеонора стала при нём регентшей, но столкнулась с массой трудностей – все братья убитого также претендовали на престол и Элеонору с малолетним сыном готовы были извести. Убийство Пьера де Лузиньяна по слухам было провернуто не без участия венецианцев, которые сделали ставку на братьев Лузиньяна, но просчитались – Элеонора, защищаясь от своих деверей, фактически сдала Кипр генуэзцам.
Далее всё дело Иерусалимских королей полетело к чёрту. Пётр Толстый, как мы уж из его прозвища видим, харизмой отца не обладал, и никакого союза между христианством западным и восточным не сложилось: киликийскую Армению вскоре захватили турки, и армяне перестали с латинянами заигрывать, хотя номинально Лузиньяны сохраняли титул царей Армении вплоть до самого конца династии. Саму Элеонору с Кипра выжила невестка, Валентина Висконти, подсунутая Петру Толстому всё теми же генуэзцами, и чёрная вдова удалилась в родной Арагон, окружённая вывезенными с Кипра любовниками. Удалилась вовремя, так как вскоре Пётр Толстый умер, не оставив наследников, и к власти пришёл младший брат Пьера де Лузиньяна, Жак, воцарившийся под именем Якова I. Пошла чехарда правителей и правлений, и вот тут уж венецианцы почувствовали себя как рыба в воде – всё это обсуждалось на Риальто, – и, в конце концов, через сто лет, Светлейшая проворачивает грандиозную аферу.
Кусок Креста Господня, принадлежащий Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста, в Венеции почитался, конечно, как святыня. Но от него ещё исходило и особое кипрское благоухание, аромат богатства, неги, аромат родины Афродиты – прости Господи, за подобное, чисто ренессансное, кощунство! Но что делать, не могу я не вспомнить о Киприде, когда стою перед зданием Скуолы ди Сан Джованни и созерцаю её причудливейшую архитектуру, созданную Пьетро Ломбардо. Поразителен портал-вход из белоснежнейшего резного мрамора, очень похожий на septum из церкви ди Санта Мария Глориоза деи Фрари. Он венецианский настолько, насколько венецианскны венецианские кружева, венецейскостью чуть ли не гротескной, но есть в его красоте нечто эллинское и анакреонтическое, и, когда его архитектура вплетается в меня, я немею, и мозг мой ароматы начинает источать – кстати, неоплатоники почитали обоняние высшим из пяти чувств и ставили его выше, чем зрение. Ароматы лепечут что-то вроде «не розу пафосскую, не розу феосскую», а также «Дай воды, вина дай, мальчик, Нам подай венков душистых, Поскорей беги, – охота Побороться мне с Эротом» и «Клеобула, Клеобула я люблю, К Клеобулу я как бешеный лечу, Клеобула я глазами проглочу». Любовная лирика Анакреонта вроде как и не слишком здесь уместна, под орлом евангелиста Иоанна, украшающим мраморный тимпан, но во всём виноваты Кипр и Киприда, да и орёл на тимпане какой-то Зевесовый.
Кипр и Киприда и были причиной того, что Скуола Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста так разукрасилась. Беломраморный портал появился около 1480 года, и через некоторое время попечители Скуолы заказали серию картин, посвящённых чудесам реликвии Святого Креста, теперь хранящейся в Галлерие делл’Аккадемиа – об этой серии я упоминал в связи с Отелло и чернокожими. Среди членов Скуолы были представители влиятельного семейства Корнер, вот они-то украшением и прославлением Скуолы и были озабочены. Вдруг вспыхнувшая любовь к реликвии Креста Господня, потребовавшая дорогостоящих украшений Скуолы, как мраморного портала, так и живописной серии, запечатлевшей важность кусочка Креста для Венеции, была связана с тем, что семейства Корнер впрямую касалось: с Кипром и с Катериной Корнер, королевой Кипра, венецианской Кипридой, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
Кипром овладели. Наконец-то, в 1489 году, Кипр стал полностью венецианским. Произошло это не сразу, целых сто лет венецианцы подготавливали почву, но благодаря ловко провёрнутой интриге, они остров получили в полное своё распоряжение. В середине XV века разыгрывается последнее, самое интригующее действие позднесредневековой пьесы flamboyant о Кипре. Искусственно созданное королевство Лузиньянов, управляющееся рыцарями, солдатами удачи, съехавшимися сюда со всех концов Европы, и даже не объединённых той, хотя бы и внешней, преданностью религии, что цементировала сообщество рыцарей Родоса, к этому времени стало настоящим кукольным райком. Основному населению Кипра, грекам, создававшим немалые богатства острова, было совершенно безразлично, кто будет сидеть в замках и дворцах Никозии и Фамагусты: наследники ли Раймондина, глуповатого мужа феи Мелузины, считающегося основателем рода Лузиньянов, венецианцы, генуэзцы или даже египетские мамелюки. Пусть что угодно делают, лишь бы их разборки как можно меньше киприотов касались – и вот, венецианцы, всегда за Кипром пристально следившие, обставив всех соперников, остров заполучили.
У короля Кипра, Иоанна II, правнука Якова I, правившего в середине XV века, прямых наследников мужского пола не было, только дочери. Зато был сын незаконный и любимый, Жак, по прозвищу Бастард. Как и большинство бастардов, не имеющих прав на наследство, Жак был пущен по церковной линии и сделался архиепископом Никозии. Однако парень он был буйный, нрава не монашеского, и его угораздило убить кое-кого, столь при этом высокопоставленного, что даже любящий папа рассердился. Сыну пришлось бежать с Кипра, но последовало прощение, и Жак снова вернулся к исполнению своих архиепископских обязанностей, к которым ни малейшей склонности не чувствовал. Изгнание и возвращение произошли в 1457 году, а уже на следующий год Иоанн II умирает. Его дочь Шарлотта, только что вышедшая замуж за принца Жуана Португальского, коронуется как законная королева в главном соборе Никосии, но уже не братцем архиепископом. Жак Бастард постылую митру с себя снял и возмечтал престол заполучить. Надеясь с бабой сладить легко, он окружает себя молодыми головорезами и вовсю начинает против сестры выступать. Поначалу не слишком удачно, Шарлотте удаётся единокровного брата с острова выставить, и она торжествует. Заодно и мужа меняет: Жуан умирает через год брака, а Шарлотта тут же выходит замуж за сына герцога Савойского, Людовика, графа Женевы. Ранняя смерть Жуана была аранжирована генуэзцами, прочившими Шарлотте в мужья своего ставленника, коим Людовик являлся, а выполнена тёщей, отравившей зятя ввиду полной его бесполезности из-за дальности Португалии, в то время как генуэзцы были рядом и готовы были отстаивать права Шарлотты. Кипрские бабы в своих отравлениях и интригах так запутались, что дела на Кипре совсем запустили, хотя надо было вести себя осмотрительней: ведь где генуэзцы помогают, там венецианцы всё дело портят. Вскорости Жак снова появляется на горизонте, причём с внушительной поддержкой – от венецианцев и египетских мамлюков, – и завоёвывает остров. Шарлотте с мужем еле-еле удаётся сбежать, причём они тут же с Людовиком и расходятся, чтобы больше никогда вместе не жить – она едет в Рим просить помощи, а муж отправляется в родную Савойю.
Упустив сестру, Жак, короновавшийся под именем Якова II, в прочности своей власти не был уверен – головорезы хороши для переворота, но не для управления. Сестра при этом интригует, и для прочности нужно что-то более обстоятельное, поэтому Жак всё теснее сближается с венецианцами. Общается он по большей степени с семейством Корнер, влиятельным патрицианским семейством из Сан Поло. Корнеры, имея на Кипре предприятия, были в острове очень заинтересованы, поэтому Кипрскую проблему переживали не менее остро, чем русские банкиры в 2013 году. В результате Корнеры оказались ловчее русских, и из-под своего контроля Кипр не выпустили. Семейство имело большое влияние на Риальто и в Сан Поло, покровительствовало Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста, влияло и на Сенат. Корнеры устраивают приглашение Жака Бастарда, уже ставшего Яковом II, в Венецию, и там, в обмен на помощь республики, обтяпывают его помолвку с воспитывавшейся в монастыре прелестной Катериной, дочерью Марко Корнера. Невесте было всего четырнадцать, она была прекрасна, как солнце, и так же чиста, ибо, только что из монастыря выйдя, ни в чём не успела испачкаться. В июле 1468 года между Жаком Бастардом и Катериной Корнер был подписан брачный контракт; позднейшие легенды факт подписания контракта превратили в пышную свадьбу, но на самом деле свадьба состоялась позже на четыре года и происходила на Кипре. Зато Катерина тут же получила титул, специально для неё изобретённый, figlia adottiva della Repubblica, «приёмная дочь Республики», которым гордились все её родственники. Жак, правда, жениться не спешил, и параллельно, в обход всяких соглашений с Венецией, вёл переговоры с королём неаполитанским о браке с его дочерью.
Обеспокоенная республика – неаполитанцев тут только ещё не хватало – впрямую занялась устройством судьбы своей figlia adottiva, и на Бастарда надавила, так что Катерина по достижении восемнадцати лет в 1472 году прибывает на Кипр, чтобы из невесты превратиться в законную супругу, а заодно и в королеву. Тут уж и разворачиваются пресловутые свадебные торжества двух прекрасных существ. Счастьем новобрачные наслаждаются недолго – через год Жак Бастард умирает при обстоятельствах более чем подозрительных. Он поехал на охоту, почувствовал колики и через три дня скончался, причём за время его непродолжительной болезни венецианские родственники полностью изолировали короля от каких-либо сношений с внешним миром. Умер от дизентерии, как венецианцы объявили, когда вышли, чтобы прочесть народу завещание Якова II, гласящее, что свою жену он оставляет полноправной и единственной своей наследницей. Народ, само собою, безмолвствовал.
Катерина стала королевой Кипра, а при дворе поползли разговоры о том, что Жак Бастард преставился с помощью венецианцев, хотя никто никаких вскрытий не производил и ничего никем не было доказано. Напрямую винили в этом и Катерину, бывшую на сносях. Через месяц после смерти мужа она рожает младенца, также названного Жаком и провозглашённого королём Яковом III. Кто был младенцу папой – об этом знает только Катерина, но в опере Доницетти «Катерина Корнаро» ясно даётся понять, что не Лузиньян. Появление наследника мужского пола, последнего, хотя уже совсем малозаконного – ведь даже его официальный папа носил прозвище Бастард, – в династии кипрских Лузиньянов придаёт правлению Катерины хоть какой-то вид приличности, не гарантируя при этом ни малейшей прочности. Против Катерины объединяется одна из рыцарских групп, состоящая преимущественно из каталонцев, издавна на Кипре подвизавшихся, и захватывает её и младенца, попутно убив нескольких её венецианских родственников. Бедный младенец тут же, только ему год исполнился, умирает, и Катерина становится заложницей узурпаторов, не решающихся открыто её удавить лишь за неимением хоть какого-то подходящего кандидата на престол: не звать же Шарлотту, всё ещё здравствующую, – она со своим характером и так всех достала, потому и была Жаком Бастардом столь легко с трона смещена. Пока каталонцы медлили с удавлением Катерины, около Кипра появился венецианский флот, пришедшей на помощь своей figlia adottiva в полном составе. Одна только весть об этом каталонскую банду обращает в бегство, потому что каталонцы понимают, что при их малочисленности им не продержаться, а убивать Катерину теперь и бессмысленно – власть всё равно ускользает, да и опасно – венецианцы будут мстить. Представление марионеток подходит к концу, под ласковой венецианской опекой Катерина ещё правит несколько лет, но в 1489 году она торжественно передаёт своё королевство под управление республики, чем заслуживает страшную благодарность, и, окружённая почтением, удаляется в своё поместье Азоло, дарованное ей властями, где, меценатствуя и всех пленяя, доживёт до пятидесяти шести лет, скончавшись в 1510 году.
Кто только Катерину Корнер, итальянским произношением исправленную на Корнаро, не изображал! Венецианцы свою покорную figlia adottiva очень полюбили, не оставили и после смерти, и история Катерины Корнаро, королевы Кипра, стала одной из любимейших венецианских историй. Уже при жизни расписывали её красоту, превратив в венецианскую Киприду. Похвалы её внешности объясняются, однако, меркантильностью, и можно сказать, что миф Катерины Корнер создан рынком Риальто. Семейство Корнер на истории с Кипрской королевой поднялось, разрослось и расширилось: оно-то и радело за свою королеву. Одна из ветвей семейства даже стала именоваться Корнер делла Реджина, Corner della Regina, Корнеры Королевы. Ка’ Корнер делла Реджина, Ca’ Corner della Regina, называется и великолепный дворец на Канале Гранде, в XVIII веке воздвигнутый на месте того, несомненно готического, дворца, в котором Катерина родилась. Ка’ Корнер делла Реджина находится недалеко от Риальто, но не в Сан Поло, а в сестиере Санта Кроче, и в теперешнем виде дворец сотворён архитектором Доменико Росси, автором пышного торта церкви ди Санта Мария Ассунта деи Джезуити. Последний представитель фамилии Корнер завещал в начале XIX века дворец Ватикану, и с тех пор его замечательные залы служили то благотворительной организацией, то правительственным архивом, пока, совсем недавно, Фондационе Прада, Fondazione Prada, Фонд Прада, под руководством Меуччи, не арендовал Ка’ Корнер делла Реджина у государства, отреставрировал и расположил там свою коллекцию и выставочный зал. Фонд Прада в основном специализируется на концептуалистском гламурном хламе, элегантно выкладывая его в дизайнерских витринах залов с видом на Канале Гранде. Константино Чедини и Винченцо Коломба, два весьма умеренно талантливых венецианских художника позднего сеттеченто, расписали великолепные парадные залы дворца фресками, повествующими об истории Катарины Корнаро велеречиво, пестро и лживо, и венецианской школы пёстрый сор росписей как-то удивительно соответствует сору современности, старательно собранному кураторами Меуччи и изысканно ими раскиданному прямо под историей Катерины.
Чедини с Коломба были не единственными певцами Катерины. В разных романных версиях истории Катерины в качестве её портрета чаще всего воспроизводят картину Тициана из Уффици во Флоренции, изображающую, как считается, Катерину Корнаро в виде святой Екатерины. На этом портрете Катерина, выряженная в богатый и экстравагантный притуреченный костюм, выглядит оперной красавицей, этакой Кармен, но портрет был создан в 1541 году, и если он и имеет хоть какое-нибудь отношение к Катерине, что сомнительно, то только к её воображаемому образу. Зато имеется несомненный и подлинный портрет Катерины, принадлежащий кисти Джентиле Беллини и находящийся в Музее изобразительных искусств в Будапеште. Созданный около 1500 года, сразу по возвращении отставной Кипрской королевы в родную Венецию, он показывает нам грузную женщину на пятом десятке с лицом столь же достойным, сколь и маловыразительным, совсем не соответствующим мифу о её красоте и бурной биографии. Одета Катерина как полагается, прилично-роскошно, и в несколько узковатое ей модное коричневое парчовое платье втиснута так, как была втиснута в свои костюмы депутат Слиска, – и вот ведь сила искусства! Говоря про Слиску, я употребляю время прошедшее, а про Катерину – настоящее, и правильно делаю, потому что, благодаря Джентиле, Катерина в своём костюме втиснулась в вечность и там пребывает как некое перманентное настоящее, а Слиска себе Джентиле не нашла и уже при жизни превратилась в фотку из старой газеты.
Слиски, думайте о Джентиле, пока вы вице-спикеры, и в вечности замрёте! – вот что я вам скажу. Со Слиской Катерину роднит не только манера одеваться, но также и некая дутость, очень тонко Джентиле Беллини прочувствованная. Действительно, Катерина была самой настоящей надувной куклой, и в венецианской игре ничего не решала. Скорее всего, она даже мужа не травила, хотя и имела для этого все основания, ибо Жаку Бастарду, судя по всему, она была совершенно безразлична, и женился он на ней под дулами венецианских пушек. Впрочем, Катерина не была ни злодейкой, ни паинькой. Передача королевства республике в 1489 году состоялась совсем не добровольно – как раз в это время Катерина захотела сыграть в независимость и тайно планировала новый брак, причём ни с кем-нибудь, а с принцем Альфонсо Неаполитанским, сыном короля Фердинандо I. То-то на Риальто все переполошились, когда венецианский Сенат об этом узнал! Вот только Альфонсо в качестве короля Кипра и не хватало – Альфонсо всей Италии был известен дерзостью, жестокостью и подлостью. Он ещё был и открытым врагом Венеции, потому что отличился в войне 1467 года, когда флорентинцы в союзе с неаполитанцами остановили собранное венецианцами войско, пытавшееся вторгнуться в Тоскану и с помощью враждебных Медичи эмигрантов, в Венеции во множестве собравшихся, установить над Флоренцией контроль. Горечь провала была ещё очень свежа, и вот взбрело же Катерине именно Альфонсо себе в женихи выбрать – хороша figlia adottiva! Привести на Кипр неаполитанцев! Предупредительное сообщение пришло вовремя. С Катериной крупно поговорили её же родственники, и ей был предложен выбор: или мгновенный арест, суд в Венеции, проклятье и вечная ненависть республики к опозорившей себя предательством дочери, или отказ от всех фактических прав на корону, почётное возвращение в Венецию и достойное безоблачное существование на положении частного лица. Катерина выбрала второе – что ей ещё оставалось, но по слухам интриг всё ж не оставила до конца жизни, и её переход в лучший мир в 1510 году «от лихорадки» вроде как состоялся при участии всё того же Сената, всегда пристально следившего за этой бедной богатой женщиной.
Погребли Катерину в церкви деи Санти Апостоли, chiesa dei Santi Apostoli, Святых Апостолов, при стечении народа столь огромном, что пришлось воздвигать временный дополнительный мост из барок, чтобы деревянный мост Риальто не рухнул от наплыва толпы, желавшей присутствовать на похоронах. Погребли, и тут же начали её надувать, расписывая, какая она была умная-разумная и прекрасная-распрекрасная, и вскоре Катерина превратилась в Клеопатру Большого Канала, что не менее двусмысленно, чем пушкинское «сей Клеопатрою Невы» – Клеопатра-то была дама с репутацией более чем сомнительной. Миф Катерины Корнер был важен для Венеции, как миф её имперскости, но миф вышел из-под контроля, про портрет Джентиле уж никто не вспоминал, все хотели видеть в Катерине вамп и Мату Хари, и образ Катерины вскоре слился с образом Венеции, городом роскоши и коварства. Семейство Корнер делла Реджина, да и венецианский Сенат, вряд ли были бы довольны такой трактовкой истории, но их – в силу того, что они существовать перестали – уже никто не спрашивал. Из вранья о Катерине вырастают два жирных цветка: опера Фроманталя Галеви «Королева Кипра» и опера Гаэтано Доницетти «Катерина Корнаро». Две оперы, пусть и похожих, – немало для одной женщины. Оперы были очень популярны в XIX веке: сюжет обеих один и тот же, оперная Катерина живёт с нелюбимым и навязанным политиканами суженым, но любовь у неё есть, и она Катерину гложет, причём столь сильно, что верность Катерины Жаку Бастарду ставится под сомнение. В операх прямо указывается и на отравление Жака венецианцами: потомков Катерины это могло бы и возмутить, но они уже все вымерли. Благодаря Галеви история Катерины стала модным венецианским сюжетом в парижском салонном искусстве и сплелась с мифом о венецианской сексапильности и венецианских куртизанках – ещё одним венецианским мифом, полюбившимся салонам.
Мраморы Скуоле Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста также мифологично куртизанисты в своей белоснежной роскоши, как история Катерины, и роскошен интерьер Скуолы, в котором от времён Катерины Корнаро сохранилась только замечательная лестница, созданная Мауро Кордуччи где-то около 1500 года, как раз в то время, когда писались картины из серии о чудесах Креста. Лестница – выдающийся шедевр элегантной лёгкости, причём вписана она в сложное архитектурное пространство, образовавшееся из-за того, что здание вписано в излучину канала, огибающего Скуолу. Из окна лестницы открывается неожиданный, нарочито венецианский, немыслимый ни в каком другом городе вид, так что только ради вида из окон Скуолу можно посетить, хотя у неё и масса других достоинств. В восемнадцативековых, то есть поздних, парадных залах, недавней реставрацией приведённых в идеальное состояние, сейчас часто устраиваются замечательные концерты, и со Скуолой ди Сан Джованни Эванджелиста у меня связано особо венецианское впечатление, пониманию Венеции помогшее мне больше, чем все абстрактные размышления.
Как-то, вечером для Венеции поздним, когда Риальто уж почти и стих, я бродил по Сан Поло, и в очередной раз зашёл в Деи Фрари, которая вечером уже не музей, а храм. В боковых капеллах церкви шла служба, и Санта Мария Глориоза деи Фрари, полутёмная и пустая, была особенно величественна и глориозна. Полумрак под готическими сводами настроил меня романтично, и, покинув церковь, я, пошёл куда ноги ведут. Ноги привели к мраморным воротам Сан Джованни, но я обогнул Скуолу и оказался на другом берегу Рио ди Сан Дзуане, Rio di San Zuane, Иванова Канала, здание омывающего. Как-то неожиданно я вырулил к спуску, к ступеням, уходящим в воду, и уселся на них, заворожённый видом Скуолы, никогда с этого места мною дотоле не видимой. Водная излучина добавляла всему что-то волшебно-лукавое, но самым замечательным было то, что в Скуоле шёл концерт и все окна её были ярко освещены, и в них виделись роскошные венецианские люстры, и раззолоченные потолки, и слышалась музыка, легко сплетаясь с плеском воды. Созерцание извне было более волшебным, чем изнутри, я это ясно уловил: внутри был нормальный современный венецианский концерт старинной музыки, а здесь, со мной, – Катерина Корнер и Казанова. Музыка была не Галеви и не Доницетти, но не важно какая – прекрасная и чуть слышимая, – и дух музыки качался в тёмных водорослях-тине, облепивших уходящие под воду ступени и совершавших в воде свой мерный танец. Блики отражений светящихся окон с их люстрами дрожали в канале, и вдали, мерно нарастая, послышался звук моторной лодки. Звук мотора приближался ко мне, и, на несколько секунд заглушив музыку, промчался мимо, стихнув и оставив после себя расплескавшиеся волны. Зарешеченные светящиеся окна Скуолы ди Сан Джованни с видными сквозь них картинами на потолках и драгоценными люстрами оставались неподвижны, но их отражения заплясали как сумасшедшие, и двойственность эта, подчёркнутая усилившимся звуком плещущей воды, нераздельно-зеркально слившимся с музыкой, была столь невыносимо венецианской, столько в ней было и венецианского стекла, и венецианских кружев, и Катарины Корнер, и Histoire de ma vie Казановы, что всё казалось, да и было, вымыслом. Вода была зелена так, как она бывает зелена только в Венеции, и так, как она зелена на картине Джентиле Беллини «Чудо реликвии Святого Креста, упавшего в канал Сан Лоренцо», на которой, среди благолепно преклонивших колени женщин, изображённых в левом краю картины, мы увидим Катерину Корнер, толстую, благочестивую и маловыразительную. Фигура политической женщины, столь точно и явно поставленная Джентиле первой, но в ряду других, гораздо более, кстати, смазливых, венецианок, стала завершающей точкой в кипрской истории, чьё начало обозначено даром куска Креста Господня, пропавшего в неизвестности после упразднения Скуолы Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста Наполеоном, заодно конфисковавшим и все картины Джентиле Беллини, Витторе Карпаччо, Джованни Мансуэти, Лаццаро Бастиани и Бенедетто Диана, чуду Креста Господня посвящённые, передав их в Галлерие делл’Аккадемиа, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
Лоренцаччо зарезали. Произошло это 26 февраля 1548 года. Зарезали совсем рядом, тут, в Сан Поло, в двух шагах от рынка, на Кампо Сан Поло, Campo San Polo, Площади Святого Павла, самой большой, после Пьяцца Сан Марко, площади Венеции, то есть в центре и среди бела дня, прямо перед домом благородной синьоры Елены Бароцци, первой красавицы Венеции. Когда, шляясь по Венеции, я выхожу на эту площадь, то всегда поражаюсь её необычности. Не то чтобы она не венецианская, но какая-то уж слишком по-бюргерски широкая и спокойная. Есть в этой площади что-то фламандское, и для Венеции она необычна как раз своей обычностью – нет на столь большой площади ни одной церкви, и застройка её хороша, но нет ни единого здания, которое поразило бы оригинальностью или роскошеством. На площади находится несколько старинных дворцов, в том числе и Ка’ Корнер Мочениго, Ca’ Corner Mocenigo, принадлежавший одной из ветвей семейства родственников королевы Кипра, но все они тоже спокойные, бюргерские. К тому же Кампо Сан Поло на удивление сухопутно – ни малейшего намёка на воду, кроме колодца XV века посередине площади, давным-давно наглухо закрытого. Венеция настолько переполнена красивостями, что в ней всегда как-то нервно, и Кампо Сан Поло предлагает роздых от венецианской суггестии – вот место в Сан Поло, где можно остановиться, присесть и поразмышлять. На площади растёт несколько больших и красивых платанов, кажущихся старыми, но появившимися здесь не раньше XIX столетия – и деревья довершают картину городской идиллии, то есть повествования о мирном патрицианском – то есть буржуазном – быте.
Но кто выдумал, что мирные пейзажи не могут быть ареной катастроф? С апостолом Павлом связано событие, для Венеции печальное, получившее имя «день святого Павла», giorno di San Paolo, так как оно случилось 25 января, то есть в день обращения нечестивого Савла в праведного Павла. Тогда в Венеции разразилось землетрясение, терзавшее город две недели. Дно морское поднялось, и Канале Гранде в это время совсем высох. Особенно досталось сестиере Сан Поло, трясшегося больше всех, так что горожане стали подозревать, что тряс его сам апостол Павел, и прозвали его Сан Паоло дель Терремото, San Paolo dal Terremoto, Святой Павел Землетрясный.
Официально прозвище Terremoto, Землетрясной, за построенной в начале IX века и считающейся одной из старейших церквей города, церковью ди Сан Поло, chiesa di San Polo, Святого Павла, не было закреплено, но определённые ассоциации сохранились, и венецианцы, заново церковь, разрушенную до основания, отстроив, её расширили и разукрасили как могли, потому что где-то в глубине души подозревали, что апостол Павел всё это устроил из ревности к апостолу Марку, у которого как у патрона города жилищные условия в Венеции были несравнимо лучше. Да и вообще, идиллия на Кампо Сан Поло воцарилась сравнительно недавно, вместе с посадкой платанов. Раньше никаких деревьев не было, эта большая площадь была пуста и служила рынком. Торжище не бывает идиллическим, а на площади ещё устраивались и праздники, бурные и грубые, в том числе венецианские корриды, игры с быками, когда выпущенных на площадь быков травили с помощью мастиффов. Забава эта, судя по картине Йозефа Хайнца, немца, всю жизнь проработавшего в Венеции, была ужасающа и очень терремотна и землетрясна – картина находится в Музее Коррер и показывает, что это было за безобразие, брутальное, безжалостное и крикливое. Быков выводили, держа за привязанные к рогам канаты, которыми потом их, доведённых до бешенства укусами собак, и контролировали, наслаждаясь яростью и беспомощностью больших и сильных животных – в венецианском варианте игр с быками нет смелости единоборства как в настоящей корриде. Кроме того, Кампо Сан Поло служило местом карнавальных игрищ, и по легенде на нём, во время карнавала, двумя типами в масках был зарезан Лоренцо ди Пьерфранческо де’ Медичи, прозванный Лоренцаччо. Зарезали-то его по-настоящему, не легендарно, но во время карнавала ли или нет, точно неизвестно – убийство его произошло 26 февраля, что для карнавала поздновато, хотя и возможно. Разные источники по-разному определяют день Пепельной среды (аналог православному Чистому понедельнику) 1548 года.
О флорентинце Лоренцаччо я уже говорил в связи с Тициановым Лаврентием. Лоренцаччо прославился тем, что организовал убийство своего кузена Алессандро де Медичи, чьё провозглашение Великим герцогом Флорентийским покончило с пресловутой республиканской свободой Флоренции. Лоренцаччо оплатил наёмного убийцу, обманом заманил Алессандро на тайное свидание и, заставив герцога снять кольчугу, стал непосредственным участником убийства. Зачем и почему он прирезал своего родственника и ближайшего приятеля – загадка. Два золотых медичийских мальчика были не разлей вода, совместно посещали бордели, часто делили одну любовницу на двоих, и полно рассказов о том, как они появлялись на улицах Флоренции «сидя на одной лошади, закутавшись одним плащом и тесно обнявшись». Дружба сохранялась и после того, как Алессандро узурпировал власть в 1532 году, и продолжалась пять лет, пока в 1537 году Лоренцаччо не прирезал Алессандро с помощью наёмного убийцы, спонтанно и весьма бесцельно. Прирезал и тут же бежал, потому что никаких шансов на престол у него не было, и он это осознавал с самого начала. Историков Лоренцаччо ставит в тупик, объяснения его поступку вроде нет, хотя на самом деле объяснений множество: от личных мотивов до выспренних идей о свободе. История очень флорентийская, и похоже на то, что Лоренцаччо совершил убийство только с целью доказать себе, что он не тварь дрожащая, а право имеющий. Лоренцаччо, которому на момент убийства было двадцать три года (Алессандро было двадцать семь) на Раскольникова очень походит, но только на Раскольникова флорентийского, не бедного студента, а привилегированного аристократа. Флорентийскость истории Лоренцаччо вроде как делает её для Венеции излишней, но бежал он в Венецию не случайно. То, что Венеция приняла Лоренцаччо и не выдавала Флоренции, его на казнь осудившей, худо-бедно оберегая его целых десять лет, очень ясно показывает взаимоотношение двух городов.
Флоренция в наиболее динамичные для развития обеих республик времена, в XIII–XIV веках, не была врагом Венеции, лишь конкурентом. Интересы двух городов имели разный вектор – главные операции Венеция проворачивала с Востоком, а Флоренция – с Западом, ссужая деньгами французских и английских королей и узурпировав рынки Бургундии и Фландрии. К тому же Флоренция была континентальной и сухой, а Венеция – приморской и мокрой, и стихия Флоренции была земля, твёрдая и определённая, а Венеции – вода, изменчивая и непостоянная. Как земля и вода, они во всём были друг другу противопоставлены, но отвлечённо. Между венецианцами и флорентинцами никогда не было той ненависти, что существовала между венецианцами и генуэзцами или флорентинцами и сьенцами, пока Венеция не направила свои интересы на Терраферму, Terraferma, Твёрдую землю, как называются области, принадлежавшие республике на материке. Произошло это около 1337 года, и первоначально Венеция атаковала нелюбимых всей Италией потомков Кангранде делла Скала, называемых Скалиджери, Scaligeri, по-русски транскрибируемых как «Скалигеры». Флорентинцы веронского Кангранде, приютившего политического диссидента Данте отнюдь не из одной любви к поэзии, ненавидели до колик, и с венецианцами против Вероны объединились, быстро разгромив её в пух и прах. Флорентинцы только погромить хотели, а Венеция тут же, никто и очухаться не успел, проглотила Верону и все её владения, прибрав к рукам богатейшие города – Тревизо, Падую, Виченцу и плодороднейшие равнины. Флоренция такой прыти не ожидала, а Венеции к тому же хватило ума в доставшихся ей городах никого не резать и никак их не унижать (не то Флоренция устраивала в Сьене), интегрировав новоприобретённые территории мирно, тихо и быстро, что республику усилило. Венеция на этом не успокоилась, за Скалиджерами последовали миланские Сфорца, потому что венецианцы стали зариться на старинные ломбардские территории: Бергамо, Брешию, Лоди. Заодно они аннексировали и территорию Аквилейского патриархата, земли, пришедшие в полное запустение и теперь просто нищие – но всё равно, пусть будет. К середине XV века венецианцы, которых флорентинцы презрительно обзывали лягушками с болота, завладели вполне внушительным куском материковой Италии, не меньшим, чем Тоскана.
С приобретением веронских владений венецианцы приблизились к Эмилии-Романье, откуда – два шага до Тосканы, и это уж флорентинцам никак не могло понравиться. С начала XV века начинается длинная интрига венецианско-флорентийского противостояния. Флорентинцы, быть может в силу своей земной природы, сухой и определённой, всегда были более страстными и непримиримыми, чем венецианцы. Из-за страстности Флоренцию всё время что-то раздирало – венецианцы, в силу водной подвижности, были менее определённы, но более едины. Венеция на долгие годы становится прибежищем флорентийских диссидентов (обратите внимание, никаких венецианских диссидентов не было), и через них республика всё время старалась установить контроль над Тосканой. Одним из этапов борьбы был поход, организованный венецианцами против Флоренции в 1467 году, и закончившийся битвой при Молинелле, battaglia della Molinella, самым крупным сражением XV века в Италии. В ней-то как раз и отличился Альфонсо Неаполитанский, с которым Катерина Корнер, figlia adottiva, невеститься вздумала. Битва при Молинелле закончилась вничью, но вничью, невыгодную для Венеции. Республике пришлось распроститься с мечтой установления власти своих ставленников во Флоренции, но интриги множились и привели к созданию Камбрейской лиги, когда против Венеции объединилась чуть ли не вся Европа – император Священной Римской империи Максимилиан I, папа Юлий II, французский король Людовик XII и король Кастилии, Арагона, Неаполя и Сицилии Фердинад II, прозванный Католическим. Представители держав сошлись в Камбре на саммит 10 декабря 1508 года, решивший с Венецией покончить, и к ним присоединились почти все итальянские государства.
Вот ведь как Венеция к 1500 году всех достала! Война Камбрейской лиги длилась восемь лет, она была частью так называемых Итальянских войн, развёрнутых на Апеннинском полуострове Францией, Испанией и Священной Римской империей и начавшихся со смертью Лоренцо Великолепного в 1492 году. Итальянские войны длились более полувека, сам чёрт в них ногу сломит, считается, что они привели к стагнации Италии, но это не так. Разобраться в многочисленных событиях, в образованиях и распадах различных союзов, а также в истории предательств, жестокостей и подлостей, коими это время для Италии является, ещё никто не смог, и мне сейчас важно отметить только то, что Венеция, хотя и находилась на краю гибели после поражения от французских войск в битве при Аньяделло 14 мая 1509 года, всё же выстояла благодаря решительности и сплочённости и вырулила с помощью дипломатии из вроде как совсем безнадёжной ситуации, сохранив Терраферму.
В конце концов, война Камбрейской лиги закончилась её распадом и созданием Святой Лиги в 1511 году, объединившей Венецию, папу Юлия II, Фердинанда II, а также швейцарских конфедератов и Генриха VIII Английского, выступивших против французского короля – теперь все французов ненавидели. Западные границы Венецианской республики с тех пор никто не нарушал, и венецианцы сосредоточились на угрозе со стороны Османской империи, к появлению которой, ослабив Византию, они сами же и приложили руку. Венеция из Итальянских войн как бы и выпадает, поддерживая Святую Лигу, затем превратившуюся в союз Испании, Ватикана и Венеции против турок, а Флоренция как раз в это время переживает самый печальный период своей истории после смерти Лоренцо Великолепного. Савонарола, неприятности с французами, республиканские судороги: после сложной борьбы наследников за власть, Медичи, враги Венеции, окончательно утверждаются лишь в 1530 году, а в 1532-м Алессандро Медичи провозглашает себя Великим герцогом. Вроде как Флоренция снова играет на итальянской сцене, и вот тут-то и подарок всем соперникам – всего через пять лет происходит убийство герцога, снова расшатывающее флорентийскую стабильность. Все планы захвата власти и установления диктаторской охлократии, вынашиваемые Лоренцаччо, провалились, но всё равно его существование было прямой угрозой Козимо I, наследовавшему Алессандро.
Церковь ди Сан Джованни Эванджелиста
Легко представить, как взвешивал Совет Десяти все «за» и «против» приёма Лоренцаччо и как потом всё же решил оказать ему поддержку, «на всякий случай». Деятельность Лоренцаччо в изгнании была весьма активна, и вдобавок к политическим интригам он написал «Апологию», трактат в своё оправдание и в защиту тираноубийства, полный рассуждений о Бруте и тому подобного сора, обычно называемого «гуманистическим». Писания Лоренцаччо занудны, как и большинство трактатов флорентийских гуманистов, но среди республиканцев XVIII века его произведение, как раз только в 1723 году и изданное, пользовалось большим почтением. Факты, говорящие о хитроумии, продажности и развратности Лоренцаччо, вступают в какое-то вопиющее противоречие с патетикой «Апологии», и своей двуличностью он уж так всех достал, что венецианцы позволили его зарезать, так как убедились, что практической пользы от Лоренцаччо ноль, а проблем масса. Убийство Лоренцаччо означало конец венецианским попыткам влияния на Флоренцию, но то, что Венеция совершенно безнаказанно могла держать у себя Лоренцаччо, а могла, когда сочла нужным, позволить его убить, свидетельствовало об окончательном утверждении status quo Террафермы и взаимоотношений Венеции с остальной Италией, – могущество Венеции стало неоспоримым. Но вот тут-то, когда владение Террафермой придало Венецианской республике основательность, и обладание землёй, то есть недвижимостью, как бы материализовало изменчивое и непостоянное морское могущество Венеции, республика и садится на мель, как большая разукрашенная галера, чтобы застыть и уже больше не двигаться.
Что ж, о чём ещё и размышлять, как не о Терраферме, на сухопутном Кампо Сан Поло. После убийства Лоренцаччо все политические разборки двух республик ушли в землю, зато оформилось идеологически художественное противостояние Флоренции и Венеции как двух главных художественных центров Италии. Выразилось оно в противопоставлении двух школ: тосканской, ценящей рисунок прежде всего, и венецианской, ценящей в первую очередь цвет. В то время как для Флоренции самым важным было композиционное построение, то есть рациональность, то для Венеции важнее колорит, то есть интуитивная поэзия. К XVIII веку старые споры о приоритете рисунка или цвета усилились, и они живы и в наше время, потому что противопоставление флорентийского типа картины, storie, венецианской poesie стало притчей во языцѣхъ всех искусствоведов, так что до сих пор искусствоведы ещё разбираются, кому больше нравится Венеция, а кому – Флоренция. Я бы это противостояние определил как противостояние двух стихий – может ли быть одна стихия лучше или хуже другой? – или как противостояние мокрого и сухого, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
«Близился праздник Святого Иакова, чьё имя я ношу, и дня за три-четыре перед ним М. М. подарила мне несколько локтей серебряных кружев; их я должен был надеть накануне. Явившись к ней в красивом одеянии, я сказал, что завтра приду просить у неё денег взаймы: больше мне некуда было податься, а М. М. отложила пятьсот цехинов, когда я продал бриллианты.
В уверенности, что назавтра получу деньги, я провёл весь день за картами и неизменно проигрывал, а ночью проиграл пятьсот цехинов под честное слово. Когда стало светать, отправился я успокоиться на Эрберию, Зеленной рынок. Место, именуемое Эрберией, лежит на набережной Большого Канала, что пересекает весь город, и называется так оттого, что здесь и в самом деле торгуют зеленью, фруктами, цветами.
Те, кто отправляется сюда на прогулку в столь ранний час, уверяют, будто хотят доставить себе невинное удовольствие и поглядеть, как плывут к рынку две или три сотни лодок, полных зелени, всевозможнейших фруктов и цветов, разных в разное время года, – все это везут в столицу жители окрестных островков и продают задёшево крупным торговцам; те с выгодою продают товар торговцам средней руки, а они – мелким, ещё дороже, и уж мелкие разносят его за самую высокую цену по всему городу. Однако ж венецианская молодёжь ходила на Зеленной рынок вовсе не за этим удовольствием: оно было только предлогом.
Ходят туда волокиты и любезницы, что провели ночь в домах для свиданий, на постоялых дворах или в садах, предаваясь утехам застолья либо азарту игры. Характер гульбища этого показывает, что нация может меняться в главных своих чертах.
Венецианцев старых времен, для которых любовные связи были такой же глубокой тайной, как и политика, вытеснили нынче современные венецианцы, отличающиеся именно тем, что не желают ни из чего делать секрета. Когда мужчины приходят сюда в обществе женщины, они хотят пробудить зависть в равных себе и похвастать своими победами. Тот, кто приходит один, старается узнать что-нибудь новенькое либо заставить кого-нибудь ревновать. Женщины идут туда больше показаться, нежели поглядеть на других, и всячески стремятся изобразить, что не испытывают ни капли стыда. Кокетству здесь места нет: все наряды в беспорядке, и кажется, напротив, что в этом месте женщинам непременно надобно показаться с изъянами в убранстве – они как будто хотят, чтобы всякий встречный обратил на это внимание. Мужчины, ведя их под руку, должны всячески выказывать скуку перед давнишней снисходительностью своей дамы и делать вид, будто нимало не придают значения тому, что красотки выставляют напоказ разорванные старые туалеты – знаки мужских побед. У гуляющих здесь должен быть вид людей усталых и всей душой стремящихся в постель, спать.
Погуляв с полчаса, отправляюсь я к себе в дом для свиданий, ожидая, что все ещё в постели. Вынимаю из кармана ключ – но в нём нет нужды. Дверь открыта; больше того, сломан замок».
Эрберия, Erberia – это Риальто времён Казановы. Описание рынка в Histoire de ma vie – одна из чудеснейших картинок венецианского сеттеченто, похоже на сценку Пьетро Лонги, художника, теперь считающегося воплощением венецианского XVIII века, но даже и лучше: у Казановы, в отличие от Лонги, который весь – «милый вздор комедии звенящей» и «дух мелочей, прелестных и воздушных», есть извечное переживание: «кончен пир, умолкли хоры, опорожнены амфоры, опрокинуты корзины, не допиты в кубках вины, на главах венки измяты». Настроение Венеции. Прогулка по Эрберии, галантная зарисовка «весёлой лёгкости бездумного житья», предшествует аресту и заключению, и «сломан замок», завершающее утреннюю идиллию на Риальто, звучит гениально – прямо финал моцартовского «Дон Жуана, или Наказанного развратника» или «Шагов Командора» Блока:
Ты звал меня на ужин. Я пришел. А ты готов?..Овощи, зелень, лодочники, торговцы, грубая ординарная рыночная сутолока – и светские дамы, небрежной помятостью дающие знать о своей доступности, сопровождаемые светскими кавалерами, подчёркнуто к их доступности равнодушными. Картина шикарного пофигизма либертинажа, витающего теперь над Венецией, а также либертинажного бессилья. Риальто, когда-то управлявший миром, стал променадом и не интересуется ничем, кроме сплетен и любовных интриг, очаровательных и вялых. Всё, что занимало Венецию ещё так недавно: империя, политика, власть, – всё стало Риальто безразлично, и республика уже – мы чутко можем уловить её пульс на Риальто – готова отказаться от своей независимости, столь некогда для неё важной, без всякого труда. Венеция уже не живёт, а доживает. В объятия Наполеона она падает, подобно снисходительной красотке утреннего Риальто Казановы – завоевателю остаётся лишь всячески выказывать скуку перед её податливостью, и:
Now, what news on the Rialto?
Ну, что нового на Риальто?
А всё, ничего, больше нет новостей. С рынка постепенно исчезают галантные дамы с их кавалерами-импотентами, их заменяет толпа туристов, но разве это новость? В Дрезденской галерее хранится картина Каналетто, изображающая площадь Риальто с точки зрения Риальтского Горбуна. Теперь с этой же точки зрения площадь и церковь больше всего и фотографируют. Картина Каналетто пропитана духом сеттеченто: Сан Джакометто кажется рокайльным сооруженьицем, и восемнадцативековость ему придаёт то, что на фасаде готическое окно-розу заменили огромные часы, воцарившиеся в самом центре. Часы, вещь, в общем-то, светская, то есть сиюминутная, и они как-то не слишком подходят к обители вечного, коей церковь является, а тем более часы такие, какими украсила республика фасад Сан Джакометто в XVII веке – языческо-солнцеподобные. Сейчас они показывают какое-то своё венецианское время, ни с чем, кроме Венеции, не сообразующееся, и именно благодаря часам современные фотографии и картина Каналетто путаются: сразу даже и не поймёшь, где картина, а где фотография, причём даже стаффаж не помогает. Часы своим временем, остановившемся в XVIII веке, и нас с вами превращают в персонажей времени Казановы. Особое время Венеции могущественно. Оно позволяет городу продолжать казаться шедевром старой живописи – способность, утраченная чуть ли не всеми остальными городами мира, потому что остальные города в лучшем случае могут «казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной». В конечном счёте особое время Венеции, показываемое часами-солнцем, способными сегодняшнего туриста превратить в героя Каналетто и Histoire de ma vie, и является самым важным и самым ценным ответом на вопрос, который я теперь задам, несколько отступая от классического перевода:
Now, what news on the Rialto?
А сейчас что нового на Риальто?
Канале Гранде
Сан Марко
Глава девятая Сон Гиацинта Курицына
Giallo a Venezia. – Жёлтая «Гроза». – La Serenissima. – Что значит спать по-венециански. – Сестиере Сан Марко. – Понте ди Риальто. – Ultimo sogno. – Вероника Франко. – Леди в чёрном. – Наивенецианнейшая терраса. – Ужас жёлтого платья. – Беседа с Яго о проблеме брака. – Вид с террасы Карпаччо. – Церковь деи Санти Апостоли. – Санта Лючия. – Ловушка Снов
Есть такой фильм – Giallo a Venezia режиссёра Марио Ланди 1979 года. Лучше всего в фильме название, на русский переведённое очень плохо: «Кровь в Венеции». На самом деле перевод: «Желтизна в Венеции», он и по-русски достаточно понятен, хотя в итальянском названии больше смыслов. Джалло, giallo, «жёлтый» – это обозначение особого жанра итальянского кинематографа, триллера-хоррора с невыносимым – как у лучших сыров – запахом садо-мазо. Триллеры-хорроры – порождение англосаксонского духа, так же как и готический роман, но действия чуть ли не всех самых знаменитых английских готических романов разворачивается в Италии, что не случайно: Италия для англосаксов всегда, со времён Шекспира и елизаветинской драмы, была страной не только красоты, но и страсти. Джалло вернули хоррор на родину, и их итальянский дух безусловен. Выражен он просто – в том, что действие их происходит в Италии, но и это не так уж мало. Согласитесь, что маньячить на автомагистралях Лос-Анджелеса – это одно дело, а на каналах Венеции – совсем другое, так что воленс-ноленс всё получается очень стильно. Кроме того, джалло отличает ещё и особая, довольно отвратительная, эстетизация кровавых убийств, нагромождаемых одно на другое: итальянцы до сих пор, если захотят, крутят камерой столь же виртуозно, как крутили кистью в барокко. Фильмы джалло появились в 60-е годы, в 70–80-е джалло бурно расцвёл, а сейчас этот жанр плавно угасает, хотя классик джалло, Дарио Ардженто, ещё полон сил и совсем недавно, в 2009 году, разразился фильмом под названием Giallo, переведённым на русской уж просто как «Джалло». Фильм Ардженто, конечно, совершеннейшая белиберда не без кайфа, и кайф заключается в том, что это как бы исповедь творца жанра. У Ардженто Giallo, «Жёлтый» – это прозвище главного героя, убийцы-маньяка, несчастнейшего существа, сына проститутки-наркоманки, подбросившей его грудным младенцем в монастырь. Бедного найдёныша презирали, унижали и дразнили Жёлтым из-за вызванной врождённым гепатитом C желтизны. С детства Жёлтый возненавидел красоту и теперь мстит ей, кромсая красивых девушек, – и кто ж этот Джалло, как не персонификация жанра, имеющего весьма запутанные отношения с пресловутой красотой Италии, что привязалась к этой стране как консервная банка к хвосту собаки, как духовность привязалась к России, а модность – к Франции.
Мост Риальто
Банка на итальянском хвосте раздражает итальянцев давно, во времена футуризма они особо громко пытались её отвязать – ничего не получилось. Джалло – очередная, опять же неудачная попытка разделаться с красотой, тем самым от неё отделавшись. Результатом стало лишь рождение кинематографического жанра с врождённым гепатитом C. Вот именно такой гепатитный пример – Giallo a Venezia Ланди. Никому не стал бы советовать смотреть этот фильм, долгое повествование о героях, поведение которых полностью соответствует фрейдовскому определению сексуального поведения детей до пяти лет, не обременённых ограничениями и условностями, поэтому и занимающихся экспериментами со всем, что на глаза попадётся. Такое поведение имеет специальное название в психиатрии: полиморфное извращение. Хорош он или плох, но Giallo a Venezia существует. Творение Ланди гораздо более белибердово, чем Ардженто, и менее кайфово – у Ардженто хоть модная мордочка Эдриена Броуди, играющего сразу двоих персонажей, и убийцу, и следователя, мелькает; у Ланди и того нет. Венецианскость Giallo a Venezia заявлена в начале фильма: герой видит сцену своей смерти во сне, и только затем его убивают, – вообще-то Венеция в фильме обозначена очень условно, только как место действия. Часто Ланди упрекают: мол, тема Венеции совсем не раскрыта, но я считаю это скорее достоинством. Достаточно того, что все утопления и расчленения Giallo a Venezia напоминают истории, витающие над Казино дельи Спирити, особенно – историю несчастной Чиветты. В джалло было бы глупо муссировать венецианские красоты, ведь, как правильно заметил Дарио Ардженто, giallo движет ненависть к красоте. В этом и смысл жанра.
Я вспомнил о фильме Ланди, когда наткнулся на статью под названием Giallo di Giorgione Алессандро Тиша, журналиста, в современном Венето довольно известного. На русский Giallo di Giorgione лучше всего перевести как «Жёлтый Джорджоне», потому что статья посвящена опубликованной в 2009 году книге писателя Паоло Мауренсига «Гроза – тайна Джорджоне», La Tempesta – Il mistero di Giorgione, и о «желтизне», то есть «бульварности», в ней речь и идёт. Тиш пишет о попытке сделать из Джорджоне такую же дойную корову, какую Браун сделал из Леонардо, состряпав «код Джорджоне» – книга Мауренсига посвящена различной масонской символике и прочей эзотерике, найденной им в «Грозе». Мауренсиг нудно доказывает, что Джорджоне был членом ордена розенкрейцеров и что в «Грозе» полно намёков на это; книга написана суховато, с некой даже квазинаучной претензией, и в результате занимательного детектива не получилось. Впрочем, характеристика Мауренсига моя, а не Тиша, осторожного до пресности, но меня притянуло название Giallo di Giorgione. Ведь это же мысль: взять «Грозу», забросить чепец за мельницу и завернуть вокруг юноши и голой красавицы садо-мазо-историю с хорошеньким расчлененьицем. Посох юноши, считающийся пастушеским, что многих побуждает рассматривать сцену как пастораль, уж очень смахивает на пику, да и настроение в этой картине как-то мало пасторально. Джорджоне, в большей степени, чем другие гении Ренессанса, не только позволяет превратить свой шедевр в джалло, но даже и склоняет это сделать. Создал же он эрмитажную «Юдифь», самую прекрасную в мире расчленительницу, образ убийцы, надежды мужчин – я перефразирую Кокошку и Хиндемита с их оперой Mörder, Hoffnung der Frauen, «Убийца, надежда женщин». Торжество Юдифи, должное олицетворять торжество добродетели и патриотизма, Джорджоне превращено в чёрт знает что – добродетель никогда так, как его Юдифь, улыбнуться себе не позволит. Улыбка, как и сногсшибательный дизайнерский костюм Юдифи с разрезом от бедра, скорее подходят Саломее, недаром картину сопровождает легенда, что Юдифь – портрет возлюбленной Джорджоне, куртизанки Чечилии, а Олоферн – автопортрет. Легенда всего лишь легенда, но я бы не сказал, что она беспочвенна – я не думаю, что Джорджоне не замечал внутренней связи своей Юдифи с Саломеей. Венецианская Юдифь – образ столь тонкий и сложный, что глубиной своей перверсии она превосходит всех Юдифей и Иродиад, когда-либо созданных человечеством. Она нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, в ней всё тихо, просто, и кажется она верным снимком du comme il faut; при этом видно, что стерва и оторва она просто-таки выдающаяся. Уайльдовская Саломея по сравнению с джорджоневской Юдифью – суетливая модерновая болтушка, чья заурядность слегка приправлена нимфоманией и некрофилией.
Мауренсиг – эпигон бесчисленных искусствоведов, последние лет сто пятьдесят вовсю «Грозу» интерпретировавших. Всего интерпретаций, причём взаимоисключающих, насчитывается около семи десятков. Некоторые заняты простым определением конкретной истории – в качестве героев предлагаются всевозможные варианты, от библейских, вроде семейства изгнанных из рая Адама и Евы, до мифологически-литературных, вроде Париса периода пастушества, до возвращения в Трою, с его возлюбленной Эноной и их сыном. Другие взбираются на более высокую ступень обобщений, видя в «Грозе» смысл символический, от аллюзии на историческую битву Венеции с войсками Камбрейской лиги за Падую, до намёков на Апокалипсис. Умнейших глупостей, сказанных о «Грозе», просто переизбыток, и без Джорджоне не может обойтись и Миллард Мисс, написавший вполне научную книгу под названием Sleep in Venice. Ancient Myth and Renaissance Proclivities. Я бы перевёл название как «Спящие в Венеции. Античный миф и наклонности Ренессанса». Книга преотличная, в ней доказывается, что венецианские художники были столь склонны изображать спящих, что античные сюжеты со спящими Антиопами, Венерами и другими богинями в Венеции использовали чаще и охотнее, чем в остальной Италии, а также то, что спящая и полностью обнажённая Венера вообще впервые появилась именно в венецианской живописи. Подытоживая свои рассуждения, Мисс делает вывод, что для венецианцев образ нагой красавицы, погружённой в сон, столь же знаков, как для флорентинцев – образ бодрствующего голого красавца с напряжёнными мускулами; то есть дрезденская «Спящая Венера» Джорджоне vs. «Давид» Микеланджело. Противопоставление, наглядно иллюстрирующее рассуждения о противостоянии Венеции и Флоренции, о poesie и storie, а также о флорентийском рисунке и венецианском колорите.
Мисс также пишет, что в венецианской живописи было наибольшее изобилие спящих Младенцев на руках Мадонн и что в двух картинах Джорджоне, в «Мадонне дель Кастельфранко» и в «Юдифи», опущенные, полузакрытые глаза главных персонажей создают ощущение дремоты, грёзы, так что всю венецианскую изобразительность определяет некое состояние сомнамбулизма. Наблюдение очень точно передаёт дух poesie, поэтической дремоты, специфически венецианского жанра живописи, к которому можно отнести и загадочную «Священную аллегорию» Джованни Беллини из Уффици, также часто называемую «Озёрной Мадонной», и многие композиции Карпаччо, и «Грозу» Джорджоне, и его «Трёх философов» из Вены, и луврский «Концерт», теперь чаще приписывающийся раннему Тициану, – многие замечательные венецианские произведения, написанные около 1500 года. Свою статью Мисс начинает, конечно же, со «Спящей Венеры» Джорджоне, которая, как он доказывает, и есть та полностью обнажённая спящая Венера, что впервые появилась не только в Ренессансе, но и в мировом искусстве. То есть для своего времени она была очень радикальна, и, написанная между 1507 и 1510 годами, производила впечатление столь же революционное, как и «Авиньонские девицы» Пикассо пятьсот лет спустя. Заканчивает Мисс также дрезденской «Венерой», замечая, что образ Джорджоне являет адекватное воплощение эпитета, присвоенного республике, – La Serenissima.
Ну вот, наконец-то я добрался до того, чего старательно избегал, – до определения, сопровождающего полный титул Венецианской республики: La Serenissima Repubblica di Venezia, Ла Серениссима Репубблика ди Венеция, что на русский переводится как Светлейшая Республика Венеция. Титул «Ваша Светлость», Sua Altezza Serenissima, гораздо выше, чем «Ваше Сиятельство», Sua Altezza Illustrissima. Титулом «Ваша Светлость» может пользоваться только отпрыск монарха, которому верховная власть принадлежит без каких-либо ограничительных условий, – сегодня ни скандинавские короли, ни испанские, ни английские пользоваться им не имеют права, и в современной Европе Ваши Светлости только принцы Монако и герцоги Лихтенштейна. Сиятельств же до сих пор навалом. Sua Altezza Serenissima при этом ниже, чем Sua Maestà, «Ваше Величество», потому что относится к наследникам прямым, но не старшим. Венеция раздобыла титул Светлейшей во времена незапамятные, и нужен он ей был как утверждение себя наследницей Константинополя, причём путём хитроумно-сложным, ибо эпитет Serenissima подчёркивал законность Венеции как правопреемницы императоров, но в то же время показывал и некую дистанцированность от православной Византии. В дальнейшем с Венеции собезьянничали Генуя и Лукка, также присвоившие себе титул La Serenissima Repubblica, – эти две уже на Константинополь не обращали внимания, просто им хотелось быть не хуже венецианцев. К ним присоединились, как ни странно, Речь Посполитая, именовавшая себя Serenissima Res Publica Poloniae, ибо res publica, что означает «общее дело», по-польски звучит как rzeczpospolita, а также Республика Сан-Марино, единственная, оставшаяся в живых.
Мисс пишет, что «Эпитет, изначально прилагавшийся к миротворческой политической политике (peaceful political policy) города, а затем и к республике в целом, – La Serenissima – определённо нёс в себе не одни политические коннотации. Не было создано более выразительного образа мира и безмятежности, чем Венера Джорджоне». Замечательно верно и красиво, но тут же хочется уточнить одну деталь, в тексте Мисса подразумеваемую, но никак не акцентируемую, – сонность для венецианской живописи характерна для определённого и не слишком долгого периода где-то лет в тридцать-сорок, между годами 1490-м и 1530-м. С 1518 года, с появления в церкви ди Санта Мария деи Фрари «Ассунты» Тициана, венецианская живопись как проснулась, всколыхнулась, так и пошла плясать – уже ни у Веронезе, ни у Тинторетто никто особо не спит. Спящие не то чтобы исчезают с картин венецианцев, но перестают быть отличительной чертой венецианской школы. Мисс, будучи специалистом по Ренессансу, старается за Ренессанс носа не совать, и самая последняя венецианская спящая, упоминаемая им, это «Спящая Венера и Амур» Париса Бордоне из Галереи Франкетти в Ка’ д‘Оро, Ca’ d’Oro, датируемая 1540 годом.
И ещё одна странность: если взглянуть на историю Венеции, то окажется, что самые знатные сны Венеции – сны Джорджоне – приснились ей тогда, когда Светлейшей республике было совсем не до сна. Историческим парадоксом кажется то, что дрезденская Венера, наиболее выразительный образ венецианской безмятежности, была создана в самый опасный момент истории Венеции. Датировка картины Джорджоне, соответствующая 1507–1510 годам, это как раз первый этап войн Камбрейской лиги, когда казалось, что всё летит в тартарары. В 1509 году союзные войска приблизились непосредственно к городу, объятому паникой, и лишь решительные меры Сената панику предотвратили. Только в 1510 году – в этом году Джорджоне вроде как умер от чумы – Венеции удаётся вывернуться из безнадёжной ситуации. В 1509 году война велась на подступах к городу, причём Джорджоне да Кастельфранко и Тициано да Кадоре она касалась непосредственно – их родные города, Кастельфранко и Кадоре, лежавшие в районе действий императорской армии Максимилиана I, были разграблены немцами. Какое же самообладание нужно было иметь, чтобы в это время в Венеции сидеть и рисовать «Спящую Венеру» и «Сельский концерт», выводя формулу венецианской живописности. Молодцы венецианцы, ничего не скажешь; самообладание и помогло Ла Серениссима устоять. Венеция доказала, что безнадёжных ситуаций нет, когда в момент катастрофы прикидывалась, что она – спящая Венера, которой всё нипочём и ничто её не касается. Искусствоведы твердят о пасторали, но в связи с бесчинствами императорских войск во владениях Венеции, «Гроза» Джорджоне вполне может обернуться триллером.
Так я, будучи наглым и любопытным, смешиваю венецианские poesie с венецианским giallo и сую, как Буратино, свой нос в кипящий на огне котелок, столь хорошо нарисованный искусным искусствоведом Миссом. В отличие от Буратининого, мой нос ничего не протыкает насквозь, а оказывается прямо в кипящем котелке, и я в восторженном ужасе отскакиваю от «Античного мифа и наклонностей Ренессанса», убедившись в том, что всё написанное Миссом – правда. Конечно же, джорджониевская дремотная грёза не просто воплощение венецианской Аркадии, но концептуально оформленная система взаимоотношений Венеции с миром. Вокруг всё ужасно: мирные пейзажи, украшающие фон «Спящей Венеры», «Грозы» и «Сельского концерта», сожжены, замки и виллы разграблены, – а обнажённая спит, хотя вокруг бушуют дикие ландскнехты, рвущиеся её изнасиловать. Это лишь кажется, что она безмятежна, на самом деле она отважна. Так сладко спать, не обращая внимания на катастрофу, могут только сильные духом, и есть в лице дрезденской Венеры некая надменность – та же надменность, что есть и в эпитете La Serenissima, присвоенном себе Венецианской республикой. Кто сильнее и отважнее – надувающий ноздри и морщащий лоб флорентийский Давид, или венецианская Венера с разглаженным челом, ещё вопрос. Величайшие венецианские poesie появились на свет в самый неподходящий для поэзии момент, доказывая, что лирика может стать политическим манифестом. Political policy города, кстати, никак нельзя назвать миротворческой, это Мисс загнул: спокойная, как наевшийся удав, Венера в два счёта может проглотить Давида, столь мило пыжащегося своей мальчишеской воинственностью.
Английский язык правильно определил разницу между sleep и dream, в русском отсутствующую, так как в нём слова «сон» и «сновидение» синонимичны: у англичан же sleep значит состояние сна, «спаньё», в то время как dream – это увиденный сон, то есть видение и грёза. То, что спящие заполонили картины венецианцев на недолгое время, а затем исчезли, совсем уж и не важно – гений Джорджоне всё так ярко сформулировал, что потом уже в прямом изображении сна не будет никакой необходимости, вся венецианская живопись станет сном, увиденным спящими Джорджоне. У позднего Тициана нет, кажется, ни одного спящего, но что такое, как не сон, его поздняя манера, растворяющая материальность мира в потоке красочной живописности? Причём не испанское «жизнь есть сон», la vida es sueño, утверждающее, что наша жизнь призрачна и нереальна, – с лёгкой руки Кальдерона la vida es sueño стало расхожей фразочкой и уплощилось до пошлости, – но утверждение того, что сон-то как раз и есть реальность, а не иллюзия или галлюцинация. Венецианское сновидение нельзя изобразить так, как обычно изображают сны: лежит человек с закрытыми глазами, а над ним витает некая сцена, что ему видится в данный момент. Венецианский сон сплетён со спящим, он столь же чувственен, как спящее тело, он не уход из реальности, а вход в неё. К великим венецианским снам относится не только изображение спящих, не одна «Спящая Венера» Джорджоне, но и тревожный мираж его «Грозы», и молитвенная медитация «Озёрной Мадонны» Беллини, и идиллия Тицианова «Сельского концерта». Сенсибельные, то есть чувственные и разумные, видения – чисто венецианский парадокс. Венецианец никогда не произнёс бы «Одним только плох крепкий сон – говорят, что он очень смахивает на смерть».
Сестиере Сан Марко – самый людный и шумный из районов Венеции. Эта шестина и самая пышная. В районе всё подчинено главной площади Венеции, да и одной из главнейших площадей мира, – Пьяцца Сан Марко. Наполеон назвал её самым элегантным салоном Европы, il più bel salotto d’Europa – фразочка, ставшая столь же расхожей, как и la vida es sueño, так что и повторять её как-то стыдно. Делаю я это только для того, чтобы заметить, что Пьяцца Сан Марко, будучи самым элегантным салоном, является также и самым доступным, а элегантность вроде как a priori вступает в противоречие с доступностью. К più bel salotto d’Europa стремятся все, кто в Венеции оказался, так что по узким улицам района каждый день бредут тысячи и тысячи посетителей, стремящихся салона достичь. Развешенные повсюду указатели прямо-таки выталкивают на Пьяцца Сан Марко, поэтому многие воспринимают район как лишь преддверие площади. Большинство знаменитых дворцов по берегу Канале Гранде в районе Сан Марко переоборудовано в дорогие и элегантные отели, каждый из которых претендует на то, чтобы также быть il più bel d’Europa. Обитатели отелей столь же избранны, сколь высоки цены на номера, но – вот парадокс Венеции – им к своим дорогущим обиталищам приходится пробираться всё по тем же узким улицам, ибо нет в Венеции ни лимузинов, ни вертолётов. Избранным приходится вливаться в толпу, и Венеция, алчно пользуясь своей привилегией города, со времени далёкого средневековья заставлявшего всех, даже самых высокопоставленных, спешиться, слезть с лошади, вылезти из кареты и, отказавшись от привилегий, смешаться с улицей, развернула в шестине Сан Марко бойчайшую деятельность по втюхиванию человечеству всяких шмоток-манаток, от фальшивых муранских бус до дизайнерской ювелирки. Густопёстрый базар: на улицах Сан Марко витрина haute couture и лавочка туристического кича соседствуют со всевозможною простотою, потому что фешенебельный снобизм миланских виа делла Спига и виа Монтенаполеоне Венеции чужд. Во всём мире доступность сжирает элегантность, а в Венеции – нет, ничего, всё уживается, и Миссони, и пашмина made in China; но всё ж доступность элегантность жрёт, и Сан Марко с его густопёстростью – самый толпливый, самый дорогой и самый утомительный район Венеции.
Калле Ларга XXII Марцо
Подступ к району Сан Марко – Понте ди Риальто, Ponte di Rialto, Мост Риальто. Главное отличие этого моста от всех остальных великих мостов мира состоит в том, что Понте ди Риальто – лестница. Все остальные мосты планировались для телег, карет, теперь обратившихся в нечисть машин, Понте ди Риальто же предназначен только для пешеходов. С троллей, то есть с колёсами, по Риальто переть – мучение. Мост гениально спроектировал архитектор, только благодаря этому мосту и известный, Антонио да Понте – о чём его прозвище и свидетельствует. Проект Антонио да Понте выиграл конкурс, в котором участвовали все самые знатные архитекторы Италии, – конкурс был не только венецианским, но и международным. Из проектов наиболее известен проект Андреа Палладио, представляющий не мост, а некий храм на мосту, – проект Палладио, отвергнутый Сенатом, затем будет рекламироваться палладианцами, особенно палладианцами XVIII века, считавшими выбор Сената безвкусицей. Мост Палладио – правда, в меньших масштабах – повсеместно повторялся в парках, и в России его можно отсмотреть в Царском Селе. Как парковый мостик творение Палладио очень ничего, занимательно, но мост Антонио да Понте, дуга, порыв и прыжок, смелый и авангардный, явился современности – Понте ди Риальто был открыт в 1591 году – так, как веку двадцатому явился мост Золотые Ворота, Golden Gate Bridge, в Сан-Франциско. Непременным условием было наличие на Риальто лавок – такими, застроенными лавками, были все уважающие себя мосты: и Лондонский мост, и старый парижский Пон Нёф, Pont Neuf, Новый Мост, а теперь остались считаные единицы, Риальто, да флорентийский Понте Веккио, Ponte Vecchio, Старый Мост. Лавками мост закрыт с двух сторон, и лишь на самом его верху открывается просвет на обе стороны Канале Гранде, две большие каменные арки. Из-за лавок, выстроившихся по бокам моста-лестницы и распахнувших для толпы свои витрины, на Понте ди Риальто пестрота сгущена до невыносимости. Бусы, маски, шали; шали, маски, бусы. Навалены. Висят. Свисают. Утрировано цветасто. Преобладает ли в этой цветастости жёлтый? Да нет, хотя и есть специальные цвет и пигмент, именующиеся giallo veneziano, «венецианский жёлтый». Толпа на Риальто прямо как у гроба Сталина, то есть гораздо гуще, чем на любом из бульваров Парижа. Гудение и жужжание людского потока совсем уж забивает столь хвалимую мной венецианскую тишину, пёстрые кучи лавок и витрин, начинающиеся с Риальто, возбуждают и изматывают зрение. Постепенно, хоть жёлтый и не преобладает, в глазах желтеет, и весь район Сан Марко окрашивается специфическим санмарковским оттенком желтизны, этаким giallo di San Marco, особой разновидностью giallo veneziano, непередаваемо оригинальным цветом венецианского желтого, отличающегося от желтизны, the pulp, всего остального мира хотя бы тем, что он начисто лишён бульварности – в Венеции-то бульваров нет…
…и вот ночью…
Как-то рано утром, весной, в конце марта или в начале апреля, я пробудил себя ни свет ни заря – в буквальном смысле, то есть перед рассветом, – чтобы отправиться застать рассвет на Понте ди Риальто. Я жил в Дорсодуро – в этом сестиере, с XIX века полюбившемся английским и французским эстетам, всегда останавливаются те, кто считает себя истинным знатоком Венеции, серьёзным и склонным к размышлениям – то есть немолодым (что от возраста и не зависит), и я сам теперь почему-то вечно в Дорсодуро околачиваюсь. Мне уж этот район интеллигентского вкуса и поднадоел, я всё норовлю остановиться в другом месте – а никак не получается. На пути к Риальто, днём забитом людьми, на улицах не было ни единого человека, город был пуст, как сон профессора из «Земляничной поляны». Я подошёл к мосту со стороны рынка Риальто, и лестница, ведущая на середину моста, вдруг встала передо мною на дыбы, оказавшись неожиданно крутой и высокой – иль это только снится мне? Ступени не были скрыты дневной толпой, они тянулись вверх как-то по-особому узко и круто, и казалось, что лестница Понте ди Риальто стиснута с двух сторон наглухо задёрнутыми железом окнами витрин, как будто стражниками арестована. Ступени бежали вверх между двумя плотными рядами лавок по обеим сторонам моста, как будто убежать пытались, но не могли – строго унифицированная архитектура моста крепко ступени держала. О том, что это лавки, то есть нечто торгово-шумное, теперь могли сказать лишь мои дневные воспоминания, но дневная разумность из меня выветрилась. Витрины, наглухо закрытые металлическими шторами, напоминали аркаду нижнего этажа, pianterreno, какого-нибудь дворца, забаррикадировавшегося от уличных грабителей: запирайте етажи, нынче будут грабежи, – а два венецианских фонаря на портиках в середине моста, украшенных серьёзными маскаронами-бородачами, висели как символы одиночества. Предрассветная сумеречность придавала мосту вид улицы фантастического города; сон метафизической живописи, де Кирико и Карра, а также сон, начинающий Giallo a Venezia, только намного страшнее и намного прекраснее. Я понял, что смотрю (не вижу) сон, и я знал, что сон этот – последний, и, уже спускаясь по ступеням Понте ди Риальто, всё так же крепко конвоируемым архитектурой в униформе, и подходя к довольно высоким домам, фланкирующим вход на улицу Салита Пио X, Salita Pio X, Подъём Пия Десятого, ведущую в глубь сестиере Сан Марко, я уткнулся взглядом в надпись-табличку, висящую на одном из них. Табличка гласила:
qui nell’ incanto della sua Venezia
Giacinto Gallina, confido all’arte il suo ultimo sogno
здесь, в очаровании своей Венеции,
Джачинто Галлина посвятил искусству свой последний сон,
и надпись эта – о том, кто такой Джачинто, я на данный момент не имел ни малейшего представления – вспыхнула в моём мозгу, как два огненных волоска в шевелюре Крошки Цахеса по прозванью Циннобер или как вольфрамовая спираль в лампочке, перед тем как перегореть. Мозг мой и перегорел, всё погрузилось во тьму, но это продолжалось лишь мгновенье, тьма тут же взорвалась ослепительным сиянием, и солнце засветило в зените, и дома, возвышающиеся над узким проходом на улицу, называемую Салита Пио X, зашевелились, как будто ожили, их окна расцветились свесившимися, по венецианской моде, коврами, и на узор ковров, облокотившись на них, множество женщин вывалило гроздья выпукло-прозрачных взглядов из-под начесанных белокурых чёлок и огромные округлости белоснежных грудей. Выход с Понте ди Риальто в сестиере Сан Марко напомнил мне ночной Де Валлен, район красных фонарей в Амстердаме. Как в Де Валлене, где женщины, вознесённые над публикой, смотрят на мужчин – из мужчин толчея старых улиц амстердамского квартала и состоит, причём по большей части из итальянских тинейджеров, у которых денег нет, одно желание, – свысока, их доступность, обращаясь в избранность, возводит их на царство, так и здесь женщины, свесившие груди в окна домов левого берега Риальто, царили, каждая отдельно и самостоятельно, над слитой в единое целое толпой самцов, симулирующей желание желания. Женщины Де Валлена закрыты стеклом и залиты красным светом, кажутся как из пластика сделанными, надуманно искусственными, здесь же они были живые и трепещущие, столь же, сколь живо их множество на венецианских картинах Тициана, Пальмы Веккио, Кариани, Бордоне, Лотто – разница между обитательницами Де Валлена, плоскостью стекла отделяющего их от мира, уплощёнными и превращёнными в муляжи, и воркующе пёстрым ворохом Риальто – была равна разнице между Катериной Корнер, живо втиснутой в вечность, и вице-спикером Слиской, линяющей газетной сиюминуткой.
Если признаться честно, то видение из моего сна, красивое, конечно, несколько излишне напоминало о лучших сценах не слишком чтобы выдающегося фильма «Честная куртизанка» Маршалла Херсковица, рассказывающего, кстати, не fiction, а подлинную историю Вероники Франко (1546–1591), известной деятельницы венецианской свободной любви. По-английски фильм называется Dangerous Beauty, что можно перевести и как «Опасная красота», и как «Опасная красавица». Русское название «Честная куртизанка» апеллирует к историческому роману The Honest Courtesan Маргарет Розенталь, послужившему основой сценария. Писательница, довольно-таки кропотливо изучавшая источники, названием книги отсылает к итальянскому cortigiana onesta, специфически венецианскому и специфически ренессансному термину. Дословно переведя название романа, русский прокат сделал какой-то ненужный акцент на «честности», в то время как cortigiana onesta правильнее было бы перевести как «благородная куртизанка», потому что это понятие определяет социальный статус, а не моральные принципы. В Венеции было два разряда продажных женщин: cortigiana onesta, то есть высокооплачиваемая и, может быть (не обязательно), даже с происхождением и образованием (как Вероника Франко), и cortigiana di lume, «подфонарная», то есть не слишком дорогая и работающая прямо на улице. Cortigiane di lume были-то наверняка честнее, чем cortigiane oneste, но они были внизу, оббивали, несчастные, ступени Понте ди Риальто, а oneste царили вверху, выкладывали себя в открытые витрины лоджий и балконов дворцов на Канале Гранде, их рисовали художники, поэты посвящали им стихи, а куры у них денег не клевали. До нас дошёл портрет исторической Вероники Франко, он хранится в Музее города Вустера, что в штате Массачусетс, США, и приписывается кисти сына Якопо Тинторетто, Доменико. Женщина, на нём представленная, выразительна не более, чем Кэтрин Маккормак, сыгравшая у Херсковица Веронику, но разряжена она прекрасно, на все сто, лучше, чем Кэтрин, с соском, кокетливо подмигивающим зрителю из расшитого жемчугом корсажа – шик cortigiana onesta.
Сценарий фильма в принципе следует тому, что про Веронику наболтали ещё её современники. Всё в её жизни вроде как было: и благородство происхождения, и политические интриги, и знакомство с Генрихом III, с которым она в те две недели, что король провёл в Венеции, спуская деньги, собранные матушкой Медичи с французских налогоплательщиков, спуталась. Известны стихи Вероники Франко, был также и реальный процесс, заведённый инквизицией по обвинению Вероники в колдовстве, и победа на нём – не было только романтического возлюбленного Марко Веньера, то есть Руфуса Сьюэлла. Всё в исторических свидетельствах о жизни Вероники Франко выразительно, но уж слишком всё похоже на историю афинской Фрины – особенно рассказ о процессе. Фрина победила, потому что разделась и все увидели, что её красота действительно божественна, а адвокат Веронику спас тем, что попросил в зале суда встать тех, кто пользовался её благосклонностью, и когда весь зал поднялся, то защита на этом основании потребовала отвода не только всех кандидатов в присяжные заседатели, но и судьи с обвинителем. Оказалось, что в Венеции Веронику судить некому, и она, в отличие от Фрины, победила массовостью, а не штучностью – история, ярко показывающая принципиальное различие двух республик и доказывающая большую демократичность Венеции, но мало похожая на правду.
Историческая Вероника Франко – миф Венеции того же рода, что и миф Катерины Корнер. Обе красавицы – персонажи большого вымысла о венецианской сексуальности, частью которого является любимая салонная тема: венецианские куртизанки. Я называю это вымыслом, хотя, как всякий миф, он густо замешан на реальности: слева о венецианской сексуальности поэты поют, крайне субъективно, а справа – на эту тему учёные защищают диссертации с наивозможнейшей научной объективностью. В объективности нет сомнений, и научно доказано, что Венеция в XVI веке была для Европы тем, чем станет Париж в веке XIX – городом, торгующим любовью, высококачественной и разной. «Венецианская куртизанка» такая же торговая марка, как «парижская кокотка», и, как часто бывает, лейбл оказывается важнее предмета, им маркированного. Центром продажной любви был Риальто – именно здесь, на мостовых при входе в сестиере Сан Марко, а также на улочках вокруг рынка, работали сortigiane di lume, и здесь же, вокруг денег Риальто, вились и cortigiane oneste. Негодующих на упадок нравов и на безобразие, творящееся в районе Риальто, в городе было предостаточно, но в Венеции, в силу её характера, текуче-подвижного, преследования безнравственности никогда не приобретали характер яростного фанатизма. Савонарола в Венецию не явился, и никто из венецианских художников в ряды его последователей, piagnoni, «плакс», в отличие от флорентинцев, не вступил. Факт приставания инквизиции к Веронике говорит о том, что у куртизанок были проблемы, даже у наиболее высокопоставленных и недоступных, обитавших на самом верху, на балконах дворцов Канале Гранде, но у кого их нет? Чуть ли не параллельно допросу Вероники Франко происходит инквизиторский допрос художника Паоло Веронезе, запись которого дошла до нас. Веронезе тоже был обвинён в безнравственности и ереси, и совпадение во времени двух допросов: роскошнейшей куртизанки и живописца роскоши – указывает на тесную внутреннюю связь феномена венецианской живописности с феноменом венецианской проституции. Быть может, тот влажный туман желания, что окутывал город, и привёл венецианскую живопись к волшебной иллюзорности позднего Тициана, подобно тому как Париж XIX века естественным образом подошёл к импрессионизму? Историки искусств, подумайте над этим.
Венецианский Сенат с проститутками был повязан не только постелью, как следует из дела Вероники Франко, но и взаимовыгодным сотрудничеством. Сенаторы, подписывая указы, ограничивающие права проституток, в то же время понимали, какой огромный доход приносит Венеции слава столицы наслаждений. Во-первых, непосредственный – проституток сделали налогоплательщицами и на их деньги строили галеры против турок; во-вторых, косвенный – проститутки способствовали посещаемости города, процветанию гостиничного бизнеса и торговли; в-третьих – венецианские красавицы обеспечивали городу первоклассный пиар. В Венеции всё прекрасно и всё самое лучшее, в том числе и её женщины, и Венеция была первым городом (вроде как и единственным), выпустившим примечательную книгу, Il Catalogo di tutte le principale et piu honorate cortigiane di Venezia, «Список всех главных и наиболее почитаемых куртизанок Венеции», этакий каталог, рекламный путеводитель, а заодно и top celebrities. Книга вышла в 1565 году, она свидетельствует о развитии в Венеции дела книгопечатания, а также о понимании, что информация – это всё, и включает более пятисот имён, сопровождаемых немногословной, но необходимой, справкой-описанием; эти пять сотен были избранные, всего же количество проституток в Венеции определяют в пятнадцать тысяч, что составляло примерно 10 % населения города. Цифра просто огромна, она даже вызывает недоверие; если пятнадцать тысяч хоть как-то соответствуют действительности – а как-то они ей соответствуют, – то район Риальто, где эти тысячи работали, представлял собой такое зрелище, что современный Де Валлен по сравнению с ним – музеефицированная деревенька.
В каталог celebrities вошла и Вероника Франко, которой в год его выпуска не было ещё двадцати – невероятная удача для старлетки; о каталоге и пятнадцати тысячах куртизанок любят упомянуть все историки Венеции. Любят ещё рассказать про особые широкие парчовые шаровары, веера, похожие на детские флажки с советских демонстраций, и туфли на высоченных платформах – излюбленный наряд дорогой венецианской проститутки, знакомый нам и по гравюрам, и даже по отдельным сохранившимся вещам, всегда с удовольствием демонстрируемым на многочисленных выставках, посвящённых венецианской жизни XVI века. Любят процитировать указ Сената, запрещавший продажным женщинам рядиться в мужскую одежду, «дабы не вызывать сладострастия»: указ примечательный, свидетельствующий о том, что трансвестизм был характерной приметой венецианской жизни – помянем великих реформаторов социального образа женственности, Жорж Санд, Грету Гарбо и Марлен Дитрих, наследовавших венецианкам (героиням «Венецианского купца», Порции и Нериссе, в частности). Дюрер, иллюстрируя Апокалипсис, «жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» изобразил в виде очень элегантной венецианки – видно, что женщины Венеции его поразили на всю жизнь. Законная дюреровская жена, как мы знаем по его же рисункам, была толста, флегматична и малоинтересна, поэтому он старался всё время держаться подальше от родного и любимого Нюрнберга. Проблема жены досаждала не одному Дюреру, но и множеству его соотечественников, богатым купцам и благородным дворянам, ценившим Венецию за многое, в том числе и за наличие рынка высококачественной красоты. О власти куртизанок и их могуществе свидетельствуют и указы, запрещавшие им то одно, то другое; например, носить жемчуг, символ чистоты, приличествующий только патрицианкам. Об этом ограничении тоже любят рассуждать историки, особенно историки искусств, которые, пишут ли они о «Венере Урбинской» Тициана или о его La Bella, «Красавице», из Галереи Палатина во Флоренции (есть предположение, что изображённая – любовница убитого Лоренцаччо Елена Бароцци), о «Лауре» Джорджоне или его же «Юдифи», о портретах и аллегориях Лотто, красавицах, голых, полуголых и одетых Пальмы Веккио и множества других венецианских художников – то есть о венецианской живописи чинквеченто вообще, потому что венецианская живопись чинквеченто есть изображение женщин par excellence, всё время задаются вопросом, весьма корректно сформулированном в заглавии одной из искусствоведческих статей, написанной Эльфридой Кнауэр:
Portrait of a Lady?
Some Reflections on Images of Prostitutes from the Later Fifteenth Century,
что я перевёл бы как:
Это ещё что за леди?
Размышления над имиджевой политикой проституток
с позднего пятнадцатого века.
Статья Кнауэр посвящена полуфигурному «Женскому портрету» из Музея искусств в Филадельфии, приписываему отличному, но не слишком известному художнику Джакометто Венециано, прекраснейшему портретисту. Картина датируется где-то 1490-ми годами и схожа с небольшими портретами Антонелло да Мессина, который погружал очень тщательно, до иллюзорности, выписанное лицо изображённого в глухоту абсолютно чёрного фона. Лица с произведений Антонелло полны живости чуть ли не сиюминутной, но выступают они из прямо-таки космической пустоты; художник полностью отказывается от какой-либо побочной информации, от деталей, способных намекнуть на статус, заслуги, характер и склонности изображённого. Сочетание поразительное, сообщающее портретам Антонелло вневременность участников поздних Диалогов Платона, хотя о Платоне Антонелло скорее всего и не думал. А вот о чём он думал? Это до сих пор остаётся такой же загадкой для всех, об Антонелло пишущих, как и имена его моделей. К типу портретов Антонелло восходит и портрет Джакометто Венециано, являясь талантливой вариацией гениально заданной темы.
«Женский портрет» столь же скуп на детали, как и мужские портреты Антонелло – а у Антонелло изображены чуть ли не одни мужчины, так что творение Джакометто, примыкающее к подобному типу, являет ещё и некую гендерную проблему. Что за интеллектуалка пожелала быть так строго и так эффектно представленной? Одежда её более чем скромна, это простое гладкое чёрное платье со шнуровкой на груди, позволяющей разглядеть белизну нижней сорочки. Платье, приличное до убогости, украшено широким и неглубоким овальным вырезом, оно похоже на униформу и на то, как одеваются сицилийские вдовы (а также интеллигенция и современная богема). О женственности говорит лишь одна деталь – голова женщины повязана желтоватым полупрозрачным шарфом так плотно, словно она, на кухне хлопоча с обедом, волосы под него убрала, но конец шарфа, непомерно длинный, спускаясь на плечи и обвивая их сзади, спереди не без кокетства засунут за корсаж. На обороте картины присутствует латинская надпись, которая, как установлено, является цитатой латинского перевода греческой эпиграммы, передающей якобы эпитафию ассирийского царя Сарданапала, гласящую «Ублажай душу удовольствиями, ибо после смерти наслаждения нет» – эзотеризм надписи свидетельствует о недюжинной образованности то ли заказчика, то ли модели; под надписью, дизайнерски стильной, изображена веточка дикой земляники с листочками и ягодками. Земляника – символ наслаждений, причём чаще всего чистых и невинных, – её полно в horti conclusi, «закрытых садах» Девы Марии, но полно не только в них: земляника росла и в садах, где царила Luxuria, Сладострастие. На драгоценном платке Дездемоны, принёсшим ей смерть, кстати, были вышиты именно земляничные листья, цветы и ягоды.
Внешность земляничной Дездемоны обыденна, как и её наряд: мясистые щёки, небольшие глаза, острый нос, губки бантиком – не лишённая приятности ординарность. Дама, призывающая ублажаться, столь подчёркнуто заурядна, что прямо-таки и притягивает; во всяком случае, на невероятно изысканной выставке Virtue and Beauty: Ginevra di Benci and Renaissance Portraits of Women, «Добродетель и красота: Джиневра ди Бенчи и ренессансные женские портреты», состоявшейся в Вашингтоне в 2001 году и посвящённой прославленной красавице Леонардо, героиня Джакометто, сильно отличаясь от остальных ренессансных знаменитостей, собранных кураторами, манила таинственной простотой, намекающей на внутреннюю сложность. Кураторы, включившие портрет Джакометто в круг Джиневры ди Бенчи, в добродетелях изображённой не сомневались, и – в силу внешней непрезентабельности её мясистого лица – всячески налегали на предполагаемую образованность. То есть гадали, каков же социальный статус незнакомки, прямо как на бале-экзамене Элизы Дулиттл из «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Посовещавшись, решили наконец, что незнакомка принадлежит к избранному кругу ренессансных гуманистов и наверняка имеет высшее образование; поэтесса, наверное, какая-нибудь.
Через год после выставки появилась Эльфрида Кнауэр, выступившая экспертом по вопросу «леди или блядь?». Она в своей статье убедительно доказала, что появившаяся на вашингтонском party Джиневры ди Бенчи джакометтовская скромница самая настоящая проститутка-профи. Главным – и неоспоримым – доказательством профессии земляничной Дездемоны является жёлтый шарф, что она на себя нацепила, потому что жёлтые, именно жёлтые и только жёлтые – белые, например, были категорически им запрещены, – шарфы обязаны были носить все проститутки Венеции. Жёлтый цвет, предписанный евреям, со средневековья был в Венеции табуирован, был цветом изгоев и девиантов, так что ни одна уважаемая женщина ничего жёлтого на себя надеть не могла: вот вам Giallo a Venezia. Русским особое свойство жёлтого цвета знакомо по жёлтым дому и билету – уже только из классической литературы. Шарф интеллектуалки Джакометто, как и жёлтый билет, указывает на легальное разрешение заниматься проституцией. На Сонечку Мармеладову венецианка кватроченто не похожа, скорее к ней подходит: «высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет»… «Была же Лизавета мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту замечательно высокого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя чистоплотно. Главное же… было то, что Лизавета поминутно была беременна…» – образы блаженной сестры процентщицы и святой Сонечки после прочтения Portrait of a Lady? Some Reflections on Images of Prostitutes from the Later Fifteenth Century слились для меня воедино в загадочной венецианской женщине кватроченто с лицом неинтересным и не слишком молодым, эффектно выступающим из черноты космоса.
Эльфриду Кнауэр интересует-то, конечно, весьма жёлтый вопрос «леди или блядь?», но он погружён автором в великолепный рассол рассуждений о трансформации образа венецианской куртизанки от подчёркнуто скромной нескладной девки Джакометто до гордой Тициановой La Bella, выряженной и роскошно, и броско, и элегантно – сочетание чрезвычайно редкое и свидетельствующее о недюжинном вкусе и больших средствах. В порядочности (внешней) La Bella также никто не сомневался, и в качестве кандидатур на почётное место модели этого портрета, кроме упоминавшейся Елены Бароцци, первой красавицы Венеции, хотя и бывшей официальной любовницей Лоренцаччо, но проституткой никак не считавшейся, предлагались такие дамы, как Изабелла д’Эсте, маркиза Мантуанская, и Элеонора Гонзага, герцогиня Урбинская, а не риальтовские бляди, что мне приснились – вы же помните, мне сон снится – свесившимися из окон высоких домов на подступах к району Сан Марко. Эльфрида, разглядев у La Bella тончайший и даже и не то чтобы жёлтый, а золотистый шарф, спускающийся с её правого плеча (как у Джакометтовой бабы, которую, с La Bella сравнивая, никак иначе кроме как баба и не назовёшь), тут же Красавицу на чистую воду вывела, поведав нам всю правду о её поведении, а заодно и сообщив о том, что в конце XV века, как и в Средние века, в Венеции проститутки были угнетаемы и подавляемы, Бога боялись и своё место знали, но где-то к 1510 году они разгулялись и распоясались, причём в буквальном смысле слова – расшнуровали стянутые чёрными платьями груди и вывалили их из декольте и рубашек, как это на картинах Джорджоне, Тициана, Пальмы Веккио и множества других больших и малых художников и изображено и как мне пригрезилось на Салита Пио X. На выставленных плечах и вываленных грудях венецианская живописность и расцвела, отмечая новый период в развитии Светлейшей республики, ставшей, по мере роста её богатства, менее чопорной. Всё более и более удаляясь от «образа мира и безмятежности», явленного миру Беллини и Карпаччо и у Джорджоне всё ещё наблюдающегося, искусство эволюционировало к мятежной сексуальности позднего Тициана, как нам о том верно докладывает статья Эльфриды. Венецианские шедевры XVI века с портретами красавиц-куртизанок не только говорят о развитии сексуальной свободы в республике, но заодно маркируют и новый период – этого уж у Эльфриды нет, от себя добавляю – в развитии европейского гендерного вопроса, ибо без венецианской живописности проблема гендера ещё долго бы барахталась в грязи ханжеской изобразительной недоговорённости. Только благодаря венецианцам появились на свет Венера Веласкеса, Маха Гойи и Олимпия Мане, потому что флорентинцы и римляне были зациклены на рисунке и мужественности и, несмотря на то что и у них красавиц было хоть отбавляй, голого Давида ценили превыше голой Венеры, женской наготе и женственности уделяя не слишком много внимания, прямо как в Греции до Праксителя, первым представившим – не без влияния гетеры Фрины, образца для подражания всех венецианских cortigiane oneste – богиню любви голой, что тогда, в древних Афинах, было более скандально, чем появление «Олимпии» Мане в Парижском салоне 1865 года.
Статья Эльфриды Кнауэр, несмотря на всю свою несомненную глубину и захватывающую учёность, хотя и много про «Женский портрет» сплетничает, но окончательно мне ничего не объясняет, а будит массу вопросов. Я всё же считаю свою Дездемону-Лизавету загадкой. Вообще-то, по типу портрет Джакометто похож на портрет Катерины Корнер, Кипрской королевы, работы Джентиле Беллини, который в свою очередь также восходит к портретам Антонелло на чёрном фоне. Заказ портрета Джакометто был немногим дешевле, чем заказ Джентиле. Хорошо, проститутка, но, скажите на милость, откуда у проститутки, вынужденной носить жёлтый шарф, появилась возможность быть изображённой художником Джакометто, отнюдь не последним художником Венеции? Ведь то, что она изображена на столь знатном портрете, тут же естественным образом ставит её в ряд окружения Джиневры ди Бенчи, и кураторы вашингтонской выставки, её туда пригласившие в качестве femme du monde, были правы – не каждой Сонечке Мармеладовой подворачивается возможность так отметиться в вечности. Не похоже, чтобы это портрет предназначался для заказчика, пытающегося расшевелить свою чувственность изображением – чувственности нет никакой, и трудно представить, что такая серьёзная женщина входила в какую-нибудь «галерею красавиц», заказанных кем-то из бонвиванов кватроченто. О таких галереях нам известно из рассказов летописцев. Портрет явно памятный, коммеративный. Но какая Сонечка, пойдя в фотоателье Левицкого, стала бы размахивать своим жёлтым билетом? Разве что её бы заставили тем или иным способом, деньгами, угрозами или шантажом; так что же за история скрывается за этим портретом, уже на протяжении пяти столетий заставляющим женщину весьма скромного вида сообщать всем и каждому о том, что она доступна? С La Bella как раз всё яснее, такой портрет – наглая самореклама, и изображённой есть что рекламировать. Предположим, что работа Джакометто – это портрет неофициальной любовницы и заказал его любящий, который полюбил так, что внешность любимой ему была уж и не важна, ибо для него любимая была прекрасна в том виде, в каком была – зачем же он на неё позорный шарф нацепил? В конце концов, белые шарфы носить проституткам запрещали (они, кстати, всё равно их носили), но никакого запрета на изображение без жёлтого шарфа не было – ведь женщина явно изображена в минуту не рабочую, так зачем же ей (или её покровителю) так заострять внимание на профессиональной принадлежности?
От вопросов затылок ломит, всё с венцианскими куртизанками – как и всегда со всем венецианским – непросто, и Эльфрида мне ничего не прояснила, только запутала, и тут, как во сне бывает, вокруг меня вдруг всё переменилось, всё – другое, и вот уж я стою не на мосту Риальто, под надписью ultimo sogno, «последний сон», а нахожусь на открытой роскошной террасе с наборным полом из цветных мраморов, окружённой балюстрадой из стройных и узких колонночек, готично-ионических, страшно венецианских, с вызолоченными эхинами и базами. Напротив меня сидят две дамы, схожие с теми, что выложили свои взгляды и бюсты на ковры, свисающие из окон домов Риальто, и обе выпукло на меня уставились из-под густо начёсанных на лоб мелким бесом завитых чёлок. Уставились и молчат. Вокруг много птиц, рассевшихся на перилах и бродящих по наборным полам: горлицы, попугай и фазанистый павлин. Птицы предполагают гвалт и экскременты, триллерный курятник фильма Хичкока и ужас «птичьего гриппа» – в птичьих стаях, как в стайках женственных красавиц, всегда чувствуется некая скрытая угроза, Хичкок – не я – это подметил. Ещё на террасе находится пажёнок, то ли мальчишка с внешностью карлика, то ли карлик с внешностью мальчишки, а чуть ли не на середине террасы поставлены дорогущие, manolo blahnik, красные босоножки на невероятной платформе. На туфлях внимание заостряется – sex and the city; такие специфически венецианские туфли имеют специальное название, calcagnini, кальканьини, и уродская, как уродливо всё, что слишком стильно, пара туфель гармонирует с фигурой пажа-карлика, рядом с обувью – паж и туфли, приметы модного быта, – и поставленного. Вокруг женщины, что постарше, крутятся две собаки: одна, большая, довольно зубаста, а вторая – белая гладкошёрстая моська-мопс. Старшая смотрит на меня особо заинтересованно, как бы даже оценивающе; молодая абсолютно безразлична к тому, что видит, – то есть ко мне. Обе женщины одеты просто класс, в платья типа татьянка, от высокого узкого и облегающего лифа широкими складками сбегающими на землю и полностью закрывающими ноги, обутые – я не вижу, но могу об этом догадаться по форме складок платьев внизу – в manolo blahnik, подобные тем, что на полу валяются. Платформа сделает обеих, когда они подымутся, просто гигантшами, чуть ли не с меня ростом – я 1,91 м, – и величественности в них хоть отбавляй. Жемчуга много, на шеях, на лифах; сидят дамы несколько истуканно, молодая сжала в руке роковой дездемоничий платок, без вышивки правда, белый, а старая сунула прут в зубы оскалившейся собаки, чтобы чем-то заняться. Две фаянсовые вазы поставлены на балюстраду, и они, как и всё на террасе, роскошные, дизайнерские; вазы служат цветочными горшками – из одной торчит лилия, из другой – миртовое дерево, этакий бонсай, и, подняв глаза к аромату лилий, я вижу за балюстрадой ширь лагуны, и водную гладь, и венецианское небо, в воду глядящееся. Лагуна покрыта лодками, полными молодыми охотниками, стреляющими из луков водоплавающих птиц – опять птичий гвалт и Хичкок. Охотники благородны и элегантно просты, их обслуживают гребцы, одеждой мало чем отличающиеся от охотников, и двое из гребцов – чёрные афровенецианцы. Пейзаж завораживает, и, хотя охота несколько похожа на бойню – охотники птицу бьют, а не стреляют, – он безмятежен и успокоителен, как хорошее лекарство. Я снова опускаю глаза от лилии, возвращая взгляд на террасу, где оскаленные зубы собаки и молчаливо значительные лица женщин, и тревожное предчувствие вопроса и какого-то решения пронизывает меня, я вглядываюсь в женщин внимательней – и вижу, что платье той, что в зрелости, имеет цвет глубокого бордо, а той, что в расцвете, – жёлтое, лёгкого золотистого оттенка, как шарф La Bella, и, содрогнувшись, в холодном поту, вспомнив Эльфриду, я просыпаюсь, потому что,
как вы поняли, я описываю картину Витторе Карпаччо из Музео Коррер, называемую теперь «Две венецианские дамы». Джон Рёскин, объявив эту картину самым прекрасным произведением живописи в мире, ввёл её в моду, и со времён прерафаэлитов она из моды не выходит – все двух дам Карпаччо обожают. Рёскин назвал изображённых Карпаччо дам двумя куртизанками. Английский эстет явно пережил во время встречи с ними то же ощущение двусмысленной тревожности, что пережил и я, и, не очень поняв, что там у этих женщин происходит, решил списать его на счёт куртизаничьего мифа Венеции. У Рёскина, сына викторианской Англии, отношения с сексом были переусложнены, он секса откровенно боялся, поэтому подчёркнутая открытость взглядов и платьев двух венецианок тут же заставила английского джентльмена – а именно это он и сделал, не надо мне мозги пудрить эвфемизмами, – венецианок блядями обозвать, чтобы как-то свою тревогу утихомирить: часто мы, вдруг вспомнив что-то постыдное и нас изнутри гложущее, в чём мы сами же и виноваты, начинаем неожиданно для самих себя сквернословить. Название «Две куртизанки» к картине прилипло и сопровождало её всю первую половину XX века – я сам познакомился с этими дамами в первый раз тогда, когда их все за проституток держали. В 70-е же годы целый выводок искусствоведов взялся за реабилитацию репутации обеих, и оказалось, что никакие это не проститутки, клиентов ждущие, а наиприличнейшие дамы и та, что помоложе, вообще – новобрачная. В ход пошли различные иконографические рассуждения, в которых играла роль каждая деталь – от жемчугов на шее до апельсина, – а это, хоть и не флёр д’оранж, цветок невесты, но намёк на него – лежащего на балюстраде рядом с молодухой. Особенно большую роль сыграло то, что в Музее Поля Гетти в Малибу появился пейзаж Карпаччо, названный «Охота в лагуне». В этой картине внимание привлекало следующее: на первом плане видна крупная ветка белой лилии с двумя цветами и бутоном, непонятно откуда взявшаяся. Искусствоведам пришло в голову сложить вместе картину из Малибу и картину из Венеции, и лилия на фоне пейзажа тютелька в тютельку срослась с горшком, стоящим на террасе. Стало очевидным, что «Две куртизанки» и «Охота в лагуне» являют собой единое целое, причём это целое – одна из частей диптиха, когда-то служившего для украшения чего-то, возможно даже и мебели. Вторая часть диптиха безвозвратно утрачена, мы никогда не узнаем, на что обе венецианки смотрят, – я на утраченной части располагаю себя и Рёскина. Рёскин «Охоты в лагуне» не видел, не видел и лилии – символа чистоты небесной, а теперь, всё это раскопав и рассмотрев, что на дизайнерской вазе наличествует герб весьма уважаемого венецианского семейства Торелла, искусствоведы выдвинули предположение, что обе дамы из дома Торелла и происходят. Версия всем приглянулась, и Карпаччиевы героини, проделав курбет, схожий с тем, что сделала леди Джакометто, но с результатом ровно наоборот, из проституток превратились в суперпорядочных женщин. Порядочность «Двух венецианских дам» никто оспаривать теперь не рискнёт, и представляете мой ужас, когда я вдруг, науськанный Эльфридой, которая, кстати, про Карпаччиевых женщин ни гугу, обнаружил, что на одной из них жёлтое платье?
Опять всё летит к чёрту, всё мироустройство. Ведь Эльфрида меня убедила, что патрицианка никогда бы не надела на себя жёлтое – цвет блядей и жидовок, – и я ей поверил, и даже обрадовался, потому что с детства в меня засела фраза из бальзаковского романа, сообщавшая про некую светскую даму, что для неё сделать то-то и то-то было столь же непредставимо, как надеть жёлтое платье. Отвращение к жёлтому мне было внятно, но неясно. Казалось, что Эльфрида всё разъяснила, а теперь…
…а теперь я увидел, что пробуждение моё было ложным, что проснулся я во сне, и сон снова опустился, и вот снова я на террасе с дамами, и уже не искусствоведы, а Шекспиров Яго мне объясняет следующее:
Остерегитесь! Я знаю хорошо родные нравы: В Венеции не от небес таятся, А от мужей; там совесть ублажают Не воздержаньем, а неразглашеньем… —воспроизводя мнение большинства о венецианках, сложившееся в Европе ко времени появления Яго на свет – то есть около 1600 года. Мнение большинства всегда, конечно, гадость, но, очень чётко сформулированное Яго, оно объясняет картину Карпаччо лучше, чем все тончайшие искусствоведческие исследования, которые я столь старательно штудировал и которые вообще-то – давайте, правда, обойдёмся без ханжеских эвфемизмов – сводятся к рассуждениям «блядь или не блядь?», совсем в духе «Московского комсомольца». Такая постановка вопроса убога, мягко говоря, ибо в жизни всё сложнее и есть в ней и леди-бляди (леди Гамильтон), и бляди-леди (Леди Гага), а искусство ещё сложнее, чем жизнь, не говоря уж об искусстве венецианском. Нет, дорогие мои, никакие рассуждения на тему определения рода занятий, сколь бы они ни были увлекательны, не объяснят нам ни одну венецианскую картину – не объяснят ни великолепия дам Карпаччо, ни подчёркнутую заурядность дамы Джакометто. Яго – очень умный подлец, и, хотя слова его омерзительны, потому что преследуют подлое «Если ханжеский и хрупкий обет, связующий бродягу-варвара и хитроумнейшую венецианку, не слишком твердое препятствие для моей изобретательности и всех адских полчищ, ты ею насладишься», говорит он дело – то есть о том, что в Венеции свобода нравов достигла той степени, что нарушению брачных уз в ней придаётся не так уж и много значения. Судебные разбирательства по поводу uxoricidio d’onore, «женоубийства ради чести», как называется закон, наделяющий мужа правом убить жену, отца – дочь, а братьев – сестру вместе с любовником своей прямой (прямой обязательно!) родственницы, если они застигнуты на месте преступления, в Венеции, в отличие от остальной Италии, были редки. Некогда было деловым венецианцам заниматься такими глупостями. Формулировка Яго «ханжеский и хрупкий обет» – разве это не заявка на трагедии великой литературы XIX века? Эмма Бовари с Анной Карениной жизни отдали за то, чтобы слова Яго восприняли не как богохульство, а как постановку проблемы. Манеры и поведение венецианских дам определили притягательную двойственность венецианских poesie, их, чёрт побери, «таинственную прелесть», то есть древнеславянского «прѣльстити», а заодно и подготовили свободу нравов, без которой современное общество немыслимо – что и испугало викторианца Рёскина, тут же поспешившего наделить карпаччиевских женщин жёлтым билетом, поскольку, с его, викторианской, точки зрения, женщина порядочная так одеваться, а главное, так смотреть, таким смелым и выразительно-безразличным взглядом, на мужчину, то есть на него, Рёскина, не имеет права.
Церковь деи Санти Апостоли
Проблема cortigiane di lume и cortigiane oneste – социальное явление. Как социалка cortigiane di lume – жертвы полиции нравов и материалы сухой истории, а cortigiane oneste – показатель статуса. Венецианская продажная любовь также пища искусства и повод для романтическо-жёлтых спекуляций, но всякие рассуждения who is who в связи с изображениями венецианок не столь уж и важны по отдельности, важно то, что в XVI веке венецианская живопись отпечатала в сознании человечества образ куртизанки, то есть личности, чьё поведение нарушает норму, с той же ясностью, с какой в нём отпечатались две фигуры великих представителей меньшинств, опять же связанных с Венецией, еврея и негра – венецианская Куртизанка подобна Шейлоку и Отелло. Факт существования куртизанки, явленный миру искусством, поставил перед обществом и человечеством крупную проблему свободы женского поведения – причём крупную в буквальном смысле слова: куртизанки взгромоздились на calcagnini, возвышаясь даже над самыми рослыми мужчинами, так что великолепие, величественность и величина слились в них в нечто нераздельное. Не важно, кто первый на котурны calcagnini влез, жёлтобилетницы или нет, но уже в XVI веке различие во внешности женщин «продажных» и женщин «порядочных» стало зыбким, всё более и более размываясь, как и границы между «порочностью» и «свободой». Хор наших современников, учёных мужчин и женщин, гадающих на тему «блядь или не блядь», – одно из доказательств венецианской зыбкости, двойственности и двусмысленности, но дело не в продажности, а в освобождении. Подробности иконографического быта, конечно, интересны, но главнее всего то, что красавицы с венецианских картин стали первыми деятельницами сексуальной революции, без которой теперь европейская цивилизация и не европейская, и не цивилизация. То, что первый революционный выстрел, этакий залп «Авроры», был произведён обнажёнными грудями двусмысленных прелестниц Джорджоне и Тициана, показывает особость Венеции, всегда опережавшей Европу во всём, даже и в закате, ибо Венеция в 1797 году на сто лет опередила Шпенглеров Der Untergang des Abendlandes, «Закат Европы». Так что Венеция, дорогой читатель, никакой не город прошлого – Венеция город будущего, и в Венецию надо ехать будущее изучать, а не рыдать над прошлым – вот что я понял после того, как оказался на венецианской террасе vis-à-vis с карпаччиевскими дамами. Подоспевший Яго объяснил мне, со своей точки зрения, ту тревожность, что от собак, красавиц, горлиц и брошенных на середине террасы manolo blahnik исходит, и, когда я подошёл к краю террасы за спинами обеих женщин, продолжавших глядеть в противоположную сторону, я увидел утренний рынок Риальто таким, каким он описан Казановой, то есть заполненным мужчинами и женщинами, чьи «наряды в беспорядке, и кажется, что в этом месте женщинам непременно надобно показаться с изъянами в убранстве – они как будто хотят, чтобы всякий встречный обратил на это внимание», – и панорама рынка Риальто с бродящими по нему светскими персонажами XVIII века удивительным образом была схожа с современным Манхэттеном времени Sex and the City. Спины дам Карпаччо оберегали тишину.
Церковь ди Санта Мария деи Мираколи
Ну что ж, вот и утро наступило. Уж вроде как и окончательно пробудившись, я, наконец, вступил на Салита Пио X и обнаружил, что как сомнамбула двигаюсь по пути, которым шествовал похоронный кортеж Катерины Корнер, переходивший по Понте ди Риальто – тогда ещё деревянному – с берега правого на берег левый к месту её упокоения. В предыдущей главе о Риальто я так много времени с этой дамой провёл, что мой ultimo sogno оказался Катериной и определён. Эта женщина – Das Ewig Weibliche, Вечная Женственность Венеции, и толстомясая filia addotiva, признанная республикой официальной героиней, своей женской судьбой авантюристки-сексотки официально узаконила женственность в Венеции. Ведь, в сущности, за неё, Венецией в постель Бастарду подсунутой, республика получила самую дорогую плату, какую когда-либо кто-либо за куртизанок платил, – остров Кипр. Катерина ещё при жизни стала фигурой мифологической, притягивая взгляды художников, уж представляющих её как бы наподобие Мадонны Милосердия, Madonna della Misericordia, закрывающей своим плащом теснящихся вокруг неё спасённых. Теперь каждую женщину в Венеции осеняет слава Катерины, и хитроумие венецианок, о котором говорит Яго, становится не недостатком, а достоинством, тем самым не только романтизируя и оправдывая куртизанок, но придавая их деятельности особый аромат благородства и чуть ли не героизма. Как и полагается мифу, расцвёл он после смерти Катерины, реальная и живая она всё немножко портила, поэтому, вернувшись в Венецию с Кипра, она и отсиживалась на своей вилле в Азоло. Тем не менее подчёркнуто почтительное отношение Сената к экс-королеве – а ведь она была чем-то вроде cortigiana onesta, никто так не формулировал, но все это чувствовали – означало и уважение венецианки вообще, Венецианки с большой буквы. Das Ewig Weibliche Zieht Uns Hinan, «Вечная Женственность, тянет нас к ней», и Катерина возглавила, можно сказать, тот сексуальный переворот, что произошёл в венецианской живописи около 1500 года и привёл скромную жёлтобилетницу Джакометто к раскованности La Bella Тициана. Недаром дамы на картине из Музео Коррер, названной Рёскиным величайшей в мире, близки Катерине и типом, и манерой одеваться, ведь Карпаччо создал своё произведение чуть ли не одновременно с портретом Катерины Корнер работы Джентиле Беллини – только дамы на террасе, несомненно, прекрасней, как всё воображаемое. Рассказы о торжественности похоронной процессии Катерины, собравшей столько народу, что параллельно мосту Риальто был ещё воздвигнут и временный мост из лодок, но всё равно люди толклись и в воду падали, – это торжество мифа над реальностью. В гроб положили пожилую, отдышливую женщину, а вышла из гроба прельстительная и мятежная венецианская красавица.
Упокоилась Катерина в церкви деи Санти Апостоли, и в неё-то, в её замечательный ренессансный интерьер с колоннами, покрытыми орнаментом, я и направлялся. Зашёл, и тут же устремился в капеллу Корнер, La cappella Corner ai Santi Apostoli, но Катерины там не было. Зато была прекрасная святая Лючия на картине Тьеполо «Причастие святой Лючии». Тьеполовский алтарный образ – несравненный образчик венецианского декаданса, и Лючия, измождённая, бледная, с глазами, прикрытыми слегка дрожащими полными веками, просто воплощение венецианского упадка-падения, и вскорости Венеция, на всё согласная и ко всему безразличная, также опустится перед Наполеоном на колени с полуоткрытым ртом и закрытыми глазами, готовая принять – евхаристию в данном случае. Лючия, как все женщины Тьеполо, очень хорошо одета, но роскошный наряд её в беспорядке, как будто она специально хочет обратить на это внимание зрителей, прямо как утренние красавицы, описанные Казановой на рынке Риальто, и
– в ужасе я это заметил –
она обряжена в жёлтое платье, и вся картина страшно жёлтая, просто giallo, как будто гепатитом C заражённая и Дарио Ардженто срежессированная – на самом краю картины лежит тарелочка с выложенными на ней выковырянными глазами, принадлежащими святой, и длинный острый четырёхгранный кинжал, коим глаза и ковырялись. Бледность христианской мученицы вдруг стала пугающе влекущей. Giallo a Venezia: кокаинистка или героинщица? Как Лючию, в свете всего, что Эльфридой было сказано, угораздило жёлтое надеть? Намёк на то, что её, как гласит легенда, целое стадо быков в публичный дом тащило? И тут же я вспомнил, что и на картинах Лотто святая Лючия всегда в жёлтом, лимонно-жёлтом – значит, это не ошибка Тьеполо, в своём декадансе все значения – было бы лишь красиво – перепутавшим, и мне совсем поплохело, я заметался, как больной в своей постели беспокойной, и выскочил наружу, но отправился не в церковь ди Сан Сальвадор, chiesa di San Salvador, Спасителя, что в сестиере Сан Марко, куда тело Катерины было перенесено в конце XVI века и где наследники отгрохали ей специальную, роскошную гробницу Корнеров – Санти Апостоли-то находятся в самом начале Страда Нова, Strada Nuova, Новой Дороги, как называется улица, специально пробитая в конце XIX века в путанице средневековой застройки, чтобы прямо от вокзала направлять туриста на Пьяцца Сан Марко, но относятся к Каннареджо, – а в церковь ди Санта Мария деи Мираколи, chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Святой Марии Чудес, находящейся в двух шагах от Санти Апостоли и также принадлежащей Каннареджо. Тело Катерины Корнер было перенесено в церковь ди Сан Сальвадор, но душа её перелетела в Санта Мария деи Мираколи.
Церковь ди Санта Мария деи Мираколи столь же прекрасна, как и картина Карпаччо. Назвал бы я её, вслед за Рёскиным, самым прекрасным зданием в мире? Пожалуй, что да, особенно сейчас, когда я в неё вхожу. Нет, конечно, это не гениальная архитектура, есть много зданий более совершенных, более выразительных, более гармоничных, более великих, но когда вы попадаете в ди Санта Мария деи Мираколи, то чудо происходит с вами, вы попадаете – подобно тому, что Мисс описал в Sleep in Venice, – в особый венецианский сон, в котором спящий и снящийся сливаются воедино и нет разницы между сном и явью. Вокруг – изысканная блеклость разноцветья: на стенах, выложенных цветными камнями, каждая прожилка мрамора пульсирует легко и нежно, как кровь в виске спящей Венеры Джорджоне, прикрытом кудрями. Архитекторы церкви – всё то же семейство Ломбардо, что создало всё лучшее в Венеции конца XV века: Пьетро Ломбардо с двумя сыновьями, Туллио и Антонио. Они все были также замечательными скульпторами. Закончена церковь была около 1489 года, то есть она – ровесница «Двух дам» Карпаччо, для которых – и в соответствии с их вкусами – эта архитектура и создавалась. Затем XVI век внёс некоторые дополнения, но в основном интерьер дошёл до нас без изменений, и если хочешь что-то понять про венецианские poesie, про спящих в Венеции, про античные мифы и ренессансные наклонности, то в Санта Мария деи Мираколи побывать необходимо, причём не только зайти и пару раз ахнуть и зевнуть, а почувствовать то, как тихо и нежно дышат её камни, как узор их изменчив и непостоянен – ведь каждый венецианский сон оставляет новый след на стенах. Церковь Санта Мария деи Мираколи – Ловушка Снов, и, может быть, это ловушка снов не только венецианских, но и снов всего мира. Приснившийся мне ultimo sogno тоже здесь отметился, он изменил форму одной из трещинок в голубоватом пучке переплетающихся жил мрамора стен. Мой сон был так тесно связан с явленной мне при входе в сестиере Сан Марко надписью на одном из домов, что потом, уже в состоянии бодрствования, я выяснил из справочников, что она значит: означала она лишь то, что в этом доме умер писатель Джачинто Галлина. Это – заинтересованный, я даже его почитал – довольно-таки хорошо, но несколько занудно пользующийся венецианским диалектом литератор-комедиограф, типичный итальянский либерал XIX столетия, буржуа, не чуждый склонности к либеральному обличению, но в определённых в рамках, типичный Сеттембрини из «Волшебной горы» Томаса Манна, даже усы схожи. Ничего в Джачинто Галлина нет примечательного, и имя его, если перевести на русский дословно, будет звучать так:
Гиацинт Курицын.
Ла вечиа дель мортер
Глава десятая Шапка Мономаха
Марцариа. – Церковь ди Сан Сальвадор. – Тициан и Платонова Пещера. – Венецианская Лубянка. – La vecia del morter. – Иерусалим, Град Божий. – Тицианово «Оплакивание». – Собор и Шапка Мономаха. – Скала Контарини дель Боволо. – Музео Коррер, Наполеон и Сисси. – Библиотека Марчиана. – Дуомо. – Тетрархи. – Палаццо Дукале. – I Piombi. – «Темницы» Пиранези. – E quindi uscimmo a riveder le stelle
До вмешательств XIX века в городскую застройку, результатом которых стало появление более-менее широких улиц, Страда Нова в том числе, главной улицей Венеции была улица, чьё имя по-венециански звучит как Марцариа, Marzaria, хотя путеводители исправляют диалектальную неправильность на Мерчериа, Merceria. Марцариа есть кратчайший путь от Понте ди Риальто к Пьяцца Сан Марко, и она, связывая Власть (Сан Марко) и Деньги (Риальто), исполняла роль главной государственной магистрали, роль, подобную той, что была отведена Невскому проспекту в Российской империи, а в советское – московской улице Горького. «Исполняла роль» – это я подчёркиваю, потому что всё же в Венеции есть главный проспект – Канале Гранде; но постольку, поскольку на венецианском проспекте вместо мостовой – вода, то, взяв на себя все представительские функции и став самой потрясающей, пышной и богатой городской магистралью в мире – ни на одной улице ни одной столицы мира нет такого сосредоточия архитектурной роскоши, – Канале Гранде, изначально отвергнувший идею набережной, то есть некоего прохода-проезда вдоль берега, всю «уличную» работу, а именно – хождение по тверди, взвалил на Марцариа. Ведь по Канале Гранде не пойдёшь, не пройдёшь и вдоль Канале, по нему можно лишь скользить в неустойчивой лодочке.
Слово merceria переводится как «галантерея», и Марцариа получила своё название от обилия лавок, её заполнявших. Марцариа – продолжение Понте ди Риальто. Название улицы всё о ней говорит: по прямой – а Марцариа почти прямая, что в Венеции большая редкость, – связывающей Власть и Деньги, туда-сюда сновали не только купцы, но и все важные персоны Венеции, будь то местные нобили или приезжие знаменитости. В Венеции и королю Генриху III приходилось передвигаться пешком. Заполнявшие Марцариа лавки были рассчитаны на Власть и Деньги, и товары в них были чуть ли не эксклюзив в Венеции. У улицы даже имя особое: Марцариа есть Марцариа, без всяких определений типа «калле», «салидзада» или «рио терра», как у других, – именно имя, а не название, и она одна такая во всём мире. Так как «Марцариа» вроде как и имя объекта, и сам объект, то одна большая Марцария делится на множество различных «марцарий», из которых главные – три: Марцариа ди Сан Сальвадор, Marzaria di San Salvador, Галантерея Святого Сальвадора, Марцариа ди Сан Дзулиан, Marzaria di San Zulian, Галантерея Святого Джулиана, и Марцариа делл’Оролоджио, Marzaria dell’Orologio, Галантерея Часов. Современные путеводители, в том числе и итальянские, в этом путаются и не только исправляют венецианизм, но время от времени к слову Merceria добавляют, для ясности, via, хотя это словечко совсем не венецианское и в старой венецианской топографии никогда не использовалось. Все «виа» в Венеции (их немного) появились во время перестроек города в Новое время.
Марцариа продолжает и сегодня хранить свою эксклюзивность: это – венецианская Виа Монте Наполеоне. Днём по Марцариям с трудом можно протолкнуться из-за густоты толпы, и изобилие магазинов, лавочек и лавчонок, заваленных пестротой, разум засасывает и глаза застит, так что мало кто от соблазнов Марцариа отрывается и заходит в церковь ди Сан Сальвадор, растянутую вдоль Марцариа ди Сан Сальвадор. Фасад церкви выходит на Кампо Сан Сальвадор, Campo San Salvador, но, несмотря на центральнейшее положение этой церкви и на влекущую роскошь её фасада, приставленного к ней архитектором Джузеппе Сарди в 1649 году, она мало посещаема и даже не входит в круг церквей, днём превращённых в музеи. Беломраморный фасад Сан Сальвадор – знатный образчик барочного палладианства (в Венеции такое было), однако церковь старая, историю свою начинает с 1177 года. Древнее здание было воздвигнуто в честь очередного примирения папы Александра III с императором Фридрихом Барбароссой (они ссорились и примирялись постоянно, как пылкие любовники), произошедшим в Венеции, так что важность события определила и важность церкви. Затем – именно из-за важности – церковь перестроили, и она, основанная в средневековье, интерьер имеет ренессансный, а фасад – барочный: чудная итальянская неразбериха. Интерьер церкви значительнее фасада, но не ради интерьера, над которым работали лучшие архитекторы венецианского Ренессанса (и Туллио Ломбардо, и Винченцо Скамоцци, создавшие чудо гармонии), я советую Сан Сальвадор посетить, и не из-за того, что именно в Сан Сальвадор таскаемый по городу из церкви в церковь прах Катерины Корнер наконец упокоился и до сих пор лежит, заключённый в гробницу, сотворённую в 1584 году стильным, но ничем особо не примечательным скульптором Бернардино Контино. Церковь ди Сан Сальвадор обладает изумительным сокровищем, двумя шедеврами позднего Тициана, «Благовещеньем» и «Преображением». Обе картины не слишком известны, так как до недавнего времени оставались нереставрированными и были темны, так что не пользовались популярностью ни у публики, ни у составителей альбомов о Тициане: смотреть и фотографировать неудобно. Церковь же обе картины практически не покидали, хотя сейчас, как раз когда я пишу эту книжку, «Благовещенье» находится в Москве, на выставке Тициана.
Описать «Благовещенье» и «Преображение» невозможно. Эти картины не изображения, а световая эманация и действуют они так, что когда на картины смотришь:
…то кажется, что наша человеческая природа уподоблена состоянию узников в пещере, ибо в том, что мы зовём реальностью, не видим мы ничего, кроме теней. Ведь с малых лет у нас на ногах и на шее оковы, и нам не двинуться с места, и видим мы то, что у нас прямо перед глазами, ибо повернуть голову не можем из-за этих оков. Мы обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, и когда кому-нибудь из нас удастся встать, повернуть шею, пройтись и взглянуть вверх, в сторону света, то мучительно ему выполнять всё это. Когда же кто станет насильно тащить нас по крутизне вверх, в гору, и не отпустит, пока не извлечет на солнечный свет, то будем мы страдать и возмущаться таким насилием, к тому же и бесполезным – ведь когда мы выйдем на свет, то глаза наши будут поражены сиянием, и мы не сможем ничего разглядеть. Ведь тут нужна привычка, и начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем – на отражения в воде и зеркале, а затем – смотреть живопись и сны: то, что на небе, и самое небо легче видеть ночью, а не днем, и в отражении, а не прямым зрением. Иначе и не различишь ни одного подлинного предмета. Ведь страх осознания того, что раньше мы видели пустяки, и лишь теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, обрели правильный взгляд, заставляет нас думать, будто гораздо больше правды в том, что мы видели раньше, чем в том, что нам показывают теперь…
Так, отталкиваясь от Платоновой Пещеры, я бы говорил о живописи позднего Тициана. Пещера в его живописи появилась в конце жизни; сначала были poesie. Тициан, определив свои картины именно этим словечком, чуть ли не первым в Венеции ввёл его в обиход. Во всяком случае, оно встречается в его переписке в 1550-е годы, посвящённой феррарскому заказу. На самом деле о живописных poesie говорили и раньше, и слово это лучше всего подходит для определения серии из трёх произведений Тициана, посвящённых Вакху и Венере, созданных для феррарского герцога Альфонсо д’Эсте: «Праздник Венеры», «Вакханалия» и «Встреча Вакха и Ариадны». Эти три картины, наряду с произведениями других знаменитостей, должны были украшать одну из комнат феррарского дворца, носившую название Алебастровой комнатки, Camerino d’alabastro. Написанные где-то между 1518 и 1526 годами, эти картины экстраординарны: нет, пожалуй, в мировой живописи больше произведений, столь полно раскрывающих светлую силу вакхического веселья Древней Греции. По сравнению с тициановскими композициями «Пир богов» Джованни Беллини, также написанный для герцога д’Эсте, – приличное похоронное застолье, вакханалии Джулио Романо рядом с ними выглядят слишком вычурно, вакханалии Рубенса – пресыщенно-устало, а Веласкесов «Вакх» душераздирающе драматичен, прямо пир нищих из «Виридианы» Бунюэля; остальные же вакханалии мировой живописи в сравнении картинами Camerino d’alabastro – просто пьянки. Poesie Тициана – апология дионисийства, светлая и красочная. То есть Тициан выступил достойным оппонентом пессимизма Ницше: Тицианово дионисийство, столь же необузданное и страстное, как и у немца, звучит, однако, не глухо и кроваво-коричнево, как у Ницше, а звонко, красно-сине. Тициановский Вакх-Дионис – бог не сумерек, но полудня.
Когда Тициан писал эти картины, он был полон сил – ему было около сорока. Увы, время меняет мир: годы идут, и с годами Апокалипсис личный, неумолимо надвигающийся, всё более сливается с Апокалипсисом всемирным. В 1562 году Тициан создаёт «Смерть Актеона», картину, которая свидетельствует не столько о том, что он разделил точку зрения Ницше на трагическое дионисийство античности, сколько о том, что он, в дионисийстве видевший свет, теперь в аполлонизме увидел тьму. Сестра бога Солнца, Диана, светлая девственная богиня, превращена в мрачное хтоническое божество и, выступая из хаоса и мрака, она, одержимая местью, воплощает в себе ужас изначального и бесформенного – тициановская трагедия смерти Адониса будет покруче любого Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Досталось от Тициана и Аполлону. Златоволосый бог разума и света в гениальном произведении «Наказание Марсия» из замка Кромержиж представлен садюгой с манерами: он, привстав на одно колено не без изящества, одной рукой орудует ножом, а второй снимает с живого тела кожу, как обёртку с подарка, – впечатление сцена производит устрашающее. Смысл изображения и отношение Тициана к Аполлону трактовали разнообразно: утверждали, что садистская забава Аполлона не что иное, как аллегория освобождения души из темницы тела, что изображено не мучение, а священнодействие и что Марсий, чертам которого Тициан придал автопортретность, не страдалец, а участник обряда, ну что-то вроде неофита масонской ложи, да и Аполлон не жестокая сволочь, а освободитель духа, – но надо быть совсем помешанным на отвлечённости и чистоте искусства, чтобы Марсию, пусть даже и олицетворяющему низменность земного, не посочувствовать. Тут ещё, внизу, маленькая собачка кровь лижет.
Церковь ди Сан Сальвадор
Впрочем, сочувствие сочувствием, но картина-то гениальна. «Наказание Марсия» – величайшее произведение живописи per se, живописи как субстанции, это произведение мощнее даже произведений позднего Рембрандта, величайшего гения краски. Если говорить о непосредственном эмоциональном воздействии на зрителя, то Тициан экспрессионистичней любого экспрессиониста: он изобразил сцену сдирания кожи с живого существа так, что зритель испытывает восторг и потрясение от того, как картина написана. Меня при встрече с «Наказанием Марсия», да и с поздним Тицианом вообще, всегда занимает один вопрос: как же это могли воспринимать современники? Ведь эта гениальная живопись современникам Тициана должна была казаться неуклюжей, тёмной, незаконченной – попросту уродливой, как казался уродлив поздний Рембрандт и как потом большинству современников казались уродливы ван Гог и Мунк. Как Тициану удалось избежать непонимания? А ему это удалось, никто слова против него не посмел сказать, причём не только при его жизни, но даже и в последующие века, совсем уж к подобного рода живописности невосприимчивые. Во времена неоклассицизма позднего Тициана тоже не особо жаловали, но ни один Энгр не позволил ругани в его адрес – в отличие от Рубенса или Рембрандта, которых неоклассики крыли почём зря. Венецианские знатоки установили культ Тициана, и это повлияло на всех: феномен признания живописи позднего Тициана – ещё одно доказательство того, что Венеция всегда на несколько шагов опережает Европу. «Наказание Марсия» не менее экстравагантно, чем Мунк и Кокошка, вызывавшие скандалы в Берлине и Вене во времена модерна, – но венецианцам бы они пришлись по вкусу. Что ж, надо признать, что в Венеции в конце XVI века эстетический уровень публики был сложнее и тоньше, то есть выше, чем в европейских столицах модерна, потому что по гамбургскому счёту и Мунк, и Кокошка всё же лишь очень талантливые эпигоны позднего Тициана. Никто из них, несмотря на всю их экстравагантность, не заходил так далеко, как Тициан, – не заставлял зрителя почувствовать себя маленькой собачкой, лижущей кровь, угодливо распустив перед искусством (Аполлоном) хвостик.
Поздние произведения Тициана – это уже не poesie, это εἶδος, «эйдос», что с древнегреческого обычно переводится как «вид», «облик» и «образ». Слова перевода явно неудовлетворительны. Эйдос означает конкретную явленность абстрактного – идею, обретшую телесность, что вроде бы и невообразимо, ибо как абстрактное может быть явлено конкретно? Лишь так, как у Тициана, и обе картины Тициана из церкви Сан Сальвадор, являя конкретность, относятся к области невообразимого, так что:
…когда, через некоторое время нам опять приходится спускаться в пещеру, где мы томились, мы, сев на то же самое место, где пребывали, чувствуем, как уход от света погружает глаза наши во мрак. Наконец, подготовленные живописью Тициана, мы, быть может, и в состоянии были бы смотреть уже на самое Солнце и воспринимать его свет и его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других, ему чуждых средах. Тогда уж, вспомнив своё прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, мы ощущаем блаженство от перемены своего положения и жалеем тех, кто остался во мраке, и понимаем, что восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, – это подъем к постижению заветной мысли – а уж Богу ведомо, верна ли она. В области видимого мысль порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого мысль сама – владычица, от которой зависят истина и разумение…
…есть два рода нарушения зрения, то есть по двум причинам: либо когда переходят из света в темноту, либо из темноты – на свет. То же самое происходит и с душой: это можно понять, видя, что душа находится в замешательстве и не способна что-либо разглядеть. Происходит это тогда, когда душа приходит из более светлой жизни и потому с непривычки омрачается или же, наоборот, перейдя от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием…
Покинув церковь Сан Сальвадор, я, как всякий, кто умеет соображать, всё это и вспомнил – и, выйдя наружу, после того, как на мысль воззрел, её почувствовал и через чувство уразумел, вдруг понял, что ослеп. Нет, конечно, я всё видел, видел, как Венецию окутала тьма ночи и в наступившей ночи особенно ярко сверкали витрины Марцариа, но теперь всё, охватываемое моим зрением, уже не скрывало то, что оно подобно тюремному жилищу, и свет сей – гламур и кич Марцариа – лишь жалкие отблески от костра, в тюремной пещере коптящего. Что ж, удивительно разве, что если кто-нибудь, перейдя от созерцания божественного к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным?
Нет ничего удивительного, решил я, и отправился на Пьяцца Сан Марко, но не дошёл до Торре д’Оролоджио, Torre d’Orologio, Часовой башни, а свернул в узкую улицу, бегущую позади здания Прокуратие Веккие (Веччие, на венецианский манер), Procuratie Vecchie (Veccie), Старых Прокураций. Последняя, самая узкая часть Марцариа, выходит на Пьяцца Сан Марко аккурат около Часовой Башни, и как раз перед впадением Марцарии в Пьяццу и находится соттопортего, отмеченный изображением старухи, угрожающей спустить ступку вам на голову. Это вход на улицу, необычную, как и её название – Соттопортего э Калле дель Капелло Неро, Sottoportego e Calle del Capello Nero, Проход и Улочка Чёрного Колпака. Название длинно, как и сама улочка, и влекущее таинственно. В названии объединены сразу и «калле», и «соттопортего», так как улочка во многих местах перекрыта переброшенными через неё переходами, соединяющими здания на противоположных сторонах, и похожа она не на улицу, а на коридор в коммунальной квартире фантастической булгаковской Москвы. И темна она, и сдавлена, и навален на улочке всякий ненужный хлам, вроде стопки столиков, отслуживших своё, из знаменитого кафе Quadri, Квадри, выходящего на Пьяцца Сан Марко, и вроде как и нет ничего на ней особенного, а обаяния в Улочке Чёрного Колпака бездна. Меня эта улица привлекает тем, что, семеня вдоль Пьяцца Сан Марко – а Улочка Чёрного Колпака именно семенит, быстро-быстро перебирая чередованием переброшенных через неё крытых переходов, – она являет нам изнанку власти. Как будто за сцену попадешь: обстановка за сценой всегда пропитана духом булгаковской коммунальной квартиры. На сцене, на Пьяцца Сан Марко, роскошь и великолепие декораций, и ежедневно разыгрываемое представление il più bel salotto d’Europa, а здесь облезло всё и засрано, никакой косметики, но здесь-то всё самое главное и происходит. На Пьяцце – толпа, здесь же никого нет, иногда разве что официант из Квадри выйдет выкурить сигарету. Я очень хорошо представляю, как переходы, переброшенные через Улочку Чёрного Колпака, держат на себе, подобно театральной машинерии, всю помпезность аркад Прокураций, спроектированных Скамоцци, роскошь собора Сан Марко, великолепие Палаццо Дукале и, напрягаясь, каждое Божье утро приводят жизнь площади в движение, запуская свет и музыку и держа Кампаниле перепендикулярно, не давая ей накрениться. Однажды, 14 июля 1902 года, что-то на Улочке Чёрного Колпака не заладилось, машинерия забарахлила и Кампаниле рухнула, вместо себя оставив аккуратную гору обломков.
Улочка Чёрного Колпака близка мне ещё и потому, что именно на ней, избегая власти, я хочу и стараюсь жить, но что в этом хорошего? Да ничего хорошего нет, один срач и стопки столиков, отслуживших своё, да спёртость вместо панорамы. К тому же по Улочке Чёрного Колпака никак нельзя никуда убежать и ничего избежать, всё равно всё ведёт к власти, к Пьяцца Сан Марко, Палаццо Дукале и Тюрьмам, их не миновать, и весьма характерную историю мне про эту улочку наврал один венецианец, когда я пытался дознаться, отчего она так называется. Он сказал мне, что «чёрными колпаками» в Светлейшей республике были прозваны осведомители, состоящие на содержании Тайного совета Сената, следящего за госбезопасностью, и что они приходили в Прокуратие (прокуратуру) с чёрного хода тайно, чтобы глаза не мозолить, и что улочка эта – венецианская Лубянка. Нигде, ни в какой литературе о венецианской тайной полиции, весьма изобильной, я упоминания о чёрных колпаках не нашёл, а венецианское краеведение твердит, что улочка получила своё название из-за того, что там когда-то находился постоялый двор Capello Nero, Чёрный Колпак. Историю с доносчиками оставляю на совести рассказавшего, хотя она очень даже и ничего, решил я про себя, обдумывая на Калле дель Капелло Неро возможности интеллигентского дистанцирования от власти – я как раз прошёл под последним соттопортего и увидал сияющие витрины Соттопортего деи Даи, Sottoportego dei Dai, преддверья Пьяцца Сан Марко, и попал в поток толпы, вливающийся в Пьяццу. Тут уж не помыслишь.
В Соттопортего деи Даи упирается один из концов Калле дель Капелло Неро, на другом же, над аркой первого соттопортего, как я уже сказал, нависает старушонка с лицом довольно вредной коммунальной соседки. Это одна из достопримечательностей города, ла вечиа дель мортер, la vecia del morter, «старуха со ступкой». Старуха относится к населению каменных малых сих Венеции, весьма в городе изобильному. Я уже всех познакомил с братьями Мастелли, с влюблённым верблюжатником, с Гоббо ди Риальто – теперь представляю вам la vecia del morter. На венецианских площадях долгое время единственным памятником какой-либо знаменитости был памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони работы Верроккьо – все остальные появились позже, лишь после того, как Венеция стала частью объединённой Италии, – и отсутствие монументов великим мира сего часто трактовалось и трактуется историками Венеции как доказательство подавленности индивидуальной воли в республике, заставлявшей граждан добровольно принести в жертву общественному всё личное. Не было в городском пространстве Венеции бронзовых дожей и военачальников – в лучшем случае они довольствовались тем, что возлежали на надгробиях, заключённые в стены фамильных капелл. В Венеции невозможна коллизия поэмы «Медный всадник»: шептать «Ужо тебе!» просто некому – не Коллеони же. Зато никакой венецианец и не в состоянии найти в себе силы шепнуть власти «Ужо тебе!» и злобно задрожать.
Я, в принципе, с утверждением о подавлении индивидуального согласен, но хотел бы добавить следующее: в Венеции не просто личное было принесено в жертву общественному, но общественное так сложно выстроило свои отношения с личным, что в результате конфликт Медного всадника и Евгения бедного в Венеции и действительно оказался снятым. Народец, состоящий из каменных малых сих – тому доказательство. Есть два рода памятников: памятники власти – это каменные и бронзовые истуканы, официально поставленные властью тем, кого она решила сделать героем, и есть памятники, героику официоза отрицающие, памятники агероичные и чуть ли не антигероичные. Так, например, в Петербурге, северной Венеции, есть Медный всадник, но есть и бронзовый Чижик-пыжик. Медный всадник, как бы он ни был велик и гениален, – властность и жестокость, Чижик-пыжик, как бы он ни был жалок, – мир и демократия. Медный всадник – воплощение диктатуры, взявшей на себя функции общественного, Чижик-пыжик – гуманная рожица свободной гражданственности. Чижик-пыжик появился в Петербурге только после перестройки, ибо во времена империи, как российской, так и советской, памятник Чижику-пыжику на брегах Фонтанки был немыслим. В своём отрицании государственного пафоса Чижик-пыжик независим и индивидуален в гораздо большей степени, чем любой каменный истукан, посвящённый любому защитнику вольности и прав, и в Венеции таких чижиков-пыжиков было навалом уже во времена Ренессанса. Венеция – самый изобильный ими город, даже среди городов итальянских, в которых подобного рода памятники встречаются чаще всего. Обычно именно они: Риоба и Гоббо в Венеции, Пасквино в Риме и Шиор Карера, Scior Carera, в Милане, выполняют ещё и диссидентскую функцию, так как, обклеенные памфлетами, эти фигуры становятся воплощением несогласия с властью. Разве не о свободе личности, причём в самом что ни на есть современном понимании, говорит это почтение города к каменным малышам, каждый из которых, Гоббо ли, Риоба или la vecia del morter, оказался наделённым ярчайшей индивидуальностью, гораздо более выразительной, чем всякие кавуры – гарибальди – ильичи, бронзовой давящей ординарностью заполнившие пространства современных городов? И опять, не является ли этот, весьма примечательный факт очередным доказательством того, что Венеция разыграла всю историю Европы уже давно, а то, что сейчас в этом городе происходит, есть не переживание прошлого, но предвосхищение будущего?
Правда, la vecia del morter никак нельзя назвать диссиденткой, она, наоборот, прославилась тем, что власть поддержала. 15 июня 1310 года Байамонте Тьеполо, наследник знатного и обиженного властью семейства, организовал и направил целую толпу на штурм Палаццо Дукале с целью низвержения дожа Пьетро Градениго, а заодно – и всей власти венецианского патрициата, ибо Байамонте, после того как его обидели, патрициат возненавидел. Антиправительственное войско подходило к Пьяцца Сан Марко, и в этот момент старуха, по имени Джустина (или Лючия, есть два варианта, причём оба – смысловые, ибо святые Джустина и Лючия были официальными покровительницами Венецианской республики), высунувшись из окна, спустила каменную ступку прямо на голову знаменосца восставших, идущего впереди. Знаменосец с проломленным черепом упал в грязь, вместе с ним упало и знамя, заговорщики замешкались, и тут же разразилась неимоверная гроза, так что они и вообще в ступор впали. Сторонники власти этим воспользовались, осыпав сторонников Байамонте точными залпами. Первые ряды наступавших пали, и хотя бунтовщики были в большинстве, они притормозили, и нерешительность их объяла. Несколько мгновений, и всё было решено: нерешительность превратилась в панику. Падение знамени, сопровождавшееся тут же сверкнувшей молнией и раскатом грома, явилось знаком гнева Господа, это поняли все нападавшие, и, устрашённые яростью Господней в большей степени, чем даже верными дожу гвардейцами, противники власти бросились врассыпную по узким улочкам, спасая свои шкуры. Защищавшиеся превратились в преследователей и гнали заговорщиков, наступая им на пятки, прямиком по Марцарии – те, конечно же, бежали к Мосту Риальто, стараясь переправиться на правый берег, в оппозиционный Сан Поло. Байамонте еле-еле успел мост, тогда деревянный, поджечь, чтобы спасти свою собственную жизнь и жалкие остатки своих приверженцев. Через некоторое время он бежал из Венеции и потом остаток жизни мытарился за границей – в Хорватии, при венгерском короле, давнем враге республики. Приверженцы, кстати, растаяли не потому, что погибли в бойне, но просто испарились, увидев, что дело Байамонте не выгорело – то есть по домам разошлись.
Кампаниле
Заговор Байамонте Тьеполо часто представляют как народное восстание. Особенно любит так делать отечественная историография, но, судя по тому, что сами же историки, представляющие Байамонте героем, воспротивившимся власти олигархов, о нём и рассказывают, никаким демократом он не был. Он был наследником типичного олигархического семейства, временно оказавшегося не у дел; и лично недовольный успехом Градениго, Байамонте решил на волне популизма уничтожить республику и с помощью охлократии установить тиранию – типичный ход всех авантюр, именующих себя революциями. Осуществить свой план ему не удалось, и не случайно после поражения Байамонте ищет убежища у коронованных врагов республики – демократизм как ветром унесло. После подавления заговора 1310 года учреждается Совет Десяти, сначала – временный, потом – постоянный, который, конечно, закрепляет олигархическое правление в Сиятельной республике, остававшейся, однако, самым демократичным государством в Европе вплоть до появления Республики Семи Объединённых Нижних Земель, то есть Нидерландов. Роль Джустины-Лючии в истории поражения Байамонте примечательна, потому что бытовая подробность – ступка, упавшая на голову, – сообщает повествованию оттенок комизма, что характерно для венецианского менталитета по отношению к классовой борьбе.
Остальные выступления против власти Сената или дожа (немногочисленные, по сравнению с другими итальянскими государствами) – совсем уж обыкновенные заговоры, будь то история братьев Фоскари, так блестяще распузыренная Байроном и Верди, или попытка переворота, которую возглавил в 1355 году Марино Фальер. Он, кстати, был правящим дожем, и за попытку установления единовластия поплатился головой, отрубленной, если верить Делакруа, ещё одному выдумщику романтизма, прямо на Скала деи Джиганти, Scala dei Giganti, Лестнице Гигантов, то есть там, где его и короновали. Легенды к тому же рассказывают, что Джустина-Лючия ступку бросила отнюдь не из-за преданности правящей партии, а просто она со ступкой к окну подошла, отвлечённая от кухонных дел уличным шумом. Выглянув, так обалдела, что ступку-то из рук и выпустила, да так удачно. Перепугалась на смерть, потому что кто против кого не разбирала, а видела, что прибила лицо важное, – и мести ждала. Заговорщики так смешались, что не до мести им было, а от победителей воспоследовала не месть, а вознаграждение, поэтому Лючии-Джустине ступка с рук сошла, но в принципе она с тем же успехом могла спустить ступку и на голову знаменосца правительственной партии. Дож Градениго в благодарность за спасение власти разрешил Джустине-Лючии в праздники вывешивать из окна флаг республики и освободил её и её потомков от платы за дом, принадлежащий республике, и, о Боже, ну почему ты не всунул в руки ступку какой-нибудь Параскеве-Февронии в Петрограде во время штурма Зимнего!
Под ступкой старухи я вбираю в себя воздух, чтобы, пройдя улицу Чёрного Колпака и вырулив в блеск витрин и треск кофейных оркестриков Пьяццы из-под Соттопортего деи Даи, не слишком обалдеть. Это мне не удаётся, потому что, сколько ни выхожу на Пьяццу, а всё в ступор впадаю – вот и на этот раз счастье, как полагается, объяло меня со всех сторон, потому что счастье из каждого угла Пьяцца Сан Марко так и лезет. Я выглядываю из-под Соттопортего деи Даи, как Миранда из пещеры в Шекспировой «Буре», и воплю:
О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив! И как хорош Тот новый мир, где есть такие люди!От моего крика специфический санмарковский оттенок желтизны сгущается, и Пьяцца, единственная и не сравнимая ни с одной другой площадью в мире, разворачивается передо мною, как волшебный ковер, что стелют джинны из «Тысячи и одной ночи» перед каким-нибудь простецом-счастливцем, пленяя его и пугая, очаровывая и завораживая. Площадь залита блеском света, ослепительным после сумрака Чёрного Колпака, из-под которого я на площадь вылез. Желтизна везде, она отсвечивает в муранском стекле и шёлке галстуков, заливает витрины, жирно лезет в уши звуком штраусовских вальсов, несущихся из мифологических кафе Quadri и Florian, скворчит в многоязычном людском шуме и в воркованье немногочисленных голубей, венецианцами теперь гонимых, – очень жёлтый звук, и даже жолтый, по-блоковски, – и светятся жёлтым, в жолтый переходящим, радостные улыбки толпы.
Нигде, пожалуй, я не видел столько счастливых лиц разом, как на Пьяцца Сан Марко.
Всё это меня раздражать начинает: две толстые немки, пустившиеся в обнимку в пляс, японцы с приклеенными к лицу восхищением, а к фотоаппарату – вспышкой, стайка хорошеньких французских девчонок, вдруг надумавшая на площади «Баркаролу» из «Сказок Гофмана» спеть, оркестр Квадри, виртуозно исполняющий «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» под восторженные аплодисменты многочисленных русских – родная мне, мягкая и бескостная речь несётся со всех углов Пьяццы, – да и сам себя я раздражаю, видя – внутренним взором, конечно, – какой я идиот идиотом. Характер у меня плохой, и плохо мне, когда всем хорошо. Вот так, раздираемый надвое, потому что, как уже сказал, я блеском счастья ослеплён, но в блеске, треске фейерверка площади – разноцветные кометы (залп), разрывы большими красными сферами, меняющие свой цвет (залп), золотые пауки, окружённые яркими синими звёздами (залп), золотые пионы (залп), серебряные трещащие облака с золотыми мерцающими звёздами (залп) – я тоску ощущаю, ибо чем-то мне Пьяцца Сан Марко напоминает о блеске и треске Лас-Вегаса, а в Лас-Вегасе мне было очень тоскливо, и, судя по всем приличным фильмам и книгам о Лас-Вегасе, не мне одному, так как все приличные книги и фильмы о Лас-Вегасе полны тоски и грусти. То есть довольно-таки унылы. Лас-Вегас всё время Венецией бредит, и тоска моя естественна, ибо:
Cui malus est nemo, quis bonus esse potest? Кто может быть хорош для того, для кого никто не плох? —как правильно заметил Марциал. Как же можно чувствовать себя счастливым, не ощущая несчастья? Счастье без несчастья – это «О дивный новый мир» Хаксли, а не Миранда Шекспировой «Бури».
Желтизна уж и невыносима, она просто уж и giallo, предчувствием триллера, попахивает, да и сам я в Giallo, гепатитного героя Ардженто, превращаюсь, но тусклым золотом отливает мерцание фантасмагорического собора, замыкающего площадь, чья архитектура к Востоку, к Тадж-Махалу и Василию Блаженному ближе, как мне сейчас кажется, чем к Западу и собору Святого Петра, и золото это, желтизну, вокруг растёкшуюся, облагораживая, являет мне подлинный свет, отблеск которого я узрел в Тициановых эйдосах из церкви Сан Сальвадор. То ли переходя из света в темноту, то ли из темноты – на свет, я иду к огонькам мозаик тимпанов, что заходящее солнце затеплило умильным светом, как иконные лампадки, привнеся в восточную пышность архитектуры умильную жалостливость, и тут, сквозь мирскую суету, сквозь завалы витрин и загромождения столиков, сквозь толпу и голубей, я слышу, как Пьяцца Сан Марко очень внятно и чётко произносит:
ИЕРУСАЛИМ, ГРАД БОЖИЙ.Слова, указывающие мне на моё первое посещение главного храма на земле, Храма Гроба Господня. На путь к нему из Старого города: всё ниже и ниже, опять поворот, узкий вход, и – кажущаяся широкой и светлой, после узких крытых темных улочек, площадка-площадь. Всё пространство забито человечеством, и, здесь оказавшись, понимаешь не сразу, что это площадка перед входом в Храм. Суета здесь мало чем отличается от суеты улиц, к Храму ведущих, так же тесно от людей, голосов: пожилые итальянки поправляют только что купленные пашмины, особо расшитые, бусинами и маленькими зеркальцами, готовя фотоаппараты, чтобы снять друг друга в священном месте во вновь приобретённой шмотке, целый взвод африканцев в одинаковых ярко-зеленых бурнусах поверх одежд сосредоточенно прокладывает путь ко входу, францисканец что-то объясняет двум очкастеньким старым сморщенным монахиням-китаянкам, а зычная экскурсоводша по-русски, очень внятно, рассказывает своим заинтересованным слушателям о том, что Иисус Христос родился в Вифлееме, а окончил свои дни вот здесь, именно здесь, – сутолока городского рынка продолжается, Храм окружён теснящимся вокруг старым Иерусалимом, густо и беспорядочно запутанным, густо и беспорядочно торгующим, и залитое солнцем пространство перед Храмом – часть города. Но нет ни одного торговца, все изгнаны. Вот здесь распяли Господа – об этом тоже сообщает экскурсоводша, указывает на Врата Храма, тяжелый вход в темноту. Низкий вход, шаг – и сумрак и святыни. Розовая плита, Камень Помазания, на котором лежало человеческое тело Господа, снятое с Креста. Со всех сторон его покрывают поцелуями ползущие к нему на коленях христиане, худая женщина распласталась около плиты, тело сводят судороги рыданий; судя по судорогам – католичка. В полумраке тихо, но внятно гудящая толпа, пространство из-за множества людей и множества колонн практически невидимо, но ощутимо, и масса капелл, переходов, лестниц, открытых и закрытых входов, галерей, галереек, балкончиков – хаос «Темниц» Пиранези. Везде теснятся люди, пространство главной части, ротонды, занято длинной очередью к склепу Могилы Иисуса. Коптская капелла, сирийская капелла, эфиопская капелла, францисканская церковь, православная церковь, армянская, русская, франкская капелла, Голгофа католическая, Голгофа православная. Капелла Марии Магдалины, Брата Иакова, Святой Фёклы, Святой Елены, Марии Египетской, Четырёх мучеников. Здесь делили одежду Иисуса, здесь Ангел возвестил трём женам о Воскресении, здесь прозрел и уверовал Лонгин Сотник в Господа Единого и Единосущного, здесь Крест стоял и Дева Мария рыдала. От благочестия густо и терпко, тесно, перенасыщенно; свечи, образа, прихожане. Молитвы, раскаяние, праздное любопытство, жестокость, страдания, слёзы, откровения, юродство, просветление, лицемерие, ненависть, нежность. Всего много, очень много, множественное множество. На мощных, вырубленных в скале стенах лестницы, ведущей в капеллу Святой Елены, вырезаны многочисленные кресты: подписи, сделанные безграмотными крестоносцами, знаком креста отмечавшими не Веру, а своё присутствие. Привет Иерусалиму, Божественному Граду Востока от благочестия Запада, и от Венеции в том числе. Святотатство святош, ставшее знаком культуры, и здесь, в Иерусалиме, я снова вспоминаю о Венеции и Крестовых походах, о той роли предательницы, но в то же время и защитницы, и страдалицы, что выпала ей в бесконечной драме, разыгрываемой Востоком и Западом, и сходство с Божественным Градом, с Иерусалимом, поражает меня.
В Венеции я же вспоминаю о Иерусалиме, и моё воспоминание преобразило Пьяццу. Абстрактная умозриловка книжных знаний о постулируемом ренессансной Венецией сродстве с избранным Богом Градом, о пристрастии венецианцев к изображению Иерусалима, о венецианизированном Иерусалиме у Мантеньи, теперь обрела конкретную явленность. Я наконец уловил смысл творения Джентиле Беллини «Процессия Креста Животворящего на Пьяцца Сан Марко», до того казавшегося мне прекрасной живописью, чуть ли не лучшим в мире изображением городской сцены (ну, разве что «Площадь Согласия» Дега лучше – теперь же, что «лучше», я не скажу, я понял, что произведения Дега и Джентиле, сумевшие городской сцене сообщить вселенскую героику, равны, по крайней мере; сообразить же, что картина Дега не просто портрет на фоне города, а мифологическая картина, мне «Процессия Креста Животворящего» помогла), но и только. Теперь я прозрел и увидал, что «один из первых портретов реального города», как часто произведение Беллини определяют, говорит не столько о реальности, сколько о том, что «над небом голубым есть город золотой». Нам архитектура церкви Сан Марко (позволю себе длинное примечание: кафедральным собором церковь Сан Марко стала только при Наполеоне в 1806 году, до того собором был Сан Пьетро ди Кастелло, San Pietro di Castello, а Сан Марко был лишь церковью при Палаццо Дукале; поэтому, говоря о современном Сан Марко, я буду называть его собором, как это теперь и заведено, но, говоря о Сан Марко в донаполеоновские времена, буду называть его церковью) напоминает о Тадж-Махале, а для венецианцев она звучала утверждением того, что Венеция – ипостась Золотого Города, Рая, подобно двум другим избранным городам, Иерусалиму и Константинополю.
Слова, вложенные в меня дальним светом мозаик Сан Марко – «Иерусалим, Град Божий» – растолковали мне, наконец, смысл рогатого колпака, венца венецианского правителя, corno ducale, «дожьего рога» (иногда также называемого «короной республики», очередной венецианский оксюморон), который до того казался мне роскошно-шутовской причудой в восточном вкусе. Теперь я уразумел, что каждый дож венецианский – это пророк Моисей, предводитель избранного народа, поэтому-то он всегда и обязан быть глубоким старцем: отсюда культ Иова, ветхозаветных святых в Венеции и своеобразие венецианского Гетто. Архитектурная декорация собора, небольшого в перспективе огромной площади и не столь величественного, сколь изукрашенного, так что в новые времена за своё переизбыточное великолепие собор порицался чуть ли не столь же часто, как и восхвалялся, представилась мне так, как она современникам Беллини и Тициана представлялась – понимая кощунственность такого заявления, я тем не менее на нём настаиваю, – ипостасью Храма Гроба Господня, и я уловил сродство пространства Пьяцца Сан Марко с одним из величайших шедевров мировой живописи, тициановским «Оплакиванием» из Галлерие делл’Аккадемиа.
Сродство избирательное и внутреннее, конечно же, не внешнее: гётевское Die Wahlverwandtschaften, означающее способность химических веществ сочетаться лишь с определенными веществами, другие отталкивая. «Оплакивание», последняя картина Тициана, предназначавшаяся, как предполагают, для его личной капеллы в Санта Мария деи Фрари, где он хотел упокоиться и упокоился, после смерти мастера осталась недописанной в мастерской. «Оплакивание», было закончено Пальмой Джоване, любимым учеником Тициана. Кисти Пальмы принадлежат архитектура маньеристической арки во вкусе Палаццо дель Те и элегантно уравновесивший отчаянную открытость горестного жеста Магдалины ангелочек с факелом, зависший, как колибри, над головой мёртвого Христа. Добавления Пальмы осмысленны и точны, но они сообщают композиции лоск, величию позднего Тициана чуждый. Закончи Тициан картину сам, то она, наверное, была бы не столь отточена, но трагична и неуклюжа, как «Наказание Марсия» из Кромержижа, и казалась бы незаконченной, и – более гениальной. «Гениально» и «более» я сознательно сочетаю, хотя и понимаю всю глупость количественных определений гениальности, но делаю это потому, что в данном случае вмешательство Пальмы даёт косвенный ответ на занимающий меня вопрос: «Как же это могли воспринимать современники?» С трудом, как видно, и Пальма, хотя и относится к гению учителя со всевозможнейшей почтительностью, тем не менее его последним произведением несколько озадачен, поэтому пытается улучшить его, введя в какие-то рамки принятого вкуса. Он помещает фигурку ангела справа вверху, чем добивается сбалансированности разорванной композиции, а умопомрачительно свободно набросанную Тицианом мозаичную абсиду – куда там Мунку и Кокошке, – с утопающим в византийском дребезжании мерцающего золота белым пеликаном, символом жертвы Иисуса, – заключает в модное и достойное архитектурное обрамление в римском вкусе, стараясь живописный Тицианов авангард несколько притупить и притушить. Результат вышел замечательным и очень стильным, но «менее гениальным», ибо стильность с гениальностью всегда находятся в противоречии. Несмотря на улучшения Пальмы, «Оплакивание», последнее произведение Тициана, завещание-исповедь, прорывая все временные границы и возносясь над всеми контекстами, встает рядом с гениальностью «Пьеты Ронданини» Микеланджело из Кастелло Сфорцеско, «Принесения во храм» Лоренцо Лотто из Музео Антико Тезоро делла Санта Каза ди Лорето, Museo Antico Tesoro della Santa Casa di Loreto, «Погребения святой Лючии» Караваджо из церкви в Сиракузах и эрмитажного «Блудного сына» Рембрандта.
В картине есть поразительная деталь: в правом нижнем углу к постаменту с львиной мордой, поддерживающему фигуру Веры, прислонена небольшая вотивная иконка, поставленная так, что зритель видит, что написана она на толстом куске дерева. Нет сомнений, что Тициан в своём произведении, в масляной картине на холсте, специально акцентирует внимание на том, что образ, включённый им в композицию, имеет принципиально другую природу, причём это касается не только материала, использовавшегося гораздо раньше появления живописи на холсте, что сразу же намекает на древность, но и самой манеры, в которой иконка написана, благочестиво-архаичной, заставляющей вспомнить о Византии и ортодоксальности. На иконке изображена Богоматерь в облаках и преклонившиеся перед ней две фигуры: считается, что изображение картины в картине – своеобразный обет Тициана, просившего небеса избавить его семейство от чумы, в тот момент в Венеции свирепствовавшей. Композиция иконки нарочито проста, чуть ли не примитивна, фон её условен, иконописен, и если вся композиция «Оплакивания» воспринимается как Stabat Mater, как торжественное моление, то эта деталь – нарочитый диссонанс в патетическом звучании тициановской мессы. Икона явилась в картину Тициана из другого времени и пространственного измерения: прислонённая к гордой мраморной, чрезвычайно римской, статуе Веры случайно и неустойчиво, иконка эта – очень личная просьба, сбивчивая молитва, идущая из самой глубины души, молитва-исповедь. Богоматерь Тициана от чумы не избавила, и августовская эпидемия 1576 года убила не только его, глубокого старика, но и его сына – из-за того, что мы знаем, что просьба, обращённая к Богоматери, была напрасна и что, когда Тициан писал «Оплакивание», на небесах уже всё было предрешено, молитвенный стариковский лепет нам теперь прямо-таки душу раздирает.
Мерцающий византинизм иконы у подножия мраморной Веры связан с мерцанием мозаики с белым пеликаном, кормящим кровью своих птенцов. Отсылка к изначальному: мозаичные абсиды были спецификой именно венецианской живописи, и в такие абсиды, напоминающие о мозаиках Торчелло, а через них – о мозаиках Константинополя, любил помещать своих Мадонн Беллини, да и не только он. В живописи других итальянских школ подобные изображения редки, и ко времени написания Тицианом «Оплакивания» намёк на варварство византийской школы (определение Вазари) должен был казаться совсем уж отчаянно экстравагантным – хорошо, что Пальма абсиду не записал. Тициан, не обращая никакого внимания на общепринятый хороший вкус, в последнем своём произведении вспоминает о мозаиках церкви Сан Марко, являющихся для него символом Венеции, увенчивая своё «Оплакивание» сиянием византийской древности, а не каким-нибудь палладианским строгим белоснежным куполом. Мозаики Сан Марко, константинопольские по духу и смыслу, говорят о византийности Венеции: свет Константинополя – отблеск Божественного града Иерусалима. Сюжет «Оплакивания» Тициана подразумевает изображение Иерусалима, ибо всё Тицианом изображаемое произошло как раз на том месте, где позже был выстроен Храм Гроба Господня, и на Пьяцца Сан Марко я не то чтобы понял, но прочувствовал, что «Оплакивание» – эйдос Иерусалима. Вот я эйдос и узрел, и моё реальное воспоминание о первой встрече со святыней Камня Помазания совпало с картиной Тициана, как два угла равнобедренного треугольника, хотя, в отличие от меня, Тициан реального Храма Господня никогда не видел. Вокруг белой птицы Пеликана, символа Христа и Искупления, парящего в нетварном Божественном свете, Тицианом в «Оплакивании» тварно изображённом, завязался узел Die Wahlverwandtschaften, Избирательного сродства:
Венеция, Константинополь, Иерусалим и Москва.
С первой же нашей встречи мне в соборе Сан Марко померещилось призрачное сходство с Шапкой Мономаха, великой регалией Российской империи. Когда Шапка венчала Ивана III в 1462 году, то она представлялась звеном, связывающим Киев с Константинополем, даром императора Константина IX внуку своему по дочери, Владимиру Мономаху, Великому князю Киевскому, и происхождение её, относимое где-то к XI веку, чуть ли не совпадало с основанием собора Сан Марко. Под этой Шапкой у Ивана III зрели великие планы Москву в Третий Рим (второй Константинополь) превратить, чему наверняка раззолоченность и куполообразность Шапки способствовали, ибо под сводами собора Сан Марко, также раззолоченными и куполообразными, мозги дожей тоже к Риму и Константинополю обращались. Важность Шапки Мономаха особенно возросла, когда она увенчала голову нашего первого царя, Ивана IV по прозвищу Грозный, при котором княжество Московское превратилось в царство Российское. Шапка стала царским символом, и тут-то оказалось, что Константин IX не просто заказал подарок внуку у константинопольских золотых дел мастеров, но что император специально, чтобы внуку угодить, за Шапкой в Вавилон посылал, ибо сокровище это покоилось в гробнице Трёх отроков, что из пещи огненной невредимыми вышли. Пиарщики Ивана IV по прозвищу Грозный поведали миру, что Шапка изначально принадлежала вавилонскому царю Навуходоносору, сыну Набопаласара, то есть, сами того не осознавая, отнесли её появление на свет не к XI веку, а к VI веку до н. э., для того, чтобы когда первый царь всея Руси её на себя надел, венчаясь на царство, он почувствовал себя наследником не только византийских императоров, но аж самих владык Вавилона.
Иван по прозвищу Грозный всё это и почувствовал, и был Навуходоносор Навуходоносором, но, увы, в дальнейшем проклятые историки выяснили, что Шапка Мономаха не имеет ни малейшего отношения ни к Мономаху, ни к Константину, ни к Навуходоносору, а, скорее всего, является наградой, присланной владыкой Золотой Орды кому-то из московских князей. Кому именно, неизвестно, но возможно, что этот очень неудобный головной убор, похожий на тюбетейку, дар Узбек-хана Ивану Калите. Главная регалия русских царей – не что иное, как знак коллаборационистской политики Москвы, то есть добровольного сотрудничества с оккупантами, что определило и обеспечило политический взлёт Московского княжества в начале XIV века. К тому же высказывается предположение, что изначально Шапка Мономаха вообще была женской, и в этом случае дар Узбек-хана московскому князю приобретает оттенок двусмысленности: я тебя люблю, и я тебя… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, вот тебе и истоки русского самодержавия – и как же мне быть теперь с этим дурацким сходством двух знаков византинизма, собора Сан Марко и Шапки Мономаха?
Да никак, нисколько меня не смущают разоблачения идеологических фальшивок Московского царства. Сейчас очень любят настаивать на том, что Шапка Мономаха была изготовлена татарскими умельцами, но всё же византийский дух этой драгоценности неистребим: даже если эту шапку и мусульмане сделали, они подражали византийским образцам. Сколько бы мне ни говорили о тюбетейке, я всё же вижу, что формой своей Шапка Мономаха повторяет венцы константинопольских императоров, известные нам по изображениям на мозаиках – похожи ли они на тюбетейки или тюбетейки похожи на них, уже другой вопрос. Тюбетейка, как известно, формой своей к юрте восходит, культурному символу сельджуков, а венец константинопольских императоров – к куполу Святой Софии. Смесь юрты со Святой Софией, что характерна для Московского княжества, царства всея Руси, Российской империи и СССР, в Шапке Мономаха и воплотилась, но фантазм, что теперь собором Сан Марко зовётся, не такая же ли это прихотливая смесь мусульманского тюрбана и византийской короны? Меня вид этого здания, нарушающий все архитектурные принципы, пронзает, заставляя почувствовать нечто вроде «Но если по дороге – куст Встает, особенно – рябина», захватывая ощущением родственности и нежной близости с Венецией, и я вспоминаю, что венецианцы в русскую словесность вошли одними из первых иностранцев, ибо «Ту Нѣмци и Венедици, ту Греци и Морава поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы, рѣкы половецкия, рускаго злата насыпаша. Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощїево. Уныша бо градомъ забралы, а веселїе пониче», и я блаженно утопаю в гётевском Die Wahlverwandtschaften. Да и говор московитский теперь чуть ли не самый распространённый среди толпы на Пьяцце.
Толпа. Днём плотность наполнения туристами квадратного метра Пьяцца Сан Марко чуть ли не самая высокая в мире, и по забитости человечеством с Пьяццой соперничает только площадь перед Храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Пустеет Пьяцца лишь после полуночи, да и то лишь в low season, с конца сентября по апрель: тогда она становится похожа на пляж Лидо в конце висконтиевской «Смерти в Венеции» – такое же щемящее ощущение конца всего, в том числе и цивилизации. Днём же поразмышлять на Пьяцца о закате Европы как-то не удаётся ни летом, ни зимой, слишком уж много вокруг довольных лиц, да и вообще лиц много, и тому, у кого вдруг в Венеции среди бела дня возникнет желание – довольно глупое, конечно, но мало ли что – поразмышлять над историей Венеции и её судьбой, я советую добраться до Ка’ Контарини дель Боволо, Ca’ Contarini del Bovolo, Дома Контарини Улитки, находящегося также в сестьере Сан Марко, относительно недалеко от Пьяццы. Разыскать Ка’ Контарини дель Боволо не то чтобы очень легко: дворец построен на мысе, образованном слиянием двух каналов, Рио Сан Лука, Rio San Luca, Канала Святого Луки, и Рио деи Баретери, Rio dei Bareteri, Канала Беретчиков, и со всех сторон застроен так, что фасад его разглядеть возможно только с воды, наняв гондольера. Однако Ка’ Контарини дель Боволо знаменит не своим фасадом, а своим двором, в который пробраться трудно, но возможно: надо дойти до Кампо Манин, Campo Manin, площади, для Венеции весьма заурядной. Церковь, когда-то на ней находившаяся, была разрушена ещё при Наполеоне, а Кредитный Банк Венеции, Cassa di Risparmio di Venezia, иначе именуемый палаццо Нерви Скаттолин, palazzo Nervi Scattolin, единственное теперь примечательное здание Кампо Манин – весьма унылый памятник инженерии 70-х годов прошлого века, созданный Пьер Луиджи Нерви и Анжело Скаттолином, который назвать «архитектурой» как-то язык не поворачивается (обратите внимание, в названии современного строения используется не «ка», «дом», как принято в Венеции по отношению к частным дворцам аристократии, дабы подчеркнуть их отличие от Палаццо Дукале, единственного палаццо, а «палаццо», хотя Нерви Скаттолин дворец дутый, и на самом деле это ufficio, офис, пышно названный по имени авторов, а не владельцев). На площади надо разыскать скромный указатель со стрелкой и надписью Contarini del Bovolo, а далее указателю следовать, несмотря на сбивчивость поворотов в глухих переулках, которых, кажется, три. Указатель то теряется, то появляется вновь, и вот, пройдя соттопортего, оказываешься в стиснутом со всех сторон домами дворике. В углу, среди остатков сада, когда-то дворцу принадлежащего, притаилось замечательнейшее сооружение, Скала Контарини дель Боволо, Scala Contarini del Bovolo, Лестница – обязательно с прописной – Контарини Улитки. Странное название дворца Лестницей ему и подарено, потому что она представляет особый тип лестниц, обычно называемых scala a chiocciola, «улиточными лестницами» (на венецианском диалекте улитка – bovolo). Архитектором, предположительно определённым как Джованни Канди, чьё имя мало кому известно, винтовая структура Лестницы вынесена наружу – что редкость, – и получилось семиэтажное сооружение, авангардное и выразительное, ну ни дать ни взять – Башня Татлина.
«Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас», – сказано в Книге Екклезиаст, и слова эти кажутся очень к месту в узком дворе перед Лестницей Контарини Улитки. Да уж, много в мире шухеру идёт по поводу революционности Памятника III Коммунистического Интернационала, великой мечты о вознесении в будущее, а вот он, Коммунистический Интернационал по-венециански, в конце XV века в жизнь воплощённый. Стоит и стоит, запертый, как красавица из сказки, и даже не особенно на Лестницу глядеть приходят, хотя как зайдёт во двор какая-нибудь группа туристов, приведённая особо интеллектуальным гидом, так сразу и не продохнёшь, прямо как на Пьяцце, ибо дворик, образованный домами, съевшими сад, когда-то дворец окружавший, и без того узкий, теперь ещё и перегорожен двойной решёткой, дабы оградить Лестницу от нас с вами, дорогой читатель. Так и стоит она, вся – порыв и прорыв, воплощённая чистота движения ad astra, «к звёздам», утяжеляемого противодействием земного притяжения, заставляющего рваться к звёздам не по прямой, а винтообразно, по-улиточьи, ибо улитка, ползущая по ветви дерева, есть символ настойчивости, приводящий дело к завершению, даже если оно продвигается медленно, – об улиточной символике, закреплённой публикациями различных «Иконологий», знал каждый образованный венецианец, так как сходство с раковиной улитки прозревали и в дожьем роге, и в политической системе республики.
Я не думаю, что Татлин видел Скала Контарини дель Боволо, но производное от неё, башню церкви Сант’Иво алла Сапиенца в Риме, созданную Франческо Борромини не без знания венецианского предшественника, он не знать не мог. Татлинский шедевр творение Борромини воспроизводит почти дословно, тем самым показывая тесную связь духовности коммунистической, воплощением коей Башня Татлина и является, с духовностью иезуитской, кою воплощает церковь Сант’Иво, посвящённая патрону ордена. Один из членов прославленного семейства, Гаспаро Контарини, был кардиналом и дипломатом, а также приличным, в отличие от упоминавшегося флорентийского делла Каза, интеллектуалом оппозиционного толка. Гаспаро был полон духовных исканий и сочувствовал оправданию посредством веры, о чём написал он целую книгу, что с точки зрения папской власти было чуть ли не Лютеровой ересью, опубликовал также трактат «О магистратах и устройстве Венецианской республики», являющийся апологией республиканского образа правления. Олигархического, конечно, как это в Светлейшей республике и было, но всё равно – республиканского. Трактат Гаспаро Контарини ползёт, как улитка, медленно, но верно, и Скала Контарини дель Боволо может считаться воплощением духовности Венеции, так же как Сант’Иво – иезуитства, а Башня – коммунизма, тем самым обнаруживая связь с обеими вышеупомянутыми духовностями, – и здесь, в узком дворе Улиточьего Дома, около решётки, ограждающей Лестницу от меня или меня от Лестницы, я, все духовности припомнив, вдруг задаюсь вопросом: а может, всякая духовность в основе имеет общее, потому что, к чему ни стремись, всё сводится к:
ad astra per aspera, «к звёздам через тернии»,
дело лишь за тем, что будет приниматься за astra, а что – за aspera. Скала Контарини дель Боволо, правда, имеет существенные отличия от башен Татлина и Борромини: она действительно утилитарна, а не псевдоутилитарна, как у двух других архитекторов, она заканчивается не тыкающим воздух шпилем-штыком, а округлым ровным бельведером, и каждый взлёт её витка уравновешивается галереей-колоннадой, шествующей параллельно рывкам ad astra, но ровно и покойно, без нервной судорожности. Подобная человечность, может быть и улиточная, мне лично в памятнике венецианского авангарда очень симпатична, и мне кажется, что Лестница предлагает более разумный вариант развития, чем башни коммунистическая и иезуитская, и Скала Контарини дель Боволо является для меня ещё одним доказательством того, что Венеция не город прошлого, но – будущего, так что я, позаимствовав у Ка’ Контарини ритм, возвращаюсь на Пьяцца Сан Марко, чтобы, следуя воображаемому восхождению по Лестнице Улитки, попытаться одолеть всё, что Сан Марко мне предлагает. Это не просто, ибо художественность и история на каждом квадратном метре Пьяцца Сан Марко столь же концентрированна, как и её населённость, и справиться со всем, что Музеи Пьяцца Сан Марко на тебя взваливают, дело нешуточное, хотя Пьяцца Сан Марко никогда не входит в десятку величайших музеев мира. Четыре музея: Музео Коррер, Дуомо, Палаццо Дукале и Приджони, Тюрьмы, собранные воедино, представляют собой нечто не менее грандиозное, чем Лувр, Эрмитаж или Метрополитен, ибо, не говоря уж о шедеврах, в них собранных, в комплексе Сан Марко ещё присутствует тот особый дух, что роднит его с самыми священными местами планеты Земля. Уффици и Британский музей всего лишь музеи, а суггестивность Пьяцца Сан Марко сравнима с Луксором, афинским Акрополем, римскими Капитолием с Форумом и Ватиканом – да вот и всё, пожалуй, все соперники Сан Марко, разве что добавить сюда яванский Боробудур и гватемальский Тикаль. Мог бы ещё и Московский Кремль на что-то претендовать, если бы правительство из него вымелось.
Взяв Скала Контарини дель Боволо за образец, я также сделаю семь рывков – у лестницы семь витков – с пятью остановками – к башне лестницы примыкает пять галерей – по великим зданиям, посещение которых обеспечивается покупкой одного билета, так и называющегося: Musei San Marco. Музео Коррер занимает здание, называемое Ала Наполеоника, Ala Napoleonica, Наполеоновское Крыло, дворец нового диктатора, воздвигнутый на месте древней церкви Сан Джеминьяно, перестроенной самим Сансовино и бывшей, судя по многим видам Пьяцца Сан Марко, написанным в XVIII веке, изрядным архитектурным шедевром, а также весь бельэтаж Прокуратие Нуове, Procuratie Nuove, Новых Прокураций. Музей этот один из самых великих и занимательных краеведческих музеев в мире, но как все краеведческие музеи, он несколько утомителен: вещи, вещи и вещи, «материальная культура». Музеефицированная материальная культура всегда производит впечатление мертвечины: мебель, которой не пользуются, монеты, вышедшие из употребления, оружие, ни на что давно не годное, посуда, никому не служащая. В Музео Коррер всего этого много, и, как большинство краеведческих музеев, он, несмотря на все потуги сделать экспозицию занимательной, всё ж складывает монету к монете, тарелку к тарелке и пику к пике, так что от всех предметов, как бы они ни были хороши, веет затхлостью складской классификации. Все предметы по отдельности чудесны, качество каждого – превосходно, но, собранные вместе, они образуют толпу, а в толпе разглядеть индивидуальные достоинства трудно. То же и с живописью: в Музео Коррер она недурна, но как-то сглаживается общим уровнем достойного высококачественного мастерства. Проходишь по картинной галерее Музео Коррер довольно быстро, ничто особо не задерживает, но есть два великих исключения: уже упоминавшиеся «Две венецианские дамы» Карпаччо и «Оплакивание Христа ангелами» Антонелло да Мессина. Картина Антонелло настолько замечательна, что перед ней дух захватывает, и время, изгрызшее лики Христа и трёх ангелят, горестно ластящихся к Cпасителю, как зверята к трупу убитого охотником родителя, добавило в этот шедевр авангардности, сообщив ему выразительность ну прямо-таки по-де-кунинговски неистовую. Антонелло поотчаяннее любого нью-йоркского экспрессиониста будет, и есть в этом произведении что-то, роднящее его с «Пьетой Ронданини» Микеланджело. В других разделах Музео Коррер тоже есть замечательнейшие вещи, но моими любимыми залами в нём являются не выставочные помещения, а предваряющие экспозицию залы Ала Наполеоника, выдающийся памятник позднего итальянского неоклассицизма, ещё не ожиревшего золотом и бордовостью ампира.
Сказка, рассказанная пьяной старушонкой в «Золотом осле» Апулея об Амуре и Психее, – одна из самых прекрасных сказок в мировой литературе. Есть в ней утешительные ласковость и простота, делающие всю историю лёгкой, скользящей, полной неуловимых нежных касаний. Когда в очередной раз закончишь читать историю о приключениях Любви и Души в рассказе Апулея ли, Лафонтена или Богдановича, то испытываешь лёгкое чувство утраты: как будто прозвучала ария Вивальди Zeffiretti, che sussurrate, «Ветерки, что прошептали», особую прелесть которой придаёт то, что она из неизвестной, утраченной оперы. Переживание лёгкой и прекрасной грусти идеально передано Кановой в его группе «Амур и Психея», называемой также «Психея, разбуженная поцелуем Амура». Великая скульптура столь красива – не прекрасна, а именно красива, – что после неё красота уж и исчерпанной кажется, ничего уж в области красоты красивого не сделаешь. Какой-нибудь «Поцелуй» Родена совсем не катит, так что остаётся лишь кич, ирония и штамповка «Сделано на небесах», Джефф Кунс и Чиччолина. Неоклассические залы Ала Наполеоника пропитаны духом Кановы, весьма уместно и обильно в залах этих и представленного. Самой скульптуры «Амур и Психея» в них нет, так как счастливыми обладателями этой группы, известной в трёх вариантах, стали другие музеи (Лувр и Эрмитаж обладают мраморами, Метрополитен же удовольствовался гипсовой моделью), но есть небольшая и от этого совсем уж замечательная восковая скульптурка, эскиз-набросок к замыслу группы.
Канова, родившийся в Поссаньо в Венето – последний гений независимой Венеции. Большая часть его жизни прошла в Риме, где он поселился сразу, как только добился успеха, и Канова воспринимается как римлянин, ставший гражданином мира, – нет, наверное, в истории искусств художника более интернационального. Канову хотела вся Европа, заклятые враги мечтали заполучить в свой кабинет бюст его работы, и лишь громкая кампания протеста, поднявшаяся в Англии, помешала ему, придворному портретисту Наполеона, стать автором надгробия Нельсона в лондонском соборе Святого Павла. Вроде бы перед скульптурами Кановы о венецианскости и не вспоминаешь, но здесь, в залах Ала Наполеоника, в неоклассических интерьерах, чья невероятная качественность по духу-то венецианская, вдруг становится ясным, что при Наполеоне Венеция отнюдь не была провинциальным городом, славным только прошлым, – таким она стала при австрийцах, Наполеона сменивших. Среди красоты Ала Наполеоника я готов уж даже и позабыть о том, какое чудовище был этот короткопалый тиран, ограбивший Италию и церковь Сансовино снёсший. Итальянцы, правда, всё же к Наполеону всегда относились лучше, чем к австриякам, хотя австрияки вернули им многое, что французы у них утащили.
Ко временам австрийской оккупации – не самой страшной, но всё равно оккупации – относится недавно отреставрированная и открытая к посещению часть залов Прокуратие Нуове, в которых были расположены покои Сисси. Характерно, что до недавнего времени венецианцы на них не обращали внимания: историзм никто особенно не любил, да и Сисси связывалась с ненавистными временами австрийского владычества. Почитать её итальянцам было как-то не с руки, какая бы она там очаровашка ни была, итальянцы заальпийских варваров недолюбливают со времени разрушения Рима Аларихом. Сегодня Европейский Союз – дело, кстати, задуманное Наполеоном, – заставляет забыть старые национальные обиды, и то, что покои Сисси открылись именно сейчас, не случайность. Оказалось, что Сисси была замечательна, много для Венеции сделала, да и вообще австрийское владычество было столь же терпимо, как сегодняшняя экономическая гегемония Германии.
Остановка первая: Сисси. Интерьеры императрицы Елизаветы, проводившей в Венеции очень много времени, относятся уже ко времени позднего ампира. Они существовали до появления Сисси, которая обладала достаточным вкусом, чтобы особо в дизайн не вмешиваться. Анфилада, связанная с Сисси, гораздо менее интересна, чем залы Ала Наполеоника, но все теперь визжат от восторга при виде будуара, расписанного веночками из васильков и ландышей, любимых Сиссиных цветочков. Мне уж надоело чинопочитание современного искусствоведения, изгаляющегося в выставках, посвящённых покровителям искусств и меценатам: про творцов забывают при этом напрочь. К Сисси я отношусь хорошо, конечно, со времён фильма «Людвиг Баварский», где Роми Шнайдер сотворила из неё образ очень симпатичной интеллектуалки. Ничего неприятного во встрече с ней в Венеции и нет, казалось бы, это в Вене она достала своей анорексией, ландышами и звёздами в волосьях, пялясь на вас с каждой конфетной коробки. В Венеции, однако, в гостинице, где я жил, всем хорошей, а особенно – местоположением, был один недостаток: она вся была увешана живописью ужасающего качества, принадлежащей, видно, руке одного творца. Кроме самостоятельных композиций с тётками, в изобилии присутствовали и копии, причём отвратительность нарастала по мере улучшения качества оригинала: так, пастушки Буше были лучше, чем рубенсовская Елена Фоурман с детьми, а Сисси Винтерхальтера – лучше, чем пастушки, но, сколь бы она не была лучше Елены, синюшне-белая винтерхальторовская красавица так мне осточертела, что у меня теперь от васильков с ландышами золотуха начинается, и, дабы от неё избавиться,
я быстро убираюсь из Сиссиных покоев, чтобы, пробежав археологическую коллекцию, очутиться в библиотеке святого Марка, называемой также Marciana, Марчиана, в моём самом любимом интерьере в мире.
Я помню, когда вход в Марчиану был отдельным и располагался на Пьяцетта, Piazetta, Пло́щадке (это ассистентка венецианской Пьяццы, несущая на себе колонны святых Марка и Теодора, двух покровителей Венеции, нового и старого; она не кампо, как все остальные, а пьяцца, но всё же с уменьшительным суффиксом), так что подняться в библиотеку можно было по лестнице Сансовино, пройдя между замечательных кариатид, и последовательность осмотра была правильной. В основной зал вы попадали не сразу, как теперь, когда входить в Марчиану нужно из залов Музео Коррер, а пройдя замечательный вестибюль, разукрашенный античной скульптурой, элегантно вставленной Сансовино в современный ему интерьер. Марчиана – пример того, как роскошь сочетается с хорошим вкусом, а щегольство – с интеллектуализмом: сочетание не слишком частое. Марчиана стала образцом для подражания для всех, кто требовал и величия, и мудрости – то есть для тех, кто стремился власть увязать с просвещением. Чувствуется, что творцам Grand siecle Людовика XIV Марчиана в печёнку засела и что элегантность венецианского неоклассицизма Ала Наполеоника всё той же Марчианой предопределена. При всей их парадности Залы Марчианы, в отличие от раззолоченных интерьеров Палаццо Дукале, в помпезность не впадают, равновесие шика и хорошего вкуса и сейчас производит впечатление, поэтому понятно, почему республиканскому архитектурному образцу подражали все монархи, на хороший вкус претендовавшие: в лучших екатерининских отечественных интерьерах – в Ораниенбауме или в Агатовых комнатах – также неуловимо витает дух шедевра Сансовино. Гениальный зал библиотеки – главный зал европейского маньеризма, ибо были в Европе маньеризма залы, расписанные более талантливо, но не было в Европе залов, где бы архитектурный декор и живопись были бы столь идеально сбалансированы.
Остановка вторая: ещё одна немка. Последний раз я был в Марчиане осенью 2013 года, во время проведения Биеннале. В Венецию я приехал ради Венеции, Биеннале меня нисколько не занимала, но в Венеции современное искусство во время проведения выставки давно выползло за пределы зоопарка Джардини, Giardini, Садов, с его национальными павильонами-загонами, и растеклось по городу, и я всё время натыкался на фрагменты Биеннале то там, то сям. Венецианская идея мне очень симпатична, к тому же благодаря Биеннале появляется возможность попасть в пространства, обычно для посетителей закрытые. Ни на что особо впечатляющее на этот раз я не натолкнулся, всё было мало изобретательно. Ничем особым не отличался и проект, представленный в Марчиане, однако в обрамлении архитектуры главного зала маньеризма он производил впечатление просто ужасающее. Библиотечные витрины с инкунабулами были сдвинуты, и их заменил помост с выложенными на нём пятью геометрическими фигурами. Фигуры были густо опутаны обёрточной бумагой, вылезая из неё, как полураспакованная покупка – куски копчёностей, например, или каких других жиров. По бокам, обрамляя бумажный ворох, стояли одиннадцать плоских квадратов из гнусноватой синтетики с узорами. Они походили на большие банные коврики, созданные бездарным дизайнером и никому не нужные, и всё именовалось очень торжественно: Art and Knowledge – The spirit of the place in the 5 Platonic Solids, «Искусство и Знание – дух места среди 5 Платоновых Основ». Текст, сопровождавший инсталляцию, рассказывал миру о величии автора, немецкой artist Лоре Берт, в своём произведении сопрягающей эстетику Канта, поэзию Рильке и «Божественную комедию» Данте. Текст, также как и произведение, рождал вопрос: интересно, а прочли ли автор с кураторами хотя бы статью в Википедии под названием «Платон»? Как-то было непохоже, чтобы прочли, и тут же, из пояснительного текста к выставке, глядело очень интеллигентное и очень достойное полное лицо автора, дамы не то чтобы приятной во всех отношениях, но просто приятной, и «фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки» из глаз её глядели, и я вспомнил, как недавно в одном интервью меня спросили: «Что вы думаете о состоянии галеризма в России?», а я честно ответил, что не имею ни малейшего понятия, что такое «галеризм». Лоре Берт «галеризм» мне прояснила: вот, приличные интеллигентные женщины и мужчины делают нечто, этакие поделки из клуба «умелые ручки», и приносят их другим приличным женщинам и мужчинам, распоряжающимся пространствами, что «галереями» зовутся, и те именуют никому не нужные поделки «проектом» и стараются кому-нибудь втюхать. Ну, Платон там, Divina commedia… Достойно всё, но скучно, и на фоне маньеристического шика Марчианы жалкость состояния
современного галеризма выглядела как-то уж особо глупо. Чтобы оправиться после встречи с Лоре Берт, я забежал ещё раз в вестибюль Марчианы повидаться с Ла Сапиенца, La Sapienza, «Мудростью», Тициана, и в беседе с ней найти покой и отдых. La Sapienza – совершеннейшая королева среди всех остальных аллегорий, украшающих стены и потолки Марчианы и написанных Веронезе, Тинторетто и Скьявоне, на этот раз мне показалась похожей на Сисси, но, конечно, не на гламурщицу Винтерхальтера с её ландышами-василёчками, столь безбожно иссиненную моим гостиничным художником, а на висконтиевскую, из «Людвига». Комментировать «Искусство и Знание – дух места среди 5 Платоновых Основ» Роми-Сапиенца отказалась, мудро ни слова не проронила, и я, её покинув, вышел на площадь. После истории, представленной Музео Коррер, и знания, представленного Марчианой, пора приникнуть к вере, воплощением которой является Дуомо, то бишь собор Святого Марка.
К вере в соборе Сан Марко приникнуть не так-то просто. Собор, в отличие от многих других церквей в Венеции, за вход с туристов денег не берёт, берут только многочисленные музеи, в нём расположенные – Сокровищница, Кони Сан Марко, Пала д’Оро, – но очередь в него постоянна и внушительна. Отстояв её и войдя в собор, вы попадаете из очереди внешней в очередь внутреннюю, потому что движение ограничено со всех сторон узким проходом, со всех сторон толпу стискивающим. Остановиться и осмотреться почти невозможно из-за напирающих сзади, и, несмотря на это, я всем рекомендую в собор зайти, ибо величественность его ничто не испортит, не испортила даже очень плохая реставрация его замечательных мозаик, произведённая поздним Ренессансном, и доказывающая, что виды и подвиды искусства изменяются, исчезают и появляются новые. В какие-то эпохи становится важным один вид искусства, он цветёт и кажется самым главным, но затем исчезает. Так, например, было с мозаиками, столь прекрасными в ранней Византии и в романских соборах. Во время готики они уступают место витражам, в Ренессансе деградируют, чтобы сегодня превратиться в плоские украшения метро и ванных комнат. С живописью то же самое – она цвела пять столетий, с XV века по XIX, но сегодня… Кому она нужна, что в ней? Она может быть и неплохой, как, в общем-то, неплохи мозаики XVI века, но в сравнении с веком XII они ничтожны – и вы ещё мне будете говорить о прогрессе? Вот чего-чего, а прогресса в искусстве нет, Лоре Берт в Марчиане мне об этом ещё раз напомнила, хотя делать это и не входило в её планы. Я же по поводу собора Сан Марко хочу посоветовать всем, кого его посещение в режиме живой очереди оставляет неудовлетворённым, следующее: идите к мессе. Лучше к утренней: постарайтесь выглядеть как можно менее туристично, но собранно и целеустремлённо, и охраннику у входа, который вас обязательно остановит, ибо стража не проведёшь, бросьте «Пер прегье́ра», Per preghiera, «На молитву». Страж смерит вас строгим взглядом сверху вниз, так как прекрасно поймёт, что вы врёте, но вы постарайтесь его взгляд выдержать, уверив по крайней мере себя, что вы действительно per preghiera в храм идёте, и – страж-то храмовый, а католический храм теперь себя признаёт открытым каждому – никто вас не развернёт, вы в храме окажетесь. Тут же увидите, что больше половины собравшихся для молитвы попала в храм тем же способом, что и вы, и вы получите возможность насладиться по-тициановски мерцающим пространством спокойно, всласть, да ещё в сопровождении хора, весьма в соборе Сан Марко недурного, – если отправитесь на воскресную мессу. Можете также и молитву вознести, ибо в отличие от русской церкви, церковь католическая православным молиться в своих стенах не воспрещает, только протестантам. Православная молитва в соборе Сан Марко более чем уместна, ибо всё в нём говорит о Византии и ортодоксии, так что filioque, филиокве, «и от Сына», что к латинскому символу веры прибавлено и Русь от Италии отделяет, становится не столь важным, но я сейчас не на мессе сижу, а нахожусь в соборе в гуще туристической толпы, поэтому, вытолкнутый ею, довольно быстро оказываюсь снова на площади, чтобы, направляясь от веры к власти, от собора к Палаццо Дукале, сделать остановку перед моей любимой в Венеции скульптурой.
Остановка третья: Тетрархи. В угол южного портала собора, как раз в ту его часть, где расположена Сокровищница, вмонтирована группа, вырезанная из благороднейшего порфира: две пары обнимающихся мужчин. Вроде как ни с чем и никак они не связаны, к архитектуре собора не имеют отношения, и представляют собой первое поколение каменных малых сих Венеции, к коим относятся Гоббо и Риоба. Обнимающиеся мужчины, однако, отнюдь не малые, а великие мира сего, и изображают четырёх властителей четырёх частей Римской империи: двух августов, Диоклетиана и Максимиана, и двух цезарей, Галерия и Констанция Хлора. Относятся скульптуры к концу III – началу IV века, когда империя разваливаться начала, но ещё не развалилась, и когда-то украшали один из дворцов в Константинополе. После Четвёртого крестового похода крестоносцы Тетрархов из стен выковыряли и привезли в Венецию как добычу, вместе с Конями Сан Марко. В произведении этом, созданном во время последнего цветения античности, есть неодолимая привлекательность варварства. Я уверен, что этот эффект осознанный, применённый очень талантливым и отнюдь не наивным мастером, специально стилизовавшим изображение так, как Пикассо стилизовал свои произведения под африканские скульптуры. Порфир – материал для работы скульптора чуть ли не самый сложный, для обращения с ним нужна школа и опыт, и думать, что этот шедевр искусства поздней Римской империи сделан мастером, утратившим навыки позднего эллинизма в изображении человеческой фигуры, это всё равно как думать, что кубисты с экспрессионистами разучились рисовать. Нельзя сказать, что фигуры тетрархов неиндивидуальны, они – надличностны, и иератичная застылость изображения не неумелость, а старательно продуманная стилистика. Величественные карлики, коими представил нам эллинский мастер, пожелавший остаться неизвестным, владык мира, – это покруче «Портрета королевской семьи» Гойи будет. Видно, что художник поставил перед собой задачу выработать язык, который был бы внятен дикости: у римской цивилизации был единственный выход – впитать в себя варварство, превратив своих врагов в «новых римлян», и тем самым спасти империю. Как говаривал князь Салина, «Перемены нужны для того, чтобы всё осталось как прежде». Принявший на смертном ложе христианство император Константин, наследник тетрархов, руководствовался именно этим соображением: в конечном итоге христианство Римскую империю и спасло, ибо, даже разорённый и разрушенный, Рим, благодаря вере в Иисуса, подчинил себе варваров.
Размышления о времени великого перелома и о роли Венеции в истории человечества, столь мудро из Константинополя тетрархов уволокшей, чтобы их в стену своей святыни вмонтировать, всегда накатывают на меня при виде порфировых порфироносных уродов, но привлекает больше всего меня в них то, что этот великий знак древности, волочащий за собой тысячелетие, находится в такой интимной доступности, прямо как всё тот же Риоба, протяни руку – и дотронешься, хотя, наверное,
вскоре тетрархов оградят от нас с вами, как это произошло совсем недавно со Скала Контарини дель Боволо и Гоббо ди Риальто, и обаяние возможности тактильной встречи с Константинополем, что так влечёт меня к Тетрархам, исчезнет. Четыре серьёзных коротышки являются чудесным преддверием восхождения из святыни веры в святыню власти.
Ка’ Контарини дель Боволо
Палаццо Дукале – самый роскошный президентский дворец в мире. Белый дом в сравнении с ним – хижина дяди Тома, а Кремль – грубо размалёванная хрущоба. У Палаццо Дукале есть лишь один соперник – это Ватикан, жилище наместника Бога на земле, который тоже нечто вроде выборного президента, но большая часть Ватиканского дворца для простых смертных закрыта, большая часть же Палаццо Дукале открыта, и вот проплывают перед вами километры «веницейской жизни, мрачной и бесплодной», резные потолки, золото, картины, много, очень много картин, вставленных в раззолоченные рамы, по стенам, на потолках, везде, все прекрасные, все написаны изобильно и мастерски, и видно, что все художники, работавшие над украшением Палаццо, как гении, так и не совсем, как будто стремятся к тому, чтобы их произведение стало самым-самым и в Книгу рекордов Гиннесса вошло, – удалось это только «Раю» Тинторетто, гениальнейшей халтуре, украсившей Сала дель Маджор Консильо, Sala del Maggior Consiglio, Зал Большого Совета, ставшей самой большой картиной в мире. С чем Тинторетто и поздравляю, но, всем восхитившись, а особенно – двором и Скала деи Джиганти, Scala dei Giganti, Лестницей Гигантов, уже, увы, от посетителей огороженной, я в торжественной искусственности аллегорий, наверченных искусством, вставшим на службу власти, всё время ожидаю того, что является концом любого путешествия по Музеям Сан Марко – Тюрем. Гениальный финиш; как только задумаешься над тем, что Тюрьмы заканчивают любой поход по Музеям Сан Марко, так даже и удивляешься, насколько это продуманно: история, знание, религия, власть и – несвобода. Комплекс Пьяццы прямо-таки трактат, этакое Платоново «Государство» в камне. В самое моё последнее посещение Венеции, вновь обходя, шаг за шагом, одно из самых священных мест планеты Земля, я, как всегда, ощутил, как «тяжелы твои, Венеция, уборы», и задумался о Каприччи ди Карчери, Capricci di Carceri, «Воображаемых Темницах», Пиранези, удивительной серии гравюр, о которых как раз недавно написал книжку. В книжке я сказал, повторяя, если честно признаться, чужое мнение, которое на тот момент казалось мне моим собственным, что венецианские Тюрьмы, называемые также И Пьомби, I Piombi, «Свинчатками», из-за свинцовых крыш, делавших существование в камерах, непосредственно под крышами расположенных, совсем уж невыносимым из-за жары летом и холода зимой, к Capricci di Carceri не имеют никакого отношения, потому что все реальные тюрьмы, известные на тот момент, были рядами крохотных каморок без всякой величественности и питать воображения Пиранези никак не могли. Теперь же я понял, что произведение одного из последних венецианских гениев – а Пиранези, как и Канова, считается венецианцем, хотя большую часть жизни также провёл в Риме, – изначально есть результат внимательного прочтения каменного трактата Пьяццы.
Остановка четвёртая: Тюрьмы. Серия из четырнадцати офортов Пиранези, «Тюрьмы», Capricci di Carceri, странная череда пугающе необъяснимых мрачных образов, стала одним из любимейших произведений модернизма. Не особенно популярная при жизни Пиранези, заново открытая романтизмом, эта серия снова и снова привлекала и привлекает писателей, архитекторов, режиссеров необычностью не только сюжета, но и пространственного построения, напоминающего не о реальной архитектуре, а об ирреальном пространстве сна, наваждения, горячечного бреда. В романе «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Томас де Квинси посвятил Capricci di Carceri Пиранези несколько абзацев и так ярко вписал эту серию в опиумные видения «искусственного рая» одурманенного наркотиком мозга интеллектуального эстета, что с публикации романа пиранезиевские фантазии стали трактоваться как прорыв в искусство будущего. Роман Томаса де Квинси, невероятно популярный среди эстетов fin de siecle, у Готье и Бодлера в первую очередь, создал Пиранези репутацию одного из первых художников, проникнувших в мир болезненного подсознания. В России, чуть позже де Квинси, В. Ф. Одоевский пишет рассказ «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi», превращая этого главного «представителя римского неоклассицизма», как часто характеризует его искусствоведческая литература, в отчаянную и мрачную романтическую фигуру. Темницами Пиранези был увлечен Виктор Гюго, создавший под влиянием его офортов целую серию рисунков, вызвавших восхищение Одилона Редона. Герман Мелвилл, автор «Моби Дика», в своей поэме «Кларел, или Паломничество в Святую землю» упоминает Пиранези, посвятив ему отдельную песнь. Впечатления от мрачных фантазий Пиранези вычитываются в новеллах Эдгара По – к концу XIX века его влияние перебралось на западный берег океана. Мировой символизм всосал Пиранези, как детское питание, и порождения символизма, экспрессионизм и сюрреализм унаследовали любовь к его гравюрам. Эссе о Пиранези написали Олдос Хаксли, Маргерит Юрсенар, Сергей Эйзенштейн, и благодаря им Пиранези оказался в центре внимания XX века. Офорты Пиранези стали отправной точкой для многих режиссёров, от Фрица Ланга до авторов современных фэнтези. С другой стороны, его архитектурные идеи вдохновляли архитекторов тоталитарных режимов: достаточно посмотреть на проекты Шпеера, чтобы убедиться в актуальности Пиранези для эстетики Третьего рейха, а о влиянии Пиранези на сталинскую архитектору говорит подземная утопия московского метро, изобилующая заимствованиями из «Темниц». К тому же Пиранези стал чуть ли не любимым архитектором постмодернизма. Роберт Вентури и Даниэль Либескинд поклонялись ему, так же как и Рем Колхас: постмодернизм превратил Пиранези в священную корову, и по количеству откликов и цитат в современном искусстве среди всех художников своего времени Пиранези, войдя в плоть и кровь модернизма, занимает, пожалуй, первое место. Популярность «Темниц» в XX веке объясняется не только формой, но и тематикой: желание Пиранези изобразить Тюрьму изнутри, посвятив этому целую серию произведений, возникло у него чуть ли не первым в европейской изобразительной традиции, и это свидетельствует о внутреннем переживании темы заключения и несвободы, возникшего не только из тревожного предчувствия, реявшего в воздухе времени, предшествующем Французской революции, но также и о важности для Пиранези венецианских воспоминаний, о связи Палаццо и Приджони, показывающих, что Власть и Тюрьма намертво связаны через Понте деи Соспири, Ponte dei Sospiri, Мост Вздохов, символ Венеции, столь прельстительный снаружи, но изнутри представляющий собой гнусный узкий коридор. Можно сказать, что Пиранезиевы «Тюрьмы» содержат
в себе и «Узника замка Иф» Александра Дюма, и «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда, и «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика, и «Чудо о розе» Жана Жене, и Quelques messages personnels Пьера Клеманти («Кое-что о себе», в итальянской версии название этого романа звучит совсем по-пиранезиански: Carcere italiano, «Итальянская тюрьма»), и письмо Надежды Толоконниковой. Серия Capricci di Carceri рифмуется с Histoire de ma vie Джакомо Казановы – чуть ли не первым в европейской традиции свидетельством о тюрьме и заключении, исходящим непосредственно из уст заключенного, и тюрьма – от сумы да тюрьмы не зарекайся – делает Пиранези и Казанову героями Нового времени и модернизма.
Величие произведения не должно измеряться его актуальностью в ту или иную эпоху, и объяснять его только через призму сопутствующей ему современности значит его обеднять. Величие произведения в том, что оно способно помочь нам из темницы времени выбраться в вечность, и:
«И здесь мы вышли вновь узреть светила».
Этой строчкой – цитатой из Данте – Джакомо Казанова заканчивает пятнадцатую главу четвёртого тома Histoire de ma vie. Следующая глава начинается фразой: «Я выхожу из темницы». В повести о побеге Казановы из венецианской тюрьмы I Piombi, самом знаменитом место в его книге, концовка «Ада» Данте звучит как нельзя кстати. Благодаря этой строчке живо представляешь две фигуры (Казановы и падре Бальби), выкарабкивающиеся из мрака, из камер I Piombi, замкнутых сводами, на крышу, и…
…вздох свежего, не спертого тюремными стенами воздуха, открытое пространство вокруг разлилось безмерно – свобода, и темное звездное осеннее небо Венеции глянуло им в очи.
Fiction, конечно, красиво и немного напыщенно, а если мы учтем, что написано это брюзжащим старым сифилитиком в замке Дукс в Богемии, то даже и несколько смешно. Впрочем, не смешней, чем «бездонное небо Аустерлица», и я хочу несколько заострить внимание на использовании Казановой Данте, в котором не просто ученое красноречие проявлено. Сравним концовку «Ада»: «Мой вождь и я на этот путь незримый Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, И двигались все вверх, неутомимы, Он – впереди, а я ему вослед, Пока моих очей не озарила Краса небес в зияющий просвет; И здесь мы вышли вновь узреть светила», – и концовку пятнадцатой главы: «Но настало время пускаться в путь. Луны больше не было видно. Я привязал падре Бальби на шею с одной стороны – половину веревок, а на другое плечо – узел с его жалкими тряпками, и сам поступил так же. И вот оба мы, в жилетах и шляпах, отправились навстречу неизвестности.
E quindi uscimmo a riveder le stelle И здесь мы вышли вновь узреть светила.Строчка Данте – Казанова прекрасно это прочувствовал, – знаменуя собой выход из «Ада» вверх, в то же время гениально сохраняет ощущение ужасающего величия низа. Я уверен, что создавая свой fiction, Казанова осознавал пародийность сравнения двух пар: Данте с Вергилием и себя с падре Бальби, в жилетах, шляпах, с узлами жалких тряпок на плечах.
Теперь я, вместо падре Бальби, карабкаюсь с Казановой вверх и вылезаю на крышу Тюрьмы. Казанове надо бежать, я же, никем не преследуемый, могу и расслабиться, помедлить, насладиться видом Венеции. Мне, правда, мешает стена Палаццо Дукале, закрывающая вид, поэтому я карабкаюсь выше Тюрем, на Кампаниле ди Сан Марко (отстояв огромную очередь и пешком) или на Кампаниле Сан Джорджо Маджоре (отстояв небольшую очередь и на лифте), и, вскарабкавшись, преодолев свою улиточную лестницу и замерев перед панорамой Венеции, я оказываюсь нос к нос со страшноватой обезьяной.
Остановка пятая: обезьяна. Что за обезьяна, вы узнаете из следующих глав.
Валларесcо
Дорсодуро
Глава одиннадцатая Богемная рапсодия
«Фойе Ридотто» Франческо Гварди. – Наконец-то обезьяна. – Калле дель Ридотто. – Мостки гондольера и отель Бауэр: basilica di Santa Maria della Salute. – Куинджи, Исаакий и базилика. – Aqua alta. – Святой Мартин забрался на чердак. – Острие Моря. – Easy come, easy go, Фредди Меркьюри и Ян Стен. – Борьба с мальчиком и лягушкой. – Ca’ Rezzonico. – Снова про чернокожих. – Карпиони. – Браунинги. – Фрески виллы Дзианиго. – Фонтан семейства Реццонико и секрет бессмертия графа Хобрука
В музее Ка’ Реццонико, Ca’ Rezzonico, висит картина, притягательная, как магнит из восточной сказки, что поднимался на поверхность моря и выдёргивал из проходивших мимо кораблей все гвозди, так что они тут же разваливались. Картина эта – «Фойе Ридотто» Франческо Гварди, интерьерная жанровая картина художника, больше известного своими венецианскими видами. Для Франческо Гварди, считавшегося пейзажистом par excellence, она столь неожиданна, что долгое время приписывалась его старшему брату, Джованни Антонио Гварди, также замечательному живописцу, незаслуженно обделённому вниманием публики. Как пейзажист Франческо Гварди был столь популярен, что его повторяли, копировали и имитировали с конца XVIII века до наших дней, так что в музеях навалом фальшивых Гварди, иногда столь отлично сделанных, что их от настоящих и не отличишь. Популярность его свободной и лёгкой живописной манеры, предвосхищающей импрессионизм, была такова, что в XX веке оказалась распроститутуированной – прошу прощения за длинноту неологизма – до невозможности, до a la Guardi. В результате конец XX века к Гварди охладел, предпочтя ему Каналетто и Мариески. Определённая разумность в реабилитации этих двух замечательных ведутистов Венеции есть, но вообще-то некоторое пренебрежение, что сейчас проявляет к Гварди стандартный хороший искусствоведческий вкус, несправедливо – как ведутист Гварди ни Каналетто, ни Мариески не уступает, но помимо этого он не только пейзажист, но автор замечательнейших фигурных сцен; Каналетто с Мариески также больше, чем просто пейзажисты – в отличие, например, от Белотто, – потому что каждый вид, ими сотворённый, ещё и драма, но чисто формально они ограничены рамками жанра. Гварди же разыграл драму Венеции во всей её полноте, и, не довольствуясь венецианскими экстерьерами, он ещё изображал и интерьеры, то есть нутро Венеции.
Дзаттере
Изображение «Фойе Ридотто», главного игорного дома Венеции – одна из кульминаций драмы венецианского сеттеченто. Картина изумительна. Она психологична, как роман: мы как будто залезаем внутрь венецианской души. Группа мужчин и женщин занята друг другом, полуобщение, полуузнавание, полупоклоны, полуулыбки из-под полумасок; обман, надувательство, тяга к наживе и тяга к расточительству; флирт, игривость, продажность, лёгкая дрожь похоти – картина Гварди лучшая иллюстрация к Histoire de ma vie Джакомо Казановы. Лучше даже, чем фильм Феллини. Дух Венеции XVIII века в картине Гварди передан так, что она кажется задуманной после прочтения бесконечных описаний галантной Венеции, что заполнили литературу в модерне и модернизме, и даже – после просмотра фильма Феллини. Как будто в голове Гварди ещё до написания этой картины родилось намерение создать мифологему «Венеция Казановы», напихав в картину все отрефлексированные XX веком венецианские переживания. «Маска, зеркало, свеча» – Муратов отлично это определил. «Маска, зеркало, свеча» распроститутуировались до того, что появляются такие уроды, как фильм «Казанова» Лассе Халлстрёма с Хитом Леджером в главной роли, который я, дурак, привлечённый названием и исполнителем, пошёл смотреть, и на котором меня просто мутило и выворачивало наизнанку, но из мазохизма, мне свойственного, я досмотрел его до конца. Картина Гварди – образец для спекуляций на темы венецианского сеттеченто, но сублимируя в себе рококошность и венецианскость, Гварди их очищает, давая в «Фойе Ридотто» квинтэссенцию венецианского XVIII века. Действует она подобно aceto balsamico – настоящему моденскому уксусу, божественному бальзаму, что сегодня достать чуть ли не столь же сложно, сколь и эликсир жизни, и который имеет отношение к тому, что продаётся в самых фешенебельных магазинах за невероятные деньги под названием «бальзамический уксус» такое же, какое Венеция Гварди имеет к Венеции Халлстрёма, чтоб ему быть пусту. Я сравнил картину с магнитом, все скрепы вытягивающим, не случайно – неподражательная странность «Фойе Ридотто» бередит и пробирает.
Изображённая Гварди драма венецианской жизни прельщает, как в юности влекут рассказы о чём-то опасном, порочном и перверсивном – как маркиза де Мертей. Только чистая душой невинность искренне восхищается подобными персонажами: когда я был в возрасте кавалера Дансени, мне маркиза, конечно, нравилась больше всех других героев «Опасных связей». Теперь же года к мадам де Турвель клонят. Маркиза, великая, конечно же, мыслительница, но сейчас влечёт лишь как возможный собеседник, да и только, – не хотел бы я жить с ней в одной коммунальной квартире. «Фойе Ридотто» – совершеннейшее царство де мертейш различных возрастов, полов и социальных положений. В молодости очень хочется стать одним из персонажей «Фойе Ридотто», в старости оцениваешь лишь художественные достоинства произведения. Они огромны – я даже не говорю о том, что и как изображено, но общий гениальный композиционный ритм, рокайльный, напоминающий о Ватто, но прямо-таки по модернистски остро-изломанный, рождает тонкое чувство риска, что прямо растворено в атмосфере этого царства личин, ибо даже открытые лица у Гварди производят впечатление столь же искусственное, как и маски. «Фойе Ридотто» объясняет лучше любого искусствоведческого рассуждения то, почему Стравинский в очень английской по теме опере «Похождения повесы», созданной по мотивам гравюр Хогарта, бредит Венецией. Да и премьера его оперы, состоявшаяся в театре Ла Фениче, La Fenice, в двух шагах от исторического Ридотто, намертво связала оперу с Венецией, намертво в буквальном смысле слова – могила Стравинского тоже в Венеции. «Фойе Ридотто» – лучшее оформление «Похождений повесы», и Дэвиду Хокни, заслуженно восхваляемому за декорации к постановке на Глайндборнском оперном фестивале, при всех его достоинствах до Франческо Гварди далеко.
Я обещал обезьяну. Дело в том, что, выбравшись вслед за Казановой на крыши Тюрем, я, когда воспарил выше его, сгинувшего в Австрию по делам, то лицом обратился на запад, к Ридотто, и столкнулся с обезьяной, потому что: «Обезьяна распростерла Побрякушку над Ридотто, Кристалличной сонатиной Стонет дьявол из Казотта. Синьорина, что случилось? Отчего вы так надуты? Рассмешитесь: словно гуси, Выступают две бауты. Надушённые сонеты, Мадригалы, триолеты, Как из рога изобилья Упадут к ногам Нинеты. А Нинета в треуголке, С вырезным, лимонным лифом, – Обещая и лукавя, Смотрит выдуманным мифом. Словно Тьеполо расплавил Теплым облаком атласы… На террасе Клеопатры Золотеют ананасы. Кофей стынет, тонкий месяц В небе лодочкой ныряет, Под стрекозьи серенады Сердце легкое зевает. Треск цехинов, смех проезжих, Трепет свечки нагоревшей. Не бренча стряхает полночь Блёстки с шали надоевшей. Молоточки бьют часочки… Нина – розочка, не роза… И секретно, и любовно Тараторит Чимароза». Ридотто совсем рядом, в двух шагах от Тюрем и Пьяцца Сан Марко, вот обезьяна, что над ним распростёрлась, мне в нос погремушку и сунула.
Стихотворение Кузмина я считаю лучшим русским стихотворением о Венеции, лучше даже, чем стихи Блока и Мандельштама. Образ, Кузминым созданный – перл, хотя он и ограничен рамками мирискуснического мифа о восемнадцативековой Венеции. К тому же это стихотворение – отличное описание картины Гварди: в «Фойе Ридотто» есть и стонущий дьявол из новеллы Казотта, великого произведения, считающегося предчувствием надвигающегося ужаса революции, есть и гусиная важность баут в траурных домино, и мадригалы с триолетами в вырезах нинетт, треск цехинов, обман блёсток, и тараторка Чимарозы, превращающаяся у Гварди тут же, по ходу дела, в диссонансную полиритмичность Стравинского. Ну, и конечно же, самое главное – картина Гварди смотрит выдуманным мифом.
А обезьяна? Обезьяна – часть выдуманного мифа, и она очень кстати над Ридотто. Особо глубинных трактовок и не нужно, чтобы понять, что она вставлена Кузминым не только из соображений поэтических красот, а очень даже по существу. Понятно, что обезьяна, символ плутоватого лукавства, персонификация дьявола; где ж ещё ей погремушкой махать, как не над игорным домом Ридотто? У данной обезьяны вдобавок есть конкретный сюжет, и она над Ридотто не просто так воспарила. Об этом я расскажу в Кастелло, потому что обезьяна в стихотворение Кузмина из этого сестиере запрыгнула, пока же мне не до этого: с Ридотто надо заканчивать. Я же всё ещё в Сан Марко торчу, и никак не переправлюсь на другой берег Канале Гранде, в Дорсодуро.
Ridotto, слово, имеющее значение «сниженный», «обрезанный», «усечённый», также эквивалентно французскому foyer, «фойе» в его театральном значении, так что принятое название картины Гварди «Фойе Ридотто» – это масло масляное. Но и не совсем, потому что Ridotto превратилось в имя собственное одного из крыльев одного из дворцов, принадлежавших семейству Дандоло, в котором было устроено первое официально дозволенное казино в Венеции. То есть картина Гварди – приёмная, а не игорный зал Ридотто. Казино открылось в 1636 году, и вскоре Ридотто стало одним из самых светских мест не только Венеции, но и в Европе, этаким Монте Карло сеттеченто. Ридотто определял жизнь города, его карнавальную суть, и Ридотто стал таким же понятием, как Риальто, неопределённо распространившись на целый район. В XVIII веке Ридотто как будто сменил Риальто: венецианские хлыщи Саланио с Саларино во времена сеттеченто спрашивали бы: Now, what news on the Ridotto, «Ну, что нового на Ридотто?» – эта перемена многое поясняет в восемнадцативековой Венеции. Раньше Венеция наживалась, теперь же она всё пускает на ветер, easy come, easy go, «легко приходит, легко уходит». Вход в Ридотто в масках был чуть ли не предписан, и от этого места прямо-таки так и несло благоуханием шикарной злачности, заглушая собой вонь каналов. Тогда каналы воняли, ибо их не чистили, теперь их очень хорошо чистят, и они пахнут.
Ка’ Реццонико
От Ридотто сегодня осталось лишь название Калле дель Ридотто, Calle del Ridotto. Улочка эта начинается сразу за углом церкви Сан Моизé, chiesa San Moisè, Святого Моисея (опять Ветхий Завет), шикарного и экстравагантного нагромождения позднебарочного резного мрамора. Сама церковь, древняя в основании, в конце XVII века была кардинально переделана архитектором Алессандро Треминьоном на деньги банкиров Фини, богатейшего семейства киприотов, поселившихся в Венеции, и фасад её, так же как и интерьер, представляет памятник деньгам, очень большим деньгам. Вид у этой церкви рулеточно-монтекарловский, она была фешенебельнейшей церковью венецианского сеттеченто (для Венеции XVIII века понятие «фешенебельная церковь» было нормальным; в Сан Моизе́, кстати, крестили Пиранези), и стоит она на Салидзада Сан Моизé, Salizada San Moisè, одной из самых гламурных улиц Венеции. От Салидзада Сан Моизé и бежит Калле дель Ридотто, чтобы, скользнув по мосткам гондольеров, нырнуть, как монетка, в Канале Гранде. Улочка Калле дель Ридотто параллельна Калле Валларесcо, Calle Vallaresso, также бегущей от гламура, но упирающейся в станцию вапоретто и поэтому относительно оживлённой. На Валларессо расположились витрины нескольких моднейших магазинов, в том числе и магазин Missoni, творца моих любимых тряпок. Пестрота Миссони как-то очень истинно венецианская, и я бы с удовольствием у Миссони одевался, если бы деньги были, но их не было, а теперь уже «Всему пoрa! То, что было мускус темный, Стало нынче камфора», не до Миссони, но тем не менее я поглазеть на Миссони иногда захожу, как и на Фортуни, также венецианского портного, создавшего самые гениальные платья в мире. Музео Фортуни, Museo Fortuny, расположен в Ка’ Фортуни, Ca’ Fortuny, относительно недалеко от Калле дель Ридотто, но сейчас я туда не пойду – уже ночь, да и в Дорсодуро пора.
Калле дель Ридотто, в отличие от Калле Валларессо, тупик, заканчивающийся водами Канале Гранде, и здесь нет ни особого гламура, ни людей. Светятся лишь заблудшие витрины Louis Vuitton, отбившиеся от основного гамурного стада Салидзада Сан Моизé. Оказавшись на Калле дель Ридотто, столь вечерне молчаливом, я смотрю на задворки дворца Дандоло, теперь превратившегося в дорогую гостиницу, и вспоминаю официозную скуку современного венецианского казино, нынче располагающегося в роскошном Ка’ Вендрамин Калерджи, Ca’ Vendramin Calergi: посетителей, похожих на статистов, без малейших признаков страсти на лице, компьютерную проверку паспорта при входе, сухую вежливость обслуги. Выродившийся маскарад венецианской жизни, никакого Франческо Гварди. Здесь, на Калле дель Ридотто, пройдя последний блеск витрины Louis Vuitton, в тиши тупика перед плещущей тёмной водой я люблю поразмышлять поздними вечерами о sic transit gloria mundi. Неужели вся карнавальная мишура Ридотто Казановы, таинственность и вседозволенность, азарт и корыстолюбие, дамы в кринолинах и черных полумасках, заслоняющие свои речи кружевными веерами, зловещие фигуры в домино и баутах, что-то шепчущие им на ухо, всё это томительное очарование Венеции, проникнутое остроумием, роскошью и сладострастием, всего лишь сегодняшняя тишина Калле дель Ридотто, сосредоточенная во мне, и – ничего больше?
И да, и нет. С Калле дель Ридотто связано втемяшившееся в меня в первый же приезд в Венецию переживание, очень для меня венецианское. Я был так перебудоражен в те три дня Венецией, что спать не мог, и ночью отправлялся бродить куда глаза глядят. Выскользнув из гостиницы и пройдя круглосуточно блещущую Салидзада Сан Моизé, я оказался в лабиринте узких улочек. Стало темно и тихо, я был один, и вдруг:
Mais mon chéri, ne cours pas, ne va pas si vite, — но мой дорогой, не убегай, не иди так быстро —позади, в глухой темноте узкой венецианской улочки, я услышал французскую речь, и голос, низкий и нежный хриплый женский голос, превративший мою спину в сплошную эрогенную зону, заставил меня обернуться. О Господи, если бы хоть раз в жизни подобный голос окликнул бы меня mon chéri! Повернув голову, я увидел сцену, как будто срежиссированную поздним Висконти: chéri, улыбающийся и счастливый, в небрежно накинутом белом шарфе, полуобернулся к своим спутникам, невозможной красавице с неправильным лицом, в широком сером брючном костюме, и молодому человеку в джинсах, с англизированной ранней лысиной и выражением сжатых губ столь интеллектуальным, тонким и надменным, что оно казалось придуманным модным романистом, подражающим Холлингхёрсту. Боже мой, белокурость chéri, его легкость, его непринужденная свобода были столь совершенны, столь продуманны и столь лишены недостатков, что эта троица, и chéri, и красавица, и интеллектуал казались статистами, нанятыми отелем Бауэр, чтобы разыгрывать сцену из венецианской великосветской жизни, дабы ты, случайный зритель, хранил её в своем сердце всю оставшуюся жизнь, пересказывал своим детям, зарождая в их невинных душах мечту увидеть венецианскую сказку своими глазами во что бы то ни стало. Ночь вокруг меня была черна и молчалива, и, быть может, ничего и не было, но – «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»
Я глядел, как Эмма Бовари на проезжающую кавалькаду светских аристократов, на этот фрагмент чужого великолепия. Честно признаться, смотрелось это выдуманным мифом и во всей сцене было что-то демертеевское. С возрастом к подобным переживаниям охладеваешь, но до сих пор, когда я забредаю в тупик Калле дель Ридотто, я о chéri вспоминаю, и, усевшись на мосток гондольера, улочку заканчивающий, мечтам предаюсь, а вид с мостка очень к этому располагает. Ночной вид с Калле дель Ридотто – один из самых любимых моих видов в Венеции, и смотрю я на то, к чему вёл тебя, дорогой читатель, так долго: на другой берег Канале Гранде, на Дорсодуро и на базилику Санта Мария делла Салуте, basilica di Santa Maria della Salute, базилику Святой Марии Выздоровления [Исцелений, а также Здоровья, перевод многозначен]. Чудные слова Мечтателя из «Белых ночей» Достоевского снова лезут мне в голову, и я счастлив: тёмный плеск воды и тишина, и самый захватывающий в мире церковный силуэт (Санта Мария делла Салуте русские путеводители часто именуют собором, что неправильно, она – просто церковь, про особый статус базилик я уже говорил) благосклонно позволяет себя созерцать столько, сколько мне угодно.
Раз в жизни угораздило меня пожить в отеле Бауэр, Bauer Hotel, в одной из самых дорогих гостиниц Венеции. Нормальная стандартная роскошь, для меня ничего захватывающего, просто опыт, но, когда в первое утро я спустился к завтраку, то оказалось, что он сервирован на террасе буквально vis-à-vis Санта Мария делла Салуте, и утренний вид церкви, ярко и солнечно вознёсшийся передо мной, оглушил меня. Она гремела – торжественная и загадочная. Я в неё влюбился, хотя всегда понимал, что архитектура церквей Палладио гениальна, а творение Бальдассаре Лонгены лишь барочная вариация на палладианскую тему. Архитектура Санта Мария делла Салуте не палладианство даже, а палладианщина, как говорят итальянцы, у которых нет слова palladianismo, а есть palladinesimo: этот термин имеет лёгкий уничижительный оттенок, и лучше всего его переводит слово «палладианствование» – даже и не знаю, правда, зачем я всё это говорю, для очистки своей искусствоведческой совести, что ли, потому что все эти соображения совершенно не важны перед Санта Мария делла Салуте ни утром, на террасе отеля Бауэр, перед её видом звеняще-торжествующим, ни вечером, на ветхих гондольерских мостках, с которых Ридотто скользит в воду Канале, когда Санта Мария делла Салуте задумчива и самоуглублённа.
Как-то, листая случайно попавшийся под руку альбом русской живописи, я натолкнулся на картину Архипа Куинджи «Исаакиевский собор ночью». Будучи только что из Венеции, я в этой хорошо известной мне картине вдруг углядел – именно углядел, а не увидел – невероятное сходство Исаакия и Санта Мария делла Салуте, никогда ранее мною не ощущавшееся. Куинджи ещё собор развернул так, что вся Сенатская площадь пропала, сократившись до размеров площадки перед Салуте. Я даже полез в литературу об Исаакии, обширнейшую, и вроде как ничего не нашёл о его сходстве с венецианским прототипом, хотя в исчерпанности своего research не уверен. Мысль тут же запрыгала как блоха: все знают про миллион деревянных свай, древесных стволов, огромный лес деревьев, забитых в венецианские трясины, чтобы их как-то укрепить и чтобы такая махина, как Санта Мария делла Салуте, выстояла. Миллионы деревьев вбили и в чухонское болото для постройки Исаакия, и два грандиозных сооружения, тяжёлых, перегруженных как с точки зрения архитектурной, так и инженерной, сейчас балансируют на зыби, грозя оползти, обрушиться и сгинуть, но обе церкви стоят – на уж вроде как и должной сгнить основе – незыблемо и нерушимо, торжественным гимном утром и реквиемом ночью. Это ли не сходство судеб двух городов, и оно гораздо важнее пошлейшей метафоры «Северная Венеция», подразумевающей какую-то там красоту, которая у этих двух городов уж никак не схожа. Петербург и Венеция с рождения антагонисты и во всём противоположны. Петербург, самый западный город России и русского православия, есть измышление имперского сознания, жесткое и неестественное, и, в сущности, человеку ненужное, а потому и бесчеловечное. Венеция же, самый восточный город Западной Европы и римского католицизма – порождение сознания свободного и республиканского, и, как бы теперь искусственно не смотрелись её дворцы, в воду понатырканные, её островно-болотное местоположение изначально было оправдано разумными и человечными соображениями: оно давало безопасность всем жителям берега Адриатики, старающимся спастись от нашествия варваров. В Петербурге холодно и неуютно – я не климат и состояние тела имею в виду, а состояние души, – а в Венеции солнечно и славно, отнюдь не из-за географических долгот-широт, а из-за широт и долгот архитектурных. Петербург болен гигантоманией, и пространство его разреженно отвлечённое, Венеция же спонтанна, уютна и насыщенна. Если genius loci на мозги оказывает хоть какое-то влияние – а он оказывает, вроде как все с этим согласились, – то сама консистенция мозгов питерца должна кардинально отличаться от консистенции венецианских мозгов.
Церковь ди Санта Мария делла Салуте
А вот, поди ж ты, Исаакий и Салуте. В переплетении двух образов есть нечто большее, чем просто внешняя похожесть. Я заметил, что русские о Венеции всё стихи писали, романов же и рассказов о ней немного, и лучшее – «Рассказ ненужного человека» Чехова: «В Венеции у меня начались плевритические боли. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в Hôtel Bauer. Пришлось с первого же дня лечь». Помните? – Затем у Чехова следует описание короткого венецианского счастья. Наверное, этот город был слишком красив для нас, детей долготерпенья, привыкших сквозить и тайно све́тить в наготе своей смиренной, поэтому в нашу прозу он не очень лез. Какая уж там «Северная Венеция», это лишь оплаченная русским правительством агитка Готье, придумавшего метафору на заказ. Зато от Венеции с ума сошёл модерновый Петербург русского серебряного века, Венецией бредили все «Привалы комедиантов», и венецианомания, породившая в том числе и перл Кузмина, была пестра, весела и пахла тленом. Петербургская венецианомания была симптомом болезни, она свидетельствовала о том, что сваи гниют и Исаакий скоро рухнет – он хоть и не рухнул, но жизнь из него ушла.
В разграбленном соборе в 1928 году службы прекратились, и, хотя здание и не снесли, так как президиум ВЦИК милостиво постановил оставить его в качестве музейного памятника и разместить там чуть ли не первый в России антирелигиозный музей, Исаакий стоял и продолжает стоять труп трупом. Развесёлые питерские венецианоманы были правы, безумная беззаботность есть предчувствие конца, и как умерла Венецианская республика, также рухнула и Российская империя, только гораздо страшнее. В двадцатом столетии невские воды стали водами забвения, как «воды лагуны становятся в самом деле летейскими водами», – так писал Муратов о Венеции в 1912 году. Тогда Муратову казалось, что Венеция – смерть, а Петербург – жизнь, но, когда летейские воды сомкнулись над прошлым России, Петербург стал и впрямь походить на Венецию. В воспоминаниях мандельштамовский «Румянец твой, о нежная чума» русского серебряного века превратился в венецианские румяна сеттеченто, и Петербург стал двойником Венеции. Три великих человека, хранивших связь с серебряным веком России, когда Россия обернулась СССР, а Петербург – Ленинградом: Дягилев, Стравинский и – Бродский, навсегда остались в Венеции не из-за случайностей судьбы. Ни в каком другом месте мира они не могли обрести покой. Три могилы крепко связали Петербург и Венецию, крепче, чем ничего не значащая кличка «Северная Венеция». Для Дягилева Венеция стала воспоминанием о петербургском успехе, олицетворением всего, что минуло. Для Стравинского – воплощением золотого века музыки, самым гармоничным местом на земле. Для Бродского – городом, преодолевшим время, местом, где жизнь примиряется со смертью. Прихотливый виток истории: покинутый Петербург-Ленинград для Дягилева, Стравинского и Бродского ушёл в прошлое, превратился в город-призрак, а Венеция стала реальностью.
Ну и чьи же воды – летейские? Сегодня Санта Мария делла Салуте гораздо живее Исаакия: она не умирала и антирелигиозного музея в ней не устраивали. Нет в ней музейной окоченелости, и эта церковь открыта для всех посетителей, как верующих, так и туристов, gratis, берут деньги только за вход в сакристию, ризницу, которая, живя своей повседневной жизнью священной кладовки, ещё и небольшой великолепный музей: Тицианов и Тинторетто в ней больше, чем в Эрмитаже. Особенно хороша Санта Мария делла Салуте в ноябре, когда готовиться к festa della Madonna della Salute, празднику Мадонны Выздоровления. Праздник проводится 21 ноября каждого года уж четвёртое столетие как, и к 21 ноября даже воздвигают специальный мост, связывающий берег левый и берег правый, ведущий аккурат к церкви. Сама церковь внутри украшается тканями, снаружи – иллюминацией, так что и по ночам глядит не реквиемом, а гимном. Праздник опять же человечно оправданный, а не придуманный официозом: Санта Мария делла Салуте, о чём и говорит её название, была воздвигнута после того, как Мадонна выполнила своё обещание, избавила Венецию от страшной чумы 1630 года, той самой чумы, что так о себе дала знать в Милане и о которой много говорится в «Обручённых» Мандзони. Чума была ужасающей, и дож с патриархом вознесли торжественный обет, пообещав Деве Марии в случае избавления от напасти выстроить для неё великолепный храм и каждый год устраивать праздник; вскоре после того, как они это сделали, чума и стихла. Деву Марию никто обманывать не решился, республиканские власти расчистили место, разрушив часть складов, принадлежащих Догана, Dogana, Таможне, чтобы выделить престижное место для новой церкви, и, денег не пожалев, в это трудное для республики время сумели отгрохать чуть ли не самое роскошное здание в Венеции. Праздник Мадонны Выздоровления стал одним из важнейших венецианских событий, продолжает им оставаться и сейчас, и, так как торжества были запечатлены на многих картинах и гравюрах XVIII века, я, когда мне 21 ноября удаётся попасть в Венецию, не могу удержаться от сравнения с ними. Сегодняшняя Санта Мария делла Салуте сравнение вполне выдерживает.
Я вообще люблю Венецию в ноябре. В верхней части нашего полушария месяц этот очень противен везде, в Петербурге особенно, да и в Венецию в ноябре ездить никто не советует: темнеет рано, дожди, ветры и aqua alta, «высокая вода», как называется ежегодное венецианское наводнение (опять же связь с Петербургом, теперь прерванная дамбой, – в Венеции тоже дамбу всё строят). Я бы тоже не советовал в первый раз знакомиться с Венецией в этом месяце, можно и огорчиться, но если вы уже с Венецией знакомы и всё ей простили, то в ноябре есть один огромный плюс: народу в городе меньше, чем когда-либо. В декабре тоже немного, но только в первой половине, потом начинаются рождественские каникулы, и затем всю зиму Венецию трясёт карнавал, а с марта начинается весна и high season. Да, конечно, дни в ноябре коротки, но не мне, петербуржцу, на это сетовать, так же как и на дожди. Aqua alta действительно делает Венецию по-настоящему мокрой, так что без высоких резиновых сапог и не выйдешь, причём иногда, когда aqua alta особенно высока, то в некоторых местах и резиновые сапоги не помогают. Aqua alta, подобно Иисусу Христу, заставляет торговцев прикрыть свои лавочки, а также многие кафе, рестораны и музеи – город пустеет. Кажется, что Венеция заколдована феей Фата Морганой, за что-то на неё рассердившейся, зато вода в каналах зелена как ни в какое другое время года, и город зацелован волшебством: настоящий рай для меланхоликов вроде принца Тартальи из «Трёх апельсинов» Гоцци. Всех, кто соберётся в Венецию в ноябре, предупреждаю, однако, что это развлечение – только для тартальянцев.
Для меня привлекательность ноября в Венеции состоит ещё и в том, что на ноябрь, кроме festa della Madonna della Salute, падает ещё и festa di San Martino, праздник Святого Мартина, называемый также л’эстате ди Сан Мартино, l’estate di San Martino, лето Святого Мартина. Лето Святого Мартина соответствует русскому бабьему лету. Падает оно на несколько дней около 11 ноября – день праздника, – когда после осенних холодов ежегодно проклёвываются тёплые летние деньки, этак дня три-четыре: два месяца разницы между итальянским Мартином и русским бабьим летом – это погодное filioque, нас разделяющее. Бабье лето я обожаю, это мои любимые дни года, и итальянское бабье лето прекрасно до невозможности. Правда, в Италии оно не бабье, а отдано бравому юному римскому офицеру, разделившему свой плащ с нищим (лучшее его изображение – картина Эль Греко из Вашингтонской Национальной галереи), но, хотя в итальянском ноябре нет того грустного надрыва, что делает наш сентябрь таким упоительным, всё ж это чу́дное время для тартальянцев – мне кажется, что Эль Греко в своём Мартине, таком элегантно-печальном, создал идеальный портрет принца Тартальи, снедаемого любовью к трём апельсинам.
Пунта дель Мар
Последний раз лето Святого Мартина я застал в Венеции в 2012 году. Я приехал прямо накануне праздника, и в Венеции было одуряющее тепло и влажно: aqua alta достигла своего пика. Пьяцца Сан Марко, залитая водой с наглухо забаррикадированными кафе и магазинами, была просто идеальной декорацией для последней сцены оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», но ноябрьская теплынь и ноябрьская пустота делали город каким-то очень добродушным и человечным, прямо-таки даже простецким, чего от Венеции совсем не ждёшь. Всё звучало, как слова чудной песенки, что распевалась венецианцами в день Святого Мартина, когда они ходили по домам, выпрашивая гостинцы, венецианской колядки:
San Martin xe ‘ndà in sofita a trovar la so novissa. So novissa no ghe gera, el xe ‘ndà col cuo par tera. Viva, viva san Martin. Viva el nostro re del vin! San Martin m’ha mandà qua che ghe fassa la carità. Anca lu col ghe n’aveva, carità el ghe ne fasseva. Viva viva san Martin. Viva el nostro re del vin! Fè atension che semo tanti E gavemo fame tuti quanti.. Stè tenti a no darne poco perché se no stemo qua un toco! Святой Мартин забрался на чердак, чтоб найти свою невесту. Нет невесты ни хрена, задом трахнулся об пол. Славься, славься сан Мартин. Славься царь хороших вин! Святой Мартин послал меня сюда подаяния просить. Он, что было, разделил. Так же сделать вам велил. Славься, славься сан Мартин. Славься царь хороших вин! Осторожны будьте с нами, жрать хотим мы как один. Если выкатите мало, мы отсюда не уйдём.Ежели просьба доходила, и выкатывали достаточно, то следовала благодарность:
Del bon anemo e del bon cuor N altro ano tornaremo. Se ghe piase al bon Signor e col nostro sachetìn. Вам спасибо за добро, Через год придём ещё. Если Господу угодно, потрясём ещё мешком,а ежели нет, то:
Tanti ciodi gh’è in sta porta, tanti diavoli che ve porta. Tanti ciodi gh’è in sto muro, tanti bruschi ve vegna sul culo. Столько, сколь гвоздей в двери, столько ж вас чертей дери. Сколько гвоздиков в стене, столько в жопу вам свищей.В изъеденном временем и туманом дереве дверей старых переулков каждый гвоздь казался свищом, миновавшим, Божьей милостью, твою задницу, и мост к Санта Мария делла Салуте начинал возводиться.
Часть Дорсодуро с церковью Санта Мария делла Салуте и зданиями, принадлежавшими Догане, Таможне, представляет собой совсем особый район Венеции (Господи! да неужто я наконец в Дорсодуро перебрался по мосту праздника Мадонны Выздоровления, воздвигаемому как раз недалеко от Калле дель Ридотто, где я так надолго застрял?). Треугольник суши, врезанный между водами Канале Гранде и Джудекки, Giudecca, как называется и остров, являющийся отдельным районом Венеции, и широчайший пролив, отделяющий остров от остальных островов города, как бы и конец, и сердцевина Венеции. Вид, открывающийся с мыса, замыкающего Дорсодуро, – это вид на огромную венецианскую площадь, замощённую водой, но со всех сторон окружённую зданиями. Площадь называется Бачино Сан Марко, Bacino San Marco, Залив Святого Марка, и ни в одном городе мира нет ничего похожего. Даже название-то у этой части города особое, неустойчивое и неустоявшееся: Пунта делла Догана, Punta della Dogana, или Пунта делла Салуте, Punta della Salute, или Пунта дель Мар, Punta da Màr. Punta по-итальянски вроде как «наконечник», острие стрелы, не путать с punto, «точкой», «пунктом», и когда стоишь на мысе, в ощущениях твоих происходит какое-то неожиданное обострение – дело даже не в виде, а в каком-то поразительном смешении замкнутости и открытости, что накатывает на тебя.
Пунта дель Мар, Острие Моря, ночь и темь, фонари светят бледно и скупо, плеск воды, подчёркивающий тишину, да скрипит вверху Случай, Occasio, – так зовут статую Фортуны, корпулентную даму, на одной ноге балансирующую в чём мать родила на золотом шаре, покоящемся на плечах двух гимнастов. У Фортуны странная причёска: сзади всё сбрито, но спереди у неё длинный ирокезский чуб, стоймя стоящий от бриолина. Нет никого, только совсем голый белоснежный мальчик и около него страж, взрослый парень из плоти и плотно упакованный в защитную форму: штаны, заправленные в высоко зашнурованные ботинки, берет, автомат. Голый мальчик одну руку вытянул вперёд, зажав в ней лапу растопыренной в воздухе белоснежной же лягушки, другую спокойно опустил вдоль тела – перед мальчиком расстилается темнота воды, ограниченная блещущими огоньками. Вдруг задаёшься вопросом: что же это, реальная жизнь? Или просто фантазия? Впечатления от окружающего на меня навалились, как скользящая лавина, и придавили, мне от них не убежать, подними глаза к небесам, и увидишь – я просто бедный недоносок, я так нуждаюсь в сочувствии, потому что как был, так и сплыл, легко приходит, легко уходит, выше, ниже, вправо, влево, нет разницы, куда подует ветер, всё равно надо вертеться, а куда, в какую сторону – мне всё равно, всё равно, всё равно. Только что убили человека, а я не знаю даже, я или не я это сделал, а может быть, это я сам к своему виску и приставил дуло, щёлкнул курок, и всё – он уже мёртв, а жизнь моя лишь только началась. Теперь меня нет, меня унесло, я выброшен весь, без остатка, о мама, я твоих слёз совсем не хотел: если я завтра сюда не вернусь, то не вернусь никогда, пусть всё тащится так, как будто здесь, в этом мире, меня и не было. Ведь поздно уже, время моё истекло, хребет дрожит и тело ло́мит – что ж, пока, пока – всем пока, я в путь собрался, к вам, живым, повернулся спиной и посмотрел в глаза – кому? Правде? Но умирать-то я не хочу, мама, уж лучше бы ты меня и не рожала – проскользнул вдруг силуэтом юркий крошка, Скарамучча, Скарамучча, Скарамуш – танцевать своё фанданго; не фанданго, фурланетту, грома с молнией боюсь, Галилео, Галилео, Галилео, фигаро.
Magnifico.
Многие уже догадались, что весь этот бред – переживание и пережёвывание слов «Богемной рапсодии» группы Queen (никоим образом не «Богемской»), кой-кем считающейся лучшим музыкальным творением конца прошлого века. На Острие Моря, под золотым шаром Фортуны пословица, повторяющаяся в песне:
Easy come, easy go Легко пришло, легко ушлокак нельзя более кстати. О чём ещё и размышлять, как не об изменчивости и преходящести судьбы на Пунта делла Догана, столь похожем на finis mundi, «конец мира». Вот и Судьба, Фортуна, этакая «девочка на шаре», очень, правда, возмужавшая, вверху неловко задрала ногу на башенке Доганы. Здание Доганы, Dogana, Таможни, выстроено Джузеппе Бенони где-то около 1680 года; оно – образец индустриальной барочной архитектуры, без претензий, потому что Бенони был скорее инженером, чем архитектором. Архитектурная простота Доганы и наверченность Санта Мария делла Салуте сопоставлены просто замечательно, и Бернардо Фалькони, творец скульптурной группы, увенчавшей Догану и состоящей из двух атлантов, золотого шара и голой акробатки, учёл намеренный контраст, создав шедевр. Фалькони вообще-то был поставщиком высококачественной скульптурной продукции на фасады барочных церквей, очень схожей с той, что в изобилии обременяет и Салуте, но для крыши Доганы он родил нечто особое, экстравагантное – его Фортуна похожа на фигуры Пикассо периода неоклассики, случившегося с ним после Первой мировой; вот почему я и говорю – «возмужавшей». Фортуна вдобавок ко всему ещё и вертится, потому что она – флюгер. Пунта делла Догана очень ветреное место, и вертеться Фортуне приходится постоянно, издавая при этом лёгкое поскрипывание. Ирокезский чуб её – примета Случая и Удачи, ибо схватить их только за чуб и можно, и венецианцы поставили её напротив Ридотто с какой-то прямо-таки гениальной точностью. Фортуна стала символом Венеции, символом скользящей венецианской неуловимости как раз тогда, когда успех стал изменять республике, и в воздухе разлилось предчувствие конца, определившее венецианское сеттеченто. Mal’aria, «дурной воздух», а также «воздух зла» и сделало Венецию столь отчаянно манящей для Петербурга Серебряного века, переживавшего венецианское прошлое как своё настоящее: «Люблю сие, незримо Во всем разлитое, таинственное Зло» – Тютчев это про Рим написал, но к Венеции XVIII века эти строчки также очень подходят.
Easy come, easy go – чудесно звучит. Так называется картина Яна Стена, абсолютный шедевр голландской живописи того рода, что довольно глупо зовётся «малыми голландцами». Картина известна в двух вариантах: один в Музеум Бойманс ван Бёнинген в Роттердаме, второй – в частной английской коллекции. Полное название картины: Easy come, easy go; The Artist Eating Oysters In An Interior, «Легко пришло, легко ушло; Художник поедает устриц в интерьере», и изображает она самого Яна Стена, единолично восседающего за столом. Ему прислуживают старуха, красавица и хорошенький мальчик, а вокруг – роскошь: резная мебель, тяжеленные восточные ковры, драгоценная посуда, устрицы и белое вино, а также камин, скульптурно изукрашенный, с надкаминной картиной в сияющей раме с морским пейзажем и со скульптурой Фортуны, голой, с неуклюжей старательностью удерживающей равновесие на небольшом шарике. Фортуна Яна Стена – родная сестра Фортуны Бернардо Фалькони, да и вообще по духу картина Стена – венецианская. Венеция и Нидерланды всегда чувствовали влечение друг к другу, хотя история и Фортуна их развели. Венеции из-за турецкой угрозы ничего не оставалось делать, как связаться с католическими мракобесами, Ватиканом и Испанией, для которых нидерландские протестанты были врагом номер один, так что политически Нидерланды и Венеция оказались в противоборствующих лагерях; но сердцу не прикажешь. Нидерландцев – как фламандцев, так и голландцев – «венецьянские прохлады» тянули к себе, как мух разрезанный арбуз, а венецианцы всегда испытывали острейший интерес к столь вроде как на них непохожему северному гению. Венецианские художники обожали и ван Эйка, и Босха, и Рембрандта. Стен со своей любовью к повествовательности и анекдоту чуть ли не прейскурантной, доходящей до сухости, вроде как во всём венецианцам противоположен; ан нет, Стен отнюдь не художник анекдота, а выдающийся живописец с замахом куда большим, чем просто внятный и умелый рассказ. Один из тому примеров – «Легко пришло, легко ушло; Художник поедает устриц в интерьере»; картина-то не об утреннем завтраке говорит, а о взаимоотношениях творца со всем остальным, что творцом не является, то есть – с окружающим миром. Творец уселся среди баб, роскоши и мальчиков с лицом издевательски умным, какие у голландских интеллектуалов бывают, я такие лица знаю, и, давясь иронией и устрицами, говорит нам ровно то же, что в «Богемной рапсодии» Фредди Меркьюри нам вбивает в голову про богему:
I’m just a poor boy and nobody loves me. (He’s just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity!) Easy come, easy go, will you let me go, (Bismillah! No we will not let you go.) Let him go! (Bismillah! We will not let you go.) Я лишь бедный парень, и никто не любит меня. (Он просто бедный парень из бедной семьи. Дай ему в жизни его бежать от этого уродства!) Легко пришло, легко уйдёт, отпустите меня, (Басмала! Нет, мы не дадим тебе уйти.) Да отпустите его! (Басмала! Не отпустим мы тебя.) —то есть нечто весьма трагическое. Одна из лучших книг о голландском искусстве XVII века – это The Embarrassment of Riches: An interpretation of Dutch culture in the Golden Age, «Конфуз богатства: интерпретация голландской культуры Золотого века» Симона Шамы. О поведении художника в ситуации «конфуза богатства», как я на свой страх и риск не слишком точно перевожу The Embarrassment of Riches, картина Стена и говорит, тонко и умно, что нынче несколько смешно. Хёрсту и иже с ним поучиться бы остроумию у Яна Стена.
Цивилизованность венецианского быта для Европы была образцовой – а особенно образцовым был художественный быт, а также быт художников. Я об этом уже порядочно сказал в Каннареджо, в рассказе о доме Тициана и о гравюре Голциуса «Венецианский бал». Тициан при жизни добился положения самого высокооплачиваемого живописца: ему сам император кисть подавал, о его пирах и его богатствах ходили сплетни, и вся просвещённая Европа об этих сплетнях знала. Стен, изобразив себя внутри тициановской роскоши художественного быта, едко издевается над тициановщиной, болезнью, которую подхватили не только многие голландские художники (молодой Рембрандт, например, явив нам классический пример easy come, easy go своим разорением), но художники других стран и других веков: у нас в России старый Репин в своих Пенатах изображал из себя старого Тициана. В мозгу художников, воспалённом тициановщиной, происходит невольное смешение удачи материальной с удачей творческой – один из симптомов всеобщей заражённости потреблятством. Стен обхихикивает не только художников, но всю современную ему Голландию, а также современные нам Нидерланды, да и вообще весь ЕС – Венеция же с начала XVI века, была парадигмой европейского потреблятства, оставалась таковой и при Стене, и весь XVIII век, раззолоченный конец Венеции, потреблятством и был определён: Казанова – великий феномен потреблятства. К самому потреблятскому памятнику Венеции, к раззолоченному Ка’ Реццоника, Музею венецианского XVIII века, я теперь и направляюсь, покинув finis mundi – Пунта дель Мар, Острие Морское, а заодно и вылезая из вертиго, настигнувшего там меня из-за скрипа Фортуны, «Богемной рапсодии» Фредди Меркьюри и easy come, easy go Яна Стена.
Ну хорошо, это всё понятно, но при чём тут голый мальчик с лягушкой? –
спросят меня многие. Те же, кто побывал в Венеции в 2009–2012 годах, тут же сообразят: мальчик с лягушкой стоял в течение трёх лет на самом острие Пунта делла Догана. Эта скульптура была заказана владельцем компании Kering Франсуа Пино известному постмодернисту Чарльзу Рею, калифорнийцу. Франсуа Пино время тратит не только на управление люксовым французским конгломератом (такое определение я нашёл в интернете, пытаясь разъяснить себе, чем же он владеет), но ещё и меценатствует по-крупному: в частности, он спонсировал открытие в Догане Музея современного искусства, представляющего в основном его, Пино, коллекцию, а также выставочного зала Биеннале. На открытие музея, случившееся в 2009 году, Чарльзу Рею и была заказана статуя. Поставить в Венеции что-то, да ещё в таком месте, как Острие Морское, непросто, но Франсуа Пино удалось, правда, с условием выдвинутым властями города: разрешение должно возобновляться каждый ежегодный квартал. Поначалу всё было хорошо, всё устроилось, влияния Пино хватило на то, чтобы мальчик Рея встал там, где многие современные скульпторы поставить что-либо и не мечтают. Я, когда первый раз на него наткнулся, то, будучи неподготовленным, даже вздрогнул, потому что любые добавления в знакомый ландшафт заставляют меня корёжиться. Взяв себя в руки, я пригляделся, оценил и сообразил, что мальчик замечательнейшим образом пополнил венецианских каменных малых сих и вполне способен стать со временем мифологемой, как Гоббо или Риоба. Мальчик, правда, не каменный, а из белой нержавеющей стали, но производит впечатление мраморного, и он очень к месту, стоял как влитой, – Чарльз Рей постарался на славу. Мальчика я полюбил, и очень мне нравилось, что пандан мальчику стоит обязательный охранник. Венецианские власти, согласившись на установку скульптуры, были оправданно обеспокоены возможными актами вандализма по отношению к нему, такому притягательно белоснежно-беззащитному, и поначалу решили мальчика посадить в ящик из пуленепробиваемого стекла. Пино это предложение справедливо возмутило, и он на свой кошт нанял мальчику официального круглосуточного охранника – так парой, голый мальчик и одетый дядька, они и стояли днём и ночью, оттеняя и усугубляя то непередаваемое ощущение обострённости, что Пунта дель Мар свойственно. Фредди Меркьюри эта пара бы очень понравилась.
Пунта дель Мар – одно из моих любимейших мест в Венеции, с мальчиком или без, и я, как только окажусь в Венеции, захожу туда и днём, и ночью. Мальчика я видел в разные времена года и суток, в том числе и в ящике, от которого его гламурщик Пино избавил, – он был в него упакован во время aqua alta ноября 2012 года. В ящике совсем не то, что с охранником, скажу я вам, но в последний приезд в Венецию я, придя на Пунта дель Мар, его не обнаружил. Мальчик исчез, а вместо него встал тупой девятнадцативековый фонарь, который всегда там стоял и который теперь производил впечатление убогое. К фонарю прилагалась табличка, рассказывающая, что фонарь, отреставрированный на деньги тех-то и тех-то, долго отсутствовал, но вот наконец вернулся. Про мальчика ни слова, и я решил, что у Венеции с Реем было договорено, что мальчик стоит лишь временно, пока фонарь чинят. Расстроился, потому что к мальчику привык, и вот, пытаясь что-то всё же про его судьбу разузнать, натолкнулся на то, что мальчик Рея-то не просто мальчик, а целый скандал. Оказывается, Франсуа Пино многие венецианские интеллектуалы ненавидят уже давно, называя его Наполеоном от современного арт-рынка (это намёк на Наполеоновы новшества в Венеции, на Ала Наполеоника в том числе), и вместе с Пино и его люксовым конгломератом они возненавидели и мальчика. Против poor boy была поднята кампания, которую поддержала орава узколобых краеведов-консерваторов вроде меня, которым любая перемена – серпом по яйцам. Орава подняла страшный ор: «отдайте нам наш фонарь», и влияния Пино в городском совете не хватило: в очередной квартал вид на жительство мальчику не обновили, и он, как бедный гастарбайтер, был выгнан с Пунта делла Догана. Белоснежного мальчика заменили ординарным зелёным фонарём, который тоже отнюдь не Бенони проектировал, а тупой конец тупого XIX века. В общем, I’m just a poor boy and nobody loves me и easy come, easy go, will you let me go, как Фредди поёт, и теперь, покинув уединённость Острия Морского, я направлюсь наконец туда, с чего Дорсодуро и начал – в Ка’ Реццонико.
Это один из самых шикарных дворцов на Канале Гранде, как по размерам, так и по архитектуре, – его фасад спроектировал Балдассаре Лонгена, автор церкви Санта Мария делла Салуте. Лонгене дворец заказали представители знатнейшего патрицианского семейства Бон в 1649 году, но, успев возвести лишь фасад, приостановили строительство из-за финансовых трудностей. Так дворец и стоял, смотря пустыми окнами на Канале Гранде, как будто из бумаги вырезанный, вплоть до середины XVIII века. Лонгена умер в 1682 году, но лишь в 1751 году наследники семейства Бон наконец-то нашли покупателя на свою недвижимость. Им оказался Джамбаттиста Реццонико, новый венецианский, чьи предки, богатые коммерсанты, происходили из местечка под Комо. У себя на родине, в Ломбардии, они считались очень приличного происхождения, ведя свой род чуть ли не от Карла Великого, но в Венеции были причислены к нобилям всего лишь в 1687 году. Реццонико в Венеции чувствовали себя несколько parvenu, и для утверждения им было необходимо нечто впечатляющее, обязательно – на Канале Гранде. Денег у Реццонико была прорва, и благодаря деньгам брат Джамбаттисты, Карло, взошёл на ватиканский престол под именем Климента XIII в 1758 году. Папой он был так себе, тучным и малоумным, зато покровительствовал венецианцам, Пиранези в том числе, и проводил политику отчаянного непотизма – вся семья во время папствования Климента XIII разжирела ещё сильней. Тогда-то Ка’ Реццонико и был закончен, уже архитектором Джорджо Массари, достроившим всё, но фасад Лонгены оставившим вроде как без изменений. Роскошь дворца какая-то сказочная, он похож на дворцы из детской сказки, и, в общем-то, Ка’ Реццонико – знатный образчик потреблятства сеттеченто. Особенно меня шибают скульптурные украшения бельэтажа, piano nobile, «благородного этажа» – головы рыцарей в шлемах, украшенных страусовыми перьями. Это уж как-то чересчур, как-то по-детски, и я думаю, что это не Лонгена, а особое пожелание семьи Реццонико, ибо вкусу нуворишей всегда свойственна тяга к благородной романтике, как это мы можем наблюдать и в домах братьев Елисеевых, и во многих творениях, порождённых современным русским расцветом.
Реццонико, может быть, и Елисеевы венецианского сеттеченто, а Елисеевы – Реццонико петербургской belle époque, но век играет роль, скажу я, как узколобому консерватору и полагается. Сколь бы мне не казались de trop мраморные страусовые перья, они мне нравятся, а когда я оказываюсь в Салоне да Балло, Salone da Ballo, Бальной зале, первом же зале у входа после подъёма по изумительной парадной лестнице, у меня дух захватывает. Да и лестница – особое переживание: каждый её пролёт украшен маленькой, как бы не соответствующей масштабу – в этом-то и весь прикол – фигуркой младенчика, изображающего один из четырёх сезонов. Мне больше всего нравится Зима, представленная голым, как и все остальные, путто в меховой шапке: это, конечно, та зима, чьей карикатурой является наше северное лето. Пройдя мимо младенцев и показав свой билет контролёру – в последнее моё посещение им был чёрный, как из эбена вырезанный, служитель очень интеллигентного вида, в очках и костюме, – оказываешься в оглушительном пространстве, раздвинутом фресками с иллюзорной архитектурой и огромными окнами. Со всех сторон, стройно встав вдоль стен, на меня смотрели точно такие же, как и контролёр, эбеновые интеллигенты, только без костюмов и очков. Это querrieri ethiopi, «эфиопские воины», творение Андреа Брустолона, le Michel-Ange du bois, «Микеланджело дерева», как его назвал Бальзак в романе «Кузен Понс». Да простит мне Бог эту неполиткорректность, но я, уставившись на эфиопа из плоти и на эфиопов из дерева, при таком навязчивом сопоставлении искусства и реальности, не мог удержаться от мысли о том, что сегодняшнее пристрастие Мадонны с Леди Гага к чёрнотелой подтанцовке имеет свои корни в венецианском сеттеченто, введшем моду на декоративных арапов, потом захватившую всю Европу – «За мансардным окном арапчата играют в снежки» пришли в меерхольдовского Дон Жуана оттуда же, из Венеции, чтобы потом аукнуться в «Поэме без героя». Венеция стала символом роскоши, а арап – одной из её примет, так что клипы итальянских американок к Венеции и отсылают. Всё-то, даже измышления клипмейкеров Мадонны и Леди Гага, Венеция предвосхитила.
Роскошь продолжается и после Салоне ди Балло: потолки, полные богов и богинь, стенные панели, то с китайцами, то с пейзажами, резная мебель, фарфор и серебро, люстры, окружённые головокружительной дрожью хрустальных подвесок, и пейзаж в окнах, божественный вид на Канале Гранде, естественно становится частью интерьера. Самое же главное – общий ритм целого, всего дворца, заданный прихотливо извивающейся, закручивающейся и раскручивающейся линией, очень продуманной и упорной, несмотря на все изгибы, как в концертах Вивальди. В Ка’ Реццонико сконцентрировано всё то, чем бредил декаданс, ностальгируя по сеттеченто, а вслед за ним и русский, особенно петербургский, Серебряный век.
Музей делится на три части. Первая, piano nobile, – с парадными залами; вторая – шедевры живописи, среди них и «Фойе Ридотто» Гварди, картины Каналетто, Тьеполо и Пьяцетты, а также интерьеры интимные, спальни и кабинеты; третья – картинная галерея с живописью, так сказать, класса «B». Картин на третьем этаже так много, что сил и терпения обойти его достаёт лишь искусствоведам, хотя среди множества просто хорошей живописи есть и замечательнейшая. В Ка’ Реццонико, например, чуть ли не самая большая коллекция работ Джулио Карпиони, интереснейшего венецианца XVII века, своего рода венецианского Пуссена. Венецианец не столь велик, как француз, зато и не столь пафосен, и не будучи философичным, как Пуссен, Карпиони намного его остроумнее. Всего картин Карпиони около десятка, все прекрасны, и моя любимая среди них – изображение развесёлого фавнёнка с маской в руке, пляшущего среди овощей и цветов, спаржи, капусты и пионов. Карпиони любил всякие экстравагантности, в том числе и ботанические, он нарисовал пионы чуть ли не первым в Европе, так же, как в другой его картине, в Vanitas из Виченцы, присутствует такая экзотика, как огромные картофелины – первое, кажется, в европейской живописи изображение картошки.
Богатство интерьеров и коллекций Ка’ Реццонико к семейству комасских нуворишей имеет косвенное отношение: вся экспозиция музея составлена из произведений, свезённых во дворец после того, как он в 1935 году достался городу и был превращён в музей XVIII века. В Ка’ Реццонико и переместили всё сеттеченто, принадлежавшее Музео Коррер. До 1935 года у дворца было много приключений: семейство Реццонико, пышно цветшее во времена папствования Климента XIII, к концу столетия стало чахнуть и глохнуть, и хотя в наполеоновские времена ещё как-то теплилось, в начале XIX века дворец достался иезуитам. Затем поменялось несколько владельцев, обчистивших дворец и продавших всё, что можно – эфиопы Брустолона оказались в Ка’ Реццонико уже лишь в XX веке, – кроме фресок.
В 1880 году дворец покупает Роберт Видеман Баррет Браунинг, сын Роберта Браунинга и Элизабет Баррет. Деньги на столь знатную покупку (впрочем, в 1880 году палаццо на Канале Гранде были не столь уж и дороги, это теперь они одна из самых дорогих недвижимостей мира) у отпрыска самой знаменитой поэтической пары Англии появились не в результате литературной славы родителей, а благодаря тому, что он женился, как у английских юношей из приличных семей и стало заведено где-то с 1880 года, на богатой американке, Фанни Коддингтон. В данном случае в добыче невесты жениху помогла не знатность, а слава родителей, но и сам Роберт Видеман, в детстве прозванный Пен, был, судя по юношеским его фотографиям, весьма хорош собой. К тому же он был художником, правда, ооочень посредственным, зато, благодаря жене, – богатым. Деньги и слава родителей помогли ему превратить Ка’ Реццонико в моднейший международный салон, в котором ошивались различные англо-саксонские знаменитости, приезжавшие в Венецию с Рёскином в руках. С папой Роберт Видеман сохранял хорошие отношения всю жизнь (в Ка’ Реццонико великий английский поэт и умер в 1888 году), зато со своей американкой Пен ссорился и ругался, и, в конце концов, разойдясь, в 1906 году, Ка’ Реццонико продал, причём сделал это скандально громко. Он отверг предложение самого кайзера Вильгельма II, заключив сделку с графом Лионелло фон Хиршелем де Минерби, аристократом Австро-Венгерской империи, столь же экстравагантным, как и его фамилия, как будто со страниц музилевского «Человека без свойств» сошедшим. Хиршель-Минерби дворец совсем уж изгваздал, потом все его доделки-переделки пришлось долго разгребать, и окончательно их разгребли в 2005 году, когда Ка’ Реццонико открылся вновь для публики после капитального ремонта, блистательный и сияющий, как при восшествии Карло Реццонико на папский престол.
На втором этаже музея (нашем третьем) среди прочих шедевров есть несколько комнат, в которых расположен шедевр шедевров, росписи Доменико Тьеполо, находившиеся в доме семейства Тьеполо, на вилле Дзианиго, приобретённой отцом, самим Джованни Баттиста. Семейное гнездо расписал сын, причём работал долго – с 1759 по 1797 год. Фрески разнообразны, но лучшая их часть была создана как раз в 1790-е годы, в самом конце сеттеченто, и они, изображающие быт, в том числе и быт пульчинелл, ибо герои некоторых из сцен сплошь одеты в костюм Пульчинеллы, – одно из величайших живописных размышлений о конце: конце всего и прежде всего о конце времени. То, что в 1797 году республика перестала существовать как раз тогда, когда Доменико наносил последние мазки на фрески виллы Дзианиго, отнюдь не простое совпадение, потому что это великое откровение об отношении Венеции, укаченной сладкой зыбкой сеттеченто, к новому веку и Новому времени. Одна из фресок так и называется, Mondo Nuovo, «Новый Мир», и изображает толпу 1797 года, смотрящую на запуск воздушного шара. Лиц не видно, только спины, не видно и никакого взлёта, только ожидание, напряжённость – прямо Беккет, «В ожидании Годо». В Ка’ Реццонико фрески Доменико попали потому, что в 1936 году тогдашний владелец виллы Дзианиго вознамерился их продать, само собою – американскому мультимиллионеру, но итальянское правительство этому воспротивилось, фрески выкупило и поместило их в только что образованный музей. Одному из величайших шедевров живописи XVIII века удалось избегнуть участи, предопределённой кризисом 30-х годов многим другим шедеврам из итальянских собраний – оказаться в каком-нибудь калифорнийском особняке, наподобие того, с Вермером в лифте, что принадлежал мистеру Стойту в романе Олдоса Хаксли «Через много лет».
Роман Хаксли повествует об обретении вечной жизни и полной бессмысленности бессмертия – это по большому счёту. Кроме этого, роман – одна из остроумнейших вариаций наболевшей темы «Новый мир – Старый мир» (вот тебе и Тьеполо), особенно остро переживавшейся англичанами. Особняк Стойта, всеядно заглотивший сокровища европейской художественности, метафорически представляет взаимоотношения Америки и Европы после Первой мировой войны. Стойту, персонажу, которому автор в общем-то симпатизирует, мало, однако, бессмертия художественности. Он жаждет бессмертия личного, а через него и вечности, воплощением которой, со всякими «но», Старый мир, то есть Европа, всё же и является. Стойт финансирует медицинские исследования, результаты которых удивительным образом корреспондируют с записями конца XVIII столетия, сделанными в дневнике одного из представителей английского аристократического семейства Хоберков, архив которого Стойтом тоже был закуплен. Всё упирается в карпов, в их удивительное долголетие, и оказывается, что автор дневников, последний граф Хоберк, расчухал рыбный секрет двести лет тому назад и, саморучно соорудив из карпьих потрохов пилюли, обрёл вечность. В 30-е годы прошлого столетия – время действия романа – старый Хоберк всё ещё жив, существует; в каком виде, это уж другое дело.
Страницы дневника графа, стилизованные Хаксли под стиль эпохи Просвещения, галантно-десадовский, замечательны: «Июль 1796. Гонистерские рыбоводные пруды были вырыты в Эпоху Суеверий монахами монастыря, на деньги которого и построен мой нынешний Дом. При короле Карле I мой прапрадед велел сделать несколько свинцовых Дисков, выгравировать на них его монограмму и дату и прикрепить к серебряным кольцам, кои затем были надеты на хвосты пятидесяти больших карпов. Не менее двадцати из этих Рыб живы по сей день, в чем я убедился, глядя, как они подплывают на звон колокольца к месту Кормления. Их сопровождают другие, еще более крупные, – возможно, свидетели жизни монахов до Роспуска Монастырей при короле Генрихе. Наблюдая, как они плавают в прозрачной Воде, я дивился силе и неизменной живости этих гигантских Созданий, старейшие из которых родились, наверное, еще тогда, когда была написана “Утопия”, а младшие являются ровесниками автора “Потерянного рая”. Этот поэт пытался оправдать Бога в том, что Он содеял с Человеком. Было бы гораздо полезнее, если б он попробовал объяснить, что Бог содеял с Рыбой. Философы отнимают время у себя и у своих читателей, рассуждая о Бессмертии Души; Алхимики веками потели над своими тиглями в тщетной надежде найти Эликсир Бессмертия или Философский Камень. Однако в любом пруду и любой реке можно обнаружить Карпов, которые пережили бы трех Платонов и полдюжины Парацельсов. Секрет вечной Жизни следует искать не в старых Книгах, не в жидком Золоте и даже не на Небесах; он должен быть найден в речной Тине и ожидает лишь искусного Удильщика». В Ка’ Реццонико, при входе на лестницу с крошками сезонами-путти, есть маленький каменный фонтан. В нём тихо шевелятся большие медленные рыбины, красивые, ленивые и задумчивые. Секрет вечной Жизни болтается в мелкой каменной чаше Ка’ Реццонико, ожидая Удильщика, и гипнотизируя недвижным движением, похожим и на Невесомость, и на Вечность.
Церковь ди Сан Себастьяно
Глава двенадцатая Между Варнавой и Севастьяном
Сестиере Дорсодуро. – Дзаттере и Джудекка. – Молино Стуки. – Saloni. – Рио Сан Барнаба. – Барнаботство и Карло Лодоли. – Ка‘Верньер деи Леони и Пэгги. – Голливудские звёзды и Карло Гоцци. – Любовный треугольник «Трёх апельсинов». – Из жизни марионеток. – Кампо Санта Маргерита. – Понте деи Пуньи. – Церкви николотти. – Заблудшая красавица. – Святой Себастьян и Веронезе. – Церковь ди Санта Марта.
Я уже говорил, что сестиере Дорсодуро полюбился пожилым эстетам, считающим себя подлинными ценителями Венеции. Район вроде как и централен (а что в Венеции не центрально?), но вроде как и на отшибе: тише Сан Марко и Сан Поло, но не столь маргинален, как Каннареджо. С одной стороны Дорсодуро ограничен Канале Гранде, и в его воды смотрятся фасады роскошных дворцов, великолепие Санта Мария делла Салуте и личный домик Пегги Гуггенхайм, превращённый в музей её имени и ставший знаком величия Манхэттена в Венеции. С другой – проливом Джудекка и Дзаттере, самой длинной набережной города, представляющей одну сплошную линию, делящуюся на несколько отдельных Фондамент: объединённые общим Zattere, они подразделяются на Фондамента Дзаттере Понте Лунго, Fondamenta Zattere Ponte Lungo, Набережную Плотов Длинного Моста, Фондамента Дзаттере аи Джезуити, Fondamenta Zattere ai Gesuiti, Набережную Плотов у Иезуитов, Фондамента Дзаттере алло Спирито Санто, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Набережную Плотов около Святого Духа, Фондамента Дзаттере аи Салони, Fondamenta Zattere ai Saloni, Набережную Плотов у Соляных Складов, а также особую просто Fondamenta Zattere, идентичную Fondamenta degli Incurabili Бродского, и иногда даже называемую Фондамента Дзаттере дельи Инкурабили, Fondamenta Zattere degli Incurabili, Набережную Плотов Неисцелимых (совсем не «неисцелимых плотов», нет), – и прогулки по Дзаттере монотонны и прекрасны столь же, сколь и чтение этого списка, помещённого здесь скорее для графики и ритма, чем для информации и смысла. У попа была собака, поп её любил: Zattere прямо-таки воплощение дурной бесконечности, die Schlecht-Unendliche, то есть понимания мира как метафизической монотонности, как чередования повторений одного и того же. За это Zattere пожилые эстеты с их склонностью к размышлениям о вечности и полюбили.
Здания, выходящие на Дзаттере, скромны и окраинны, ширина водного пространства пролива Джудекка столь же величественно уныла, как невская панорама, и остров Джудекка, маячащий в дали, представляет сплошную линию из зданий без затей, прерываемую тремя ударами. Это купола двух церквей Палладио: церкви ди Санта Мария делла Презентационе, детта делле Дзиттеле, la chiesa di Santa Maria della Presentazione, detta delle Zitelle, Святой Марии Введения, прозванной церковью Старых Дев, – она всегда закрыта, и базилики дель Сантиссимо Реденторе, называемой также просто церковью Иль Реденторе, la basilica del Santissimo Redentore, più nota semplicemente come chiesa Il Redentore, Святейшего Искупителя, гениальнейших архитектурных творений; и огромного здания, уродливейшего сооружения в Венеции, Молино Стуки, Molino Stucky, Мельницы Стуки.
Этот урод появился на свет в 1885 году благодаря швейцарскому предпринимателю Джованни Стуки (а не Стаки, как часто произносят на английский манер), и он – пародия не на готику даже, а на псевдоготику. Отец Джованни Стуки был швейцарцем и, как швейцарцу и полагается, – банкиром, а мать была итальянкой и происходила из Венето. Стуки-сын Швейцарию покинул и развернулся именно в Венето, выстроив в Венеции процветающую мукомольную фабрику, право на возведение которой он пробил у городских властей (попробуй, построй сейчас в Венеции что-нибудь, ведь даже мальчонку с лягушонком выгнали). Молино Стуки цвела вплоть до 1910 года, когда Джованни Стуки был зарезан бритвой на вокзале Санта Лючиа тридцатипятилетним Джованни Бруньера, работником мукомольни, обиженным на него за увольнение. Джованни Бруньера был признан невменяемым, но ни Стуки, ни его Мельнице от этого не стало легче: самый богатый человек Венеции сошёл в гроб, а его финансовая империя пришла в упадок, в том числе и Мельница, постепенно разорявшаяся. Тогда уж начали увольнять всех подряд, не одного Бруньера, но резать уже было некого. Выкупленная государством, Молино Стуки еле-еле проскрипела до 1955 года, когда была закрыта начисто, так что всю вторую половину XX века здание громоздилось безжизненным мрачным страшилой, портя один из лучших в мире видов, подобно зданию пресловутой гостиницы «Ленинград» на невском берегу. Мукомольню, как и «Ленинград», подумывали снести, но уж больно это дорого, да и что строить на этом месте? Место-то стоит баснословных денег, и вот, после различных перипетий, оно было куплено семейством бедняжки Пэрис, теперь родственниками отринутой и вынужденной в России подрабатывать диджейством, и превращено в пятизвёздочный Hilton Hotel Molino Stucky в 2007 году. Тут Мельница залилась огнями, но ни на гран не стала лучше, как и «Ленинград» не стал лучше оттого, что его в «Санкт-Петербург» переименовали.
Несмотря на гениальные купола Палладио и торчком торчащую Молино, линия Джудекки, бегущая параллельно Дзаттере и сопровождающая вас в течение всей прогулки, столь же длиннотно печальна, как и сообщённая мною о ней информация. Протяжённая унылость Дзаттере множится на протяжённость унылости Джудекки, и это, конечно, нравится всяким поэтическим натурам, Апдайку, Бродскому и мне – пожилым эстетам, одним словом, – а мне особенно нравится та часть, где заканчиваются жилые дома и начинается соляные склады, называемые Saloni, а также Magazzini del Sale или Emporio dei Sali. Дух нежилья и одиночества, русский такой кусочек, сиротство ощущаешь как блаженство, и происходит это оттого, наверное, что Saloni, построенные чуть ли не в одно и то же время с Провиантскими складами В. П. Стасова в Москве, просто близнецы шедевра московского ампира. Городская жизнь заканчивается после Понте делла Кальчина, Ponte della Calcina, Моста Извёстки, и начинается та часть Fondamenta Zattere, что просто Zattere, которая, однако, очень непроста, потому что она Incurabili, и именно на ней Венеция, поскользнув меня на своей тине, и заставила грохнуться со всего размаха, дабы я убедился в её, Венеции, реальности и пришёл в себя, вырвался бы из размышлений о вечном Schlecht-Unendliche и захотел бы поселиться где-нибудь там, где толпа, гвалт и желтизна, но только не в Дорсодуро, не в той его части, что примыкает к Догане, несмотря на всю её очарованность, томительную до утомительности.
Живя в пансионах этой части Дорсодуро, чувствуешь себя карпом из фонтана Ка’Реццонико. Что не случайно – с XVIII века Дорсодуро, а точнее, та его часть, что примыкала к Рио Сан Барнаба, Rio San Barnaba, Святого Варнавы, была местом обитания особого венецианского класса – обедневших нобилей, младших и побочных отпрысков-отростков великих и знатных венецианских семей. Происхождение связывало их с upper class, но их доходы были ниже lower, причём никаким делом заниматься они и не могли, и не хотели, но сохраняли связи и фамильное место в Большом Совете. Жили тем, что торговали своими голосами, добиваясь различных крошечных подачек. В молодости они проводили время в игорных домах и притонах, авантюрствуя в меру способностей, шляясь по Венеции, а в старости оседали в Дорсодуро, вокруг Кампо Сан Барнаба, Campo San Barnaba, названной так из-за стоящей на ней церкви ди Сан Барнаба, chiesa di San Barnaba, Святого Варнавы. Варнава – один из числа первых семидесяти апостолов по имени Иосиф, в учениках Господа переименованный в Варнаву, что значит Сын Утешения, ибо своими проповедями о пришествии Мессии и воцарении всеобщего счастья он утешал людей в их земном страдании. К Кампо Сан Барнабо старичков тянуло это, а также то, что в Дорсодуро тянет пожилых эстетов – центральность, совмещённая с уединённостью, что обеспечивает относительную дешевизну проживания: относительную, потому что в Венеции всегда всё было дороже, чем где-либо в Италии. От Варнавы старички из благородных получили прозвище барнаботти, barnabotti, и слово это замечательно по своему звучанию. Казанова в последней сцене фильма Феллини, величественный и убогий, выряженный в голубой бархат и кружева, чтобы дать представление перед своим молодым покровителем, владельцем замка Дукс, и выспренно читающий Ариосто под насмешки бидермайеровской молодёжи, показанной подчёркнуто безлико, сплошной тёмной массой, – типичный barnabotto, олицетворение несчастного галантного века, Ancien Régime, униженного современностью. Как только усядешься на уютной Кампо Сан Барнаба и прошепчешь про себя словечко «барнаботти», так тут же и картинка появится: пёстренькие старички кучкуются, кюлоты и камзолы, чулки дырявы и каблуки у туфель с пряжками сбиты, кружевные жабо и манжеты сплошь в жирных пятнах, надушенные парички болтаются на лысинах. Кучка барнабочит и барнаботствует, и, как полагается старикам в душистых сединах, отменно шутит; площадь же пронизана светом светлости столь прозрачной, сколь прозрачен свет фресок виллы Дзианиго Доменико Тьеполо. Свет конца: солнце венецианского сеттеченто на излёте, скоро Наполеон в Венецию войдёт, и время кончится – но не кончилось время, а остановилось, и вот, сижу же я, типичный барнабот, за столиком кафе на Кампо Сан Барнаба, жмурюсь от солнечных лучей, быть может – последних лучей лета, в преддверии осени, и барнаботствую о том, что:
фасад церкви Сан Барнаба – видный образчик ранней европейской неоклассики, как-то замалчиваемый историями искусств. Спроектирован он был Лоренцо Боскетти, не слишком известным венецианским архитектором, и Венеция, переполненная архитектурными шедеврами, заставляет пройти мимо геометрической строгости детища Боскетти с некоторым безразличием – таких памятников по всей Европе пруд пруди, в том числе и у меня на родине. С конца XVIII века подобная архитектура, чёткая, как дважды два четыре, будет претендовать на образцовость и станет примером «типового строительства», то есть общим местом, что вызовет единодушную ненависть как историзма, так модерна и модернизма, стилей вроде как разных, но объединённых общим романтическим стремлением к оригинальности во что бы то ни стало. Творения, подобные церкви ди Сан Барнаба, будут заклеймены как посредственная лжеантичность, и ничего, кроме избитости, в них не будут видеть, но в наше время они тесно сплетутся с культурной ностальгией по временам до «восстания масс», как определил время модернизма Ортега-и-Гассет. Ностальгия заставит к ним приглядеться и заметить, что датируемый серединой XVIII века фасад Сан Барнаба уникален для своего времени, что в нём видна связь с идеями Карло Лодоли, авангардиста сеттеченто, родившегося в 1690 году и умершего в 1761-м, ничего не построившего, только теоретизировавшего, но делавшего это столь же радикально, как Ле Корбюзье двести лет спустя. В 1720 году Лодоли открыл частную школу, где преподавал историю и теорию архитектуры. Современники его прозвали «Сократом от архитектуры», так как новые правила, им проповедуемые, были столь же радикальны, как и его декларации, доходя до пуританского утверждения о превосходстве простого, ничем не украшенного каменного этрусского строения над всей остальной архитектурой – влияние на Лодоли идей, высказанных Сократом и изложенных Платоном в «Государстве», очевидно. Концепция Лодоли основана на триаде Витрувия «Удобство, Устойчивость и Прочность» и на идеях Палладио, и она, конечно, не то чтобы родилась из ничего, но новы ли были манифесты Маринетти и Сант’Элиа? Тоже не очень, окружающую современность и до них проклинали, апеллируя к современности подлинной, современности будущего. Рассуждения Лодоли об этрусской архитектуре и призывы к тому, чтобы современность очистилась от всякого мусора, потому что идеалом архитектуры является простая хижина, звучали просто оглушительно. Этрусская хижина Лодоли особо полюбилась, так в ней, как он утверждал, всё и естественно, и продуманно. Ордер – «порядок», основа архитектуры – предстаёт в своей первозданной чистоте именно в этрусской хижине, построенной из стволов деревьев, ведь ствол дерева является прототипом колонны; всё это захватывающе увлекательно, но надо учесть, что никакой этрусской хижины Лодоли в глаза не видел, и те «этрусские» рисунки, что сопровождают его трактат, к Этрурии не имеют ни малейшего отношения. Так с авангардом у нас всегда, вечно он втюхивает какую-нибудь лажу, что Лодоли, что Малевич: современников Лодоли тоже захватил и увлёк, ему внимали с почтением, хотя при жизни ни одного его труда не было напечатано. Само собою, Лодоли ничего и не построил, но школа Лодоли и его идеи оказали сильное влияние на архитектурную теорию, и он приобрёл адептов, в первую очередь венецианских. Под прямым воздействием Лодоли Джованни Антонио Скальфаротто построил находящуюся в сестиере Санта Кроче, Santa Croce, церковь деи Санти Симеоне и Джуда, вулго Сан Симеоне Пикколо, La chiesa dei Santi Simeone e Giuda, vulgo San Simeone Piccolo, Святых Симеона и Иуды, в народе называемую Святой Малыш Семён. Здание это встречает всех, выходящих с вокзала Санта Лучиа, но внимание на него обращают мало, хотя оно, построенное аж в 1738 году, феноменально. Представляя собой своеобразную палладианскую вариацию римского Пантеона, Сан Симеоне, теперь воспринимаемый безразлично, в своё время вопил о новизне – и венецианцы, я уверен, не случайно воздвигли это здание прямо при входе в город с материка, сделав его своей визитной карточкой. Лоренцо Боскетти также находился под впечатлением рассуждений Сократа от архитектуры, но его имени и его немногочисленным творениям уделяется ещё меньше внимания, чем Скальфаротто, чей Сан Симеоне Пикколо мозолит глаза просто в силу местоположения.
«Функционализм» – так можно обозначить концепцию Лодоли, пользуясь современной терминологией. Его идеи предвосхищают идеи модернизма XX века, а в сеттеченто это были первые ростки эстетики чистой неоклассики, проявившиеся сначала в теории, и только затем практически воплощённые – в этом неоклассицизм, как стиль головной, рациональный, и даже идеологический, рассматривающий приверженность своим принципам с точки зрения партии и претендующий на установление однопартийности, является биологическим отцом модернизма, идеологию поставившего во главу угла. Первые шаги рационального неоклассицизма, как теоретические, так и практические, были сделаны в Венеции, и идеи Лодоли, завоевав Европу, подготовили радикализм Булле, Леду и архитектуры Французской революции, а затем, через столетье, привели к Сант’Элиа, футуризму, Баухаузу и строительству начала XXI века. Всё это несколько странно обнаружить в Венеции во время пышного цветения рококо, когда обезьяна над Ридотто гремит погремушкой, но вот вам венецианские парадоксы, в данном случае – парадокс заката Светлейшей республики, вполне способный обернуться рассветом. Столь восхищающая меня неоклассика интерьеров Ала Наполеоника обусловлена не французским вкусом, привнесённым Наполеоном, но порождена Венецией естественно, так же как и искусство Кановы, главного авангардиста нарождающегося после падения Ancien Régime «нового порядка веков», novus ordo seclorum, как было вырезано на Большой печати Соединённых Штатов в 1776 году, вполне неоклассицистской по виду. Печать США новый порядок до сих пор утверждает в буквальном смысле этого слова, штампуя его, нового порядка, измышления.
Лоренцо Боскетти – автор ещё одного сооружения в Венеции, более известного, чем церковь Сан Барнаба. Это – Ка’ Верньер деи Леони, Ca’ Venier dei Leoni, стоящий на Канале Гранде в непосредственной близости церкви Санта Мария делла Салуте. На то, что это аристократическое Ка‘Верньер, а уж тем более на то, что автор его – какой-то Боскетти, никто и внимания не обращает, потому что в нём располагается Музей Пегги Гуггенхайм, самый крупный музей модернизма в Италии. Пегги всех задвинула. Папаша Пегги прикупил дворец в 1948 году – ему, как в своё время Реццонико, необходимо было нечто впечатляющее, обязательно на Канале Гранде. Дворцом, несмотря на его красивое название, Ка’ Верньер деи Леони трудно назвать, так как у него возведён лишь pianterreno, «земной этаж», в Италии считающийся нежилым, и ничего больше. Верньеры, начавшие строительство чуть ли не параллельно Реццонико, разорились, да так всё и оставили. Затем эта недвижимость продавалась-перепродавалась, досталась Гуггенхайму, затем – Пегги, и она проявила хороший вкус: творение Боскетти не только не снесла, но даже ничего достраивать не стала, обжив первый этаж – огромный. По pianterreno видно, что Боскетти замахнулся на нечто грандиозное, что должно было превзойти Ка‘Реццонико размерами, а также – и в первую очередь – вкусом. Архитектура Ка‘Верньер радикально проста, а незаконченность ей придаёт совсем уж модернистский дух – ну вилла Фрэнка Ллойда Райта, да и только: Реццонико со своими страусовыми перьями должны были быть пристыжены. Но не были, так как Верньеры пошли по миру, а я, сделав дугу от огрызков-барнаботти через лодолиевский неоклассицизм к великому памятнику XX века, коим является Музей Пегги Гуггенхайм, оказываюсь в самой что ни на есть жгучей современности. Казалось бы; но, как всегда в Венеции, окажешься где-то, и вроде как стараешься обрести устойчивость, приземлиться, – а ничего подобного, не выходит, и не приземлился ты, а трахнулся, поскользнувшись, причём где – непонятно, то ли среди Плотов, то ли – Неисцелимых.
Вот и сейчас, во дворе Пеггинова музея, таком чистеньком, похожем на двор какой-нибудь модной виллочки средненького миллиардерчика из-под Сен-Тропезика, я задаюсь вопросом, кто всё же современен – Ка‘Верньер деи Леони или Музей Пегги Гуггенхайм? Большинство уверено, что Музей Пегги, но когда я оказываюсь в нём и с белых стенок на меня пялятся пятнышки и плевочки ушедшего в прошлое тысячелетие XX века, то мне так скучно становится, словно я оказался на учёном слушании докладов остепенённых и заслуженных специалистов по авангарду. Разухабистый историзм коллекций и интерьеров Музео Фортуни или Галлериа Джорджо Франкетти, Galleria Giorgio Franchetti, занимающей сказочный Ка’Д’Оро, Ca’D’Oro, Золотой Дом, многими считающийся самым красивым дворцом на Канале Гранде, гораздо живее, чем стерильность Музея Пегги Гуггенхайм, заставляющая меня зевать и снова вспоминать о том, что надо бы из пансионов Дорсодуро как-то линять, уж больно всё здесь старчески благопристойно. Да и оба коллекционера, Фортуни и Франкетти, как-то повеселее Пегги будут, поведение которой в послевоенной Венеции – поведение типичной барнаботки, только с деньгами и без аристократического происхождения, так что недаром её в Дорсодуро затянуло. Хитрость, скаредность, жестокость, себялюбие, вредность, мелочность, завистливость и развратность, весь букет барнаботских старческих достоинств Пегги носила с воистину барнаботской гордыней – это видно по её отношениям со всеми ею опекаемыми и обираемыми художниками (всячески, физически и духовно, причём очень плотоядно), которые, конечно, как всякие художники, тоже были не подарок.
Вот так я на солнышке напротив фасада Боскетти по-старчески и ворчу, то есть барнаботствую, и, yж собираясь расплачиваться – пора вставать из-за столика, и с Кампо Сан Барнаба двигаться дальше, – вдруг слышу всплеск воды: в Рио Сан Барнаба кто-то грохнулся. Все рио в Венеции, не имея парапетов, производят опасное впечатление, но в Рио Сан Барнаба, прямой линией дующего от Канале Гранде вдоль Ка’Реццонико мимо церкви ди Сан Барнаба в глубь Дорсодуро, свалиться так и тянет, мне во всяком случае, так кажется, и вот тебе на… Повернув голову туда, откуда всплеск раздался, кого же я вижу? Да саму Кэтрин Хепбёрн, мокрую, как карп из фонтана Ка’Реццонико, а вокруг неё Харрисон Форд с Шоном Коннери суетятся. Историки искусства церковь Сан Барнабо не жалуют, зато она мелькает в двух фильмах: в Summertime, «Лето», Дэвида Линна, и в столь же ужасающем, сколь и кассовом «Индиана Джонс и последний крестовый поход» Спилберга-Лукаса. В «Лете» около церкви ди Сан Барнаба Кэтрин Хепбёрн падает в воду, а также перед её фасадом происходят граалевские разборки, помещённые Спилбергом в Венецию, – для одной церкви такой кинематографической славы более чем достаточно. Но чёрт с ними, с голливудскими звёздами! Несколько поодаль я вижу фигуру более привлекательную, ещё более манящую, чем Форд с Шоном, и даже Кэтрин Хепбёрн: старика в стоптанных башмаках, бархате и паричке, с умнейшей ухмылкой, вроде как и добродушно-располагающей, но на самом деле опасно острой, как кинжал, запрятанный в кружевной манжет. Это – барнабот всех барнаботов, супербарнабот, сверхбарнабот и барнабот в кубе, граф Карло Гоцци.
Его биография, подробно изложенная им в прекрасной, но до сих пор не переведённой на русский язык книге «Бесполезные воспоминания» – история жизни barnabotto. Карло Гоцци, потомок аристократов – мать его была из тех самых Тьеполо, которые из-за старухиной ступки власть над Венецией упустили, – детство провёл в роскошном дворце, разорённом постоянным безденежьем его родителей. Учился чему-нибудь и как-нибудь, и юность его проходит так, как это всем отпрыскам обветшавших патрицианских фамилий уготовила венецианская обезьяна XVIII века, гремящая над Ридотто погремушкой, то есть в блестящем безделье, столь же оттачивающем ум, сколь его и изнашивающем: фойе игорных домов и театров, кафе и роскошь рокайльных гостиных с пятнами сырости, лезущими из-под лаковых панелей. Благодаря таланту Гоцци отточенность возобладала над изношенностью и привела его в Аккадемиа деи Гранеллески, Accademia dei Granelleschi, Академию Пустомель, как называлось сообщество молодых интеллектуалов – необязательно, кстати, аристократического происхождения, – что образовалось в Венеции в 1747 году наподобие многих других свободных итальянских академий, со времён Ренессанса возникавших в каждом уважающем себя городе. Ничего общего с официозом, с которым теперь слово «академия» у нас ассоциируется, – за официоз спасибо французам и Королю-Солнцу, своей Академией поставившего интеллект под контроль государства, – а также с академичностью эти сообщества не имели, и само название, Академия Пустомель, говорит за себя. Итальянские ренессансные и барочные академии были ближе к каким-нибудь сообществам символистов-сюрреалистов, чем к почтенности современных академических учреждений. К группе бравирующих своей богемностью литераторов – причём богемностью независимой, так как их литературный труд был бескорыстен, никто за гонораром не стремился, – и примкнул Гоцци, бросая публике бурлескные поэмы и литературные памфлеты, всё и вся высмеивающие.
В это время театры в Венеции были столь же важны, как и игорные дома, поэтому литературная Венеция в первую очередь и была занята театром. Страсти кипели вокруг борьбы двух главных венецианских драматургов, аббата Пьетро Кьяри и Карло Гольдони. Кьяри был ходульным неоклассиком, автором худосочных выспренних поэм, персонификацией уходящей в прошлое барочной риторики, милой старорежимной знати, в то время как Гольдони разрабатывал новую тему мещанской драмы: буржуазную, то есть страшно актуальную. Так как буржуазия в XVIII веке – это то же самое, что пролетариат в XX, то Гольдони был чем-то вроде Бертольда Брехта. Кьяри был бездарен, Гольдони – талантлив, но Гоцци они раздражали оба: Кьяри – своим идиотизмом, Гольдони же – обывательской усреднённостью, которую Гоцци обзывал «французской». Он выступил против обоих, и обоим мало не показалось. Гоцци жёг, и, будучи намного остроумнее и тоньше того и другого, спуску не давал ни Кьяри, ни Гольдони. Последним аргументом, остававшимся в запасе у бичуемых, было то, что легко, мол, злобствовать и всё ругать – разорившиеся патрицианские сынки на большее и не способны. А вот ты пойди, сделай что-нибудь, напиши и поставь хоть одну пьесу – посмотрим, что у тебя получится, и уж по факту авторской состоятельности вместе с театральной публикой мы с тобой и разберёмся.
Церковь ди Сан Барнаба
Гоцци, у которого безалаберная юность осталась позади и которому, занятому лишь академическим пустомельством, подкатило к сорока, собрался и написал. Написал «Любовь к трём апельсинам», ни больше ни меньше, причём очень по-гоцциевски и по-пустомельски, так что «Любовь к трём апельсинам» как бы и не текст, а лишь сюжетная канва. Изящество вышивки было предоставлено импровизаторскому дару масок Commedia dell’Arte, а текста пьесы, собственно говоря, не было и нет, зато был оглушительный успех: Венеция от восторга как с цепи сорвалась. Патрицианский сынок, окатив помоями обоих, и Кьяри, стиль которого он блестяще спародировал в речах Фата Морганы, и Гольдони, осмеянного в виде мага Челио, расправился с литературными врагами. Теперь их можно было не ненавидеть, а просто презирать – высшая сладость победы, потому что Гоцци увлёк, захватил и очаровал всех и каждого, создав произведение, заставившее дрожать от восторга и интеллектуалов, и модных хлыщей, и важных сенаторов, и торговок апельсинами, – ну, прям, Умберто Эко (у этого-то, правда, как-то с торговками не очень, он больше по части банкиров и модных хлыщей). Примечательно, что Гоцци, никогда не забывавший, что он граф, взъелся как на буржуазного Гольдони, так и на аристократического Кьяри, сомкнувшись с люмпен-интеллигентами, то есть с отвязной театральной богемой, актёрами и актрисами, в XVIII веке если уже и не считавшимися париями, как в средневековье (актёров, как и самоубийц, на церковных кладбищах хоронить было запрещено), то всё равно стоявшими вне общества. С театральным миром, с капризными примадоннами, ворчливыми директорами, взбалмошными первыми любовниками, с декораторами, с костюмерами и старыми суфлёрами граф Гоцци теперь и проводит всё своё время. Крошечный мирок театра стал его вселенной, его нужды и интриги – жизнью, и граф безвозмездно, одну за другой, создаёт десять фьябе, fiabe, сказок, написанных специально для актёров Commedia dell’Arte. Этих пьес всего десять, в отличие от сотен Гольдони, но они стали гордостью мирового театрального репертуара.
Все помнят блистательные рассуждения Ортеги-и-Гассета об испанском XVIII веке, о Гойе и о повальном увлечении испанских аристократов, самых чванливых в мире, всем простонародным, что с ними случилось в начале загнивания великой монархии, где-то около 1750 года. Увлечение проявилось в манере вести себя, одеваться, мыслить, и обуяло Испанию: махо и махам подражали герцоги и герцогини. Доподлинно неизвестно, была ли Мария дель Пилар Тереза Каэтана де Сильва-Альварес де Толедо и Сильва, тринадцатая герцогиня Альба де Тормес, грандесса Испании, моделью «Махи одетой» и «Махи обнажённой» и её ли эксцентричность подарила нам шедевры Гойи, как не фиг делать обставив Иду Рубинштейн с её модерновой миллиардерской раскованностью на столетие, а заодно – и всю Парижскую школу с их Кики де Монпарнасс, но именно увлечение аристократии «плебеизмом», как Ортега-и-Гассет это именует, послужило толчком к созданию двух великих картин. Нечто подобное «плебеизму» испанской аристократии чувствуется и в пристрастии графского сынка к театральной богеме: ему также приятнее проводить время с теми, чьи лица кардинально отличаются как от выродившихся физиономий отпрысков знатных семейств, к кругу которых он принадлежит по праву рождения, так и от рож буржуа, что теперь отовсюду таращатся. Знать и буржуев, для Гоцци воплотившихся в фигурах Кьяри и Гольдони, он костерит на каждом углу, используя в полемике приёмы не всегда достойные.
Десять театральных шедевров Гоцци стали детищем его страстной любви к соблазнительной девиантности замкнутого театрального мирка. Безделки, опыты, результат досуга, а вот ведь сколько на это навертелось! В своих теоретических выпадах против современности, ассоциировавшейся с Гольдони в первую очередь – с Кьяри он быстро разделался и за достойного противника никогда его не держал, – Гоцци выглядит не слишком симпатично, почти – мракобесно. Он ненавидит современность как таковую, всю, целиком, а особенно от него достаётся французам и моде на всё французское. Что там, во Франции, происходит, он не слишком хорошо знает, да и знать не хочет, моды и идеи он валит в одну кучу, как это было его веку свойственно (в чём есть определённые резоны), и просветительская драматургия ему столь же отвратительна, как и новомодные туфли: он много лет подряд не меняет обувь, мотивируя это тем, что венецианская обувь из Венеции исчезла. Ну чем не барнабот?
В ненависти Гоцци к современности, в его постоянном ворчании есть одно «но», отличающее его от тех, кого обычно обозначают словом «реакционер»: Гоцци ненавидит не столько современность, сколько реальность вообще. Он не взывает ни к какой конкретности, ни к какому историческому прошлому – он обожает условный фантастический мир, находящийся вне времени и вне пространства, и тем самым – вот ведь сальто-мортале! – он оказывается ближе авангарду, чем Гольдони, который весь такой из себя прогрессивный. Гоцци, познавший головокружительный недолгий успех, был тут же позабыт-позаброшен, и, дожив до 1806 года, он в наполеоновской Венеции, в Венеции нового порядка, вёл существование типичного barnabotto. Однако вскоре после его смерти, именно в то время, когда в родной Италии Гольдони восторжествовал, прочно войдя в репертуары театров, а о фьябах позабыли даже и в Венеции, Гоцци воскрешают немецкие романтики. Гофман прямо помешался на «Трёх апельсинах» и «Принцессе Турандот», и благодаря Гофману на Гоцци обращает внимание французский декаданс, отдававший ему несомненное предпочтение перед Гольдони. Как модерн, так и модернизм выуживают из декаданса увлечение фьябами Гоцци, и в XX веке венецианский ретроград становится радикалом – две великие оперы, «Принцесса Турандот» Пуччини и «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева тому доказательство. Фьябы Гоцци обожал русский Серебряный век, а затем – русский авангард, наградивший мировой театр постановкой Евгения Вахтангова «Принцессы Турандот», объединившей гоцциевский пассеизм с русским футуризмом. На Гоцци молились Мейерхольд и Таиров, не говоря уже о Кузмине и компании, да и сейчас, читая Гольдони и отдавая ему должное, зеваешь, честно говоря, от скуки, а Гоцци вечно свеж и занимателен. Вот вам и барнабот.
В 1777 году, будучи пятидесяти семи лет от роду, Гоцци пишет апологию барнаботства – чудные «Бесполезные воспоминания». Одно название чего стоит! Книга, как я уже говорил, прелестная, я мечтаю о её переводе и русском издании, но Венецианская республика в свет её не выпустила, и напечатаны «Бесполезные воспоминания» были лишь после её падения. Зато в 1787 году в Париже вышли из печати воспоминания Гольдони; книга эта, в отличие от Гоцци, на русский язык переведена, и всем она замечательна, но показательно различие названий: «Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра» и «Бесполезные воспоминания». У Гольдони – добродетельная обстоятельность, у Гоцци – прихотливое остроумие. Гольдони читаешь заинтересованно, Гоцци – заворожённо.
Обаятельное добродушие «Бесполезных воспоминаний», полных остроумия ироничного, но человеколюбивого и ведущихся от лица пожившего, но совсем не старого человека, прикидывающегося чудаковатым стариком, обманчиво. Эта книга – очень сложная, запутанная, тонко проведённая интрига, сводящая счёты:
а) литературные, как с талантливым Гольдони, так и с бездарями вроде Кьяри. Всех соперников по театру Гоцци победил;
б) личные, с любовницей, Теодорой Риччи, и молодым бонвиваном Пьетро Антонио Гратаролем, с которым она ему изменила. В любви Гоцци потерпел поражение.
Теодора Риччи Бартоли (забавные совпадения: с именем другой вамп, знаменитой византийки императрицы Теодоры, из цирковой актриски превратившейся во властительницу мира, а также – с фамилией известнейшей сейчас оперной певицы, страстной поклонницы Венеции XVIII века, Чечилией Бартоли) была любовью всей жизни Гоцци. Теодору он холил и лелеял, не только прощая ей все взбалмошности и капризы, свидетельствующие о невежестве и неблагодарности, но даже и наслаждаясь этими её недостатками. К Теодоре Гоцци влекла свежесть (он был на тридцать лет её старше): так опытный и изощрённый ум часто тянется к противоположности, ибо опыт и изощрённость любят убедить себя в том, что невежество и неблагодарность не просто неизбежность свежести, но даже и её неотъемлемая часть, так что если разумен и воспитан, то вроде как и не свеж. Частое заблуждение ума, свидетельствующее отнюдь не о его простодушии, а, наоборот, о крайней отточенности – как и полагается уму потомка венецианских патрициев. Очевидная корысть, привязывавшая к нему Теодору, Гоцци не смущала, а приносила ему дополнительные радости, так как ставила это дивное создание в зависимое положение, причём – это как-то особенно возбуждало – не материальное, а интеллектуальное. Талант имеет красоту, прямо Миллер с Мэрилин, и всё было прекрасно, но закончилось, как и полагается, печально. Однажды возник некий молодец: молодцев у Теодоры и до того было предостаточно, но все они исчезали, только появившись, а этот как-то задержался уж слишком надолго. Молодца звали Пьетро Антонио Гратароль, и бурный роман, завязавшийся между ним и Теодорой, взбесил Гоцци, показавшись ему излишне пылким. Гратароль принадлежал к тому же патрицианскому кругу, что и Гоцци, и, будучи менее знатным, был гораздо состоятельнее. Воспоминания и редкие дошедшие до нас изображения рисуют нам блондина в пёстрых шелках, прелестного юного прожигателя жизни, прямо-таки куколку, la bambola. Мне он кажется очень похожим на одного из персонажей «Фойе Ридотто» Франческо Гварди, на парня в кудлатом белом парике с одутловатым лицом без маски, не лишённом грациозной порочности, в правом углу картины, и история романа Теодоры и Гратароля, благодаря ярости Гоцци оставшаяся в веках, столь же венецианска и столь же восемнадцативекова, как и шедевр Гварди.
Понте деи Пуньи
В «Бесполезных воспоминаниях» Гоцци рисует Гратароля юнцом, безмозглым до комичности, даже не Анатолем, а Ипполитом Курагиным, но в 1777 году – год начала истории – Гратароля юнцом никак не назовёшь: ему было уже тридцать девять. Теодора тоже не девочка, ей двадцать семь, Гоцци же – пятьдесят семь, то есть заурядный любовный треугольник, но расцвеченный литературным талантом так, что куда там Миссони; пленительная ткань повести о скандалах, интригах, зависти и мести оказалась элегантнее и сложнее рисунка моих любимых тряпок. Гратороль отнюдь не был так уж зауряден, как его изобразил Гоцци, а вслед за Гоцци изображают литературоведы, о Гоцци пишущие и, само собою, держащие сторону своего героя. Гратороль, ведя жизнь в точности такую же, как и сам Гоцци, – жизнь безалаберного, умного и образованного патриция, – шлялся по Ридотто и по салонам, в то же время, как и Гоцци, ощущал некоторую жажду отвлечённой духовности. Таланта Гоцци у него, конечно же, не было, но он имел литературные наклонности, а жажда духовности им была реализована в масонской деятельности. В конце XVIII века масоном был чуть ли не каждый, кто отправлялся на поиски идеального, вспомним опять же «Войну и мир» и Пьера Безухова. Впрочем, если масоном становился каждый идеалист, масонство – в чём, как мы помним, Пьер тут же и убедился – состояло отнюдь не из одних идеалистов, и масонские ложи были подспорьем светской карьеры. Безуховым Гратароль не был, тщеславие в нём превалировало над духовностью, но он не был и Ипполитом, и в Венеции имел определённый вес и репутацию, даже несколько и левого толка, так как за ним следила инквизиция и Совет Десяти. «Достаточно богатый, одаренный от природы приятной внешностью и обаянием, отчаянный игрок, настоящий дырявый карман, острый и находчивый собеседник, поклонник всех хорошеньких женщин, не терпящий соперников, любитель веселых компаний» – так пишет Казанова о своей венецианской юности в Histoire de ma vie, и это описание вполне может служить и характеристикой Гратароля. Казанова заканчивает следующим: «я мог возбуждать ненависть» – и Гратароль также своей свободой, пусть даже только поведенческой, её возбуждал.
В свете с Гратаролем считались, и он был принят в лучших домах, ибо был чичисбеем Катерины Дольфин Трон, экстравагантной и могущественной светской львицы. Прелестное словечко cicisbeo считается производным от звукоподражания, намекающего на чикалеччио, чингуэттио, кьяккьериччио, cicaleccio, cinguettio, chiacchiericcio – шёпот, щебет, болтовня – то есть на основные занятия чичисбеев, и так назывались официально признанные светом постоянные спутники замужних женщин. Катерина Дольфин Трон была скандальна и очень влиятельна, за плечами у неё были развод с одним из Тьеполо (не художником, а представителем влиятельной патрицианской фамилии, дальним родственником Гоцци по матери) и второй брак с влиятельнейшим стариком (впрочем, он лишь на восемь лет старше Гоцци), прокурором республики Андреа Трон ди Николó. Катерину с её вторым мужем все, описывающие эту историю, изображают прямо-таки персонажами повести «Дож и догаресса» Гофмана, хотя ей перевалило на пятый десяток, потому что Катерине в 1777-м стукнул сорок один (это я не поленился в справочники залезть). Должность чичисбея при прокураторше была светски весома, и, судя по взрывной силе возмущения Катерины при известии о романе Гратароля с Теодорой Риччи, его роль при ней не ограничивалась шёпотом, щебетом и болтовнёй.
Катерина также баловалась литературой, была близка с членами Академии Пустомель и хорошо знакома как с Карло Гоцци, так и с его братом, Гаспаре. Узнав о романе Гратароля, она впала в бо́льшую ярость, чем Гоцци, и не без её наущения он, переделав комедию Тирсо да Молино «Любовь-целительница» в сатиру, вывел на сцену нового героя, Адоне, хлыща, точь-в-точь похожего на Гратароля. То, что Гоцци слепил по случаю и в припадке злости, было не слишком гениально, сам он своего творения стеснялся и пытался после первых представлений пьесу снять, но Катерина вцепилась в «Любовь-целительницу» мёртвой хваткой. Она даже специально сама отрежиссировала её постановку во время карнавала – то есть в прайм-тайм венецианской светской жизни – так, чтобы актёр, изображавший Адоне, и внешне и костюмом был убийственно смешно похож на Гратароля. Катарина своей цели достигла, Гратароль на улицу вылезти не мог, так как в него все пальцами тыкали, и просидел весь карнавал дома, носа не высовывая. Когда же высунул, то был осмеян, распсиховался и побежал жаловаться. Этого совсем уж не надо было делать: мало того что его власть не жаловала, так над ним ещё стали издеваться и все светские оппозиционеры. Поняв, что официальным путём он унизивших его никак не достанет, Гратароль разразился угрозами и руганью в адрес не только и не столько Гоцци, сколько Катерины, её мужа и высокопоставленных венецианских чинов, обозвав прокуроршу проституткой-тиранкой. Вот так-то; представляете, если бы такое сейчас у нас случилось и так бы публично обозвали супругу Генерального прокурора Российской Федерации? Да сделал бы это ещё и бывший официальный чичисбей супруги генпрокурора – скандал грохнул не на шутку, Гратароля понесло, он готов был заложить всех и вся, и тут уж стало не до комедий.
Власть на Гратароля ополчилась, и он в конце концов из Венеции бежал, причём, использовав свои масонские связи в Германии, где он поначалу обосновался, стал угрожать раскрытию подноготной всей верхушки Светлейшей республики. Затем Гратароля, как Казанову (он и был уценённым Казановой), несло по Европе и занесло в Швецию, где он опубликовал Narrazione apologetica di Pietro Antonio Gratarol nobile padovano, «Защитительное повествование Пьетро Антонио Гратароля, падуанского дворянина», изобразив всю историю увлекательно и отнюдь не бесталанно. Книжка, срывающая маски с венецианских персонажей, имела колоссальный успех, была тут же переиздана, а в Венеции была строго-настрого запрещена. Гоцци свои «Бесполезные воспоминания» написал в ответ на Гратаролеву книжицу, представив свою версию событий, не менее (если не более) субъективную, чем версия «Защитительного повествования». Гоцци к правительству был лоялен, но поскольку скандал коснулся самых верхов и любые разговоры об этой истории наводили на темы самые скользкие, то публикация мемуаров Гоцци также была запрещена. Они увидели свет лишь в 1797 году, после падения республики и воцарения в Венеции Наполеона. Судьба – или Фата Моргана, на которую всё время в своих «Бесполезных воспоминаниях» жалуется Гоцци, – снова сыграла с ним злую шутку: ненавидимые и поносимые им французы оказались к нему гораздо снисходительней, чем родные венецианские власти.
Далее Гратароля, несмотря на успех книги, настигло безденежье, он впутывался в различные афёры, его несло всё дальше и дальше, он оказался в Северной Америке, потом в Индии и умер на Мадагаскаре, в 1785 году. После известия о его смерти родные сёстры Гратораля начали оправдательную кампанию – ещё одна причина создания «Бесполезных воспоминаний», – и история докатилась до 1800-х, до наполеоновского времени. Заглохла она только в середине XIX века, и теперь стала забавной пьеской из жизни марионеток.
«Из жизни марионеток» – я вспоминаю фильм Бергмана, когда захожу в церковь ди Санта Мария деи Кармини, chiesa di Santa Maria dei Carmini, Святой Марии Кармелитов, также называемой Санта Мария дель Кармело, Santa Maria del Carmelo, Святая Мария Горы Кармель, или даже просто И Кармини, I Carmini, Кармелиты, потому что в этой церкви, замечательной всем, в том числе и двумя висящими друг против друга шедеврами – внушительной алтарной картиной Чимы да Конельяно «Рождество со Святыми» и висящей напротив картиной Лоренцо Лотто «Святой Николай Чудотворец во славе», – мне нравится центральный неф, чей вид тут же заставляет вспомнить о кукольном театре. Церковь, ведущая свою историю с 1286 года, разукрашивалась и переделывалась, и её узкое вытянутое пространство хорошо помнит готику, но оно расцвечено веками, и Ренессансом, и барокко, а к началу XVIII века относится то, что меня особенно влечёт, – деревянные скульптуры пророков и святых, стоящие на деревянных же подставках, прилепленных к капителям древних колонн. Кукольный театр Бога.
Церковь И Кармини
Джованни Баттиста Пиранези приписывается эффектный рисунок под названием «Публика в масках около балагана с представлением Пульчинеллы», находящийся в Кунстхалле в Гамбурге. Для Пиранези он очень странен, и, хотя я сам не раз в книжках о Пиранези воспроизводил его под этим именем без всяких вопросов, у меня есть сомнения в его авторстве; впрочем, с рисунками Пиранези всё неясно, и до сих пор какого-нибудь внятного каталога его рисунков нет. На рисунке пером и кистью с красивым коричневым размытым тоном изображена карнавальная венецианская толпа у подножия уличного театрика марионеток. Над головами, высоко вверх, вознесен прямоугольный проем сцены с видными в нём фигурами двух кукол, выясняющих отношения. Марионетки лишь намечены, как и очертания балаганчика, сцена задрана в небо, парит над празднично разодетой публикой так высоко, что публике представление смотреть явно неудобно. На сцену, правда, никто и не смотрит, потому что публика, сплошь в масках, занята собой. Мы не видим ни одного лица, лишь маски и затылки, колпаки, треуголки, кринолины и домино, и в центре – загадочная «Нина – розочка, не роза», девушка то ли с лицом, похожим на масочку, то ли в масочке, имитирующей лицо. Публика сама представляет театральное действо, пленительное и тревожное, – рисунок схож с «Фойе Ридотто» Франческо Гварди. Пиранезиевскую «Публику в масках около балагана с представлением Пульчинеллы» можно использовать как заставку к Histoire de ma vie Казановы и к «Балаганчику» Блока, столь хорошо эта свободно набросанная композиция передаёт дух венецианского сеттеченто. В церкви ди Санта Мария деи Кармини, пригнув затылок к пяткам и с трудом рассматривая представление, разыгрываемое святыми куколками, le bambole sacre, я чувствую себя одним из «публики в масках», а заодно – персонажем «Балаганчика» Блока.
Всего куколок двадцать две, по одиннадцать с каждой стороны, – это и Исайя, и пророчица Анна, и Иеремия, и Иона, и апостол Павел, и святой Либерале со святым Альбертом, а также святые совсем малоизвестные, в том числе и безымянные святые кармелит и кармелитка. Они полны для меня очарования неизъяснимого, прямо гоцциевского, недаром я в И Кармини направился сразу после встречи с великим барнаботом, с интересом созерцавшим выловленную из Рио Сан Барнаба Кэтрин Хепбёрн (сравнивал её стати с Теодорой Риччи, видимо). Куколки – позднебарочные, в стиле барокетто, который я бы определил как барокко на последнем дыхании (и при последнем издыхании), и стиль этот очень марионеточен, но нечто бергмановское мне слышится в том, что хотят мне сказать Иона с пророчицей Анной, а также безымянные святые кармелит и кармелитка. Да, я уверен, что двадцать два персонажа центрального нефа И Кармини разыгрывают именно представление «Из жизни марионеток», что-то про убийство, про неврозы и обсессии с фрустрациями, ибо кукольный театр a priori трагичен, он же, пусть даже публика ржёт над избитым Пульчинеллой, рассказывает нам о том, что своей воли у нас нет и все мы – куклы, дёргаемые за ниточки. Чем не греческая трагедия, в которой боги водят героями, как кукловод марионетками?
Название фильма Бергмана, Aus dem Leben der Marionetten, снятого им в Германии и на немецком языке после его «налогового изгнания» из шведского социализма, вторит названию шедевра немецкого романтизма, эссе Über das Marionettentheater, «О театре марионеток», Генриха фон Клейста, оказавшего столь большое влияние на Адриана Леверкюна, создавшего ораторию-моралите «Доктор Фаустус». Выходя из церкви ди Санта Мария деи Кармини и с сожалением минуя барочный фасад из истрийского мрамора одной из замечательнейших скуол Венеции, Скуола Гранде деи Кармини, Scuola Grande dei Carmini, полной шедевров живописи, и Тьеполо, и Пьяцетты, потому что зайти времени внутрь у меня уже нет, бормочу про себя:
– Стало быть, – сказал я немного рассеянно, – нам следовало бы снова вкусить от древа познания, чтобы вернуться в состояние невинности?
– Конечно, – отвечал он, – это последняя глава истории мира. —
последние слова из эссе Клейста очень подходят духу И Кармини, да и вообще, всему духу Дорсодуро: и Острию Морскому, и барнаботству, и Кампо Санта Маргерита, ещё одной особенной площади Венеции, своим шумом вроде как опровергающей всё, что раньше было сказано про барнаботство Дорсодуро.
На Кампо Санта Маргерита, Campo Santa Margherita, второпях пробежав мимо Скуола Гранде деи Кармини, я и направляюсь, чтобы усесться в одном из кафе на площади и обдумать всё, что я о Дорсодуро здесь нагородил. Вокруг же – шум и гам, так как Кампо Санта Маргерита – самая оживлённая площадь Венеции после Пьяцца Сан Марко. Но если на Пьяцце оживление туристическое, жёлтое, то на Кампо Санта Маргерита бушует сама подлинность, и шумят не «понаехали», а аборигены или почти аборигены. Находясь поблизости от Унивеситета Ка’ Фоскари, эта площадь – любимое место молодёжи, всё время на ней тусующейся; в Университете, конечно, учится молодёжь не только венецианская, но в любом случае в Венеции она проживает. Тусовка усиливается к вечеру, с наступлением темноты Кампо Санта Маргерита особенно оживляется и бурлит допоздна, становясь столь привлекательной, что у меня, как у собаки Павлова слюна, при произнесении «Кампо Санта Маргерита» тут же в ушах начинает нарастать приятный и бессмысленный, такой итальянский гул.
Молодёжность площади как будто бы и противоречит тому, что было сказано прежде об общем барнаботстве Дорсодуро, но противоречие между рассуждениями на Кампо Сан Барнаба и тем, что я теперь рассказываю о Кампо Санта Маргерита, может быть снято следующей фразой:
не лыбься, такой же будешь —которую сквозь зубы цедила одна моя знакомая эрмитажная дама с опытом при виде молоденькой и хорошенькой девушки, только что в Эрмитаж поступившей. Фразу эту на Кампо Санта Маргерита я не то чтобы постоянно повторяю, но не вспомнить не могу, и как же своё старчество прочувствуешь, если на молодёжь не смотреть? В богадельне все кажутся себе ещё ого-го, поэтому вновь в богадельню прибывшие – молодняк, а в Эрмитаже я до недавних пор считался «молодым сотрудником». Вот Дорсодуро себе Кампо Санта Маргерита и завёл, чтобы на молодёжь ворчать и умиляться.
Часть площади, примыкающая к Скуола Гранде деи Кармини, образует острый угол. Из-за этого меня на Кампо Санта Маргерита не покидает ощущение треугольности, что для площадей необычно и придаёт этому месту особый дух, хотя окружающая архитектура нормально-ординарна и ничего сногсшибательного в ней нет, да и площадь образовалась поздно, при австрияках, когда они, расчищая Венецию, засыпали из соображений гигиены несколько рио, здесь когда-то протекавших. Заодно австрияки снесли и часть старой средневековой застройки, и, за исключением угла у Скуола Гранде деи Кармини, площадь довольно-таки обыденно прямоугольна. Красит Кампо Санта Маргерита ещё старая руина, когда-то бывшая колокольней церкви ди Санта Маргерита, chiesa di Santa Margherita. Церковь, давшая имя площади, упразднена ещё при Наполеоне, давным-давно опустошена и закрыта, колокольня полуразрушена, и её огрызок торчит каким-то авангардным памятником. Обломок башни сообщает площади нечто мистическое, хотя уровень мистицизма в Венеции высокий, на Кампо Санта Маргерита как раз понижен. В моём сознании три особенности площади: острый угол, руина и её имя, Маргерита, придают молодёжному гвалту, на ней царящему, оттенок булгаковщины, так что я, несмотря на приятную приземлённость этого места – а точнее, именно благодаря ей, потому что ничто так не мистично, как обыденность, это мы знаем от Рене Магритта, – уверен, что одно из своих ежегодных party, посвящённых выбору Маргариты, Воланд обязательно проведёт здесь, в осквернённой Наполеоном церкви, – убеждение абсолютно тенденциозное, и ничем, кроме субъективных переживаний, не аргументированное.
В главе о сестиере Сан Поло я рассказал о кулачных битвах кастеллани и николотти и о том, что правобережный Дорсодуро исторически примыкал к Кастелло, левобережному и поэтому более аристократичному. Барнаботскими были его север и восток, на юго-западе же он был заселён демосом – лодочниками и рыбаками, – поставляя в ряды николотти самых драчливых и боевитых. Граница в Дорсодуро между его двумя частями, частью престарелых аристократов и частью простонародья, рыбаков и лодочников, проходит примерно по Рио Сан Барнаба, и на нём же находится мост, бывший главной ареной кулачных битв, Понте деи Пуньи, Ponte dei Pugni, Мост Кулаков. Сейчас вид у моста безобидный и безопасный, но когда-то здесь всё бушевало. До нас дошла масса выразительнейших картин, гравюр и рисунков, изображающих кровавые драки кастеллани с николотти, опасность которых усугублялась постоянным риском свалиться в воду, потому что на Понте деи Пуньи, как и на других мостах Венеции, перил не было. О кипении ненависти, скрежете зубовном и оре, что стоял вокруг Понте деи Пуньи, сейчас отдалённо напоминает разве что вечерний, очень безобидный шум, вьющийся вокруг винотеки, расположенной прямо напротив моста, столь популярной у местных, что посетители выплёскиваются на узкую набережную и галдят на ней, как это итальянцам и свойственно. После наступления темноты эта винотека – последнее оживление на прямом Рио Сан Барнаба, постепенно уводящем вглубь Дорсодуро и подводящем к водам Джудекки.
Кампо Санта Маргерита
Я очень люблю эту часть Венеции (впрочем, а какую я не люблю?), пустынность и простоту церквей вокруг, в местах, где турист редко показывается. Это церковь ди Сан Тровазо, chiesa di San Trovaso, церковь ди Сан Раффаэле Арканжело, chiesa di San Raffaele Arcangelo, церковь Сан Николó деи Мендиколи, chiesa di San Nicolò dei Mendicoli. Ни в каких святцах не упоминаемый Сан Тровазо – это диалект николотти, превративший в Тровазо святых Джервазо и Протазио (Гервасия и Протасия, православными они тоже почитаются), двух миланских близнецов, замученных, как предполагают, во времена императора-философа Марка Аврелия, и церковь эта, как и все церкви этой части Дорсодуро, архитектурно очень проста. Никто особо смотреть её не рвётся, но мне нравится нехарактерная для Венеции разреженность пространства вокруг Сан Тровазо, всё пустыри и пустырики, а также то, что на берегу Рио Сан Тровазо, Rio San Trovaso, стоит мастерская по починке гондол, с сараем, в котором виднеются их длинные чёрные тела. Эти водоплавающие на суше производят недвижно-беззащитное впечатление и чем-то похожи на выброшенные волнами на морской берег тела мёртвых дельфинов. Печально и красиво.
В церкви ди Сан Раффаэле Арканжело, также называемой делл’Анжело Раффаэле, dell’Angelo Raffaele (низведение архангела до ангела несколько понижает ранг её патрона, что очень в стиле николотти), я переживаю физическое наслаждение от серии картин, украшающих орган, принадлежащих кисти Джан Антонио Гварди. Они рассказывают историю Товии, сына Товита, и никому особо не известны, хотя композиции старшего брата Франческо Гварди – одно из выдающихся творений не только венецианского, но и европейского рококо. Французы, Буше и Фрагонар, будучи более изобретательными и более продвинутыми, никогда не были столь изящно лёгкими, как венецианец: библейская история в исполнении Джан Антонио Гварди звучит так, как будто Филипп Жарусски запел арию Нерона из генделевской «Агриппины» Con saggio tuo consiglio il trono ascenderò, «Взберусь на трон с твоим мудрым советом», столь же нежно и предательски-обманчиво. Что может быть лучше этой арии? – вот Буше и Фрагонар так звучать не могут.
Об этимологии имени Сан Николó деи Мендиколи, Святого Николы Голытьбы, я уже говорил. В церкви этой всё прекрасно: её простота, приземистая колокольня, то, что она расположена на пересечении двух каналов, Рио де ле Терезе, Rio de le Terese, Канал Терез (именно так, во множественном числе, потому что имя своё он получил из-за приюта кармелиток, на нём расположенного, в просторечии называемого «терезами» в честь святой Терезы Авильской, патронессы ордена), и Рио де Сан Николó, Rio de San Nicolò, а наиболее прекрасен в здании церкви портик XV века, черепичная крыша на тонких колонках, пространство между которыми теперь забрано железными решётками – реставрированное-перереставрированное сооружение, но чудное, предназначенное для того, чтобы давать кров бездомным. В такой клетке сидела мать Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери».
Интерьер Сан Николó деи Мендиколи схож с интерьером И Кармини, с такими же позднебарочными деревянными фигурами, le bambole, стоящими на резных капителях, приставленных к древним колоннам. Фигуры изображают двенадцать апостолов, причём деревянная декорация замкнута, а не расступается перед алтарём, как в И Кармини. Алтарная часть оказывается как бы задвинутой за очень театральную триумфальную арку, увенчанную фигурами Распятого, Иоанна Евангелиста, Девы Марии и двух ангелов, разыгрывающими Stabat Mater:
Stabat mater dolorosa juxta Crucem lacrimosa, dum pendebat Filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius. Стояла Мать скорбящая Возле креста в слезах, Когда на нем висел Сын, Чью душу стенающую, Сочувствующую и страдающую Пронзил меч.Великие слова определяют особый дух, царящий вокруг Сан Николó деи Мендиколи, и они меня заставляют вспомнить о том, что эта церковь стала героем триллера Николаса Роуга «А теперь не смотри». Поэтический перевод Афанасия Фета секвенции Stabat Mater звучит как:
Мать Скорбящая стояла И в слезах на крест взирала, На котором Сын страдал. Сердце, полное волненья, Воздыханий и томленья, Меч в груди ее пронзал.«Стояла» и «взирала» почему-то рифмуется у меня с Don’t Look Now, с названием фильма, в итальянском прокате звучащим как A Venezia… un dicembre rosso shocking, что дословно можно перевести как «Как-то раз в Венеции отвратным красным декабрём», и красный, rosso, что кулачными бойцами намолен вокруг Николы Голытьбы, очень отличается от жёлтого, giallo, царящего на Риальто и Сан Марко.
Я прохожу мимо этих, народных, церквей быстро, потому что направляюсь в церковь, забрёдшую в район николотти как бы случайно, так, как будто богатая миланка, попавшая на карнавал в Венеции и в карнавальном угаре очутившаяся на венецианской окраине невесть как, вдруг, почувствовав вокруг себя чуждость, может даже и опасную, остановилась, слегка приподняв юбку, чтобы не запачкаться, и с вопросительным удивлением озирается вокруг себя: куда ж меня занесло и не изнасилует ли кто-нибудь? Церковь эта – Сан Себастьяно, chiesa di San Sebastiano, чей фасад, спроектированный Антонио Аббондио по прозвищу Скарпаньино, в сравнении с простотой фасадов упомянутых мною церквей николотти, как-то неожиданно принаряжен: этакий брамантеск с затеями. Церковь ди Сан Себастьяно схожа с великой Санта Мария прессо Сан Сатиро, Santa Maria presso San Satiro, в Милане: вид миланской церкви, шедевра ломбардской архитектуры, архитектуры ренессансной и архитектуры вообще, определён гениальными идеями Браманте, и недавно открытый факт, что экстерьер Санта Мария прессо Сан Сатиро в основном проектировал ломбардец Джованни Антонио Амадео, младший и менее известный современник Браманте, в то время как знаменитость проектом лишь руководила, нисколько не умаляет славы великого ренессансного авангардиста. В Венеции Скарпаньино, гением явно не будучи, брамантовские мотивы использует умело, но несколько бездушно, оперируя ими как готовым набором различных деталей, предназначенных для сборки, но смешение миланскости с венецианскостью, ощутимое в этом уголке города, пленительно: почти прямая Фондамента Сан Себастьян, Fondameta San Sebastian, зелёная вода Рио Сан Себастьян, Rio San Sebastian, стоящая чуть ли не вровень с набережной, и застройка вокруг, скромно-подлинная, с многочисленными пустотами площадей-площадок. Совсем рядом, как нанизанные бусины, лежат в двух шагах друг от друга: Кампо Сан Себастьян, Campo San Sebastian, Площадь Святого Себастьяна, Кампаццо Сан Себастьян, Campazzo San Sebastian, Площадёнки Святого Себастьяна, Кампьелло ди Скуеро, Campiello del Squero, Площадочка Верфи и Кампо дрио иль Чимитеро, Campo drio il Cimitero, Площадь за Кладбищем, – ни верфи, ни кладбища нет и в помине, но итальянские имена площадей ласкают мне нёбо, как предобеденные эспума ласкают нёбо гурмана.
Экстерьерные красоты Сан Себастьяно манят, но не ради них я всем настоятельно советую посетить эту церковь. Образ карнавальной красавицы, забредшей к николотти и метущей бархатным подолом пыль и грязь окраины (вообще-то, теперь у николотти особых пыли и грязи не найдёшь, хотя и гламур сюда тоже пока ещё не забрался), возникает у меня не столько из-за принаряженной брамантескности фасада, сколько из-за интерьера, полного сокровищ. Зайдешь, и всё перламутром и яшмой горит, везде парча, жемчуга и золотые цепи, а источник всего этого бьющего через край великолепия – живопись Паоло Веронезе, которой церковь ди Сан Себастьяно забита так, что теперь эта церковь чуть ли не самое крупное в мире собрание его произведений.
Церковь делл’Анжело Раффаэле
Об отношениях Веронезе с церковью ди Сан Себастьяно можно было написать целый роман. Веронезе представлять не надо – его искусство стало воплощением венецианскости. Изобретательность, пышность, декоративность – Веронезе один из главных художников Светлейшей республики, Serenissima Repubblica, и живопись его тоже очень serenissima, лучится и сияет. В повседневном обиходе используется специальный термин, определяющий очень специфический цвет, le vert veronese, «зелёный веронез», вошедший в том числе и в обиход моды: сейчас le vert veronese высокая мода использует при описании особо дорогих кожаных аксессуаров – связь Веронезе с alta moda не случайна. Веронезе добился громкой известности ещё при жизни, а затем веками его имя было окружено лучащимся ореолом славы художника великого, успешного и очень дорогого.
Модернистов однако успешность и роскошь Веронезе стали раздражать – вроде как модернизм a priori против успеха, декоративности и излишеств – и казаться официозной риторикой, чуть ли не пустоту прикрывающей. Симпатии модернистов (Сартр с его вкусом – типичный пример такой модернистской переоценки) обратились к Тинторетто, как к alter ego Веронезе, и провозгласили Тинторетто бунтарём-авангардистом и революционером-одиночкой. Любая схема нуждается в упрощённой паре противоположностей (типа «дионисийство» и «аполлонизм»), и на роль анти-Тинторетто был выбран Веронезе, которого стали третировать как художника Палаццо Дукале, обслуживающего власть и буржуазную верхушку. В модернизме (то есть в XX веке) не все дураки, конечно, и кое-кто разглядел, что живопись Веронезе не одна лишь триумфальная помпезность, но что он, как и каждый гениальный художник, трагичен, как Шекспир, но эти соображения остались достоянием немногих. До сих пор все повторяют избитое «персонажи его огромных композиций исполнены горделивого достоинства, роскошно одеты и представляют церемониальную сторону венецианской жизни 16 века» – беру цитату из первого же попавшегося под руку текста, коих полным-полно. Венецианская церемониальность – вот с чем Веронезе связывается в первую очередь, и этот факт, столь же верный, как и факт, что Волга впадает в Каспийское море, столь же мало говорит нам о Веронезе, сколь мало о Волге нам сообщает знание того, куда она впадает. Будучи и церемониальным, и официозным, Веронезе, однако, в отличие от Тинторетто (тоже вполне официального), попал под преследования инквизиции, увидевшей в его изобильности крамолу и ересь. Дошедшая до нас запись допроса Веронезе стала одним из ценнейших свидетельств разбирательства господствующей идеологии с художником: запись очень похожа на конспект суда над Иосифом Бродским.
Да, роскошь присуща Веронезе, и о ней в первую очередь я и заговорил, оказавшись перед его церковью, потому что образ разряженной потерявшейся красавицы, с недоумением вокруг себя оглядывающейся, что у меня возникает при взгляде на Сан Себастяно, связан с героиней одной из центральных овальных живописных композиций, украшающих потолок церкви.
Сюжет этого полотна, «Изгнание царицы Астинь», представляет собой редкую сцену из цикла жизни Эсфири, и посвящён её предшественнице, царице Астинь (Вашти на древнееврейском), что означает «Желанная» или «Любимая». Астинь была супругой вавилонского владыки Артаксеркса перед Эсфирью, её сменившей, но эта Желанная и Любимая была столь же горда, сколь и прекрасна. Она из высокомерной скромности отказала коронованному супругу в просьбе показать свою красоту на одном из его пиров, за что и была из дворца с позором выгнана, уступив место более, видимо, сговорчивой Эсфири. Еврейке было не до куражу – перед ней стояла задача облегчить муки своего народа, томящегося в вавилонском пленении, так что на место Астинь она с готовностью запрыгнула. С задачей реабилитации соплеменников в глазах вавилонского царя Эсфирь блестяще справилась, за что евреи её чтят до сих пор по весне, где-то в районе 8 марта, так что многие сейчас утверждают, что Международный женский день – происки сионизма. Это совсем не так, а точнее – не совсем так, потому что Эсфирь, будучи библейской героиней, пользовалась уважением и у христиан, признавших её одной из величайших женщин древности. Цикл Веронезе, украшающий христианскую церковь, тому прямое доказательство, и, со свойственной ему оригинальностью, Веронезе изгнание Астини сделал чуть ли не центральным. Астинь в его изображении предстаёт очень хорошенькой и молоденькой блондинкой, с большим достоинством удаляющейся, опираясь на руку какого-то Керубино, из дворца, по ступеням, ведущим вниз, и вполоборота меряющей презрительным взглядом дюжего мужика, одного из прихвостней Артаксеркса, сорвавшего с неё корону. Астинь разодета в красные и синие шелка и выглядит отлично, ничем не хуже, чем Эсфирь, изображённая на соседней композиции во время коронации той самой короной, что у Астинь была отнята, – мне кажется, что Веронезе так срифмовал двух библейских героинь не случайно и что экс-царица вызывала у него явную симпатию. Правую руку веронезиевская Астинь подала кудрявому мальчику, левой же придерживает свои красно-синие блистающие шелка; выглядит всё comme il faut, и о том, что Астинь изгнанница, как-то не в раз догадаешься. Она отринута, но разряжена тщательно, и лишь при внимательном рассмотрении различаешь насторожённость, проступающую сквозь галантность. Последний взгляд Астинь, кинутый на теперь чуждый дворец, лишён сожаления или ненависти, царица выглядит скорее удивлённой, чем отчаявшейся, и фигура Астинь, кокетливо придерживающей пальчиками край расшитого плаща, кажется мне очень похожей на здание церкви ди Сан Себастяно, напоминающее мне заблудшую красавицу.
В Сан Себастьяно я направляюсь и всех за собой тащу всё ж не из-за Астинь, а из-за главного и наиболее знаменитого живописного цикла Веронезе, там находящегося: цикла фресок, размещающихся на хорах и представляющих живописный рассказ о жизни святого Себастьяна. Я уже говорил, что связь Веронезе с церковью ди Сан Себастьяно могла бы стать сюжетом романа. Что-нибудь типа «Творчества» Золя: роман должен строиться по схеме «путь художника». Именно в этой церкви состоялся венецианский дебют молодого веронца, только что оказавшегося в Венеции, а затем, в разные периоды жизни, он к святому Себастьяну возвращался, добавляя к уже созданному всё новые и новые циклы. В церкви ди Сан Себастьяно Веронезе и похоронен.
Паоло Кальяри, в Венеции получивший кличку Veronese, «Веронец», был притащен в 1555 году в столицу (а для Вероны в то время Венеция была столицей) своим соотечественником, монахом Бернардо Торлиони, добившимся в Венеции высоких церковных должностей и ставшим ректором церкви ди Сан Себастьяно. Торлиони покровительствовал своему земляку, и недавно отстроенная церковь послужила Веронезе своего рода стартовой площадкой, чем-то вроде галереи, устроившей его первую персональную выставку в столице. Картины, написанные Веронезе для потолка сакристии, ризницы, «Коронование Девы Марии» и четыре евангелиста, были чуть ли не первыми его работами, сделанными в и для Венеции. В то время – в середине XVI века – Венеция для Вероны была примерно тем же, что сейчас Москва для Твери. Венеция, как и Москва, была забита своими собственными знаменитостями, молодому художнику найти нишу в столичной художественной жизни было трудно, и Торлиони пришлось приложить некоторые усилия к тому, чтобы очень лакомый заказ на роспись хоров церкви Сан Себастьяно достался его протеже. Вот туда-то я и стремлюсь и туда, наконец-то, влезаю по специальной лестнице, потому что сейчас попасть на хоры можно только по особому разрешению, потому что они закрыты на реставрацию, которая столь кропотлива и тщательна, что только Богу и святому Себастьяну известно, сколь долго она продлится.
Церковь ди Сан Себастьяно была, как и Санта Мария делла Салуте, одной из «чумных церквей», то есть церквей, построенных в Венеции в ознаменование прекращения очередной эпидемии. Одно из главных занятий на небесах святого Себастьяна, так же как и святого Рокко, – защищать от чумы и покровительствовать заражённым. Так как Себастьян при опасности «чёрной смерти» мог замолвить словечко, то он стал одним из самых популярных святых католического мира. Как защитник от чумы Себастьян был древнее других святых. Рокко по сравнению с ним был салагой, и, хотя Светлейшая республика и симпатизировала больше Рокко (к тому же Себастьян был профлорентийски настроенным, будучи покровителем этого города), она считала своим долгом его почтить. Церковь, посвящённая ему, была отстроена с пышностью, но на отшибе – вот ещё одна из причин некоторой необычности появления здания церкви ди Сан Себастьяно в простонародном районе николотти.
Святой Себастьян – один из раннехристианских мучеников, его жизнь и смерть связаны с императором Диоклетианом и падают на середину III века нашей эры (вроде бы, когда он был замучен, ему было 32 года). Культ святого покровителя от чумы естественным образом перепутался с культом языческого чумоборца-чумонасадителя Аполлона, чьи стрелы имели способность как чуму вызывать, так от чумы и излечивать. Способ, коим Себастьян был замучен – пронзён стрелами, – тут же напоминал о лучнике-Аполлоне, и он стал изображаться в виде прекрасного обнажённого юноши. Флорентинцы эпохи Возрождения, благо Себастьян был их покровителем, чувствуя склонность как к красоте, так и к наготе, вовсю использовали святого как супермодель, так что для флорентийской живописи святой Себастьян стал чем-то вроде Алекса Лундквиста или Маркуса Шенкенберга, самых высокооплачиваемых моделей, для сегодняшней фэшн-индустрии. Причём специализировался святой на рекламе в первую очередь нижнего белья (все помнят трусы Себастьяна на картине Антонелло да Мессина из Дрездена, величайшие и наишикарнейшие трусы в мире), и один из флорентийских святых Себастьянов, кисти фра Бартоломео, был даже содран со стены монахами, возмущёнными тем, что женщины пялились на него во время проповедей. Из Флоренции мода на красоты голого Себастьяна разбежалась по всей Италии, из Италии – по всей Европе, добежав до декаданса и модерна. В начале XX века страсть к святому Себастьяну вспыхнула с новой силой, о чём свидетельствует появление мистерии «Мученичество святого Себастьяна» д’Аннунцио – Дебюсси в 1911 году. В длинном и пышном представлении, судя по всему – утомительнейшем, блистала Ида Рубинштейн, а рекламу ему обеспечил архиепископ Парижский, запретивший католикам посещать мистерию под страхом отлучения от исповеди, как из-за сексуальности представленного, так и из-за того, что Ида – баба и жидовка. Ну, католики и рванули…
Святой Себастьян вошёл в XX век со скандалом и удобно в нём расположился. Нет ни одного святого, которому было бы посвящено столько персональных выставок. В 2003 году в Кунстхалле в Вене состоялось огромное шоу – иначе это действо и не назовёшь – под выразительным заголовком, смешивающим немецкий с английским, дабы подчеркнуть международность происходящего: Heiliger Sebastian: a splendid readiness for death, «Святой Себастьян: прекрасная готовность к смерти». Выставка была посвящена Себастьяну в XX веке, и на ней отметились все современные звёзды международной худтусы, от старушки Луизы Буржуа, тогда ещё живой, до Стефана Балкенхола, тогда ещё всего слегка за сорок. Оказалось, что Себастьян живее всех живых, в постмодернизме столь же моден (актуален), как в модерне, и арт-издания захлёбывались от:
святой Себастьян, патрон солдат, гомосексуалистов и больных СПИДом, икона садо-мазо, денди-адрогин, олицетворённое творческое страдание, пленительный святой, порочная святость и святость порока, герой фильмов Пьер Паоло Пазолини и Дерека Джармена, любимый персонаж Юкио Мисимы, который именно из-за встречи со святым Себастьяном в исполнении Гвидо Рени, увиденном им в период полового созревания в одной из книг, и стал таким изысканным и жестоким, в чём Мисима сам признаётся в «Исповеди маски» и что вдохновило фотографа Эйко Хосое снять Мисиму в виде святого Себастьяна …
Увлекательно? По-моему, очень, и выставка в венском Кунстхалле была не единственная, было и множество других, посвящённых не только модернизму, а Себастьяну от поздней античности до барокко, но от этого не менее увлекательных. Ни на одной из них не было святого Себастьяна из венецианской церкви, как потому что это – фрески, так и потому, что герой Веронезе не вписывается в тот набор процитированных мною выше слоганов, что обычно сопровождает шоу этого мученика.
Собственно Себастьяну посвящены всего две из четырёх больших (3,5 м×4,80 м) композиций на хорах церкви. Изображают они довольно редкие сюжеты: «Святой Себастьян перед императором Диоклетианом» и «Мученичество святого Себастьяна», но не всем привычное, с расстрелом лучниками, а забивание Себастьяна палками. Дело в том – это мало кто знает, как я убедился, – что святой Себастьян во время своего расстрела не был убит, а выжил, спасённый святой Ириной, его нашедшей и входившей. Ирина мученика поставила на ноги, он ещё даже некоторое время попроповедовал и попротестовал, но был вторично схвачен, забит палками – этот момент Веронезе и изображает – и спущен в клоаку, в которой обрёл мученическую кончину. На небеса отправился прямо, можно сказать, из сточной канавы, так что он стал ещё и покровителем канализации, о чём слоганы Себастьян-шоу умалчивают, а зря: можно было бы здесь провести параллель с императором Гелиогабалом, персонажем не менее модернистским, чем Себастьян. Геолигабал, прекрасный и юный, был также растерзан, забит и утоплен в клоаке, и я думаю, что часть Себастьян-2, то есть вторая половина жизни святого, определена этой историей так же, как Себастьян-1 определена сродством Себастьяна с Аполлоном.
Себастьян-2 в истории искусств появляется очень редко, утопление Себастьяна в клоаке я знаю только одно, семнадцативековое, принадлежащее Лодовико Карраччи, и обычно художники, сконцентрировавшись на голом юноше среди палачей с луками или даже арбалетами, заканчивают всё святой Ириной, нежно выдирающей стрелы из прекрасного тела. Мне кажется, что то, что Веронезе как заглавные выбрал сюжеты столь неизбитые, в некоторой степени предопределено заказом. «Нам здесь надо что-то особое, венецианское, а то из голого тела, утыканного стрелами, Флоренция и флорентийскость так и прут. В нашей церкви должно быть как-то иначе, раз уж мы, венецианцы, к этому флорентийскому святому напрямую взываем» – примерно с такими словами Торлиони, я уверен, и обратился к своему протеже и земляку, обсуждая план украшения хора церкви ди Сан Себастьяно. Если кто считает иначе, пусть возразит, я с удовольствием его выслушаю.
Веронезе также изобразил и канонический расстрел Себастьяна, но как-то между делом, в узких боковых сценах, особо не концентрируя на них внимания. В них святой совсем юн, почти мальчик, что хронологически соответствует разделению на Себастьян-1 и Себастьян-2 и опять же иконографически довольно-таки своеобразно. Мальчик-Себастьян соблазнителен, как этому святому и полагается, зато главный Себастьян у Веронезе, герой Себастьян-2, выглядит не как гей-икона, а как яппи из кампуса. Необычно изображение пререканий с Диоклетианом, потому что встречу мученика с властью Веронезе относит ко времени не до, а после расстрела и исцеления Себастьяна святой Ириной, на что указывает стрела, атрибут святого, что он прижал к груди, острие по-фрейдистски направив на императора. Теперь расстрелянный мальчик оброс свежей, светлой и курчавой бородкой, и лицо его, так же как и тело, которое он демонстрирует в сцене забивания, интеллигентски прилично, но не особо значимо, как кампусовскому яппи и полагается: средний IQ и старательные, но умеренные занятия спортом. Заурядность веронезиевского Себастьяна лишь подчёркивает незаурядность самого Веронезе, интерпретировавшего житие гей-иконы именно так, назло Пазолини и Мисиме, но не этот ход делает хоры столь для меня притягательными, что я прямо-таки тащу за собой на них читателя. Живопись Веронезе здесь в начале своего расцвета, и здесь она, не обременённая ещё никакой помпезной церемониальностью, хотя и роскошна, но столь удивительно свежа и легка, что у меня после посещения хоров церкви ди Сан Себастьяно всегда возникает такое чувство, как будто я в жаркий день умылся водой, напитанной благовониями, но в то же время поразительно подлинно ключевой, холодной, самой лучшей водой в мире. Всё очень талантливо, но по-юношески прозрачно: Веронезе при создании цикла святого Себастьяна было около двадцати восьми, то есть он был на четыре года моложе самого мученика во время его кончины.
После освежающей, совсем не д’аннунциевской, роскоши истории святого Себастьяна особенно приятно, зайдя за церковь ди Сан Рафаэле, отдаться на волю фондамент и рио, совсем не туристических, вечером безлюдных, и брести куда они поведут, пока не уткнёшься в западный конец Венеции и не окажешься около церкви ди Санта Марта, chiesa di Santa Marta, что находится на берегу Канале Скоменцера, Canale Scomenzera (название «канале», а не «рио», выдаёт его недавнее появление на карте Венеции). Церковь давно пустует, закрытая, и в неё упирается самый западный край Дорсодуро и Венеции. Через канал видны невыразительные служебные здания, и здание церкви просто, как русский конструктивизм 20-х годов. Всё вокруг такое подлинное, такое простое и здоровое, ну прямо как в настоящей таверне, в которой в меню лишь одно блюдо, но зато – настоящщщее, через три «ща»; таких таверн в Италии уж почти и не сыщешь.
Кампо делла Лана
Санта Кроче
Глава тринадцатая Обед под лавром
Марта и Мицци. – Венецианский социализм и «Белые ночи». – Висконти и Достоевский. – Три пекаря в И Толентини. – Об Орио. – Зелёная колонна. – Даниил с Давидом: венецианский маньеризм и итальянский трансавангард. – Здесь могла бы быть ваша реклама. – Рок на Площади Мертвецов и о желании обрести популярность.
«Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии»… – когда забредаю на окраину Дорсодуро и оказываюсь у стен покинутой церкви ди Санта Марта, мне прямо-таки не дают покоя эти строчки из «Белых ночей» Достоевского, хотя нет тут ни полей, ни лугов, ни радостных всех, курящих сигары. Зато есть «шаг за» – вроде как выходишь из Венеции, то есть из нереальности, сотканной из грёз, слёз, ахов и охов, гениальных и не очень, что въелись в венецианский воздух, как сырость в венецианские стены. Здесь же, перед Святой Марфой, непритязательно и просто. Задворки. Путеводители об этих местах молчат, и туристы сюда забредают разве что по ошибке – делать тут нечего, но меня эта нормальность, в Венеции кажущаяся аномалией, влечёт.
Церковь ди Сан Джакомо делл‘Орио
Я специально русифицирую имя святой, чтобы напомнить о сёстрах Лазаря, о хлопотливой Марфе и задумчивой Марии. «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом» – незатейливая обыденность этого места напоминает о старшей сестре, хотя меланхоличность, вокруг разлитая, больше подходит Марии. Что ж, сёстры всегда вместе: «Марта сбилася с ног: принять, занять разговором, Всех накормить, напоить, розы поставить на стол. Мицци – та не хозяйка: только бы ей наряжаться, Только бы книги читать, только бы бегать в саду. Мицци имеет успех гораздо больший, чем Марта, Не потому, что всего только семнадцать ей лет. Марте тоже не много, она и добрей и спокойней, Меньше капризов у ней, чаще улыбка видна». Я цитирую кузминского «Лазаря» не из одного лишь пристрастия к поэту: экспрессионистски-конструктивистская текстура поэмы ловко совпадает с тем, что я вижу вокруг. Средневековые стены церкви ди Санта Марта, как я уже говорил, в сегодняшнем их виде напоминают о Баухаузе, то есть о Goldene Zwanziger, «о золотых двадцатых», а заодно и об отечественном постреволюционном строительстве. Идиллия экспрессионизма. Вокруг «Так тихо, будто вы давно забыты, Иль выздоравливаете в больнице, Иль умерли, и все давно в порядке. Здесь каждая минута протекает Тяжелых, полных шестьдесят секунд. И сердце словно перестало биться, И стены белы, как в монастыре» – стены домов стихами из «Лазаря» изъясняются, и, пока я тащусь из Дорсодуро в Санта Кроче, мне всё напоминает о Goldene Zwanziger, о кузминском поэтическом детективе и фильме Ланга «Доктор Мабузе, игрок». По Калле де ла Мадона, Calle de la Madona (оставлю венецианскую орфографию, воспроизведя её так, как она выглядит прямо на месте, а не как это делают карты и путеводители), я добираюсь до Фондамента де ла Мадона, Fondamenta de la Madona, и через мост перехожу на Фондамента де Санта Мария Маджоре, Fondamenta de Santa Maria Maggiore. Вот и сестиере Санта Кроче, Santa Croce, Святого Креста.
Что ж, тут же я наталкиваюсь на младшую сестру, на Мицци: церковь ди Санта Мария Маджоре, chiesa di Santa Maria Maggiore, Святой Марии Бо́льшей. Конечно, церковь посвящена Деве Марии, а не сестре Лазаря, но я думаю, что всё равно в данном случае итальянское слово maggiore надо переводить именно так (как и в случае с Сан Джорджо Маджоре), а не просто «большой», как это чаще всего делается, потому что здесь оно имеет тот же оттенок, что и наше слэнговое «мажор»: старшинства и главенства, а не просто размера. В своё время церковь эта и была мажорной, то есть была уважаема, почитаема и посещаема – богата. Закрытая Наполеоном, она теперь позабыта-позаброшена, пуста, одинока и задумчива, как Мицци в конце поэмы Кузмина. Церковь служит складским помещением, а на территории монастыря, которому она принадлежала, в XX веке располагалась городская тюрьма, практически, надо сказать, пустовавшая, ибо преступность в Венеции давным-давно условность, существует чуть ли не только в фильмах giallo. Сейчас здесь тюрьмы уже нет, но всё же: заброшенная церковь, бывшая тюрьма в бывшем монастыре, в которой, наверное, держали Джованни Бруньера, зарезавшего Джованни Стуки… Всё снова подводит к строкам из «Лазаря»: «Дамы, дамы, молодые люди, Что вы не гуляете по липкам, Что не забавляетесь в Давосе, Веселя снега своим румянцем? Отчего, как загнанное стадо, Вы толпитесь в этом душном зале, Прокурора слушая с волненьем, Словно он объявит приз за хоккей?» Поэма Кузмина, как и полагается произведению Goldene Zwanziger, ещё и очень кинематографична, доктора Калигари и Мабузе из неё так и лезут, и здесь, на Кампо Санта Мария Маджоре, Campo Santa Maria Maggiore, около покинутой Мицци, церкви, которая «Зачем же Мицци так бледна? О чем задумалась она, Как будто брату и не рада, – Стоит там, у калитки сада, В свои мечты погружена?», мне кинематограф лезет в душу чуть ли не сильнее, чем в остальной Венеции. Вместо тюрьмы теперь какие-то военно-полицейские организации, и современные милитаристские формы на фоне средневековья церковных стен проходят мурлыкающим нежно треском мигающего cinéma. С Марты и Мицци для меня и начинается Санта Кроче.
За Санта Мария Маджоре лежит новый для Венеции район, который я бы назвал районом венецианского социализма: есть здесь ощущение иждивенческой апатии всеобщего благоденствия, внешней заурядностью довольства раздавившего индивидуальность. На улице со смысловым названием Рио Терà деи Пенсиери, Rio Terà dei Pensieri, Засыпанный (вариант перевода – Заземлённый) Канал Мыслей, не по-венециански прямой и нормальной, приходят на ум печальные рассуждения о будущем Европы, обрисованном судьбой Венеции – какие мысли ещё здесь могут появиться? Застройка здесь времён неореализма, и о нём, а точнее – о лучшей экранизации литературного произведения, которую я знаю, о «Белых ночах» Лукино Висконти, созданной «в рамках неореализма», как говорит об этом стандартная кинокритика, я тут и вспоминаю.
Ну вот, я оказался там, откуда начал, в «Точно я вдруг очутился в Италии». Повесть «Белые ночи» – моё любимейшее произведение о Петербурге, а фильм Висконти – один из моих любимейших фильмов; в «сентиментальном романе» Достоевского сентиментальности столько же, сколько и в романе «Берлин Александерплац» Дёблина. «Белые ночи» – идиллия экспрессионизма, и главный герой, «мечтатель … не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберётся к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой», персонаж покруче любого лирического героя сборника Die Menschheitsdämmerung, «Сумерки человечества», как называлась антология немецкой поэзии 1919 года. Растерянности и страха в нём не меньше, чем во Франце Биберкопфе из «Берлин Александерплац», да и поэтика урбанизма схожа. Висконти, сентиментализмом нисколько не обманутый, взявшись за экранизацию, свой пресловутый неореализм обращает в неоэкспрессионизм во вкусе раннего Ланга. Мне всегда казалось, что фильм снят именно в Венеции, в районе Рио Терà деи Пенсиери, так что я даже на этом целую историю построил.
Я был уверен, что выбор Венеции у Висконти не случаен: свою экранизацию «Белых ночей» он гениально строит на сходстве-противопоставлении. Перенеся девятнадцатый век в двадцатый, Россию в Италию, Висконти и из лета сделал зиму. Вроде как парадокс, но снег для Италии так же экзотичен, как и белые ночи. Снег в висконтиевых «Белых ночах» играет роль не меньшую, чем Марчелло Мастроянни, потому что для Италии это – как солнце для России, ибо если «наше северное лето, карикатура южных зим», то их южные зимы – карикатура наших лет. Белые ночи у Висконти темны, как прорубь, и именно из-за сходства, найденного в противоположностях, достоевская бредовая нежность, такая белоночная, у итальянского режиссёра воспроизведена душераздирающе точно. Конец фильма: появление Жана Маре с его физиономией в роли Lo straniero, Постороннего или Чужого, то есть настенькиного «молодого человека», – это ж просто чудо что за находка, Альбер Камю, да и только. Где ж, само собою, и разворачиваться итальянским белым ночам, которые чёрные и снежные, как не в Венеции, схожей с Петербургом лишь в противоположностях, как я об этом уже и писал в случае с Исаакием-Салуте? Да и то, что повесть Достоевского начинается с парадоксального «вдруг очутился в Италии», значит многое. Поэтому я уверил себя – кто-то из знатоков кино мне радостно поддакнул, – что Висконти выстроил условную павильонную Венецию, имея в виду именно район венецианского социализма за покинутой Санта Мария Маджоре.
Залезши в факты, я, однако, обнаружил, что Висконти снимал не в павильоне, как мне казалось, а на натуре, в Ливорно, и всё моё замечательное построение полетело к чёрту. Я расстроился, но покопался ещё, и – о, радость! – в очередной раз убедился, что ощущение и чувство для мысли гораздо важнее, чем факт: оказалось, что в Ливорно Висконти снимал свои «Белые ночи» в районе, получившем название Венециа Нуова, Venezia Nuova, Новая Венеция. Я был прав – думая о Петербурге, в котором Висконти пробыл ровно столько же, сколько длится повесть Достоевского, каких-то четыре ночи, а также столько, сколько Достоевский пробыл в Венеции, это я высчитал, – Висконти в голове всё же держал именно Венецию, но без всяких Сан Марко и прочих узнаваемостей, так что нахлынувшее на меня ощущение «Белых ночей» перед монастырём-тюрьмой и на Рио Терà деи Пенсиери вовсе не плод расстроенного воображения, а тонкое рациональное наблюдение. Теперь мне не страшно будет признаться в том, что я скрывал и даже не упомянул в рассуждениях о святом Рокко и его омонимах: одна из моих любимых сцен в фильме Висконти – это сцена рок-н-ролла в кафе, самого лучшего рок-н-ролла, какой я когда-либо видел. Когда я попадаю в Скуола Сан Рокко, которая очень рок-н-ролльна, то мне кажется, что Висконти, располагая свои крутящиеся и катящиеся пары по стремительной диагонали, имел в виду Тинторетто; или Тинторетто, завихряя свои композиции в отчаянный танец, имел в виду Висконти, уж и не знаю, начинаю путаться, ибо «ходил много и долго» и бремя навалилось на мою душу. Пора уже обедать.
Обедать идти надо на Кампо Сан Джакомо делл‘Орио, Campo San Giacomo dell’Orio. Идеальное для обеда место. Однако же, выбравшись из декораций к «Белым ночам», до этой площади ещё надо дойти, что сделать отнюдь не просто. По Рио Терà деи Пенсиери я в два счёта достигаю Кампаццо Тре Понти, Campazzo Tre Ponti, Площадёнки Трёх Мостов, находящейся в двух шагах от Пьяццале Рома, Piazzale Roma, Площадищи Рима, то есть того места, до которого в Венеции может доехать колёсный транспорт и на котором располагается вокзал. Затем, по одному из мостов перейдя широкую гладь Рио Ново, Rio Novo, я оказываюсь на Фондамента дель Магадзен, Fondamenta del Magazen, и снова ныряю в венецианскую путаницу улочек, проулочков и канальчиков, от которой голова идёт кругом. Причём, заметьте, от Площадёнки Трёх Мостов я перебираюсь на другой берег по четвёртому мосту, на ней же расположенному, и этот, четвёртый, мост называется Понте деи Тре Понти, Ponte dei Tre Ponti, Мост Трёх Мостов. Всё в Венеции троится и четверится, и это изматывает.
Вырулив всё же на Фондамента деи Толентини, Fondamenta dei Tolentini, я дохожу до церкви ди Сан Николó да Толентино детта И Толентини, chiesa di San Nicolò da Tolentino detta I Tolentini, стоящей на Кампо деи Толентини, Campo dei Tolentini, – это уже полпути к Кампо Сан Джакомо делл‘Орио. Плутая, я так утомился, что тут надо передохнуть, ведь, чтобы добраться от Сан Николó до Сан Джакомо делл‘Орио, надо ещё потеть и потеть. В нормальном городе то расстояние, что разделяет эти церкви и площади, – плёвое дело, так как, в сущности, они друг от друга отстоят недалеко, но в Венеции учетверяются и мосты, и расстояния: в этой части Санта Кроче такой лабиринт, что чуть зазеваешься, и тут же окажешься в Сан Поло, около И Фрари. Чтобы не запутаться и не сбиться, напрягаешь как мозги, так и ноги – поэтому я усаживаюсь на высоких ступенях церкви ди Сан Николó, чтобы собраться с силами и в очередной раз свериться с картой.
Сан Николó да Толентино свой собственный, католический святой, августинский монах конца XIII века, никакого отношения к Николаю Угоднику не имеющий. Жизнь его – жизнь симпатичного подвижника, каких множество, но есть одно обстоятельство, сделавшее Николó из Толентино, небольшого городка в области Марке, важной персоной среди святых Западной Европы. Как-то он, измождённый постами, коими любил злоупотреблять, занемог, так что умирать надумал, но тут его посетила Дева Мария, посоветовавшая ему попросить у кого-нибудь хлеба именем Сына Её, Иисуса, начертать на нём знак креста и съесть. Николó это и сделал, вымолив хлеб у одной толентинки, и моментально выздоровел, после чего монахи-августинцы установили институт раздачи хлебцев с начертанным на нём крестом – хлебцы получили название «хлеб святого Николó». С этого времени пошёл обычай, более всего распространённый во Франции, чертить в пекарнях на корке хлеба знак креста. Введённый в обиход именно Николó да Толентино, обычай теперь подзабыт, но круглые буханки с характерным крестообразным знаком-отпечатком и сейчас встречаются в дорогих булочных, считаясь лучшим хлебом. Некоторые жития сообщают, что Деве Марии при посещении Николó ассистировал Блаженный Августин, некоторые о нём умалчивают.
Конечно же, святой стал покровителем мукомолов, пекарей и булочников, которые, собираясь в церкви И Толентини, видимо и составляли большую часть прихожан святого Николó. Обитателей вокруг церкви прозвали толентини, tolentini, толентинцами, хотя ничего общего, кроме имени, с жителями Толентино они не имели. Толентини, пекари и мукомолы, были молодцами здоровыми и кулакастыми, верными сподвижниками николотти, прихожан другого Николы, Николы Голытьбы, в их боях на Понте деи Пуньи. Фасад церкви, творение Виченцо Скамоцци примерно 1600 года, очень палладиански неоклассичен и с простонародностью района вроде как не вяжется. У нас так строили Старов со Стасовым двести с лишком лет спустя, и русское сознание подобную архитектуру крепко связывает с ранней николаевской эпохой, которая есть Золотой русский век, она же – время реакции и режим Николая Палкина. Официозная гармоничность церкви И Толентини нарушена одной деталью, которую Скамоцци себе позволил (Старов со Стасовым такого бы не допустили): овальным окном в завитках, пробитым в неоклассическом фронтоне. Окно ещё и раковиной увенчано, и оно, как-то очень смутно говоря нам о средневековом окне-розе, вроде как неуместно, производя впечатление дырки в неоклассической структуре, так что я готов это окно назвать прямо-таки рокайльным, хотя в 1600-м до рококо ещё далеко. Деталь эта, много что сообщая о прихотях палладианства, ничего нам не говорит о задиристости прихожан – церковь И Толентини сильно отличается от простого вида церквей, любимых николотти.
Интерьер также производит впечатление, не соответствующее славе кулачных борцов. Из-за изобилия живописи, развешанной по сторонам именно как живопись, а не как иконы, не только в капеллах, но и просто на стенах, возникает кощунственное чувство, что в салон попал. В верхнем ряду для картин даже сделаны лепные рамы, что уж совсем делает интерьер похожим на барочно-рокайльные картинные залы. Живопись из-за этого кажется необязательно декоративной, но, начав её рассматривать, невольно увлекаешься. Среди множества картин И Толентини есть три несомненно прекрасных: две картины генуэзца Бернардо Строцци, «Святой Антоний Падуанский» и «Святой Лаврентий раздаёт имущество бедным» и «Ангел диктует святому Иерониму перевод Библии» немца Иоганна Лисса. Оба иностранца работали в Венеции в первой половине XVII века, и для церкви И Толентини создали барочные шедевры, имеющие прямое отношение к кулачному благочестию её прихожан.
Святой Антоний – любимый персонаж католического кича, так что от сладостно-конфетных образков с ликом португальского францисканца и его постоянных атрибутов: младенческо-чистой лилии, означающей Антониеву невинность, и лилейного Младенца у него на коленях – Христос избрал именно этот вид, чтобы Антония посетить – может и диатез появиться. Антоний дожил всего до тридцати шести, его всегда изображают молодым, лет так около тридцати. У великого генуэзца Антоний представлен двадцатилетним: уже не юноша, но ещё и не совсем молодой человек. Вдумчивый и явно из приличной фамилии, он столь старательно симпатичен, что это даже как-то чересчур. Чувствуя некоторую приторность заданного образа святого, Строцци, оставив Антонию лилию, младенца лишает и пытается снабдить мужественностью, столь недостающей многочисленным антониям религиозного кича: награждает его подчёркнуто выдающимся кадыком и свежевыросшими бакенбардами, опушившими юные щёки. Получился не ходульный умильный образ, а психологическая драма: здоровый свежий парень смиряет телесность духовностью. Старательная акцентировка пола в a priori бесполом Антонии тут же выделяет картину Строцци среди многих других изображений святого, и мне кажется, что столь акцентированные кадык и бакенбарды обусловлены пониманием художника вкусов публики: толентини такой святой Антоний должен был понравиться больше обычных ходульных слащавых монахов.
Церковь И Толентини
В главе «Ужин с Лоренцаччо» я уже много говорил о герое второй картины Строцци, оппозиционере Лоренцо, святом Лаврентии, весьма свободно трактовавшем «Воздадите кесарева кесареви и Божия Богови», раздав имущество церкви бедным, за что и был поджарен на решётке. Любимый святой интеллектуалов с нечистой совестью на картине Строцци ещё более юн и нежно миловиден, чем Антоний: совсем уж бэмби с модной двухдневной небритостью. Лаврентий отпустил щетину для того, видно, чтобы старше казаться, но нежный пух, выращенный на скулах, чтобы превратить бэмбистость в мачизм, вместо этого бэмбистость только подчеркнул. Строцци изобразил не мучение, а сам проступок: Лаврентий оделяет неимущих церковными ценностями. Бедные, столпившиеся вокруг него, просто загляденье: три дюжих младенца и два старика со старухой, в дюжести младенцам не уступающих. Типичные стар и млад прихода И Толентини, мужики же с бабами – на картине они отсутствуют, но по виду стара и млада о них составляешь яркое представление – отправились на Понте деи Пуньи мутузить кастеллани, и подчёркнутая пролетарскость персонажей на картине Строцци, окруживших юного благодетеля, удивительно созвучна мифологии церкви, чья простонародная кулачность лишь замаскирована палладианским фасадом.
Картины Строцци подводят к третьему произведению, к «Святому Иерониму» Иоганна Лисса. Художник, уроженец прибалтийского Ольденбурга, отправился в Харлем учиться у Голциуса, а затем, через всю Европу – в Рим, откуда, годам примерно к тридцати (Лисс родился около 1597 года), перебрался в Венецию, чтобы через два года, в 1629 году, умереть в ней от чумы. Иоганн Лисс – интереснейший феномен интернационального барокко, и его произведения, как и его судьба, связывают север и юг, Балтику и Средиземноморье, протестантов и католиков, Голциуса и Караваджо. Его картины привлекательны какой-то особой буйностью, но «Святой Иероним» в И Толентини прямо сшибает, причём в буквальном смысле – у старика Иеронима такая правая ручища, что закачаешься, и вылезает она из картины так, как будто Лисс руководствовался не перспективными правилами рисования, а снял своего святого широкоугольным объективом.
Трактовка образа необычна, потому что святого Иеронима изображают чаще всего интеллигентнейшим старичком. Он, один из учителей и Отцов Церкви, наряду со святым Августином – главный интеллектуал западного христианства. Иероним, живший в конце IV – начале V века н. э., изучал в Риме философию и греческую литературу и с юности привык к хорошему слогу. В восемнадцать лет обратился в христианство, и тут началось: как он ни открещивался от греко-римской культуры – а знал он её прекрасно, что Гомера с Платоном, что Сенеку с Вергилием, – языческая древность бередила его разум, ибо разум его, воспитанный и отточенный логической ясностью античных авторов, противился иррациональности новой веры, захватившей его душу. Он мучился так же, как и святой Августин, и страшное раздвоение личности – сейчас бы отправился к психоаналитику – привело его из Рима в Халкидскую пустыню в Сирии. Там Иероним, желая вытравить из себя остатки своего языческого образования, предался одиноким размышлениям, имея в собеседниках лишь скорпионов и диких зверей. Ужас, однако, состоял в том, что после бесед со скорпионами он всё равно вспоминал Виргилиевы вирши и Платоновы рассуждения, причём испытывал от этого наслаждение – интеллектуальные соблазны будут пожёстче каких-то совращений голыми бабами. Иероним приравнивал искушения ума к вожделению, ибо считал, что разум – похоть. Вспомнив что-нибудь из «Энеиды», он тут же в ярости начинал бить себя в наказание камнем, дабы заодно и то физиологическое наслаждение, что рефлексивно испытывало его тело при произнесении им про себя великих, но поганых строк, связать с болевым эффектом и тем самым подавить. Терапевтический эффект такого времяпрепровождения в пустыне себя оправдал: Иероним примирил веру и разум, придя к выводу, что и то и другое – от Бога. Свой интеллектуализм он перестал переживать как проклятье, камни отложил и прямо в пустыне засел за книги, выучив ещё и еврейский. Вернувшись из уединения в мир, Иероним активно занялся церковной деятельностью, основал много обителей и занимал высочайшие посты в церковной иерархии. После возвращения из пустыни он перевёл Библию на латынь, тем самым сделав священный текст доступным простому народу Римской империи. Перевод был назван Вульгатой, от латинского vulgare, то есть «распространить, сделать общедоступным, опубликовать», и этим переводом католики пользуются до сих пор. Это – самое главное, что Иероним сделал в своей жизни: для начала V века Вульгата была столь же революционна, как и Иенская Библия Лютера для начала XVI, и Лютера с Иеронимом часто сравнивали. В первой трети XVII века, когда Лисс создал свою картину, подобная параллель ещё не утратила актуальности.
Есть два иконографических типа святого Иеронима: Иероним в келье, спокойный, окружённый книгами, седобородый кардинал, и Иероним в пустыне, раскаивающийся и истязающий себя. Первый тип лучше всего воплощён в гравюре Дюрера: парадигма разумного европейского интеллектуализма. Второй – в картине Леонардо: опять же парадигма интеллектуализма, но интеллектуализма страждущего, самогложущего и самобичующего, этакий состарившийся Иван Карамазов. Лисс же, как бы смешав Иеронима кающегося и Иеронима деятельного, изображает нам тот момент, когда ангел в пустыне спускается к изнемогшему от терзаний духа Иерониму, дабы указать ему на Высший Дух и тут же усадить писать Вульгату, водя его рукой. У Лисса ангел прямо-таки ухватил Иеронима чуть ниже локтя, и рука Иеронима – ручища: здоровенная пятерня святого не может не напомнить о Мосте Кулаков, в драках на котором толентини были столь хороши. Тормозить около трёх прекрасных картин церкви Сан Николó меня заставляет не их качество – мимо многих, гораздо лучших произведений я прохожу – и даже не то, что они написаны иностранцами, генуэзцем и ольденбуржцем, являя пример открытости венецианского менталитета, – а то, что персонажи Строцци и Лисса оказываются очень соответствующими genius loci.
Попав как-то раз в одном небольшом итальянском городке на праздник выпечки, я был заворожён видом пекарей, деловитых, ловких и столь же прекрасных, как и барочные святые. Любой праздник пекарей, пусть даже пекари об этом и позабыли, осенён Николó ди Толентино, и в тот момент, когда они собрались в живописную группу, чтобы сфотографироваться, все в высоких белых колпаках, обсыпанные мукой, я в толпе разглядел кряжистого, пожившего и опытного Джеронимо (Иеронима) и двух гибких молодцов, Антонио и Стефано, и теперь, в И Толентини, снова их встретив, я о празднике кулинарии и вспомнил. Под ложечкой засосало, я вскочил со ступеней церкви и прямиком – насколько Венеция позволяет сделать что-то напрямик – отправился на Кампо Сан Джакомо делл‘Орио, потому что есть захотелось так, что больше уже не было никаких сил терпеть.
Что такое orio, никто толком не знает, и есть три основные гипотезы о происхождении имени церкви Сан Джакомо делл‘Орио, chiesa di San Giacomo dell’Orio, давшей название площади. Первое – что оно связано со словом luprio, превратившемся в orio и означавшем болотистую топь. Второе – что оно происходит от lupio или del lupo, то есть «волк», и означало, что когда-то здесь было дикое волчье логово. Третье – что orio есть некое диалектное искажение lauro, «лавр», и церковь получила прозвание из-за дерева, когда-то около неё росшего. К этому лавру обычно привязывали лошадей те, кто подъезжал к Венеции в далёкие времена, когда церковь была основана, в IX веке. Есть ещё гипотеза о существовании семейства Орио, основавшем церковь, но мне наиболее симпатично предположение о лавре, потому что около Сан Джакомо делл‘Орио так и представляешь большое красивое дерево. Достойной древности церкви, сохранившей романский вид и кажущейся очень приземистой и мощной, несмотря на многочисленные достройки-перестройки, старый лавр бы подошёл.
Как будто специально для того, чтобы подтвердить ла́вровость названия, в трансепте церкви, среди других колонн, романских и мощных, есть одна, от всех остальных отличающаяся так, как отличалась византийская принцесса, выданная замуж за сына варварских королей, от лангобардских бургграфинь. Она сделана из драгоценного мрамора, имеющего специальное название, verde antico, «древний зелёный», что означает и сорт камня, и особый цвет. Никто точно не знает, откуда она взялась: то ли была притащена из какого-то языческого храма, греческого или римского, то ли появилась из разграбленного Константинополя вместе с Конями Сан Марко. Притащили её давно, и с тех пор с колонной связано поверье, что если, повернувшись к ней спиной, вознести молитву Джакомо делл‘Орио, Якову Лавровому, то твой сад будет цвесть, огород зеленеть, и картошка зреть. Всем владетелям участков я это советую испробовать, хотя не уверен, будет ли молитва действенна на небесах моего отечества, потому что РПЦ свои небеса от молитв католиков продолжает блокировать, в отличие от Ватикана, теперь признающего обряд православного богослужения. Колонна, отнюдь не из-за чудотворности, а из-за красоты, была воспета Джоном Рёскином и Габриеле д’Аннунцио, посвятившими ей по нескольку абзацев.
Колонна так хороша, что даже если проку для приусадебной растительности от неё и не будет, можно найти утешение в эстетических переживаниях, ею вызываемых. Мрамор verde antico недаром привлёк эстетов Рёскина с д’Аннунцио: в его зелени есть что-то затягивающее, как омут, природно-первозданное и декадентское одновременно. Опасная зелень болотных зарослей, волчья зелень глаз и вечнозелёный лавровый венок; лавр и волк – священные дерево и зверь Аполлона, и тонкая связь, протягивающаяся от Якова Лаврового к Аполлону Ликейскому, придаёт церкви ди Сан Джакомо делл‘Орио нечто профетически-дельфийское. Зелёный цвет так соответствует духу места, что среди прочих прекрасных картин, украшающих церковь – алтарь Лотто, качественный и спокойный, – я особенно выделяю две. Это панели для органа, большие гризайли с зеленоватым оттенком, написанные мало кому известным художником Гвалтиеро далл’ Арцере по прозвищу Падованино. Деятельность этого падуанца, работавшего в Венеции, Венето и при мантуанском дворе, и знакомого с Тицианом и Джулио Романо, а также с флорентинцем Сальвиати, фламандцем Сустрисом и далматом Скьявоне – интереснейшая страница венецианского маньеризма. В его работах изощрённейшее декадентство переплелось с чуть ли не лубочной здоровостью, и результатом стала оригинальность, вполне достойная Таможенника Руссо. На створках органа в церкви ди Джакомо делл‘Орио изображены пророк Даниил во рву со львами и Давид с головой Голиафа. С анатомией Гвалтиеро обходится удивительно современно, жертвуя правильностью ради выразительности, так что обе гризайли выглядят как очень хорошая живопись Франческо Клементе или Энцо Кукки, итальянских трансавангардистов 1980-х. Мастера «культурной атмосферы, в которой существует искусство последнего художественного поколения» (это я беру определение трансавангарда некогда модного Акилле Бонито Олива), писали похоже, но никогда – так хорошо, как Гвалтиеро. Падуанец обгоняет трансавангард и в мастерстве, и в изобретательности, и в оригинальности: субъективизма, эротичности и амбивалентности – то есть того, чем итальянцы 1980-х прославились – у него намного больше. Так, Даниил у Гвалтиеро, обряженный лишь в набедренную повязку, напоминающую дизайнерские купальные трусы, тело своё, прекрасно знакомое с качалкой, отдал льву. Зверь заключил пророка в объятия и, нежно вонзивши когти в плавки обретённого во рву друга, с умильной старательностью вылизывает ему подмышку – до такой амбивалентности Клементе с Кукки ещё расти и расти. Душа же Даниила рвётся наружу, судя по высоко задранной руке: жест, с одной стороны, направленный на то, чтобы дать льву подмышку вылизать, но с другой – взывающий к небесам, потому что пророк, хотя ухаживаниям льва и не препятствует, обращён всё ж к другому. Юноша, от нежности зверя лик отвернув, упёрся взглядом во вписанный в композицию прямоугольный экран некоего божественного телевизора, транслирующего убийство Авеля Каином, и картина братоубийства Даниила занимает больше, чем львиная антропофилия. Напарник Даниила, Давид, столь же гимнастически ловко скроенный, выряжен ещё экстравагантней: в обтягивающую майку и коротенькую юбочку. Он от телевизора, на этот раз показывающего жертвоприношение Авраама и сыноубийство, отвернулся, смотря на зрителя, а ступню с наслаждением погрузив в очень лохматую шевелюру отрезанной головы Олоферна, как в банный коврик. Обе гризайли висят в правой капелле алтарной части, и, насколько я знаю, никто никогда особого внимания на них не обращал. Меня же они увлекли как факт венецианского маньеризма, который меня интересует как предвосхищение постмодернистского трансавангарда, мне небезразличного, а также как проявление зелёной ла́вровости дельфийского профетизма, что свойствен Сан Джакомо делл‘Орио и что, по-моему, убедительно доказывает, что когда-то здесь лавр рос.
Большая площадь вокруг церкви, обычно обозначающаяся одним именем, на самом деле делится на три: собственно Кампо Сан Джакомо делл‘Орио, Кампо деи Морти, Campo dei Morti, Площадь Мертвецов, и Кампиелло Пьован, Campiello Piovan. Мрачное название Кампо деи Морти происходит, конечно, от кладбища, устроенного когда-то, давным-давно, около церкви. От кладбища не осталось и следа, так как из-за угрозы чумы все захоронения в Венеции вне церковных стен были уничтожены, и осталось оно только в топонимике, присутствуя в ней столь же призрачно, как и Набережная Неисцелимых, – указание на Кампо деи Морти можно найти лишь в старых книгах. Теперь на месте кладбища стоит симпатичный ресторан, посетителям которого невдомёк, что они пируют на костях, и у этой части Кампо Сан Джакомо делл‘Орио, вообще площади славной и домашней, уютнейший вид. На площади даже гастроном стоит, что на венецианских кампо редкость. Деревья растут, хотя лавра и нет, скамейки стоят, дети голосят, и жизнь на площади не туристическая, а автохтонная. Гастроном снова напоминает о Марфе, чудящейся мне в Санта Кроче повсюду – именно потому я этот сестиере с церкви ди Санта Марта, принадлежащей Дорсодуро, и начинаю. Марфа меня и ведёт (а я уж сколько времени дойти не могу) обедать именно сюда, хотя из-за меня и мне подобных – в последнее время Кампо Сан Джакомо делл‘Орио широко рекламируется путеводителями именно как образец венецианской humble life, что в данном контексте подразумевает не «смиренность жизни», а, скорее, «сердечность», – существует угроза, что автохтонность скоро испарится.
Всего тратторий (считается, что наш «трактир» мог произойти и от итальянского trattoria) на Кампо Сан Джакомо делл‘Орио три: одна очень хорошая, одна хорошая и одна просто так. Более подробных пояснений я давать не буду, потому что не пишу гастрономический путеводитель. То есть я, как Стерн, включивший место для посвящения в середину романа и неприкрыто им торгующий, могу указать: «Здесь могла бы быть ваша реклама» – увы, итальянские рекламодатели вряд ли на него наткнутся – и этим ограничусь, а ты уж, дорогой читатель, решай с тратториями Сан Джакомо сам. В любом случае все три ресторана отличаются от стоящих на туристических тропах тратторий с русскими меню, предоставляя возможность прилично пообедать вблизи живописнейшей церкви Венеции; более подходящего соотношения вида, цены и качества я в Венеции не знаю – и опять-таки вижу в этом Марфино влияние. Ну вот, наконец-то я до желанных тратторий и добрался.
Уже стемнело. На площади какая-то необычная суета и толпа, вечернему Сан Джакомо делл‘Орио совсем не свойственные. Оказалось, что именно в то время, как я добрался до своего вожделенного обеда, ставшего ужином, la cena, какие-то рокеры решили здесь устроить концерт, что тут же всё спутало. В очень хорошем ресторане не было столиков на улице, столики хорошего ресторана были слишком оглушительно близки к рокерам, так что я пристроился в просто так ресторане, да ещё с дуру заказал паста карбонара: никому никогда не советую есть паста карбонара к северу от Рима, а тем более – в Венеции. Мне принесли нечто глубоко утопленное в сливках, неприятно напоминающее о родине, о том молочном супе с макаронами и шпиком, что носит имя carbonara в итальянских ресторанах моего отечества; и вот, давясь жиром сливок, отвратительно сытных – а ничто так не унижает человека, как сытость жирной пищи, – я ещё должен был и рокеров выслушивать, расположившихся – из присутствующих я был, кажется, единственным, кто это понимал, – прямо на Площади Мертвецов. Спасибо тебе, Марфа за обретённое мною в Санта Кроче Le charme discret de la bourgeoisie. Рокеры были самодеятельны, но с прибамбасами, непонятный мне рёв чередовался с какими-то актёрскими выступлениями, и вроде как из рук всё плохо, причём официант, унося от меня остатки молочного супа и с противной точностью сразу же меня вычислив, по-русски – издевательски, как мне показалось – спросил: «Вкусьно?» Актёры, чередовавшиеся с рокерами, читали то Данте, то Альдо Паллацески – это я разобрал, когда мне принесли жареные артишоки, которых как раз был сезон. Артишоки были более чем приличными, я утешился и тут же разглядел, что представление не лишено достоинств. Нет в Венеции ничего однозначного: ревут, конечно, так себе, но зато Паллацески и Данте ничего, а дополнительный эффект, сопровождающий выступление, – рокеры навели на приземистые стены церкви световую проекцию с зеленоватым абстрактным бурлением, так что проходящие мимо отпечатывались на романских абсидах Сан Джакомо делл‘Орио живописными тенями, – и уместен, и занимателен, и, хотя до рок-н-ролла «Белых ночей» зрелищу было далеко, вечер в Санта Кроче отпечатался во мне очень симпатичным кинематографическим воспоминанием, и
– издатель ждёт уж рифмы розы; на, вот возьми ее скорей! –
самые популярные книги об Италии – кулинарные путеводители; по популярности, а значит, и по покупаемости они почти приближаются к «Руководству по снятию венца безбрачия». Какая же Италия без рассуждений о том, где и что надо есть? Издателю же нужно, чтобы книга была покупаема, а мне же, как каждому автору, хочется популярности, – так вот вам, читатели, и la cena all’veneziano.
Дзаниполо
Кастелло
Глава четырнадцатая Один февральский день
Из Падуи в Венецию. – Моло и Рива. – Скьявони. – О славянах и рабах. – Ла Пьета́. – Damenkonzert и ансамбль японских гитаристов. – Про убийство в соттопортего. – Церковь ди Сан Заккария. – Курица Тинторетто и эротизм младенческой пятки. – Святой Тарасий. – Кастаньо и братья Виварини. – Мальчик с черепахой
Лет так пять-шесть тому назад я оказался в Падуе, в которой мне предстояло по служебным делам провести две недели, ничем особо не обременённые. Был февраль, кой-где даже лежали кучки снега, но февраль в Венето – это наш апрель: до 1 января погодная разница между Северной Италией и Россией определяется двумя месяцами отставания, поэтому венецианское бабье лето в ноябре, а после Нового года – теми же двумя месяцами, но опережения. Январь в Венето – наш март, зимы-то нет. Кучки снега на Прато делла Валле, Prato della Valle (Поле Долины, дословный перевод названия знаменитой падуанской площади в переводе на русский звучит чудно́), казались реквизитом, не убранным после каких-то киносъёмок, и о бутафорности южных зим говорили красноречивей солнца, по моим северным понятиям сиявшего довольно ярко.
Калле дель Парадизо
Кучки снега и яркий солнечный свет определили моё падуанское настроение, теперь кажущееся безоблачным. «Что пройдет, то будет мило» – на самом деле не столь уж светлыми были февральские дни, были хмурые облака и дожди, но они не раздражали и ничего не портили; всё было прекрасно. Так надолго зимой в Италии я оказался чуть ли не первый раз в жизни, голова моя не была занята ничем целенаправленно-обременительным, и я позволил себе, пользуясь необычайным удобством расположения Падуи, объездить близлежащие города Венето и Ломбардии. Именно тогда у меня и возникла мысль, что я хочу и могу написать «Образы Италии XXI» – падуанские недели сыграли в моей биографии важную роль. Мысль была зародышевая, никак не оформленная, потому что почувствовать, что ты хочешь и можешь, это ещё не сделать: ведь надо ещё найти того, кто захотел бы и смог напечатать, да и написать надо – это всё в будущем, которое, правда, сейчас уже стало прошлым. Пока же я, в моём падуанском феврале, с головой, обременённой лишь мыслью-зародышем, из Падуи решаю съездить в Венецию.
Выбранный мною для Венеции день был сер, тёпл и плаксив – ну совершеннейший конец мягкого питерского апреля. На вокзале Санта Лючиа я оказался довольно рано, и он меня встретил отсутствием обычной вокзальной венецианской сутолки. Собираясь в Венецию на один день, я решил, что на этот раз ограничусь Кастелло, никуда не вылезая из восточной части города, поэтому сразу отправился к остановке Сан Дзаккариа, San Zaccaria. Отметив про себя приятную малочисленность людей на причале вапоретто, я сел не на тот, что идёт по Канале Гранде, прямиком и довольно быстро, но на пароходик, что тащится обходным путём, через Джудекку, с юга огибая всю Венецию. Я вставляю словечко «пароходик», что является буквальным переводом vaporetto, потому что умильность словечка «пароходик» очень соответствовала ощущению благословенной паузы, подаренной жизнью, что я испытывал, хотя никаким паром венецианский вапоретто давно уже не дышит, и обычно его называют по-русски «водным автобусом», а новые словари по-дурацки переводят vaporetto как «паром».
Пустой, везущий чуть ли не только одного меня, вапоретто пыхтел, длинно́ пробираясь мимо новостроек Венеции, мимо искусственно созданного в 1960 году острова Тронкетто, Tronchetto, также называемого Изола Нова, Isola Nova, Новый Остров, мимо пришвартованных к нему зимующих яхт, унылых зданий на Канале ди Фузина, Canale di Fusina, страшилы Молино Стуки, начинающего Джудекку с запада, мимо всей уродливости венецианского охвостья, бормоча про себя, что миновали случайные дни и равнодушные ночи. То есть пароходик цитировал блоковскую «Ночную фиалку»: «Я медленно шел по уклону Малозастроенной улицы, И, кажется, друг мой со мной. … Но всё посерело, померкло, И зренье у спутника – также, И, верно, другие желанья Его одолели, Когда он исчез за углом, Нахлобучив картуз, И оставил меня одного (Чем я был несказанно доволен, Ибо что же приятней на свете, Чем утрата лучших друзей?)» – Блок, по-моему, единственный в мире отважился заметить приятность потери лучших друзей. Я себя чувствовал именно так, как пароходик мне и описывал: будто умолкали шаги, голоса, разговоры о тайнах различных религий, и заботы о плате за строчку, я всех потерял, – и был страшно доволен тем, что у меня никого нет и меня нет ни у кого, и одиночество ощущал как блаженство.
Die Schlecht-Unendliche, то есть «дурное бесконечное» обоих берегов Канале Джудекка, что так мило сердцу пожилых эстетов, вторило блоковским строчкам. Вапоретто, из Джудекки бросаясь к Дзаттере, die Schlecht-Unendliche нарезал зигзагами: я видел то удаляющуюся и уменьшающуюся полосу Джудекки и нарастающий Дзаттере, то, наоборот, они были единым разным, и время безразмерно растянулось, прямо как вселенная. Краткие остановки у палладианских куполов Иль Реденторе и делле Дзиттеле были как остановки в вечности. Всё заканчивается, вечность в первую очередь, и вот я уже отплываю от церкви Сан Джорджо Маджоре, chiesa di San Giorgio Maggiore, Святого Георгия Бо́льшего. Последний палладианский купол, как последний привал вечности уносится вдаль, и вапоретто, с растянутостью покончив, стремительно пробегает Бачино ди Сан Марко. Уже не плавно, а второпях на меня надвигается самый знаменитый вид Венеции, с Марчианой, Пьяцеттой с колоннами святых Марка и Теодора, Кампаниле, Палаццо и Приджони, и, быстро уйдя влево, от меня отстаёт. Я достиг желаемой Сан Дзаккариа, и вылезаю на Рива дельи Скьявони, Riva degli Schiavoni, Берег Словенцев.
Северный берег Бачино Сан Марко делится на две части, на Моло, Molo, Мол, и Рива, Riva, Берег. То и другое – название набережных, и Моло, равно как Рива, в Венеции столь же привилегированны, как Канале, Пьяцца и Палаццо, – они пишутся с заглавной буквы и существуют в единственном числе. Полное имя Моло – Моло Сан Марко, Molo San Marco. Рива же, поскольку она очень длинна, делится, как и Дзаттере, на несколько частей, имеющих собственные имена: Рива дельи Скьявони, Рива ди Ка’ди Дио, Riva di Са’di Dio, Берег Дома Господа (название происходит от имени старого госпиталя, здесь находившегося), Рива Сан Бьяджо, Riva San Biaggio, Берег Святого Власия, Рива деи Сетте Мартири, Riva dei Sette Martiri, Берег Семи Мучеников. Моло и Рива образуют самую широкую, самую длинную и самую прямую магистраль Венеции. Последняя, Рива деи Сетте Мартири, появилась при Муссолини, и была открыта только в 1941 году. До того никакой набережной не было, берег был занят старыми маленькими верфями для починки лодок, сараями да хижинами, имея вид живописный, но непрезентабельный. Практически все дома здесь муссолиниевские и послевоенные, и сначала эта Рива носила имя отвратительное и не венецианское, Рива делл’Имперо, Riva dell’Impero, Берег Империи. В 1944 году набережная стала местом расстрела немцами семи политических заключённых, устроенного в отместку за смерть германского солдата, найденного в водах одного из каналов: солдат вроде как упал сам, пьяный, и захлебнулся. После войны Рива делл’Имперо была переименована, и теперь Берег Семи Мучеников естественно продолжает Берег Дома Господня и Берег Святого Власия, так что и не догадаешься, что его название относится к XX веку.
Слова molo и riva, написанные с маленьких букв, имеют самое общее значение, но в Венеции они стали именами собственными; все остальные молы и берега – фондаменты. Моло Сан Марко принадлежит самый знаменитый вид Венеции, то есть Марчиана, Пьяцетта и Палаццо Дукале, и Моло заканчивается у небольшого мостика, Понте делла Палья, Ponte della Paglia, Моста Соломы, перекинутого через Рио ди Палаццо, Rio di Palazzo, Дворцовый Канал, отделяющий Палаццо Дукале от Приджони. Происхождение названия мостика непонятно, но явно связано с тюрьмой: то ли здесь находилась хижина торговца, поставлявшего постельное бельё, то есть солому, в Приджони, то ли к мостику причаливали лодки, соломой торгующие. С Моста Соломы и Тюрем начинается Рива, то есть та, самая густонаселённая её часть, что носит имя Рива дельи Скьявони. На ней – главные причалы вапоретто, множество кафе и ресторанов, а ларьков чуть ли не больше, чем на Мосту Риальто. В сезон, а особенно в high season, на Рива дельи Скьявони не продохнуть, и толпа перед ступенями, ведущими на Мост Соломы, схожа с толпой перед эскалатором московского метро в час пик. С моста ещё открывается вид на Понте деи Соспири, Ponte dei Sospiri, Мост Вздохов, едва ли не самый знаменитый архитектурный памятник Венеции, и фотовспышек вокруг него больше, чем вокруг Бритни Спирс, когда она пьяная из ночного клуба вываливается. Понте деи Соспири действительно прекрасен, ничего не скажешь, на него взглянуть – это как безешку съесть, и за безешками очередь на Мосту Соломы и выстраивается, а так как мост этот – просто мостик, то вечный час пик и случается.
Этимология названия Рива дельи Скьявони, Берег Словенцев или Берег Славян, так как имя schiavoni, означавшее уроженцев побережья Адриатики, венецианцы переносили на славян вообще, занимательна. Наиболее часто повторяемая версия его происхождения от фамилии неких торговцев, Schiavoni, то ли уроженцев Далмации, то ли ведших свои дела со словенцами и далматами, прозаична и не слишком убедительна. Более похоже на правду соображение о том, что до XII века, до искусно провёрнутой аферы с уничтожением Зары и разграблением Константинополя, торговля со славянами, schiavoni, для Венеции была чуть ли не самой важной. Во-первых, до овладения венецианцами Террафермой словенцы, хорваты и далматы были главными поставщиками продуктов в Венецию, мяса и рыбы в первую очередь; во-вторых, именно жители Иллирийского побережья были главными посредниками в отношениях венецианцев с греками. К этой части берега Бачино, служившей долгое время и портом, причаливало большинство торговых судов, а так как большинство из них были schiavoni и речь на располагавшемся здесь рынке звучала в основном schiavoni, то и набережная получила соответствующее имя. Ещё одна версия происхождения названия, звучит фантастично, но крайне привлекательно. Она состоит в том, что это место в Венеции было в IX–XI веках местом бойкой торговли рабами: раб по-итальянски schiavo. Лучшими, самыми дорогими, покорными, сильными и красивыми рабами были славяне, привозимые аж с берегов Днепра. Высококачественный людской товар покупался у половцев, перепродавался в Константинополе и уж оттуда достигал Венеции и Ривы.
Образы несчастных уроженцев Киевской Руси, томящихся на Рива дельи Скьявони в ожидании покупателя, будоражат мою фантазию: первая встреча Руси и Италии. То, что торговля рабами велась, и в Корсуни и Константинополе были важнейшие рынки живого товара, на которых славян было полно, несомненный факт. Факт также то, что рынки снабжались как за счет половецких набегов, так и стараниями собственно русских поставщиков, тогда продававшими своих соотечественников не только на внутреннем рынке, но и на экспорт. Итальянское скьяво, schiavo, «раб», созвучно schiavone; более того, это слово, определяющее славян, некоторым кажется образованным от schiavo с помощью увеличительного суффикса, так что перевести его можно как «рабище». Есть ли прямая связь между словами schiavo и schiavone, неясно, но то, что связь между славянином и рабом есть, это, увы, объективная реальность. Нет сомнений в том, что славянские рабы появлялись и в Венеции: вот тебе и «Венецейцы… Что ни день о русичах поют», как нам о том сообщает «Слово о полку Игореве» в переложении Н. А. Заболоцкого. Я, как только появлюсь на Рива дельи Скьявони, тут же представляю себе своего далёкого предка, привезённого в Венецию, а далее воображаю его приключения, – дело увлекательное, а теперь, в силу того, что на Рива дельи Скьявони славянская речь сейчас столь же, если не более, густа, как и в IX–XI веках, ещё и актуальное: связь между работорговлей и современным туризмом очевидна. С другой стороны, может быть именно далёкие воспоминания о рабстве моих соотечественников меня подспудно и отторгают: не могу сказать, что Рива дельи Скьявони моё любимое место в Венеции. Видеть её я предпочитаю на картинах Каналетто, на которых она заселена менее густо, чем сейчас, а в обычной жизни стараюсь прогулок по ней – кстати, прекрасных – по возможности избегать. Мне и архитектура её особенно не нравится. Кроме Приджони ничего выдающегося на этой набережной не стоит, но красивая Тюрьма, хоть ты её и укрась мраморным фасадом, всё же тюрьмой останется. Белый же фасад церкви ди Санта Мария делла Визитационе, chiesa di Santa Maria della Visitazione, Святой Марии Осмотра, то есть Встречи Марии и Елизаветы (visitazione по-русски «посещение», «осмотр»), называемой также церковью делла Пьета́, chiesa della Pietà, Сострадания, в просторечии – просто Ла Пьета́, La Pietà, хорош лишь как отдалённый отзвук гения Палладио.
Ла Пьета́ – последняя большая стройка Светлейшей республики. Ранее на этом месте стояла скромная готическая церковь, как это видно на многих картинах и гравюрах. Она, наверное, властям казалась старомодной и убогой, поэтому её снесли, и по проекту Джорджо Массари, автора И Джезуити, затеяли возведение новой, достойной украсить главную набережную. Начали строить в 1745-м, и в 1760 году интерьер был закончен, расписан Тьеполо, церковь была освящена и в ней начались службы. Денег однако у республики не было, поэтому Ла Пьета́ оставалась без лица – то есть без фасада. Затем республика исчезла, и Ла Пьета́ торчала обидным напоминанием об обнищании Венеции, портя панораму, вплоть начала XX века. В 1906 году фасад, наконец, налепили, и, как считается, всё сделали согласно проекту Массари, но есть в Ла Пьета́ неестественность имитации, так что по сравнению с Сан Джорджо, Ле Дзиттеле, Иль Реденторе и Санта Мария делла Салуте – а со ступеней Ла Пьета́ открывается потрясающий вид на все четыре венецианских шедевра – она имеет бледный вид.
Впрочем, даже название, Ла Пьета́, как будто молит о снисхождении: название церковь получила из-за Иль Пио Оспедале делла Пьета́, Il Pio Ospedale della Pietà, Благочестивого Госпиталя Сострадания, находившегося в Калле де ла Пьета́, Calle de la Pietà, пробегающего мимо неё. Изначально госпиталь был чем-то вроде постоялого двора крестоносцев, но затем, после того как с идеей отвоевания Гроба Господня пришлось окончательно распрощаться, госпиталь превратили в приют для девочек-сирот из благородных фамилий. Так как приют был привилегированным, то наибольшее внимание уделялось гуманитарным, а не рукодельным способностям девочек (из простых готовили кружевниц), а особенно – их музыкальным способностям. К началу XVIII века музыкальные дарования воспитанниц приют прославили, и Иль Пио Оспедале делла Пьета́ стал в Италии столь же известен, как Смольный институт благородных девиц в России. На концерты, устраиваемые в музыкальном зале приюта, собирался весь свет Венеции и все заезжие знаменитые иностранцы. Во время пребывания в Венеции своим посещением Иль Пио Оспедале делла Пьета́ удостоили Павел Петрович и Мария Фёдоровна. Событие это запечатлено на изумительной картине Франческо Гварди, почему-то в отечественной литературе называющейся «Дамский концерт», находящейся в Старой Пинакотеке в Мюнхене, написанной вскоре после 1782 года. Мне очень нравится её немецкое название, Damenkonzert, то есть «Концерт дам», потому что это не концерт для дам, а концерт дамского оркестра. Картина эта, кроме того, что своей импрессионистской манерой производит впечатление не меньшее, чем «Музыка в саду Тюильри» Мане, ещё к тому же потрясает своей исторической прозорливостью. Серия полотен Гварди, в которую входит и Damenkonzert, запечатлевшая празднества в честь графа и графини Северных – псевдоним, под которым предприняла европейское путешествие великокняжеская чета, – предназначалась в качестве подарка русскому престолу, так как Венеция рассчитывала во время визита наследника договориться о поддержке России. Ситуация в Европе и в Италии была сложна и опасна, и венецианский Сенат понимал, что существование республики на волоске от гибели. Больше всего опасались (как потом оказалось, не зря) Австрии, и в союзе с Россией искали гарантию того, что Иосиф II, сменивший на престоле Марию Терезию, не проглотит Светлейшую, потому что, судя только по одному виду, проглотить он мог всё, что угодно.
Никакое пение бедных, но благородных девиц не помогло, визит графов Северных остался частным визитом и ничего в судьбе Венеции не решил. Республика была обречена, и Гварди гениально это чувствует: кукольный и мрачный «Концерт дам» столь точно передаёт атмосферу гибели ancien régime, «старого порядка», что при взгляде на него тут же вспоминаются bals des victimes, «балы жертв», трагические празднества во времена Французской революции, все участники которых были связаны гильотиной: их близкие были казнены и они сами ждали казни, и, бравируя этим, украшали шею красными шнурками. Картины до России не дошли, и правильно сделали, – вскоре всё переменилось, главными хищниками стали французы. Россия ничем не могла помочь обречённой Венеции, да и картины бы не понравились ни Павлу, ни Екатерине. Гварди для них был слишком авангардно анахроничен, прямо как фьябы Гоцци, и вряд ли вкус русского двора, неоклассически сентиментальный, предпочитающий Грёза и Робера, смог бы оценить венецианскую продвинутость. Картины бы валялись где-нибудь в углу дворцовых кладовых, Александру они бы были отвратительны как напоминание о его преступлении, а затем Николай I, устроивший смотр царской коллекции, вообще бы их забраковал и продал за бесценок с аукциона, как Шардена и многое другое. Оказавшись в чьих-то частных руках, никем не ценимые, шедевры Гварди могли сгинуть в колыбели трёх революций, или в лучшем случае были бы проданы на аукционах, устроенных революционным правительством, куда-нибудь в Австралию, купившую, кстати, «Пир Клеопатры» Тьеполо из Эрмитажа, самую знаковую картину венецианского сеттеченто, принадлежавшую России. Что ж, размышлять о судьбе картин Гварди на ступенях Ла Пьета́ не менее увлекательно, чем придумывать роман о судьбе славянского раба в средневековой Венеции.
О серии Гварди в России знают только специалисты, и мало кто вспоминает о «Дамском концерте» в Ла Пьета́, под сенью размахнувшейся на весь потолок тьеполовской «Коронации Марии», также называемой «Триумф Веры», заполненной шуршащими крылами ангелов столь густо, что в этом есть даже что-то хичкоковское. Церковь известна главным образом как место проведения концертов различных скрипичных ансамблей виртуозов, и из неё вечно несутся звуки «Четырёх сезонов», в которых тоже есть что-то птичье, хичкоковское. Иль Пио Оспедале делла Пьета́ более всего прославился тем, что с 1713 года по 1719 год в нём преподавал Вивальди, и шесть лет его работы в школе для девочек вроде как считаются самыми безоблачными и плодотворными годами его жизни. С Вивальди всё вокруг Ла Пьета́ и связано, и однажды, проходя по Рива дельи Скьявони, я был задержан – очень любезно – сначала одним молодым японцем, потом ещё одним, и ещё, и ещё. Все они с ослепительными улыбками вручали мне какие-то бумажки, и, дойдя до ступеней Ла Пьета́, буквально облепленных японцами, я наконец сообразил, что бумажки были приглашениями на концерт в церкви. Японцы выглядели не менее живописно, чем фигуры в восточных кабинетах Ка’Реццонико, и, соблазнённый этим, а также тем, что концерт был gratis, я решил, что очень даже неплохо под музыку очередной раз внять шуршанию тьеполовского птичника, а заодно и насладиться видом тут же висящей «Встречи Марии и Елизаветы» Пьяцетты, одного из моих любимых художников. Когда я вошёл, была пауза, я уселся на свободный стул, не очень зная, что меня ждёт, отвлёкся на разглядывание потолка, и вдруг, из алтарной части, где была сцена, грянула «Осень», забацанная breaking bad, «во все тяжкие», на трёх, кажется, десятках гитар, – тут уж ангелы Тьеполо совсем переполошились, взмыв в голубое нарисованное небо с шумом стаи голубей, испуганной выстрелом двенадцатичасовой пушки Петропавловской крепости. Оказалось, что это был концерт – я ведь не вник в суть бумажки – ансамбля японских гитаристов.
Остальные здания на Рива дельи Скьявони ещё скучнее, чем Ла Пьета́. Отель Даниели, Hotel Danieli, один из самых дорогих и знаменитых отелей Венеции, экс-Ка’Дандоло, Ca’Dandolo, наверное, когда-то был красивейшим дворцом, но он перестроен, перекрашен и выглядит сейчас как какая-нибудь колониальная вилла 1900-х годов. В Hotel Danieli жили Гёте, один как перст, Жорж Санд с Альфредом де Мюссе, Байрон с Диккенсом, Вагнер с Чайковским, Пегги Гуггенхайм с Леонардом Бернстайном, а также Харрисон Форд со Стивеном Спилбергом, и только по одному этому перечню можно понять, сколь Рива дельи Скьявони перенаселена и какая на ней стоит толкучка. От толпы я и хочу всегда поскорее сбежать, нырнув в Cоттопортего Сан Дзаккариа, Sottoportego San Zaccharia.
Однако сейчас, когда я в моём феврале вышел на набережную, Рива дельи Скьявони поразила меня непривычным покоем. Было благословенное время поста, закончившего карнавал, и ещё утро. Город казался поздно проснувшимся и ленивым, ко всему спокойно безразличным. Серое небо с лёгкими разводами голубизны, грустно, как будто нехотя, разворачивалось над лагуной, и на набережной было разлито ощущение покинутости. Народу почти не было, хотя это «почти» было чисто венецианским, но всё же это были прохожие, а не обычная для Венеции толпа, и, благодаря тому что путь через Джудекку погрузил меня в состояние рассеянной задумчивости, я без труда мог смотреть на редкие киоски с обычным туристическим барахлом и на туристов как на легкие декоративные мазки в пейзаже, как на стаффаж на венецианской ведуте XIX века. Даже Понте деи Соспири в сравнении с обычным часом пик был пуст, на нём стояла лишь группа школьников, одна-одинёшенька. Рива дельи Скьявони была заселена не более чем картина Каналетто, во всём чувствовалась разреженность, та самая разреженность, что испытываешь после того, как, свершив нечто, требовавшее огромных затрат и души, и тела, ты наконец-то выскочил из круга обязанностей и необходимостей, заставлявших бежать как белка в колесе, и теперь можешь отойти в сторонку и усесться тихо, «счастливый отдыхом, на счастие похожим».
В Венеции никаких дел у меня не было, а мысль об «Образах Италии XXI» болталась в голове неоформленным эмбрионом, так что моё решение подъехать именно к причалу Сан Дзаккариа и бродить именно по Кастелло ни к чему меня не обязывало. Город теперь был мне достаточно знаком, чтобы позволить себе шатание просто так, не подразумевающее охоту за переживаниями и впечатлениями, – я в данный момент был свободен от обязанности обдумывать что-либо определенное, и бесцельность была моей целью. Первый раз в жизни в Венеции я был спокоен.
Кампо Сан Дзаккариа
Помедлив ещё на Рива дельи Скьявони, я, разглядев её в непривычной февральской опустошённости, подумал о том, что когда-то здесь, как утверждают хроники, стоял укреплённый вал, защищавший город от пиратов. Название Кастелло, «Замок», район получил из-за когда-то стоявшей тут стены: под ней моих предков и продавали, и, само собою, строить ничего особо ценного здесь не хотелось, поэтому главная набережная Венеции так отличается от Канале Гранде, забитого дворцами и церквами. Это ощущается и сейчас: то, что стало променадом, было окраиной, и теперь унылые здания на Рива дельи Скьявони выполняют схожую с укреплённым валом функцию – они продолжают охранять нутро Кастелло, заставленное дворцами чуть ли не столь же густо, как и Канале Гранде, отгораживая их от рыночной суеты на набережной. Пройдя Cоттопортего Сан Дзаккариа, сразу же оказываешься на красивой площади, у ступеней замечательной церкви ди Сан Дзаккариа, chiesa di San Zaccharia.
Считается, что в потёмках Cоттопортего Сан Дзаккариа был зарезан один из первых дожей Венеции, Пьетро Традонико, что произошло 13 сентября 864 года. Официальные документы дож подписать не мог, ставил отпечаток пальца – то есть был неграмотен, зато боевит. Он много воевал со славянами, а также с арабами и хотел сделать из Венеции что-то вроде герцогства, поэтому тут же в соправители взял своего сына, дабы узаконить наследственность. Сын умер раньше, что свело на нет усилия дожа приватизировать власть, а затем и отца прирезали; считается, что преступление было раскрыто сразу же. В том же 864 году сменивший Традонико Орсо I Партечипацио поспешил арестовать убийц и отрубить им головы, но казнённые были лишь исполнителями – кстати, существует подозрение, что обезглавленные к убийству и вовсе не имели отношения, – кто же оплатил настоящих, так и осталось неясным. Скорее всего Традонико был заказан высокопоставленными ревнителями республиканского образа правления. В безопасных потёмках прохода на набережную воспоминания об историческом убийстве щекочут нервы, как темнота кинотеатра перед началом детектива, хотя вряд ли именно здесь Традонико распрощался с жизнью: в 864 году никакого соттопортего не было и не могло быть, потому что здания, образующие Cоттопортего Сан Дзаккариа, появились гораздо позже. Известно, что Традонико зарезали, когда он выходил из церкви ди Сан Дзаккариа после вечерней службы, и детектив, выскочивший из самой глубины истории Венеции, вяжется, как назойливая муха, сопровождая своим жужжанием до подножия ступеней древней церкви, одной из важнейших в Венеции.
Праведный Захария (не надо его путать с ветхозаветным пророком Захарией, героем вавилонского пленения), как и Иов, относится, так сказать, к парадоксальным святым, не прошедшим обряд крещения, а соответственно и воцерковления. Священник Храма Иерусалимского, муж Елизаветы и отец Иоанна Крестителя, он почитается и православными, и католиками, и мусульманами, как Библией, так и Кораном – перед фасадом церкви ди Сан Дзаккариа, необычным для католического храма, вспоминаются Константинополь и даже Багдад. Необычным кажется чёткое разделение фасада на шесть этажей, отсутствие окна-розы и острых углов фронтонов, заменённых мягкими округлостями – ни одного пинакля, что придаёт храму нечто ориентальное и мечетеобразное. Основана церковь в самом начале IX века совместно дожем Венеции и византийским императором Львом V, прозванным Армянином, который не только подарил венецианцам реликвии святого Захарии, но ещё дал денег на строительство и прислал мастеров: тогда в Венеции того и другого было мало. Впрочем, от этого времени до нас дошла только крипта, потому что церковь строилась и перестраивалась во времена романики, готики и вплоть до конца XV века. Окончательный свой вид она приобрела благодаря Мауро Кодусси, бергамаску по рождению (то есть ломбардцу), работавшему по большей части в Венеции. Кодусси происходит из той же плеяды ломбардских архитекторов, что работали над Чертоза ди Павия, над тающими мраморами её фасада, но в Венеции ломбардский стиль, столь же западный и католический, как латиница, приобретает мягкость греческого алфавита, унаследованную и арабами. Архитектура церкви ди Сан Дзаккариа столь близка византийскому духу, как будто заказ Кодусси через века исходил от самого Льва Армянина.
Я, стоя на Кампо ди Сан Дзаккариа, Campo di San Zaccharia, всегда вспоминаю единственную в Эрмитаже картину Тинторетто, изображающую рождение Иоанна Крестителя. Художник евангельскую сцену поместил в интерьер, напоминающий не о Иерусалиме, а о венецианском дворце. Девам, что суетятся вокруг новорожденного, коих целых пять, не считая роженицы Елизаветы, лежащей в постели, с подходящей к ней персональной служанкой, а также её кузины Девы Марии с младенцем Иоанном на руках, Тинторетто придал условно-европеезированный вид, смешав в их нарядах венецианскую современность с отвлечённой античностью: так служанки не одевались и в таких сандалиях венецианки не ходили. Отечественное искусствоведение любит сообщить, что Тинторетто трактует религиозную легенду как жанровую сцену, но картина далека от бытовизма, ей постоянно приписываемого. Особенно ни с каким реальным бытом не совпадает полюбившаяся поборникам жанровости кошка, ползущая к курице: зачем около новорожденного курица появилась? Откуда она взялась в дворцовом – а у Тинторетто изображён явно дворец – интерьере? Почему никто из переизбыточного числа женщин ни кошку, ни курицу, находящихся в столь нежелательно антисанитарной даже для того времени близости к новорождённому, не только не гонит, но даже и внимания на них не обращает, как будто и не видит? Если это и бытовизм, то бытовизм дада, прямо коллаж Макса Эрнста.
Суета вокруг младенца также не очень реалистична, как и вид хорошеньких служанок, больше похожих на одалисок. Захария одет в розовый с синей оторочкой caffettano (от персидского qaftân) и кутается в роскошную золотистую шаль с кистями. На голове – синий, в цвет оторочки кафтана, тюрбан, придающий ему вид персонажа из восточной сказки, наконец-то на старости лет дождавшегося рождения наследника, «новорождённого редкой красоты – творение промыслителя вечносущего», как «Тысяча и одна ночь» любит об этом сказать, бесконечно варьируя библейское повествование о чуде появления у пожилой четы долгожданного ребёнка. Моё сознание делает Захарию с картины Тинторетто похожим на восточного купца в гареме и непроизвольно связывает с ориентализмом фасада венецианской церкви, хранящей его останки. Сравнивая картину Тинторетто со сказками Шахерезады, я нисколько не сомневаюсь в том, что Тинторетто изображает великий момент чуда, столь значимый для всего христианства. Захария, вылечившись от немоты, насланной на него за неверие в обретение наследника, и написав – говорить он не мог – в ответ на вопрос об имени на табличке «Иоанн», что значит «Бог сжалился» или «благодать Божия», вдруг излечился, и во весь голос запел Benedictus, «Песнь Захарии»:
Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, Как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, Что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, Клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, Служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира —тем самым предопределив судьбу своего сына, в дальнейшем обезглавленного. А вы говорите – жанровая сцена.
Ни в Тинторетто, ни в фасаде церкви ди Сан Дзаккариа восточность не вступает в противоречие с благочестием, и в интерьере, хранящем готическую структуру и готические своды, почти нет обычных для храмов позже пристроенных капелл. Внутри церковь ди Сан Дзаккариа столь же своеобразна, как и снаружи. Интерьер кажется небольшим: всё густо завешано живописью, прямо картинная галерея – но это не только не мешает ощущению патриархальной, «благоутробной» намоленности, царящей в храме, но в какой-то мере её и определяет. Не мешает и то, что картины в основном сеиченто-сеттеченто, пышные, со множеством ориентальных фигур, изображающих библейские персонажи. Среди картин имеется также и вариант «Рождества Иоанна Крестителя» Тинторетто. Сюжет представлен отлично от эрмитажного, и хотя в богатой спальне всё те же персонажи: только что родившая Елизавета, младенец Иоанн на руках Девы Марии, суетящиеся женщины и онемевший Захария, – теперь от жанровости не осталось и следа. Центр картины прорван ослепительным потоком света, вспыхнувшего в комнате роженицы и завертевшего сонм крылатых ангелов, на которых женщины (их теперь шесть, а не семь) обращают внимание столько же, сколько и на курицу, опять же присутствующую в картине, но на этот раз без кошки, а пьющую из таза воду. Далась же курица Тинторетто!
Навязчивое появление курицы – ну прямо роковая тень – в тинтореттовских «Рождествах Иоанна» заставляет думать не о быте венецианцев, склонных устроить в своих спальнях птичий двор во время родов, а о словах Иисуса, переданных нам Евангелием от Матфея: «Иерусалим! Иерусалим! Ты, пророков убивающий и забивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз хотелось Мне собрать твоих детей всех вместе, подобно тому как курица собирает цыплят под своё крыло, вы же не хотели! Смотрите же, останется ваш дом заброшенным! Потому что говорю вам, что отныне вы не увидите Меня, до тех пока не скажете: “Благословен Идущий во имя Господа!”», а, точнее, о церковнославянском их варианте: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и каменiемъ побиваяй посланныя къ тебе, колькраты восхотѣхъ собрати чада твоя, якоже собираетъ кóкошъ птенцы своя подъ крилѣ, и не восхотѣсте?», потому что в современных переводах «курицу» часто заменяют «птицей», вероятно исходя из тех же соображений, что и интерпретаторы картины, держащие курицу за мовешку: уж слишком прозаичная птица, жанровая. Не пренебрегайте курицами! Восклицание «Благословен Идущий во имя Господа!» – прямой намёк на Иоанна Предтечу, и в курице Тинторетто жанровости столько же, сколько в Железной курице из Монцы, символе мощи лангобардских королей.
Чего только не лезет в голову при созерцании шедевров. Главный шедевр в церкви ди Сан Дзаккариа – картина Джованни Беллини «Мадонна на троне со святыми апостолом Петром, Екатериной Александрийской, Лючией и Иеронимом», также называемая «Алтарь святого Захарии». Эта как раз та самая картина, которую искал Бродский, высадившись у Огородной Мадонны, когда среди ночи захотел «взглянуть… на дюйм, отделяющий Её левую ладонь от пятки Младенца. Этот дюйм – даже гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть высшая форма эротики», но не нашёл. Предлагаю каждому, кто захочет, в связи с пяткой младенца вместе с моим великим земляком поразмышлять о высших формах эротики, но пройду мимо Беллини, отметив лишь ориентально-византийский золотой мозаичный купол над Мадонной, удивительно соответствующий виду церкви и вызывающий размышления о генетическом византинизме венецианского искусства, о котором много говорилось в связи с «Оплакиванием» Тициана. Я тороплюсь, пока церковь не закрылась после утренней службы, попасть в капеллу Сан Таразио, San Tarasio, святого Тарасия, резко отличающуюся от пышной ветхозаветной, иудейско-восточной патриархальности основной части храма.
Сам святой Тарасий с Востоком очень даже связан, и чтят его православные, а не католики. Отпрыск знатнейшей константинопольской фамилии, он занимал высокую должность секретаря при императрице Ирине, ставшей регентшей после смерти мужа при своём малолетнем сыне Константине в 780 году, и был лицом сугубо светским. Когда императрице, женщине очень властной, приспичило выбрать нового патриарха, она решила назначить на его место своего секретаря, что вроде как ни в какие ворота не лезло, так как он даже не имел духовного звания. Ей это удалось, Тарасий стал её верным помощником и оказался впутанным в придворную войну, развязавшуюся между императрицей и её сыном. Константин VI в 790 году, достигнув восемнадцати, захотел самостоятельности, что тут же вылилось в прямое столкновение с матерью. Патриарх Тарасий был между ними как кур в ощипе, причём особенно ему досталось, когда Ирина устроила публичный скандал в связи с желанием своего сына развестись с законной супругой, так как Константину приспичило жениться на своей любовнице Федоте. Патриарх, при поддержке Ирины, публично отказал императору в разводе и осудил его. Однако вскоре Ирина лишилась титула, была удалена из императорского дворца, Константин от её опеки избавился, и Тарасий был вынужден развод дать.
Супруга Константина была отправлена в монастырь, Федота коронована, и все были довольны, прямо как в случае с Петром I, который историю Тарасия при своей женитьбе на Марте Скавронской использовал как прецедент в назидание своему патриарху. Ирина, однако, не дремала, сплачивала вокруг себя недовольных, заодно подбирая и компромат на своего сына, что было легко, так как Константин VI был плох во всём. Недостойный его брак стал одним из козырей, Ирина свою партию разыграла блестяще, и в 797 году всех победила и провозгласила себя единодержавной императрицей, став первой женщиной, правившей единодержавно в Восточной Римской империи (а значит, и в Римской империи вообще, потому что в Западной единодержавных правительниц никогда не было). Своего сына она посадила в тюрьму, а заодно и ослепила, так что Константин VI вошёл в историю под прозвищем Слепой. Сын вскоре отдал Богу душу, а Тарасий остался при императрице, но ненадолго, потому что вскоре казначей империи Никифор, то есть министр финансов, Ирину сверг, убедив константинопольцев, что не дело бабе империей править, и отправил её на один из отдалённых островов Греческого архипелага. В Софийском соборе императора Никифора короновал всё тот же Тарасий, теперь обслуживающий нового монарха.
Церковь ди Сан Дзаккариа
Назовём отношения патриарха константинопольского со светской властью сложными и не будем осуждать, хотя многие Тарасия критикуют, даже подвергая сомнению его святость. РПЦ святого Тарасия чтит, так как он был симпатичен русским царям, а особенно – русским императрицам, и его капелла в церкви ди Сан Дзаккариа отмечена в православных путеводителях. Императрицу Ирину, особо милую сердцу православного клира за своё противостояние иконоборцам, тоже пытались сделать святой, но она не была канонизирована. Судя по всему, бабой она была жуткой (сына ослепила), хотя – с волками жить, по-волчьи выть, и вокруг неё шёл такой византийский беспредел, что покруче наших 90-х будет. Русские жития святого Тарасия об императрице говорят с умилением, так же как и о добродетелях патриарха, но для католиков этот святой – совершеннейшая загадка: его останки венецианцы, видно, прихватили в куче, обчищая Константинополь. Мощи тем не менее есть мощи, вещь ценная, и Тарасий в Венеции получил роскошную капеллу. Она, являясь прекрасно сохранившейся частью готического храма, ещё к тому же расписана Андреа дель Кастаньо, флорентийским художником, чьи произведения редки за пределами его родного города.
Андреа дель Кастаньо – великая глава в истории флорентийской живописи: стильная аскеза его сурового искусства, выразительная до жестокости, отражает дух Флоренции, быть может, даже и сильнее, чем Боттичелли. Наличие в Венеции его росписей, столь от всего венецианского отличающихся, уже достаточный повод для посещения капеллы святого соглашателя. Фигуры Кастаньо, созданные с учётом всех новшеств кватроченто, что обычно называют «достижениями флорентийского Ренессанса», здесь, втиснутые в узость стрельчатых сводов, производят впечатление столь экспрессивно-готичное, что кажутся готичнее трёх многостворчатых алтарей работы братьев Антонио и Бартоломео Виварини, известных под прозвищем да Мурано, то есть Муранцы, помещённых в капелле. Сияющие золотом полиптихи Виварини – великолепные образцы пламенеющей готики и Gesamtkunstwerk (что в русском переводе, дающемся во многих словарях, «законченно-единое произведение искусства», звучит препохабно), не только объединяют скульптуру, живопись и декоративную резьбу в единое целое, но и стирают между ними границы. Их хочется назвать творениями золотых дел мастеров, а не художников, хотя, как мы теперь знаем, разницы между ювелиром и художником нет никакой, потому что каждый ювелир – художник. Для средневековья понятие «художник» не значило ничего, поэтому живописцев объединяли в один цех с бочарами; для современности «художник» значит всё, поэтому бочар приравнивается к художнику. Исходя из противоположных установок в уравнении искусств современность тем не менее сомкнулась со средневековьем, и результатом стало то, что капелла Сан Таразио гораздо более созвучна вкусу сегодняшнего дня, чем интерьер и экстерьер церкви ди Сан Заккария. Нет, пожалуй, в Венеции другого места, в котором готика бы высказалась так ясно; к тому же под капеллой находится ещё и древняя крипта, всегда залитая водой, завораживающая своей мрачной подлинностью.
Церковь ди Сан Заккария может продержать долго, но она закрывалась после утренней службы. Я вышел на площадь, и, решив следовать естественной путанице улиц, идти никуда – мне так хотелось. Небо было серым, начал накрапывать дождь. Венеция была прямо как в «Белых ночах» Висконти, и мне это очень нравилось. Раньше Венеция изматывала меня: холёная покинутость Сан Джоббе, безносый на таинственном Кампо деи Мори, серо-зеленый мраморный орнамент И Джезуити, хоры Сант’Альвизе, хранящие память о благочестии развратных старух, представление марионеток, разыгранное раскрашенными святыми нефа И Кармине – красоты Венеции, открывавшиеся мне, воспринимались как озарение, не давая ни минуты покоя. Теперь же у меня выработался иммунитет, мысль о Венеции не вызывала приступа нервного возбуждения, – так, только пройдя, страсть может обернуться счастьем. Счастье на меня и накатило.
С удовольствием я понял, что запутался, потерялся и плохо представляю, где именно я нахожусь: ясно, что в Кастелло, но где именно, где лагуна, где залив, я не понимал. Я всё время шёл один, но в какой-то момент осознал, что движение моё не бесцельно и не одиноко, а что я уж довольно долго иду вслед за маленькой фигуркой, заведшей меня в недра Кастелло по проулкам, дворам и соттопортего. Мимо мелькали дворцы, горбатились мостики, это продолжалось Бог знает сколько времени, сумеречная серость дня давала полную свободу от явных его, времени, примет. Дождик то накрапывал, то переставал, и бытиё вокруг меня снова растянулось безмерно, как в дурной бесконечности вод Джудекки. Со мной произошло что-то странное. Мне казалось, что я шёл долго-долго, были мысли, очень много, переживания и чувства, я их не помнил, но они успели стать частью меня. Я унёсся в другое измерение, и вот только сейчас, осознав перед собой человечка, который на самом деле давным-давно мною верховодил, я снова очутился в том, что обычно называется реальным временем и измеряется секундами, минутами, часами, днями и веками. Сейчас, сфокусировав своё сознание на маленькой фигурке, я увидел, что это не джинн, не волшебник, не Риоба и не Гоббо – это был обыкновенный школьник, идущий домой. Ему было лет десять; из школы, наверное, возвращается, подумал я, разглядев у него рюкзачок. Домой он не торопился, всё время останавливался, чтобы потоптаться в лужах, вспугнул голубя, с тупой важностью семенившего в каком-то дворике, и вообще задерживался, где только мог, чтобы только задержаться. Я шёл за ним и шёл, между нами была дистанция, в реальном времени измерявшаяся шагами десятью-двадцатью, а на самом деле составлявшая сорок с лишним лет. Мне было хорошо знакомо явное желание мальчика оттянуть возвращение, то есть длить как можно дольше тот момент свободы, что лежит между заключением в стены школы и заключением в стены дома. Да и сам мальчик был мне знаком, так как десять лет жизни я провёл, возвращаясь из школы по длинной петербургской Галерной улице, тогда называвшейся Красной, и точно также задерживался около каждой лужи, около каждой трубы, из которой капала вода, чтобы подставить под неё свой валенок с галошей и смотреть, как он намокает – зачем я это делал? – развлекала незаконность такого самовредительства, и нравилось, что от капель воды на сером фоне появляются тёмные пятна, постепенно разрастающиеся, да и мочить валенок куда приятнее, чем сидеть в школе или делать уроки.
Я жил в самом конце длинной-длинной Галерной, и чтобы попасть домой, мне нужно было пройти множество дворов, и они, заставленные старыми домами, перетекали друг в друга тягучей беспредельностью пространств. Путь казался нескончаемым, и всё было интересно, каждое дерево занимало, дома вокруг были старинными громадами, набитыми тайными смыслами, над которыми я не задумывался, но которые ощущал. Путь мой длился и длился, но улица моего детства закончилась, и, как всё нескончаемое, закончилась моментально. Вот уж сорок с лишним лет меня отделяют от бесконечности Красной-Галерной, и теперь, когда я на ней оказываюсь, меня всё время поражает несоответствие той необозримой пространственной громады, что находится во мне, с теперешним заурядно нормальным её видом.
Не говорите мне, что это обыкновенное изменение восприятия масштаба и впечатление взрослого и выросшего от возвращения туда, где он был ребёнком и маленьким. Нет, это разница измерений – тогда передо мной было моё будущее, теперь же за мной только моё прошлое. Мальчик из Кастелло вернул мне давно утраченное физиологическое ощущение огромности и бесконечности моего бытия. Дворы и здания, окружившие меня в Кастелло, были, конечно, меньше, чем дома на Галерной, но сейчас они тоже стали таинственными громадами, беременными будущим.
Мальчик очень хорошо знал, куда идёт, и вёл меня, я же не представлял, где нахожусь, куда и зачем направляюсь. Меня это и не волновало. Ведь, десятилетний, я на Галерной так же точно знал оправданность своего пути – пути домой, – как и мой проводник. Маленькая фигурка наделила смыслом мою бесцельность, я опять шёл домой. Сорок лет никуда не исчезли, но они теперь не разделяли, а объединяли Галерную и Кастелло – я почувствовал, что мой февральский путь по Венеции есть одно из ценнейших переживаний моей жизни. В себе – то есть в ведущем меня мальчике – я снова увидел бессмертную бесконечность, что мне принадлежала, но была у меня утащена жизнью куда-то на дно, в ряску и тряску, так что я и вспоминать-то о ней забыл. Сумеречный февральский день в Кастелло вернул мне её, моя бесконечность выплыла, как черепаха Тортилла с золотым ключиком во рту, и уставилась из меня на мир умными глазами без ресниц. Бесконечность таращилась во мне: я всегда знал, что путь по Галерной меня определил, но знать и ощущать – разница. В голове закрутились вопросы: может быть, я стал и совсем не таким, каким мог бы стать, когда у меня было будущее? Интересно, каким бы я стал, если бы вместо Галерной у меня были соттпортего, калле и рио Кастелло? Консистенция мозгов питерца кардинально отличается от консистенции мозгов венецианца – чем и кем станет мой проводник, каждый день тащащий школьный рюкзак мимо дворцов и храмов?
Вопросы, возникшие в моём мозгу, были слишком глупы, как всё конкретное. Они относились к пониманию, а не к ощущению, и всё испортили. Осознав мальчика перед собой, я тут же разрушил нашу связь, и всё переменилось: живой ребёнок превратился в картонного chierichetto. Я не успел сделать и нескольких шагов, как оказался в хорошо известном мне месте, на Кампо Санта Мария Формоза, Campo Santa Maria Formosa, Святой Марии Статной. Мальчик тут же исчез, как будто его и не было, и черепаха с глазами без ресниц снова ушла на дно, в тину, тряску и ил.
Кампо Санта Мария Формоза
Глава пятнадцатая Поппея, Поппея
Церковь ди Санта Мария Формоза. – Непутёвая дочь. – Варвара и Градива. – Обезьяна: красавицы, дьяволы, ангелы. – Кампо Санти Джованни э Паоло. – Как сильно лошадь двинула хвостом! – Моя жизнь до и после Поппеи. – Гроза над лагуной. – Сан Джорджо деи Гречи. – Далматский рыцарь. – Сан Франческо делла Винья. – Арсенале. – Сан Пьетро. – Святая Елена
Как ласкают глаз округлости церкви ди Санта Мария Формоза! Связанная с именем всё того же Мауро Кодусси, выстроившего и церковь ди Сан Дзаккариа, Мария Формоза, с Дзаккариа схожая, отличается от него, как отличаются две фигуры венецианской живописи XVI века: вдохновенный отец, вдруг обретший способность говорить, из «Рождества Иоанна Крестителя» Тинторетто, и белокурая красавица, святая Варвара, с алтарной картины Пальмы Веккио, здесь же, в церкви ди Санта Мария Формоза, и находящейся. Невысокое, соразмерное, ладное, здание кажется идеально соответствующим своему имени-прозвищу. Церковь называется Formosa, потому что её основателю, святому Маньо, епископу Одерцо, явилась Дева Мария и повелела именно на этом месте выстроить церковь, ей посвящённую. Богоматерь, представшая пред очами Маньо – он, кстати, теперь покровительствует каменщикам, – имела вид дамы в расцвете своей красоты, поэтому и церковь получила прозвище formosa, что значит как «прекрасно сложённая», так и «крепко сбитая», и что, как мне кажется, лучше всего переводится как «с формами». Итальянцы ничтоже сумняшеся так святое место и назвали, хотя для русского уха «церковь Святой Марии с Формами» звучит кощунственно панибратски, и я перевожу имя Santa Maria Formosa как «Святая Мария Статная».
Видение посетило епископа в VII веке, так что Санта Мария Формоза числится среди восьми самых ранних венецианских церквей, воздвигнутых по указанию Маньо в разных местах, что не подтверждается ничем, кроме устного предания: при всей усердности изысканий никаких упоминаний о церкви раньше XI века найти не удалось. Связь внешнего вида с Кодусси чуть ли не столь же условна, как и со святым Маньо. В конце XV века на месте обветшавшей древней церкви под руководством Кодусси была возведена новая церковь, но сейчас от его замысла остался только план, потому что над Санта Мария Формоза взяло шефство богатое и влиятельное семейство Каппелло. Оно не относится к двенадцати древним апостолическим семействам Венеции, к Case Vecchie, «Старым Домам», а принадлежит к Case Nuove, «Новым Домам», так что ни одного дожа в роду Каппелло не было, но фамилию Каппелло носили важные шишки: адмиралы, прокураторы, сенаторы и прочие. Одну из своих шишек семейство решило увековечить, пристроив в 1540-е годы к творению Кодусси боковой фасад, выходящий на Рио дель Мондо Нуово, Rio del Mondo Novo, Канал Нового Мира, названного так громко всего лишь из-за магазина виноторговца, когда-то здесь находившегося. Кто был архитектором, неизвестно, но фасад хорош, прост, спокоен и соразмерен, и прикол состоит в том, что портал увенчан гробницей самого героического члена семейства, Винченцо Каппелло, победителя турок во многих сражениях; могила на фасаде – редкость в западной архитектуре. Виченцо умер, осыпанный почестями, в 1541 году, и родственники решили захоронить его столь необычно, дабы церковь ди Санта Мария Формоза с фамилией намертво связать, а заодно и предка восславить. Из-за популярности Винченцо им удалось этого добиться, но Каппелло показалось мало фасада сбоку, и в начале XVII века они построили ещё и главный фасад, более усложнённый, но всё равно соразмерный и спокойный, поместив на него целых три портретных бюста шишек из семейства Каппелло. Церковь, если задуматься, выглядит уж как-то совсем приватизированно: даже снаружи (внутри-то, с гробницами, это привычнее) вместо святых всё частные лица, да ещё и принадлежащие к одной фамилии. Колокольня к церкви была добавлена ещё позже, во время разгула барокко, хотя барокко в ней мало. Фасад Кодусси после всех строек-перестроек потерялся, но церковь, несмотря на разнородность временных переделок, несмотря на то, что она пострадала после землетрясения в 1668 году и от случайной австрийской бомбы в 1916-м, прочувствованно однородна, и тон всему задаёт структура, определённая именно Кодусси, с куполом, который столь идеально округл, что его хочется взять в ладони. Весьма эротическое переживание, которому вторит ритм архитектурных деталей, всё время завлекательно круглящийся, нежный, манящий, так что забываешь и думать о приватном желании Каппелло прославить свои доблести, а вспоминаешь о том, что, несмотря на все их усилия, фамилию Каппелло сделали известной не официозные шишки, а их непутёвая дочь, память о которой Каппелло предпочли бы напрочь вытравить.
О Бьянке Каппелло, дочери Бартоломео Каппелло, занимавшего различные высокие посты в республике, и племяннице Джованни Гримани, патриарха Аквилеи, в Венеции умалчивают. Прославилась она во Флоренции, причём славой сияющей, но чёрной: её история – самый настоящий brillant noir, «чёрный глянец», он же «сияющий фильм ужасов». Бьянка родилась в 1548 году, через семь лет после смерти героя Винченцо, приходившегося ей двоюродным дядей, – то есть боковой фасад церкви ди Санта Мария Формоза был уже выстроен. Она как наследница одной из влиятельнейших венецианских фамилий была завидной невестой, но в пятнадцать лет тайно обручилась со случайно встреченным Пьетро Бонавентури, служащим флорентийского банка Строцци, также флорентинцем. Венецианке вообще за флорентинца негоже выходить, да тут ещё, по сегодняшним понятиям, дочь премьера породнилась с менеджером среднего звена. Понимая, что семья брака не признает, Бьянка бежит с возлюбленным во Флоренцию; Каппелло мечут официальные запросы о выдаче обоих, но Флоренция, помня обиду с Лоренцаччо, издевательски на них не реагирует. Про очарование Бьянки все слагают легенды, да и Пьетро тоже, наверное, был симпатяга, но прохвост и жиголо, и с потерей менеджерского места в венецианском отделении банка Строцци он к тому же остался без гроша. Бьянка тужит с милым в шалаше, плачет и тоскует, и милый, с полного её согласия, подкладывает милую наследному принцу Франческо Медичи. Далее жизненный путь Бьянки наверх, к сиятельному положению законной супруги Франческо I, Великого герцога Тосканского, извилистый, усеянный трупами, в том числе её мужа и законной супруги Франческо, и её собственная ужасающая смерть, вместе с герцогом, от яда на вилле Поджо а Кайано, Poggio a Caiano, художественно и подробно описан Павлом Муратовым в главе «Бронзино и его время», к которой я читателя и отсылаю. Я же, несмотря на все старания Каппелло, созерцая округлости их семейной церкви, не могу не вспомнить о прекрасной Бьянке.
Церковь ди Саната Мария Формоза
Интерьер церкви ди Санта Мария Формоза со времён Кодусси лучше сохранился, чем экстерьер. Внутри церкви понимаешь, насколько Кодусси задал её внешний облик и то впечатление нежной и плавной величавости, что Санта Мария Формоза источает, несмотря на позднейшие доделки. Всюду цилиндры, окружности и полукруги: колонны, арки, люнеты, купола, профилировка подчёркивает кругление, но круга – то есть полной законченности и высказанности – Кодусси как бы и избегает. Уже упомянутая мной картина Пальмы Веккио, «Алтарь святой Варвары», Pala di Santa Bа́rbara, созданная в 1523 году, не только лучшее украшение интерьера Кодусси, но и лучшее его объяснение: то, что архитектором явлено в форме геометрии, то есть отвлечённо-абстрактной, у художника высказано фигуративно, то есть метафорически и образно.
Святая Варвара Илиопольская, замученная в 306 году, считается покровительницей внезапно умерших, что очень важно, так как на Суде Божием она может заступиться за всех, кто не успел по тем или иным причинам покаяться и причаститься перед отправлением в другой мир. Столь ответственную функцию небеса возложили на Ба́рбару-Варвару из-за истории её жизни. Она, умница и красавица, как и Бьянка, своим отцом Диоскуром, не менее могущественным в греческой Никомедии, находящейся в Малой Азии (русский Илиополь, сегодняшний Измит), чем Каппелло в Венеции, была посажена подальше от глаз людских, то есть от глаз ловких менеджеров среднего звена, заточена в башню, да там и содержалась. Мера касалась охраны её невинности от многочисленных ухажёров, слетавшихся к дому Диоскура со всех сторон Римской империи. Диоскур, чтобы не пускать её в общественные бани, даже соорудил ей персональную баню – то есть ванную комнату, как я понимаю. Ба́рбара-Варвара, однако, как и Бьянка, с внешним миром вошла в сношения, и познакомилась с христианами. К встрече с Иисусом она была подготовлена одинокими размышлениями над сущностью мира, на которые отец заточением сам же её и натолкнул. В уединении она своим разумом дошла до понимания того, и что у мира может быть лишь один Создатель, и что Бог един. Ба́рбара-Варвара приняла крещение и обманула ожидания своего папаши.
Диоскур к духовности был невосприимчив, поэтому обвинил дочь в блудодействе с молодыми людьми, с которыми на самом деле Ба́рбара-Варвара лишь совместно молилась и предавалась другим благочестивым невинностям. Разъярённый папаша отдал дочь под трибунал, возглавляемый Мартианом, мэром Никомедии, и по его приказу Ба́рбару-Варвару палачи изо всех сил стали бичевать хлыстами из воловьих жил, тут же превращавшимися в павлиньи перья. Измучившись истязать, Мартиан повелел отрубить Ба́рбаре-Варваре голову, и, как только голова прекрасной девушки отделилась от шеи, сверкнула молния, испепелив и Мартиана, и папашу, и грянул гром, заставивший всех никомедийцев, собравшихся насладиться зрелищем мучений красавицы вживую, а не online, разбежаться кто куда – именно из-за этого случая её назначили заступницей за умерших без покаяния и поручили разбираться с ними. Она столь прекрасно с этим справляется, что входит в число четырнадцати святых помощников, чьё заступничество на небесах особенно эффективно. Гром и молния, так же как башня и павлиньи перья, стали атрибутами Ба́рбары – здесь ставлю только её католическое имя – и в её ведомство были переданы как громоотводы, так и пожарные части. Самое же главное, что святая стала покровительницей артиллерии, и в 1995 году святая Варвара Илиопольская официально назначена патронессой ракетных войск стратегического назначения России.
Я рассказываю столь подробно историю святой потому, что у Пальмы она лишь намечена изображениями башни на заднем плане и пушек у ног. Сама же Ба́рбара у Пальмы – роскошная рослая блондинка, обряженная достойно и богато. Коричневое платье, кажущееся бархатным, просторное и тяжёлое, надето поверх жёлтой – да, жёлтой! – рубашки с широченными рукавами, да ещё и окутана розовым атласным плащом, но ноги босы. Сопровождаю жёлтый цвет рубашки восклицательным знаком не ради того только, чтобы напомнить читателю о giallo, но из-за того, что желтизна в одежде Ба́рбары зашипела, как Яго, о том, что в Венеции не от небес таятся, а от мужей, и совесть ублажают не воздержаньем, а неразглашеньем – то есть об истории Бьянки Каппелло. Больше в платье святой Ба́рбары никаких фривольностей нет, грудь и плечи закрыты, но она боса, и обнажённость длинных пальцев её ног, подчёркнутая тем, что святая по сравнению с другими героинями Пальмы, специализировавшегося на блондинках с формами и злоупотреблявшего декольте, плотно закутана, действует возбуждающе. Искусством Пальмы восхищались много веков, превознося его венецианок как идеал, но сейчас вкусы изменились, его красавицы кажутся дебелыми и белёсыми, и никто увидеть Ба́рбару, когда-то столь популярную, особенно не рвётся. Даже я, всегда воспринимая современный вкус с раздражением, мимо большинства его работ – хотя у него есть и замечательные (портреты, например, причём мужские в первую очередь) – прохожу со спокойствием, как мимо гобеленов: настроение создаёт, но не цепляет. Святая Ба́рбара Пальмы – часть полиптиха, включающего ещё и изображения других святых в тяжёлом мраморном архитектурном обрамлении, сооружения в целом нелепого и не идущего ни в какое сравнение с элегантной целостностью полиптихов братьев Виварини, только что виденных в Сан Дзаккариа, но именно Ба́рбара, и только она, замечательна своим соответствием духу церкви ди Санта Мария Формоза, то есть своей формозностью, да и пальцы ног её – находка для фут-фетишистов, именуемых также подофилами.
В фигуре Ба́рбары есть нечто, схожее с римским рельефом начала нашей эры, известным под названием Gradiva, «Шагающая», из собрания Музеев Ватикана, считающимся копией с греческого оригинала IV века до Рождества Христова. На рельефе изображена закутанная в широкие одежды девушка, слегка приподнявшая широкий длинный плащ, мешающий ей идти, потому что девушка куда-то опаздывает и очень торопится. Приподнятый плащ обнажил только ступни, и их обнажённость столь выразительна, что девушка, являясь до сих пор персонажем неопределённым и поэтому анонимным, получила красиво звучащее имя собственное, Градива, произведённое от эпитета, обычно применявшегося к Марсу и значившего «шествующий в бой»: gradivus – эпитет бога войны, вступающего в сражение, и происходит от латинского эпитета gradiva. В XX век Градива вошла победоносно, потому что венец Вильгельм Йенсен, возбуждённый рельефом, в 1903 году опубликовал роман «Градива. Помпеянская фантазия», и эта качественная, но особенно ничем не выдающаяся модерновая проза (у нас Муратов похоже писал свои рассказы), быть может, так и осталась достоянием немногих, если бы не была во время подсунута молодым Юнгом своему учителю Фрейду в тот период, когда они ещё не разругались на смерть. Фрейд, художественные вкусы которого были унылы, как и его половая жизнь, пришёл от романа в восторг. Психоаналитик «Помпеянскую фантазию» воспринял как откровение, и в 1907 году разразился очерком «Бред и сны в “Градиве” Йенсена». Затем Фрейд даже повесил копию с рельефа в своей лондонской квартире, поэтому все психоаналитики о ней узнали, что послужило таким пиаром и венскому писателю, и римскому рельефу, о каком только мечтать можно. Градива, с лёгкой руки Фрейда, зашагала по сюрреализму – Дали свою Галю называл Градивой, и, конечно, все сюрреалисты отдали дань подофилии – так широко, что критик Морис Надо именно Градиву провозгласил «музой сюрреализма». В 1986 году в Париже был даже основан журнал под названием Gradiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, и Градива дошагала до 2006 года, появившись в фильме Алена Роб-Грийе C’est Gradiva qui vous appelle, «Вам звонит Градива».
Церковь ди Сан Пьетро ин Кастелло
Я надеюсь, что указание на градивистость святой Ба́рбары, столь же ей свойственную, как и формозистость, поможет ей рассеять скуку. Она обречена на общение лишь со специалистами по Пальма Веккио, которых в мире раз, два и обчёлся, и позвонить ей решительно некому, ибо турист, оторвавшись от путеводителя, обведёт её рыбьими глазами, холодно и обидно, да и телефона не даст. Античная же Градива жирует на тусах авангардистов и психоаналитиков, и это несправедливо, так как Ба́рбара Пальмы ей немногим уступает, и горькую эту несправедливость я ощутил как раз тогда, когда в февральский день остался с ней наедине, потому что в церкви, работающей днём как музей, кроме меня, не было ни единого человека. Округлости Ба́рбары, так же как и округлости архитектуры, принадлежали только мне одному, только меня и ласкали, я проторчал в церкви ди Санта Мария Формоза довольно долго, так что она успела на особый лад настроить моё восприятие Кастелло, самого громадного, а потому и разнородного, сестиере Венеции.
Выйдя из церкви, я уже точно знал, где нахожусь. Мальчика, моего поводыря в дворах Кастелло, я потерял, а вместе с ним и безразмерность бытия, так что тут же задался вопросом: а где же, собственно, я так плутал? Расстояние между Сан Дзаккариа и Санта Мария Формоза – пятнадцать минут ходьбы, и, как бы ни был путь извилист, прошляться долго в небольшом квартале, что их разделяет, просто не получится. Теперь, когда время вернулось и я утратил абстрактную чистоту духа, мне это казалось загадкой. Во мне осталась одна предметная перцепция – вид Кампо Санта Мария Формоза был прозаичен, как будни, но прелестен. Дева Мария из видения святого Маньо указанное для своего почитания место наделила столь роскошной женственностью, что, несмотря на старания семейства не упоминать о своей traviata, «сбившейся с пути», оно заставило меня вспомнить о Бьянке Каппелло. Бьянка, как могла, утешила меня в потере моей чистоты, успокоила моё сознание, расстроившееся из-за открытия, что я уже давно не десятилетний мальчик, а также указала на то, что с её именем связан один из самых впечатляющих дворцов Венеции, Ка’ Каппелло Тревизан Миари ин Каноника, Ca’ Cappello Trevisan Miari in Canonica, находящийся в Кастелло. Мишель де Монтень, видевший Бьянку во Флоренции, описал её так: «красивая, в итальянском вкусе, с весёлым и пухлым лицом, со значительной дородностью»: Бьянка увела меня к женственной роскоши дворцов, которых в Кастелло полным-полно.
Ка’ Каппелло Тревизан Миари ин Каноника стоит на самой границе сестиери Кастелло и Сан Марко, в непосредственной близости Палаццо Дукале и Приджоне, прямо на Рио дель Палаццо, напротив Фондамента де ла Каноника, Fondamenta de la Canonica, Набережной Каноников, и имеет вид столь же пышный, сколь и его имя. Путеводители про него пишут крайне скупо, дворец не музей (сейчас там находятся какие-то стеклодувные мастерские), но туристы при виде блекло-пёстрого мраморного фасада замирают, заворожённые какой-то картинно-рыночной его венецианскостью, а так как Фондамента де ла Каноника узка и коротка, то час пик на ней чуть ли не как на Мосту Соломы. Дворец был выстроен в конце XV века для Мелькиоре Тревизана, кондотьера и капитана, воевавшего с французами на суше и с турками на море и – это видно по дворцу – хорошо на этом зарабатывавшего. Архитектором считаются отец и сын из ломбардского семейства Бон. Я пишу именно «архитектором», так как оба сливаются в нечто единое. Оба они фигуры очень условные, фактов о них известно мало, и так как обоих звали Бартоломео, они, условно маркированные Веккио, Старшим, и Джоване, Младшим, чаще выступают под маркой «семейство Бон». Честно говоря, даже нет уверенности, что они были отцом и сыном, зато ясно, что в Венеции XV века архитекторы Бон играли большую роль, потому что имена их упоминаются в связи со строительством как Прокурацие и Кампаниле, так и множества других важных зданий. Также ясно, что ломбардская фамилия Боно (Бон – венецианизированное произношение) привнесла в Венецию, до того в архитектуре ориентальничающую и византийствующую, стильность lo stile visconteo, стиля Висконти, определившего миланскую элегантность вплоть до наших дней. Важное изменение, переориентировавшее венецианскую архитектуру, до того устремлённую к востоку, на запад, тем самым предопределив Палладио. Венеция и Милан – такие же противоположности, как Венеция и Флоренция, и ломбардскость Бонов, наложенная на венецианский ориентализм, привела к появлению двух сказочных дворцов, Ка’ д’Оро, Ca’ d’Oro, Золотого Дома, на Канале Гранде и Ка’ Каппелло Тревизан. Ка’ д’Оро стоит в очень выгодном месте, к тому же в нём устроен музей и интерьеры его восстановлены и отремонтированы, поэтому он гораздо удачливее в известности, торча на заглавных картинках рекламных проспектов. Каппелло Тревизан же сейчас лишь фасад, причём задвинутый и стиснутый.
С обоими дворцами связывают имя Бон (какого именно, непонятно, поэтому заодно и старого, и молодого), хотя и без каких-либо достаточно документированных подтверждений. Оба дворца я назвал сказочными не просто потому, что так принято про венецианские дворцы писать, а потому что любому ребёнку (да и любому взрослому) эти два дворца кажутся буквальным воспроизведением описанных в сказках сооружений, что воздвигались магами и волшебниками и что в реальности не представить: в них всё перламутром и яшмой горит. Всякие Лувры, Букингемы и Зимние кажутся в сравнении с Ка’ д’Оро и Ка’ Каппелло Тревизан просто большими зданиями для больших людей, эти же два построены для фей и духов. Так кажется при первом взгляде на них, и я первое впечатление считаю правильным, хотя если разобраться, то от Бонов, также как и от кватроченто, в обоих зданиях осталось немного. Фасады их столь тщательно реставрировались в XIX веке, когда реставрацию понимали не как консервацию, а как приведение в порядок, поэтому она была реконструкцией, что вид и у Ка’ д’Оро, и Ка’ Каппелло Тревизан такой, как будто они выстроены согласно вкусам даже не Рёскина (обоими дворцами восхищавшегося), но людей, Рёскина начитавшихся. Рёскин, кстати, видел их до реноваций, и, чтобы не разбираться в том, что подлинно, что фальсифицировано, а также чтобы не портить своё первое впечатление, я Ка’ д’Оро оставляю в стороне. К Ка’ Каппелло Тревизан же я обращаюсь из-за Санта Мария Формоза, а точнее – из-за Бьянки Каппелло, купившей дворец в 1577 году и подарившей его своему папаше, который к этому времени с ней примирился, потому что дочь родила Франческо I сына. Бьянка в это время пристойно вдовствовала – муж-сутенёр был благополучно прирезан. Франческо, уже ставший Великим герцогом, от законной жены, Иоанны (Джованны) Австрийской отпрысков мужского пола не имел и сына Бьянки признал своим. Рождённый вне брака ребёнок считался бастардом и никаких прямых прав наследования не имел, но факт отсутствия сыновей герцог использовал в своё оправдание, когда ему пеняли (пеняли же многие, даже император Священной Римской империи Рудольф I, коему Иоанна доводилась роднёй) на его отвратное супружеское поведение. Появление у Бьянки мальчика, пусть даже и бастарда, повышало её влияние на герцога даже и при наличии живой законной жены: значение Бьянки при флорентийском дворе резко возросло, что тут же уловил чуткий венецианский папаша, поспешивший отправиться во Флоренцию мириться с дочерью, за что и получил дворец.
Увы, сын Бьянки оказался гораздо более фальшивым, чем сегодняшний вид Ка’ Каппелло Тревизан, потому что выяснилось, что Бьянка держала в своём флорентийском дворце трёх беременных женщин, и первый же родившийся мальчик был выдан ею за сына от герцога. Добрые люди предоставили Великому герцогу все доказательства подлога, но он всё равно от сына, названного Антонио и бывшего, судя по гравюрам, очень уродливым, не отказался. Иоанна, поднатужившись, через некоторое время всё же выдала Франческо сына, в подлинности которого ни малейших сомнений не было. Прожил мальчик всего пять лет, на два года пережив мать: беременная следующим младенцем Иоанна отдала Богу душу. Причиной смерти послужило падение с лестницы, и многие считают, что несчастный случай был подстроен соперницей. После смерти Иоанны герцог тут же тайно обвенчался с Бьянкой, а вскоре добился и официального признания её Великой герцогиней, что вызвало ненависть к ней всех Медичи, которые и отравили Бьянку, а вместе с ней – случайно – и герцога. Антонио, фальшивого бастарда, никто не стал поддерживать, и тот в обмен на денежную компенсацию отказался от каких-либо прав на престол в пользу брата Франческо, Фердинанда, навсегда покинув Флоренцию. Домом Медичи Бьянка была проклята, а декадентами воспета. Флорентинцы до сих пор к Бьянке и к её истории неровно дышат, и совсем недавно в гробнице Франческо I, вновь обследованной, были найдены невесть как сохранившиеся останки герцога и Бьянки (всё же она была герцогиней и, несмотря на ненависть наследника, младшего брата Франческо, Фердинанда I, была захоронена в фамильной усыпальнице). Синклит флорентийских академиков обследовал останки с помощью новейших технологий и установил, что в них наличествует мышьяк, убедительно доказывающий, что вся история, рассказанная Муратовым, не вымысел.
Кампо Сан Пьетро ин Кастелло
Родная семья, примирившаяся с Бьянкой после фальшивого рождения герцогского сына, с ней ещё не раз ссорилась и мирилась, но после смерти, из-за ненависти к её памяти правящего флорентийского дома, семейство Капелло, чтобы не осложнять международную ситуацию, предпочло о Бьянке забыть. Но дворец-то у семьи остался, да ещё какой, – и фамилия Каппелло везде ставится в начале имени данного Ка, что противоречит традиции, обычно выстраивающей пышные имена венецианских дворцов в хронологической последовательности. Можно сказать, что известность Бьянки уравняла её с Пегги, потому что Ка’ Верньер деи Леони никто не называет палаццо Верньер Гуггенхайм, а просто – Музеем Гуггенхайм. Ка’ Каппелло Тревизан Миари ин Каноника сделался знаменитым ещё и благодаря сплетне, изобретённой досужими вралями, болтавшими, что, мол, Бьянка, в Венеции проживая, сидела на балконе дворца, высматривала молодцов прямо на Фондамента де ла Каноника (а я уже отметил, какая там толкучка из туристов, можно и что-то стоящее углядеть), затаскивала их к себе, а потом, использовав, топила, как котят, тут же, в Рио дель Палаццо. История красочная, как и вид самого палаццо, но уж ничему не соответствующая, потому что Бьянка после бегства никогда не возвращалась в Венецию. Фамилия поздних владельцев дворца, сильно испоганивших его роскошными переделками, богачей графов Миари – один из графов, Джакомо Миари, был основателем первой в Италии автомобильной компании, – здесь, конечно, сбоку припёка.
Красочная байка про бьянковский беспредел ведёт меня к другому дворцу Кастелло, находящемуся между Калле дель Ремедио, Calle del Remedio (названному так по имени торговца мальвазией, а не из-за того, что здесь лечили; remedio по-итальянски «лечение»), и Рио дель Мондо Нуово, к Ка’ Соранцо, Ca’ Soranzo, называемому также Каза делл’Анжело, Casa dell’Angelo, Домом Ангела. Название дворец (вообще-то у семейства Соранцо, принадлежавшего к Case Vecchie, в каждом районе Венеции по дворцу, а то и по несколько) получил из-за рельефного табернакля, видного с Понте делл’Анжело, Ponte dell’Angelo, Моста Ангела, с внушительным и неуклюжим ангелом, правой рукой всех нас благословляющего, а в левой сжимающего державу. Ангел поздний, XVI века, и легенда, которая с ним связана, поздняя. Она повествует о том, что в этом дворце проживал судейский из высших сфер (но не из семейства Соранцо), занимавшийся делами курии. Как большинство судейских, он был нечист на руку, и самое ужасное, что к рукам его прилипали деньги, даваемые на благотворительность именем Девы Марии. К судейскому по делам зачастил благочестивый отец-капуцин, обративший внимание на то, что в доме болтается обезьяна, ведущая себя не как неразумное животное, а как рассудительный прислужник. Падре, будучи прямым и честным, огорошил обезьяну вопросом прямо в лоб: «Именем Господа, ответь мне, кто ты?» Обезьяна растерялась и тут же выложила всю правду: я, мол, дьявол, а здесь торчу по душу судейского, всё хочу её забрать, но медлю, так как, только соберусь, судейский молиться начинает; вот я выжидаю, когда он помолиться забудет, чтобы его схватить и хорошенько прожарить. Дьявол в данном случае имел все права, но всё ж был врагом Господа, и капуцин шикнул на него: «Изыди!» Дьявол в ужасе бросился в стенку, прободав в ней большую дыру, а падре, указав на дыру судейскому, заставил его покаяться, деньги отдать, а дырку заделать рельефом с изображением ангела. Пока преступник каялся, из кожи его стали лезть капли крови – это была кровь бедных, что он, кровосос, высосал. Люди, проходившие мимо, видели на крыше дома корчащуюся обезьяну. Многие потом свидетельствовали, что чёрт в виде обезьяны частенько скакал по крышам, пытаясь найти вход в дом, но натыкался на ангела, гримасничал и выл.
История с обезьяной, но несколько в другом варианте, повторяется в рассказах о ещё одном дворце Кастелло, Ка’ Приули, Ca’ Priuli, стоящим между Фондамента делл’Осмарин, Fondamenta dell’Osmarin, и Калле дель Дьяболо, Calle del Diabolo, Переулком Дьявола. Мостик, ведущий к дворцу, также носит имя Понте дель Дьяболо, Ponte del Diabolo, Мост Дьявола, и всё вокруг дьяволом дышит, хотя Фондамента делл’Осмарин – уютнейшая набережная. Топонимика так чертыхается вследствие того, что одна дама из семейства Приули, экстравагантная красавица, держала у себя обезьяну, любя её больше, чем своих любовников. Особенно обезьяна забавляла тем, что копировала все повадки её товарок, dames du monde, и дама обезьяну наряжала в кружева и шелка и даже повесила на обезьянью шею жемчужное ожерелье. Дама с обезьяной была счастлива, пока в один прекрасный день животина не предпочла удалую и голодную свободу жирной и тягомотной неволе, и от дамы не сбежала, прямо в шелках и жемчугах. Ничем приманить обратно её было невозможно, она поселилась на чердаках кастелловских дворцов и оттуда совершала набеги на торговцев овощами и фруктами, добывая себе пропитание. В остальное время занималась тем, что устраивала мимические представления, своими ужимками и прыжками красноречиво рассказывая, что у дамы в будуаре творится. Вокруг собирались зеваки, а обезьяна скакала по крышам, свободная и довольная, как будто издеваясь. Дама охала и посылала слуг её ловить, но те были беспомощны, как в силу ловкости обезьяны, так и из-за того, что она, с её красноречивой жестикуляцией, обряженная в наряд красавицы и с жемчугами на шее, выглядела как убийственная карикатура на формозистость дам Кастелло, чем доводила слуг до истеричного хохота. Дама, вся на нервах, так измучилась, что тоже сбежала, но в другую сторону, из Венеции, к себе на загородную виллу. Про даму забыли, а обезьяна осталась, стала достопримечательностью Кастелло, и теперь уже никто её не ловил, потому что народ мифологизировал её: одни принимали обезьяну за дьявола, другие – за ангела. Она всем врезалась в память, поэтому в топонимах окрестностей Ка’ Приули, сейчас превратившегося в благопристойный отель, столь часто повторяется Diabolo. Я уверен, что Кузмин про венецианские обезьяньи легенды знал, и его «Обезьяна распростерла Побрякушку над Ридотто» выпрыгнула именно из Кастелло.
Бьянка и Варвара, Градива и Формоза, красавицы и демоны, обезьяны и ангелы сплелись и спутались в Кастелло. Я уже забыл про пустынный февральский день: стоял тёплый май, и Фондамента делл’Осмарин была полна народу. Над каналами висел обычный венецианский гул открытых террас кафе и ресторанов, которых в этой части Кастелло полно, но сквозь заурядный туристический шум мне чудились жалобы и стоны, и чей-то плач и смех стоял в ушах, не умолкая. Какая-то истома вдруг обняла меня; круг неузнанных и пленных голосов сузился, расслышал я вдали раскат стихающего грома, и в этой бездне шёпотов и вздохов внезапно встал один, всё победивший звук. Я явственно расслышал:
Pur ti miro, Pur ti godo, Pur ti stringo, Pur t’annodo, Più non peno, Più non moro, O mia vita, o mi tesoro Io son tua…что в русском варианте либретто звучит довольно длинно (как петь-то?), но очень красиво: Поппея: Радость взору… Нерон: Чувств блаженство…
Поппея: …радость взору… Нерон: …чувств блаженство… Поппея: обнима…
Нерон: вкруг тебя… Поппея: …я, вкруг тебя я… Нерон: я обвива… Поппея: обвива… Нерон: …юсь, обнима… Поппея: …юсь, не томлюсь… Нерон: уж не гиб… Поппея: не томлюсь… Нерон: …ну… Поппея: я больше, не… Нерон: не томлюсь… Поппея: …изнываю… –
то есть в уши мне влилось звучание величайшего любовного дуэта, заканчивающего оперу «Коронация Поппеи» Монтеверди, и гениально – ни в одной опере нет ничего подобного – передающий изнеможение сексуальной одержимости, что сильнее страсти, больше чем любовь. Чувственность темы любовного напитка в вагнеровском «Тристане и Изольде» по сравнению с ним – гимн торжеству добродетели.
Церковь деи Санти Джованни э Паоло
Звук настиг меня, когда я уселся за один из столиков кафе на Кампо Санти Джованни э Паоло, Campo Santi Giovanni e Paolo, Площади Иоанна и Павла, к апостолам никакого отношения не имеющих, а освящённой именами теперь малоизвестных и чисто католических святых, двух братьев, занимавших важные посты в Риме при императоре Константине. Ненадолго воцарившийся Юлиан Апостата, Отступник, известный также как Юлиан Философ, призвал братьев и обещал им всевозможные блага в обмен на публичное отречение от Христа. Юлиан таким образом надеялся упрочить лоббируемое им язычество, рассчитывая на впечатление от подобной рекламной акции, но Иоанн и Павел всё испортили, наотрез отказавшись, за что им и были отрублены головы. Площадь названа по имени посвящённой им церкви деи Санти Джованни э Паоло, детта Дзаниполо, chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, detta San Zanipolo, Иоанна и Павла, прозванная Дзаниполо – то есть венецианский диалект искалечил имена братьев, слив их в одно, фантастическое, наподобие Сан Тровазо. Дзаниполо, церковь и площадь, столь же прекрасны, сколь и знамениты, и всем, кто в Венецию приезжает в первый раз и на один день, я советую Дзаниполо посетить в первую очередь, сразу после Сан Марко и И Фрари. Церковь – венецианский пантеон, где похоронено наибольшее количество дожей, так что одни надгробия составляют великолепный «Музей городской скульптуры», как теперь называется некрополь при Александро-Невской лавре в моём родном городе. Русские путеводители называют Дзаниполо собором, что неправильно – церковь имеет лишь статус Младшей Базилики. Рядом с церковью, готической и строгой, стоит здание Скуола Гранде ди Сан Марко, Scuola Grande di San Marco, чей разукрашенный фасад – творение лучших архитекторов Венеции XV века, и над ним поработали и Ломбардо, и Кодусси, и даже семейство Бон, создавшие chef-d’œuvre, «главную работу» венецианского кватроченто. К тому же на площади стоит памятник Бартоломео Коллеони работы флорентинца Андреа дель Верроккьо, относящийся к самым известным в мире медным всадникам, коих я насчитываю четыре: Марка Аврелия в Риме, Гаттамелату в Падуе, данного, и собственно Медного всадника, стоящего у меня на Сенатской площади, в недалёком прошлом прозываемой (detta) Декабристов.
Братья Иоанн и Павел самолично явились дожу Якопо Тьеполо в XIII веке и указали на место, где хотели получить венецианскую прописку; церковь была доминиканской, и францисканская И Фрари, построенная позже, во всём ей противоположна, как противоположны по характеру испанец Доминик де Гусман, суровый до жестокости предводитель Domini canes, «псов Господа», и Франциск, миролюбивый жених Бедности. Столь же противоположны и две скуолы – Скуола Гранде ди Сан Марко, осенённая высшим покровительством родов из Case Vecchie, кои все были её членами, роскошная и гордая, и динамичная Скуола ди Гранде Сан Рокко. Скуола Гранде ди Сан Марко когда-то тоже была набита великими произведениями живописи, и лодочка Карпаччо из цикла святой Урсулы качалась именно здесь, в небольшом зале, занимаемом дочерней организацией, братством Святой Урсулы, confraternita di Sant’Orsola, контролируемой советом Скуолы. Ни Карпаччо, ни Тинторетто в Скуола ди Сан Марко уже нет – всё Наполеон перетащил в Галлерие делл’Аккадемиа. Тинторетто для Скуолы ди Сан Марко создал живописный цикл, посвящённый самому важному покровителю Венеции на небесах. Мощи святого Марка были украдены венецианцами из Александрии и привезёны в Венецию в бочке солонины, дабы обмануть гнушающихся свининой исламских таможенников. Хранились они в Скуола Гранде ди Сан Марко, и мощи святого Рокко, будучи популярными в народе столь же, как и останки святого Марка, уступали им в статусности – святой Марк был покровителем левого, официального берега и кастеллани, святой Рокко – правого, Сан Поло и николотти. Цикл Сан Марко Тинторетто известен не менее чем цикл святого Рокко в конкурировавшей Скуоле Гранде ди Сан Рокко в демократическом Сан Поло, так как, что бы там ни плёл Сартр про пролетарскость Тинторетто, великому художнику было всё равно, сочувствует ли заказчик кровожадным доминиканцам или благостным францисканцам. На прежних местах сегодня можно увидеть лишь какие-то отдельные картины мастеров, возвращённые Галлерие делл’Аккадемиа из-за того, что в ней их так много, что они всё равно валялись бы в запасниках: Пальмы Джоване, Доменико (не Якопо) Тинторетто, Падованино. Благодаря возврату был образован небольшой музейчик в интерьерах, относительно сохранившихся: уже одно это делает здание Скуола ди Сан Марко достойным посещения и сейчас, хотя попасть в неё непросто, потому что доминиканский монастырь давно превращён в городскую больницу и вход туда строго по пропускам, а музейчик имеет очень заковыристое расписание работы.
Именно о том, что составляет миф Дзаниполо, я и собрался поразмышлять, когда уселся на площади аккурат под медным конским задом. Хотелось продумать, как и что рассказать о сокровищах, которых, помимо скульптурных надгробий дожей, в церкви ди Санти Джованни э Паоло тьма тьмущая, а также и о Коллеони, Медном всаднике Венеции. Заковыристая история бронзового Коллеони, начинающаяся с того, что венецианский Сенат объегорил кондотьера, взяв с него деньги за установку памятника около Сан Марко, что подразумевало, само собою, центральную площадь, но запихав на Дзаниполо, где он и стоит, судя по лицу, на Венецию злой, но злобу сдерживающий, показательна для венецианского менталитета, наглядно демонстрируя различие в консистенции мозгов не только венецианца и петербуржца, но и венецианца и римлянина. Я сосредоточился, но тут лошадь сильно двинула хвостом, отгоняя редкого в Венеции майского комара, и звон раздался, тот самый звон, из которого и выплыло Pur ti miro, Pur ti godo.
В «Саге о потерянном носе» я обмолвился, что «Коронации Поппеи» Клаудио Монтеверди, хотя впервые опера и прозвучала в Венеции, не кажется мне слишком венецианской: история Нерона и Поппеи – римская история. Конь Коллеони, со свойственной лошадям чуткостью, двинув хвостом по бронзовым бокам, хотел не столько комара отогнать, сколько напомнить мне, что именно здесь, в находившемся поблизости Театро Санти Джованни э Паоло, Teatro Santi Giovanni e Paolo, в день открытия карнавала, 26 декабря 1642 года, состоялась, как теперь пишут, «мировая премьера» оперы Монтеверди. У меня с «Коронацией Поппеи» очень сложные отношения, и хотя я продолжаю считать, что венецианскости в ней столько же, сколько и в «Тристане и Изольде» Рихарда Вагнера, факт представления «Коронации Поппеи» в Венеции мне кажется очень важным. Вагнер пишет в письме к жене состоятельного коммерсанта Матильде Везендонк, в девичестве Лукмайер, которую он в тот момент платонически окучивал: «Я впервые дышу этим незамутнённым, чистым, сладостным воздухом… Когда вечером я плыву в гондоле на Лидо, то слышу вокруг звучание дрожащих струн, напоминающее мне нежные, долгие звуки скрипки, которые я так люблю и с которыми я тебя однажды сравнил; ты можешь легко представить, что я чувствую при лунном свете, на море!» Пассаж обожают цитировать все вагнероведы, говоря о «плотской, чувственной страсти» вагнеровской музыки в «Тристане и Изольде», «возведённой в абсолют». В письме Вагнер пишет дежурные избитости, что шлют из Венеции все, изображающие из себя влюблённых, но указание на связь венецианской ауры с музыкальной текстурой оперы знаменательна: вот ровно также с Венецией связана и «Коронация Поппеи».
Меня интересует маньеризм, Мантуя, рубеж чинквеченто и сеиченто, и, само собою, Монтеверди. Я читал про «Коронацию Поппеи», знал про неё, что это последняя и самая загадочная опера Монтеверди (впрочем, как я понимаю, вся музыка XVII века загадка), что-то видел, что-то слышал, но никак особо «Поппею» от «Орфея» не отличал и не выделял из опер, что обычно сваливаются в кучу на прилавках под общим определением «барочные»: там тебе и Вивальди, Пёрселл, Глюк и Гайдн, и Гендель с Моцартом, и лысая Чечилия Бартоли на обложке альбома «Mission» с музыкой Агостино Стеффани, начавшего карьеру, кстати, хористом в соборе Сан Марко. Из кучи барочных опер я как-то раз и выдернул запись «Коронации Поппеи», поставленной в 2010 году в Оперном театре Осло, Operahuset. Произошло это случайно – нельзя сказать, чтобы я специально гонялся за «Коронацией Поппеи», просто покупал диски с барочными операми кучей. Придя домой, я поставил, услышал, увидел, и жизнь моя разделилась на два этапа: тот, когда я норвежскую «Коронацию Поппеи» не знал, и тот, когда я её узнал. Как у ребёнка, которому родители никогда не давали сладкое, заботясь о его здоровье, и который наконец впервые во рту ощутил таяние конфеты. Переворот.
Коллеони
На «Коронации Поппеи» я рехнулся. Я смотрел её во всевозможных видах: костюмно-историческую, лжеантичную, в японских кимоно, в индийских нарядах, в виде разборок немецкой урлы, как она была поставлена в Кёльне, и в виде представления при мантуанском дворе, как она была срежиссирована Поннелем. С меццо в роли Нерона, что – да простят мне это гендерные активистки – всегда меня раздражает, и с потрясающим дуэтом Жарусского и Даниэль де Низ: в общем, всё, что только мог достать. Мне чуть ли не каждая «Коронация Поппеи» мила, но я не нашёл ничего, чтобы могло сравниться с представлением в Operahuset в постановке Уле Андерса Тандберга. Кто-то (не хочу здесь разбирать, кто именно) поёт и лучше, и наверняка у музыковедов могут быть претензии к норвежской музыкальной интерпретации того, что осталось от Монтеверди (а собственно от музыки, как я понял из всего, что про «Коронацию Поппеи» понаписано, не осталось практически ничего, только запись голосов), но та потрясающая современно-вневременная драма, что была разыграна на сцене в Осло, принадлежит к событиям, открывающим новое тысячелетие.
Дабы не заставлять читателя куда-то лезть за справкой, я напомню сюжет оперы. Он выстроен из сплетен о жизни Нерона: мы знаем историю Поппеи в основном по Тациту, который очень хорош как раз в том, что сплавлял историю со сплетней, чем отличается от Светония, довольствующегося только сплетней. Тацит рассказывает, как Поппея, богатая буржуазка – её отец был разбогатевшим плебеем – и провинциалка – она была уроженкой Помпей, то есть города, в Римской империи бывшего чем-то вроде Сочи в империи Советской, – используя красоту, богатство и недюжинный ум, с продуманным расчётом занимается апгрейдингом, повышая свой социальный статус от провинциальной львицы до звания императрицы. Во времена императора Клавдия, отчима Нерона, Поппея вышла замуж за префекта преторианцев Руфрия Криспина. С ним вскоре развелась и соблазнила Отона, близкого приятеля молодого Нерона, начавшего звездить на римском небосклоне благодаря интригам матери, Агриппины Младшей, сестры Калигулы, ставшей супругой Клавдия и императрицей. Матерью Калигулы, кстати, тоже была Агриппина, прозываемая Старшей, так что подумайте о внуках, прежде чем назвать дочь этим красивым именем. Отон от Поппеи без ума, но для неё брак с ним лишь ступень в карьере: через Отона она попадает в среду золотой римской молодёжи, блестящей, беспринципной, развратной и царит на столичных оргиях. Ей всё прёт прямо в руки, и она быстро сходится с Нероном, который с кем только не сходился, но, несмотря на прихотливость своей половой жизни, красочно описанной Светонием, от Поппеи сам не свой. Что-то такое в Поппее было, этакий изгиб Грушеньки, от которого даже разврат обалдевал и ей подчинялся, становясь ручным зверьком в её объятиях. То, что к Поппее испытывает Нерон, иначе как одержимостью и не назовёшь: он жить без неё не может, и в угоду Поппее разводится с Октавией, дочерью Клавдия. Популярная в народе, Октавия придавала правлению Нерона видимость законности, поэтому развод с ней был убийственен для его рейтинга, и так всё время падающего. Нерон ни на что не обращает внимания и празднует с Поппеей пышную свадьбу, а Октавия тем временем истекает кровью в жарко натопленной бане: ей, по приказанию бывшего мужа, помогают покончить с собой. С новой супругой Нерон проводит время в угаре попоек, разврата и скандалов. В одной из дежурных ссор во время пира, вызванной как его поведением, так и стервозным характером Поппеи, Нерон пнул её, беременную, ногой в живот, результатом чего стали выкидыш и смерть. За что боролась, на то и напоролась. Умерла Поппея в 65 году, ей было тридцать пять лет, и Нерон, страшно горевавший об убитой любимой, Поппею обожествил. После неё он процарствовал недолго, и через три года под давлением обстоятельств перерезал себе горло. Отвергнутый Поппеей Отон, кстати, всё-таки стал императором после Гальбы, сменившего Нерона, но царил недолго, всего с 15 января по 16 апреля 69 года, после чего тоже был вынужден покончить с собой.
Взяв за основу столь сочный исторический материал, прямо-таки brillant noir, Монтеверди вместе с либреттистом венецианцем Джованни Франческо Бузинелло выстраивают свою интригу. Во-первых, обрезав повесть с начала и с конца, они ограничиваются рассказом о восхождении Поппеи к власти, выкинув предысторию и финал. Во-вторых, в опере появляются персонажи, в истории Тацита отсутствующие: Сенека – он вскрывает себе вены прямо на сцене и введён в действие произвольно, так как принуждение Нероном своего учителя к самоубийству произошло без участия Поппеи, её в этом даже Тацит не винит, – Друзилла, влюблённая в Отона, никогда в реальности не существовавшая, а также кормилицы, ученики Сенеки, и даже народ – два стражника, – который не безмолвствует, но живо обсуждает происходящее и даёт ему оценку. В-третьих, действию предшествует пролог со спором Virtù, Fortuna и Amore, Добродетели, Удачи и Любви, в котором три аллегорические дамы бурно выясняют, кто из них на свете всех милее: всех милее оказывается, конечно, Любовь. В дальнейшее действие богини также активно вмешиваются, время от времени общаясь со смертными. Начав историю с Отона, возвратившегося из командировки куда-то в Лузитанию и рыдающего у закрытых дверей возлюбленной, нежащейся в объятиях императора, Монтеверди и Бузинелло доводят сюжет до свадебного шествия Поппеи и получения ею вожделенной короны. Всё преодолевшие, счастливые и прекрасные, Нерон и Поппея в финале распевают самый нежный любовный дуэт на свете, Pur ti miro, Pur ti godo, «преклоняюсь, восхищаюсь», и выглядит финал как типичный оперный happy end: долгожданная свадьба после мытарств. Прямо-таки волшебная сказка, конец «Золушки».
Или финал выглядит как пародия на happy end? Я ставлю знак вопроса, и он, думаю, возникает у каждого, кто слушает «Коронацию Поппеи» осознанно: наслаждение от божественных звуков сплетающихся женского меццо и контратенора, так называемого «мужского сопрано», ни на минуту не заставляет забыть о кровавом пути, приведшем Поппею к столь счастливому финалу. В дуэте есть прельстительная монструозность, и финал норвежской постановки, когда Поппея (Биргитте Кристенсен) и Нерон (Яцек Лящковский), изнемогая во всё и вся растворяющей исступлённости своего любовного единения, собственноручно убивают одного за другим всех остальных персонажей оперы, за исключением богинь, и, сияя счастием обретения друг друга, обнявшись, распевают Pur ti miro, Pur ti godo в луже крови, полностью адекватен замыслу оперы. Это, конечно, то, что интеллигентский обыватель обзовёт осовремененным, хотя в постановке Тандберга современность осмыслена в категориях вневременного, в чём он в данном случае следует Монтеверди, также осовременено-вневременно осмысливающего античность. «Коронация Поппеи» Монтеверди – потрясающее действо о сексе, то есть о взаимоотношении полов, и все возможные вариации отношений полов («всех полов», хочется добавить), от невинности до расчетливой пресыщенности, в его опере и продемонстрированы. Норвежская постановка великолепнейшим образом оформила – и сохранила – ту связь сиюминутного и космического, что присутствует в «Коронации Поппеи» Монтеверди. Постоянно повторяемое слово sesso, «пол» по-итальянски, на слабость которого сетует Оттавия и силу которого воспевает Поппея, сливаясь с постоянными повторами имён: Poppea, Poppea… Nerone, Nerone… Ottavia, Ottavia… Otone, Otone… Drusilla, Drusilla… звучит как заклинание, ибо sesso, «пол», как в I веке нашей эры, так и в XVII, и в XXI, как был, так и остаётся колыбелью жизни, мягким ложем любви, но также и отвратительной дыбой природы.
«Коронация Поппеи» – это два с половиной часа стресса, эстетического, этического, психологического и какого ещё угодно, в котором эустресс (положительный) и дистресс (отрицательный) сплелись так, что ты уж и «не на грани», как обычно пишут, а далеко за гранью всего, добра и зла в первую очередь. Монтеверди наглядно показывает нам, что все понятия и шатки, и относительны. Сказать про красоту дуэта Pur ti miro, Pur ti godo, что это пародия – значит так же обеднить смысл финала, как и назвать его happy end’ом. В каждом утверждении тут же таится контроверсия, трагедия смерти – как в сцене самоубийства Сенеки – перерастает в вакханалию, порядочность Оттавии ведёт к жестокости, столь милый Отон превращается в интригана-убийцу, запросто подставляющего влюблённую в него Друзиллу, а наивная прелестница Друзилла просто исходит кровожадной радостью, ожидая вести о смерти соперницы. Все хороши, не только Поппея с Нероном, и нет никакой однозначности, в мире порок и добродетель намертво связаны – это всем известно, повторять это стало пресно, а если это не так, пусть расскажут мне.
Что ж, уж одного sesso хватило бы, чтобы провозгласить «Коронацию Поппеи» величайшим достижением того, что искусством мы зовём, что бы мы там под «искусством» ни подразумевали. Но опера не только о любви и о сексе, но о власти, и это важнее всего. О власти sesso, то есть секса и пола, конечно, но о ней лишь во вторую очередь – «Коронация Поппеи» повествует о сексуальности власти, и именно Власть, самая отвратная мифологическая баба, всё растлевающая, развращающая, пачкающая, топчущая и давящая, а не Добродетель, Удача или Любовь, является победительницей и главной героиней оперы. Это история о сплетении власти и любви, о любви к власти и власти любви. Мерзкое убийство Поппеи Нероном, его мерзкие слёзы по ней и мерзкое её обожествление остаются за пределами оперы, но живейшее наслаждение от Pur ti miro, Pur ti godo сопровождается содроганием столь болезненным, что тут же вспоминаешь о конце Поппеи. Под бронзовой задницей коня, втащившего на себе в Венецию кондотьерское тщеславие, размышлять на Кампо Санти Джованни э Паоло о судьбе буржуазки-помпеянки, добившейся апофеоза, ἀποθεόσις, обожествления, столь же естественно, как на площади detta Декабристов под хвостом питерского Медного всадника думать о судьбе Евгения бедного.
Звук бронзы, зазвеневшей от того, что лошадь так сильно двинула хвостом, затихая, слился с другим звуком, отдалённым, идущим из времени, когда я норвежскую «Коронацию Поппеи» не знал. Был другой май, другой год, другое столетие, и даже – другое тысячелетие, Тандберг свою интерпретацию Монтеверди ещё и не задумал. Я тогда отправился на Мурано, не на стекольный завод, конечно, а побродить и посмотреть церкви. Прогулка была чудной, в Мурано, если уйти из центра, полного туристических групп, можно найти много хорошего, причём наслаждаться им в полном одиночестве, среди полей, в зелёной траве которых разбросаны красные весенние маки. Закончил я бродить поздно, в сумерках. Вокруг разлилась та нервозная тишина, что бывает перед бурей, и когда, сев на вапоретто, я въехал в лагуну, разразилась оглушительная гроза. Стемнело, дождя ещё не было, и на небе, как-то очень низко и распластанно, возникла яркая и короткая молния, высветившая часть небесной черноты. Она не вспыхнула, а нарисовалась, вылитая молния из «Грозы» Джорджоне: сначала появилась узкая ослепительная царапина, раздался треск раздираемого неба, а потом грянул оглушительный гром. После нескольких сухих вспышек и громов хлынул дождь, хлеставший так, что его струи казались продолжением неба и были как небо, черны: brillant noir. Вокруг вапоретто ходуном ходили волны, и лагуна таила в себе манящую опасность, объясняя «Грозу» Джорджоне лучше, чем любые иконологические исследования. Я был счастлив так, как редко бывал, окружающим меня великолепием, и теперь воспоминание о грозе над лагуной сливается во мне с душераздирающе прекрасным голосом Яцека Лящковского, Нерона, который над трупом Сенеки, измазавши в крови банное полотенце, намотанное вокруг чресел, поёт песнь во славу красоты Поппеи:
Or che Seneca è morto, Cantiam, cantiam Lucano, Amorose canzoni In lode d’un bel viso, Che di sua mano Amor nel cor, m’ha inciso.[В русском либретто: Раз старик не помеха, споём, споём, Лукан мой…
…споём, споём с тобой, Лукан, любовную песню во славу той красы, образ чей сам бог Любви в груди, в груди, в груди, в груди моей…
…создал]
Я выбрал путь по Кастелло, ведущий мимо церкви ди Сан Дзаккариа, и далее, через Марию Статную, к Дзаниполо, то есть путь дворцов, Бьянки и Поппеи. Сестиере этот однако ж столь обширен, что существует и множество других. Так, например, можно пойти по Рио ди Сан Лоренцо, Rio di San Lorenzo, и тогда вас будет приветствовать не восточный кафтан церкви ди Сан Дзаккариа, а воткнутая, как копьё в небо, колокольня церкви ди Сан Джорджо деи Гречи, chiesa di San Giorgio dei Greci, Святого Георгия Греков. Церковь эта, построенная в центре бывшего греческого квартала, одна из первых и самых важных православных церквей в католической Италии, возникших после разделения католицизма и православия. Она была построена поздно, только в 1530-е годы, причём на её постройку потребовалось специальное разрешение папы римского. Греков в Венеции всегда было много, но после окончательного падения Константинополя в 1453 году, спасаясь от турок, в Италию, причём в Венецию в первую очередь, хлынула волна греческих эмигрантов, принадлежавших к высшим слоям византийской аристократии. Эмиграцию из Византии кватроченто можно сравнить с эмиграцией из России после революции, и греческие аристократы часто вели жизнь столь же плачевную, как и русские. Не знаю, стал ли кто-то из константинопольских придворных гондольером (наверное, нет, в Венеции получить права гондольера было труднее, чем стать таксистом в Париже 20-х годов), потому что история сохранила память лишь о том, кто более-менее устроился. Греки были образованны, умны и деловиты. Ватикан очень на них рассчитывал, так как с помощью греческой диаспоры надеялся навязать остальным православным, русским в первую очередь, Флорентийскую унию, то есть объединение католицизма и православия, на которое Константинополь, незадолго до своего падения, пошёл от отчаяния в 30-е годы XV века. У Ватикана ничего не получилось, но беженцы из Византии имели и политическую ценность, не говоря о ценности интеллектуальной, – именно они обучили гуманистов греческому, который те до того решительно не знали, и вклад греков в дело, что обычно именуют Ренессансом, неоценим.
Рио деи Гречи
Пусть даже Сан Джорджо деи Гречи и появился на свет в результате махинаций Ватикана, но это никак не сказалось на духе места. Высокая колокольня церкви видна с Рива дельи Скьявони, она строга и чиста, и особое звучание ей придаёт то, что она воткнута в небо косо, как копьё святого Георгия на русских иконах. Опасный наклон колокольня приобрела из-за того, что город построен на трясине – в Венеции во все времена падения колоколен были столь же часты, как и пожары. Все колокольни, что кренились, рухнули, остальные венецианцы удержали и продолжают удерживать перпендикулярно к небу, а колокольня греков, оставшаяся в Венеции единственной косой, стоит венецианской Пизанской башней, и когда приближаешься к церкви, склонённый её силуэт как-то сразу настраивает на особый лад.
У церкви ди Сан Джорджо деи Гречи вид грустный и лёгкий: место эмигрантской ностальгии. Проход к церкви лежит со стороны канала, через специальную калиточку в арке, и территория вокруг неё – целый комплекс. Здесь находятся Греческий институт, представительство греческого посольства и Музей византийских икон, всё чисто, печально и светло, и унынья твоего ничто не мучит, не тревожит – сходное чувство господствует в православных церквах Парижа и Ниццы.
От Георгия Греческого два шага до Георгия Славянского, до Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Святого Георгия Словенцев (а также Славян или Рабищ). Скуола столь замечательна, что, когда я в ней оказываюсь, меня просто распирает гордость за свой этнос. Я этнической принадлежности не стесняюсь, но считаю, что излишнее довольство ею может привести к расизму, так же как пылкий патриотизм неизбежно ведёт к национализму, поэтому обычно сдерживаюсь, но в Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони всё так отменно, что я контроль над собой теряю. Славяне-словенцы, а точнее, далматы, потому что ко времени Карпаччо именно они были самыми многочисленными и активными shiavoni, славянами, в Венеции, не только заказали, но и единственные в мире сохранили цикл картин на дереве Карпаччо in situ, то есть в месте, для которого картины и предназначались, предоставив нам с вами уникальную возможность созерцать творения Карпаччо в атмосфере, максимально приближенной к начальному замыслу. Скуола имеет также и второе имя, Скуола Далмата ди Сан Джорджо и Трифоне, Scuola Dalmata di San Giorgio e Trifone, и главного героя картин Карпаччо, святого Георгия Победоносца, белокурого ладного парня не без изящества выряженного в хорошо скроенные, по фигуре, чёрные доспехи, и издалека – вылитого рыцаря, но с лицом приятной простоватости повзрослевшего героя «Бежина луга», я про себя Далматом и зову.
Сюжеты девяти картин (целых девять многофигурных композиций! ни у кого в мире, кроме Галлерие Аккадемие, нет такого Карпаччиева изобилия) разнообразны, в том числе есть и святой Августин, изображённый как интеллигентный церковник, работающий над проповедью в кабинете, studiolo. Студиоло Августина – один из самых элегантных в истории дизайна деловых интерьеров, но лучше всего, конечно, две истории святого Георгия: «Битва святого Георгия с драконом» и «Триумф святого Георгия». Кажется, что Гоцци, когда писал свою фьябу Il mostro turchino, «Синее чудовище», приходил их смотреть, чтобы вдохновиться, столь фантастическо-забавной кажется Ливия (согласно латинской версии жития святого история происходила в Сирте, на родине Муаммара Каддафи), выдуманная Карпаччо. Я специально сохраняю итальянское название пьесы, чтобы акцентировать внимание на turchino, «бирюзовом»: в книге о Ломбардии, в главе о Мантуе, я много говорил об особом отношении итальянцев к синему цвету, для определения которого они заимствуют инородное blue. Звучание «туркино» указывает на Восток, и в «Триумфе святого Георгия» Карпаччо изображает сцену в вымышленном восточном городе, довольно точно передавая современные ему восточные костюмы, которыми Венеция его времени изобиловала и которыми он явно восхищался, прямо как Делакруа и Матисс с их помешательством на марокканцах.
Цикл Карпаччо намного лучше, чем церковные творения Делакруа и росписи Chapelle du Rosaire, Капеллы Чёток, в Вансе Матисса. Сравнивая и выстраивая их в определённый ряд, я делаю это не только ради красного словца. Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони – место не столь религиозное, сколь эстетское: Делакруа с Матиссом, работая в церквах, также думали в первую очередь об эстетах, и только потом о верующих. Цикл Карпаччо более соответствует месту, так как скуола не церковь, но место общественных собраний, хотя и осенённое религиозностью; у французов же церковь превращается в скуолу, то есть святилище становится местом встреч. Судьба Венеции во всём предсказала закат Европы, которая уж почти столетие как, со времени опубликования Шпенглером своего труда, всё никак закатиться не может. Карпаччо в Скуола Далмата ди Сан Джорджо уравнял эстетизм и релизиозность, что явилось исходной точкой той эволюции-деградации религиозности и религиозного искусства, на которую сегодня столь многие сетуют. В очередной раз убедившись в том, что во всём Венеция виновата, я в косом наклоне копья святого Георгия увидел сходство с опасным креном колокольни церкви ди Сан Джорджо деи Гречи и христианства вообще, и, последовав указанию древка, отправился к церкви ди Сан Франческо делла Винья, chiesa di San Francesco della Vigna, Святого Франциска Виноградника. Она находится на северо-востоке, на самом краю Венеции.
Роскошный мраморный фасад церкви ди Сан Франческо делла Винья, творение, начатое самим Якопо Сансовино, а законченное самим Андреа Палладио, есть шедевр ренессансного строительства и жемчужина венецианской архитектуры. Он столь совершенен, что францисканству, несмотря на всю его открытость, как-то даже и противоречит – и всё же я предпочитаю вход не центральный, выходящий на Кампо Сан Франческо делла Винья, Campo San Francesco della Vigna, а боковой, с Кампо делла Фратернита, Campo della Confraternita, Площади Братства. Мрамора здесь никакого нет, обнажается чёткая структурность сооружения, чей архитектурный ритм впечатляет не меньше, чем великолепие фасада. Площадь же, довольно большая и вытянутая, но со всех сторон замкнутая, для Венеции не только необычно пуста (мало кто сюда приходит, нет даже ни одного кафе, что для такой большой площади в Венеции редкость), но ещё и украшена совсем необычным для местного строительства мотивом – открытой высокой колоннадой, на которой покоится, как на сваях, внушительная галерея. Сквозь колоннаду видны и соседнее Кампо ди фьянко ла Кьеза, Campo di fianco la Chiesa, Площадь сбоку Церкви, и ограничивающий площадь канал, и мост через него, и ряд древних зданий – ведута упоительна. Открытая колоннада, не похожая ни на что венецианское, но похожая на неопалладианские фантазии Ивана Александровича Фомина, всегда меня занимала. Оказалось, что она принадлежит соседнему Ка’ Гритти, Ca’ Gritti, дворцу XVI века, но пристроена позже, в XIX веке, когда дворец достался францисканцам и они соединили его с монастырём и церковью длинной галереей второго этажа.
Сама церковь, может быть потому, что она, в отличие от многих других венецианских церквей, сколько я к ней ни приходил, никогда не бывала заперта, производит на меня впечатление гостеприимной открытости. В интерьере, строгом, палладианском, всегда звучит музыка и стоят свежие цветы, и Сан Франческо делла Винья производит впечатление самой верующей церкви в Венеции: нет здесь ни музейных киосков, ни музейных ларьков, хотя в церкви находится несколько столов, заваленных книжками, как религиозными, так и искусствоведческими, за которые тебе предложено платить по желанию. В церкви полно отличной живописи, в том числе и картина Беллини – чудесное Святое Собеседование, Sacra Conversazione, Девы с Младенцем и святых Франциска, Иеронима, Себастьяна и Иоанна Крестителя с коленопреклонённым донатором, происходящее в весенне-зелёном пейзаже, – расположенная в отдельной от остального здания капелле, в которую надо спускаться по ступеням. В самой церкви висит большой «Алтарь Морозини», как называется «Мадонна с младенцем на троне» малоизвестного художника фра Антонио да Негропонте, который и известен-то только по этой картине. Францисканца и, видимо, уроженца Эвбеи (Negroponte – Эвбея) – это мы вычитываем только из его подписи, являющейся чуть ли не единственным дошедшим до нас документом, с ним связанным, – фра Антонио да Негропонте хочется назвать венецианским Пизанелло. Картина – настоящее чудо, и всё в ней пленительно: обряженная в пышнейший парчовый красно-золотой плащ тихая Дева с молитвенно сложенными руками, чей смиренный вид резко контрастирует с роскошью одеяния, похожий на куклу Младенец у неё на коленях, держащий в руке тонкую и прямую зажжённую свечу, рой пёстреньких ангелят с бабочкиными крылышками в яркую полоску, высокий мраморный резной трон с рельефами, напоминающими о скульптурах церквей Ростово-Суздальского княжества, высокая стена из кустов белых и красных роз, призванная оградить трон Девы от мира, так что картина фра Антонио да Негропонте напоминает о балете «Спящая красавица», и множество птиц, изображённых красочно и детально, прямо как в старинном орнитологическом атласе. Картиной восхищался Теофиль Готье, заявивший, что именно такими должны быть церковные образа, творимые для поклонения: насколько возможно члену «Клуба гашишистов» судить о том, чему верующим поклоняться, предлагаю вынести на обсуждение, но не могу не упомянуть о мнении автора «Эмалей и камей», Emaux et Camées, как потому, что искренне восхищаюсь его сорви-голова-романтизмом, так и потому, что церковь ди Сан Франческо делла Винья, то ли благодаря рекламе Готье, то ли из-за того, что Франческо по матери француз, пользуется особой популярностью именно у представителей этой нации, и я, как в Сан Франческо делла Винья ни зайду, всё на французов натыкаюсь. В последнее посещение церкви, замечательное, пустынное, сопровождаемое пением Salve Regina Перголези, звучавшим лишь мне одному, меня преследовали, как Эриннии Ореста, две старые француженки с лицами интеллектуальных гарпий, какие бывают только у французских старух и ни у каких других старух в мире. Они беспрестанно что-то лопотали, шуршали путеводителями и особенно раздражали меня тем, что около Беллини и фра Антонио, повешенных в тёмные углы и поэтому требующих пол-евро (в Сан Франческо делла Винья всего пол-, во всех остальных венецианских церквах – два) на своё освещение, гарпии не платили, но, после того, как гас зажжённый мною свет, терпеливо ждали, умолкнув в темноте, не раскошелюсь ли я ещё. Я раскошеливался, свет зажигался, и они опять начинали бормотать и шуршать путеводителями, как заслуженные посетительницы ленинградской филармонии моего детства шуршали обёртками конфет – где же вы, старушки моего детства? – нет вас, вы все далече, и я вас оплакиваю, как буду оплакивать и старых гарпий, мешавших моему общению с Беллини и фра Негропонте. Может, у них мелочи не было.
Церковь ди Сан Франческо делла Винья – северо-восток Венеции и её окраина, о чём свидетельствует vigna, «виноградник», в названии. Теперь никаких виноградников нет, всё плотно застроено, и новые дома начинаются за церковью с востока: вид с Кампо делла Фратернита через колоннаду на Кампо ди фьянко ла Кьеза – последний взгляд на старую Венецию, но моя Венеция ещё не закончилась. По Калле дель Чиметерио, Calle del Cimeterio, Кладбищенскому Переулку, чьё печальное название говорит о покойниках под моими ногами, похороненными на кладбище, когда-то примыкавшем к церкви ди Сан Франческо делла Винья, я бреду к Фондамента Казе Нуове, Fondamenta Case Nuove, Набережной Новых Домов, чтобы сесть на причал Тана Челестиа, Tana Celestia, всегда пустынный, и отправиться на Изола ди Сан Пьетро, Isola di San Pietro, Остров Святого Петра.
Ехать до него довольно долго, потому что вапоретто огибает северо-восточный угол Венеции, по размерам изрядный: здесь расположен Арсенале ди Венециа, Arsenale di Venezia, Венецианский Арсенал, когда-то главная гордость промышленности Светлейшей республики. Долгое время Арсенале был и главным чудом европейской индустриализации. Данте включил его в Двадцать первую песнь «Ада», в Круг восьмой, в пятый ров, описывая наказание мздоимцев, и, судя по тому, что он рассказывает, венецианцы уже в XIII веке вовсю использовали метод промышленного конвейера для поточного производства, который так прославил и обогатил Генри Форда: «Тот ладит весла, этот забивает Щель в кузове, которая текла; Кто чинит нос, а кто корму клепает; Кто трудится, чтоб сделать новый струг; Кто снасти вьет, кто паруса платает». Во время посещения Венеции Генрихом III при нём на конвейере Арсенале была собрана за кратчайшее время целая оснащённая галера, что произвело на короля неизгладимое впечатление и что, как вы понимаете, гораздо круче, чем собранный автомобиль. Арсенале поражал ещё и при Петре I, воспринимавшего Венецию как объект для изучения и подражания не менее важный, чем Амстердам. Венецианский Арсенале сохранял свою важность и при Наполеоне, его модернизировавшем, и при австрийцах, для которых он был главной верфью вплоть до потери ими Венеции. В упадок Арсенале пришёл лишь после объединения Италии, превратившись в то, во что превратилась петровская Новая Голландия в Ленинграде, то есть в Богом забытое место. Долгое время вообще не знали, что с ним делать, но сейчас Арсенале оживляют, вкачивая деньги и стараясь превратить в центр современного искусства.
Центральный вход, с Торри делл’Арсенале, Torri dell’Arsenale, Арсенальными Башнями, разукрашенный множеством львов, находится на юге. Все мраморные львы украдены венецианцами в Греции, и самого известного из них, так называемого Пирейского льва, греки время от времени требуют обратно. Точно датировать Пирейского льва пока никто не смог, считается, что он появился на свет во II веке н. э., во времена Адриана и Марка Аврелия, и это более похоже на правду, чем утверждение, будто лев создан во времена Александра Македонского. Знаменит же лев не столько художественными достоинствами, высокими, кстати, но тем, что на нём вырезано руническими буквами: «Хакон с Ульфом, Асмундом и Оэрном завоевали этот порт. Они вместе с Харальдом Длинным наложили тяжёлые поборы по причине бунта греческого народа. Далк был пленён в далёких землях, Эгиль вместе с Рагнаром отправился в поход в Византию и Армению» – слева, и «Асмунд вырезал эти руны вместе с Асгейром, Торлейфом, Тородом и Иваром по указанию Харальда Длинного, несмотря на гнев греков и попытки помешать этому» – справа. Надписи, само собою, полюбились скандинавским историкам (и русским), и именно скандинавы определили, что это руны, а также сделали перевод, доказывающий влиятельность варягов – чуть ли не завоевателей – в Византии XI–XIII веков (по поводу датировки рун учёные опять же договориться не могут). Историки, принадлежащие к более южным народам, склонны варягов в Византии рассматривать не как завоевателей-повелителей, а как наёмников, поэтому перевод оспаривают. Некоторые подвергают сомнению даже то, что это руны. Руническое письмо до сих пор никто расшифровать не смог. Смысл рун остаётся тайной, что бы Стокгольм не городил с их прочтением. Я думаю, что в данном случае варяжские надписи таят в себе не глубокий смысл цитированных текстов, явно придуманных шведскими академиками, поэтому звучащих столь же торжественно, как речи нобелевских лауреатов, а что-то вроде «Петя был здесь» и «х…, х…, х…», то есть то, что варяги различных национальностей до сих пор пишут на памятниках искусства, как только до них доберутся.
Виале Сант’Элена
Личность архитектора Торри делл’Арсенале такая же загадка, как и датировка Пирейского льва и знаки на нём. Многие произносят имя Антонио Гамбелло, венецианского строителя начала кватроченто, но без достаточно убедительной аргументации. Оставаясь анонимной, архитектура Арсенале тем не менее является, наверное, самой замечательной промышленной архитектурой в мире после римских акведуков, и фантастичностью «Тюрем» Пиранези веет от внутренних доков, сконструированных, как предполагают, самим Якопо Сансовино. Главным башням вторит архитектура боковых входов и башен, которых у Арсенале множество, так как он со всех сторон был окружён стеной. К югу же от Арсенале простирался район, принадлежащий сестиере Кастелло, но живший собственной и особой жизнью, район рабочих, венецианская Пресня, населённый арсеналотти, большими молодцами и драчунами.
Теперь Изола ди Сан Пьетро, к которому я причалил, воспринимается как часть района арсеналотти, но остров имел свой особый статус. Остановку вапоретто, Сан Пьетро, San Pietro и называющуюся, окружают венецианские новостройки, имеющие пролетарский вид, но появившиеся здесь недавно, в XX веке. Я их прохожу, огибаю огромный дворец патриарха и оказываюсь у Каттедрале ди Сан Пьетро ди Кастелло, Cattedrale di San Pietro di Castello, Собора Святого Петра Кастелло. Я ставлю в данном случае Cattedrale с большой буквы, хотя с 1807 года звание Собора у Сан Пьетро ди Кастелло Наполеоном было отобрано, и передано церкви ди Сан Марко, ставшей местом кафедры венецианского патриарха. До того патриарх обитал на Изола ди Сан Пьетро, всё на этом острове было подчинено ему и Собору, самые торжественные богослужения проводились именно здесь, и дворец, сейчас заброшенный, блистал, а остров был занят патриаршими садами. Выбор места строительства главного Собора на отшибе, а не в центре, определён тем, что изначально Венеция не была едина, представляя конфедерацию поселений разных островов, потом оформившихся в sestieri. Каждый район ревниво (вспомним кулачные бои) относился к своей исторической самоидентификации. Вынос Собора города за его пределы, что редкость и необычно, помогал решить проблему соперничества sestieri, а также обеспечивал то, что во время ежегодных праздников, проводимых именно здесь, и только здесь, перед Собором, собиралось всё население города, что заставляло кастеллани с николотти на время примириться, побрататься и слиться в единении.
Фасад церкви ди Сан Пьетро, теперь довольствующейся званием Базилика Миноре, соответствует роли, что играл Сан Пьетро ди Кастелло в жизни Венеции. Собор изначально древен, он был основан по указанию всё того же святого Маньо, но полностью перестроен. Сотворён фасад гением Андреа Палладио, он прост до авангардности, но величественен и мощен – Храм с заглавной буквы, без какой-либо дробности. На фасаде нет ни одного окна, но внутри собор просторен, светел и заполнен живописью мастеров сеиченто, чьи имена хотя и не входят в первую десятку самых известных художников Венеции, но которые к заданию украшения собора отнеслись со всей серьёзностью, так что каждая композиция Ладзарини, Либери, Руски, Белуччи и других, ещё менее известных, так хорошо закручена, как будто представлена на конкурс виртуозов. В церкви есть и картины неаполитанцев Франческо Солимены и Луки Джордано, заезжих знаменитостей, – эти-то были признанными виртуозами барокко, и именно с ними венецианцы и соревновались, а также картины Базаити, Веронезе и много кого ещё, но наиболее манящим среди сокровищ Сан Пьетро ди Кастелло мне кажется небольшое мраморное кресло, прислонённое к правой стене собора. Его не сразу заметишь, но оно торжественно именуется Ла Каттедра ди Сан Пьетро, La Cattedra di San Pietro, Престолом Святого Петра. К апостолу кресло не имеет отношения, оно – шедевр арабской каменной резьбы IX века, и на мраморе арабской вязью выведены строки из Корана. Архиепископом Венеции был патриарх, и патриарх сидел на престоле, украшенном цитатами из священной книги мусульман – что может лучше, чем этот факт, охарактеризовать особое положение Венеции, самого восточного города латинской цивилизации, в Европе и в мире?
С Кампо Сан Пьетро, Campo San Pietro, раскинутого перед собором, открывается вид на ту часть Арсенале, до которой современное искусство и деньги ещё не доползли. Своей живописной неприбранностью Арсенале напоминает мне о Царском Селе моей юности, о зданиях Адмиралтейства Василия Неелова, когда они ещё не были отреставрированы и превращены в рестораны, как сейчас, а были похожи на Руину Фельтена. Красная кирпичная текстура башен Арсенале разбросанными на ней белыми украшениями столь близка Адмиралтейству, что я с уверенностью готов утверждать: Неелов именно этот шедевр промышленной архитектуры и имел в виду, когда украшал Царскосельский парк. Вид этот – последний взгляд на Венецию, так как Остров Святого Петра заканчивает город, но и Сан Пьетро ди Кастелло ещё не конец, конец же Венеции – это когда вы, доехав до причала Сант’Элена, Sant’Elena, Святой Елены, и выйдя в совсем новом парке, пройдя ничем не примечательный район совсем нового города, дойдёте до Рио ди Сант’Элена, Rio di Sant’Elena, перейдёте мост и мимо заборов, футбольных полей и спортивных площадок выйдете на аллею, обсаженную высокими старыми деревьями. Аллея называется Виале Сант’Элена, Viale Sant’Elena, и непривычно-современное в Венеции viale, «аллея», вплывает в сознание, как бутылка пепси в воды канала. За деревьями, с обеих сторон, – забор с колючей проволокой на нём, проход ваш ограничен и целенаправлен, и в конце маячит готический фасад, простой, но с затейливым ренессансным мраморным порталом, поддерживаемым коринфскими колоннами. Завершён портал полукруглым архитравом, с глубокой и просторной нишей, дающей место свободно разместиться двум круглым скульптурам: перед гордо стоящей дамой в строгой тоге и покрывалом на голове опустился на колени немолодой рыцарь. Он прижал руки к груди и, задрав голову, с вопросительно-подобострастной умилённостью заглядывает женщине в глаза. Рыцарь – это Витторе Каппелло, один из родственников Бьянки, а дама – Флавия Юлия Елена Августа, мать императора Константина, православной церковью именуемая Еленой Равноапостольной, потому что благодаря ей христианство стало господствующей религией в Римской империи. Коленопреклонённый Рыцарь перед Прекрасной Дамой и есть конец Венеции.
Попасть в церковь ди Сант’Элена, chiesa di Sant’Elena, я пытался много раз. Она всё время была закрыта, сначала, уж много лет тому назад как, на реставрацию, а потом, несмотря на то, что всё вокруг было ухожено, непонятно почему. Никакого расписания месс не было, и мои попытки подгадать обычное время для служб заканчивались ничем – я натыкался на закрытые двери в конце аллеи и на ухоженную тишину вокруг пожилого рыцаря и его дамы. Витторе Каппелло был важным капитаном венецианского флота, и рельеф был создан Антонио Риццо в 1467 году, сразу после смерти Витторе, – о смерти нам сообщает саркофаг, стоящий позади фигур: изображён момент, когда святая Елена вводит Витторе в вечность. Рельеф – незаурядное творение пластики кватроченто, и разделённая сближенность двух фигур, коленопреклонённого мужчины и стоящей женщины, очень значима и красноречива; разделённая сближенность и «отделяет любовь от эротики». Церковь ди Сант’Элена, стоящая даже и не в городе, всегда была окраинной, но почитаемой, потому что здесь хранилась урна с прахом единственной Равноапостольной женщины. Наполеон церковь закрыл, урну с прахом передал в Сан Пьетро ди Кастелло, а рельеф с портала переместился в Дзаниполо. Рельеф и урна вернулись на место лишь в 1926 году, когда усилиями монахов-сервитов, членов Л’Ордине деи серви ди Мария, L’Ordine dei servi di Maria, Ордена служителей Девы Марии, церковь была открыта и передана монашкам ордена. Некоторые искусствоведы считают, что вернувшиеся фигуры поставлены не совсем так, как это было задумано Риццо, и выражают сомнение в принадлежности обеих скульптур одному автору, уж слишком разными кажутся рыцарь, индивидуально-портретный, и идеальная дама. Всё это я вычитал в книгах, но войти в церковь никак не мог. В один из последних приездов в город, когда я уже знал, что пишу «Только Венецию», я в первый же день приезда, наудачу, отправился к Сант’Элена.
Бачино Сан Марко
Вечерело, на небе розовели тучи дальних облаков, и я, минуя спортивный хлам, вошёл в аллею между двух стен с колючей проволокой. Аллея была безлюдна, пахло листвой. В конце маячил готический фасад, он постепенно приближался, и издалека я увидел, что дверь церкви открыта. Внутри никого не было. В церкви царила пустота, сходная с той, что царит в современных русских сельских церквах, когда они открываются после того, как веками служили свалками: обчищенные, но выметенные, они обнажены, как вера первых христиан. Церковь была открыта к вечерней службе, и пока я сидел в ней, рассматривая то, что в церкви осталось – немногое, но дающее многие поводы для размышлений, – начал собираться на службу народ. Люди, однако, не проходили к алтарю, а сворачивали направо, в капеллу, отделённую от основной церкви. Я вошёл в неё, стараясь попасть раньше службы, чтобы не досаждать вере праздным любопытством, и понял, что капелла хранит урну с прахом Елены Равноапостольной, святыню, равно важную и для католиков, и для православных. Перед алтарём капеллы, сразу после аналоя, стоял стеклянный куб, в котором покоилась святая, обряженная в зелёные одежды, с серебряным лицом и руками. Серебряное лицо кощунственным образом напомнило мне одну из постановок «Лукреции Борджиа» Доницетти, в которой главная героиня, встречающая в Венеции юного Дженнаро и увлекая его – кто ж знал, что он потом сыном окажется, – обряжена именно в такую серебряную маску. Люди – немного – тихо собирались, вышел священник, началась служба, а я никак не мог оторваться от вида букета пластикатовых хризантем около гроба дамы с серебряным ликом. Хризантемы были белые, с цыплячье-жёлтыми сердцевинами и очень зелёными стеблями с листьями. Белые лепестки и зелёные листья топорщились жёстко, как перья ерша для чистки посуды. Хризантемы зацепили душу, и неким особым, только душе известным способом, душа выдала название одной главки в крохотной, прелестно изданной почти двести лет назад книжечке: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической». Реликвии святой привели меня к сложному чувству «Грамматики любви» и к стихам, вписанным в последнюю её страницу, столь схожим с цыплячьими жёлтыми сердцевинами искусственных хризантем:
Тебе сердца любивших скажут: «В преданьях сладостных живи!» И внукам, правнукам покажут Сию Грамматику Любви. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



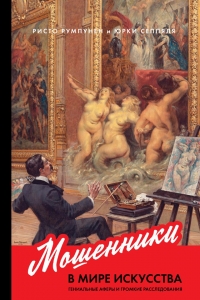
Комментарии к книге «Только Венеция. Образы Италии XXI», Аркадий Викторович Ипполитов
Всего 0 комментариев